| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Империя знаков (fb2)
 - Империя знаков (пер. Яна Янпольская) 12494K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ролан Барт
- Империя знаков (пер. Яна Янпольская) 12494K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ролан БартРолан Барт
Империя знаков
© Éditions de Seuil, 2005
La première édition a été publiée en 1970 par les Éditions d’Art Albert Skira
© Яна Янпольская, перевод с французского, примечания и послесловие, 2022
© Александр Беляев, примечания и послесловие, 2022
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
Roland Barthes
L’Empire des signes
Seuil
Морису Пэнгe [1]
Этот текст не «комментирует» картинки. А картинки не «иллюстрируют» текст: каждая из них была для меня лишь чем-то вроде визуальной вспышки или озарения, подобной той потере смысла, которую Дзэн называет сатори; переплетаясь, текст и картинки обеспечивают перетекание, обмен означающими: тело, лицо, написание, и из них позволяют считывать пространство символов.

Где-то там
Если бы мне захотелось выдумать несуществующий народ, я мог бы наделить его вымышленным именем и откровенно рассматривать его как материал для романа, основать этакую новую Гарабанию [2], не рискуя скомпрометировать моей фантазией никакую реально существующую страну (однако в этом случае я компрометирую свою собственную фантазию, прибегая к литературным символам). Я мог бы также, не претендуя на то, чтобы отобразить или проанализировать нечто реальное (это всё красивые слова западного дискурса), выявить где-то в мире (где-то там) определенное количество черт (слово отсылает одновременно и к графике, и к лингвистике) и из этих черт свободно выстроить систему. И эту систему я назову: Япония.
Таким образом, Восток и Запад не должны пониматься здесь как «реальности», которые можно было бы пытаться сблизить или противопоставить с точки зрения истории, философии, культуры или политики. Я не созерцаю влюбленным взором сущность Востока, Восток мне безразличен, он просто поставляет мне набор черт, которые в этой придуманной игре позволяют мне «лелеять» идею невероятной символической системы, полностью отличной от нашей. То, что привлекает внимание в рассмотрении Востока, это не другие символы или другая метафизика, не другая мудрость (хотя последняя и проявляется как нечто желанное), но сама возможность отличия, изменения, переворота в области символических систем. Надо бы создать когда-нибудь историю нашей собственной непросвещенности, показать непроницаемость нашего нарциссизма, отметить на протяжении веков те редкие призывы отличного, которые мы смогли расслышать, и те идеологические возмещения, которые неизбежно следовали за ними и позволяли привыкнуть к нашему незнанию Азии, прибегая к уже известным языкам (Восток Вольтера, Revue Asiatique [3], Лоти [4] или Air France [5]). Разумеется, сегодня многое предстоит еще узнать о Востоке: огромный труд познания необходим сейчас и будет необходим в будущем (его сдерживание – не более чем результат идеологического затмения), но необходимо также, чтобы, оставив по обе стороны огромные территории, скрытые тенью (капиталистическая Япония, американское культурное влияние, техническое развитие), узкий луч света отправился на поиск – причем, поиск не новых символов, но разрыва в самой ткани символического. Этот разрыв не может проявиться на уровне культурных продуктов: то, что присутствует в нем, не принадлежит (по крайней мере, так предполагается) ни японскому искусству, ни городской архитектуре, ни национальной кухне. Автор никогда и ни в каком смысле не стремился фотографировать Японию. Скорее наоборот: сама Япония освещала его множеством вспышек; или, еще лучше: Япония призвала его к письму. Это была ситуация, в которой личность переживает некоторое потрясение, прежние прочтения опрокидываются, смысл разрывается и обнажает внутри себя ничем не заместимую пустоту. При этом сам объект продолжает оставаться значимым и желанным. В конечном счете письмо есть тоже своего рода сатори: это сатори (событие Дзэн) есть более или менее сильный подземный толчок (при этом вполне будничный), сотрясающий и познание, и самого субъекта: он приводит к опустошению речи. Эта же пустота речи порождает письмо; из этой пустоты исходят те черты, при помощи которых Дзэн, избавляясь от всякого смысла, описывает сады, жесты, дома, букеты, лица, жестокость.
Незнакомый язык
Мечта: знать иностранный (странный) язык и вместе с тем не понимать его: замечать его отличие, которое не возмещалось бы никакой поверхностной социальностью языка, его общеупотребительностью; знать положительно преломляющиеся в этом новом языке невозможности нашего языка; освоить систематику непостижимого; создать наше «реальное» по законам иного монтажа, иного синтаксиса; обнаружить немыслимое до этого положение субъекта в высказывании, сместить его топологию; одним словом, погрузиться в непереводимое, испытать от этого неизгладимое потрясение, – вплоть до того, что в нас уже поколеблется и сам Запад, и законы нашего собственного языка, что достался нам от отцов и делает нас самих отцами и носителями культуры, которую именно история превращает в «природу». Как известно, ключевые понятия аристотелевской философии в каком-то смысле сложились под принуждением главенствующих сочленений греческого языка [6]. И, напротив, как приятно было бы проникнуть в те неустранимые различия, что может навеять нам в своих проблесках далекий от нас язык. Какая-нибудь глава из Сепира или Уорфа [7] о языках чинук, нутка, хопи, или что-нибудь из Гране [8] о китайском языке, или рассказ приятеля о японском может открыть такое романическое целое, доступ к которому дают разве что некоторые современные тексты (а никакие не романы): именно они позволяют увидеть тот пейзаж, о котором и не догадывается наша собственная речь.

Му, пустота
Так, например, широкое распространение в японском языке функциональных суффиксов и сложность энклитик предполагают, что субъект проявляется в высказывании через предупреждения, повторы, замедления и настаивания, конечная масса которых (здесь уже не приходится говорить просто о словесном ряде) превращает субъекта в огромную пустую оболочку речи, а не в то наполненное ядро, которое извне и свыше направляет нашу речь таким образом, что кажущееся избытком субъективности (ведь говорят же, что японский язык выражает ощущения, а не констатирует факты), является, напротив, способом растворения, истекания субъекта в раздробленном, прерывистом, растолченном до пустоты языке. Или вот еще: как и многие языки, японский отличает одушевленное (животное и/или человек) от неодушевленного именно на уровне глагола быть; а вымышленные персонажи, которые введены в историю (типа жил-был король) помечены неодушевленностью; в то время как всё наше искусство старается во что бы то ни стало установить «жизненность», «реальность» романических персонажей, сама структура японского языка выводит их в качестве производных – знаков, избавленных от необходимости соотноситься с живыми существами. Или же нечто еще более радикальное, и тут необходимо уловить то, что не улавливается нашим языком: можем ли мы вообразить глагол без субъекта и без объекта, который при этом остается переходным, например акт познания без познающего субъекта и без познаваемого объекта? Между тем именно такого воображения требует от нас индийская дхьяна, источник китайского чань и японского дзэн, – слово, которое невозможно перевести как медитация, не привнеся в него субъекта и бога: прогоните их, и они вновь вернутся, они оседлали наш язык. Эти и множество других фактов убеждают, сколь смехотворно пытаться оспаривать устройство нашего общества, ни на минуту не задумываясь о границах того языка, при помощи которого (инструментальное отношение) мы претендуем его оспаривать: всё равно что пытаться уничтожить волка, удобно устроившись в его пасти. Ценность этих упражнений в аберрационной грамматике хотя бы в том, что зарождается подозрение относительно идеологии самого нашего языка.

Дождь, Семена, Рассеивание, Нить, Ткань, Текст. Письмо
Без слов
Шумящая масса незнакомого языка образует прекрасную защиту, обволакивает иностранца (даже если эта страна и не является враждебной) звуковой оболочкой, блокирующей для него все разделения, существующие в его родном языке: территориальное и социальное происхождение говорящего, уровень его культуры, образования, вкуса, образ, в рамках которого он подает себя как личность и с которым обязывает вас считаться. Какой отдых для того, кто оказался заграницей! Здесь я защищен от глупости, пошлости, тщеславия, манерности, национальности, нормальности. Незнакомый язык, дыхание или эмоциональное веяние, одним словом, чистую значимость которого я между тем ощущаю, создает вокруг меня по мере моих перемещений легкое головокружение, вовлекает меня в свою искусственную пустоту, которая осуществляется лишь для меня одного: я живу в промежутке, свободном от всякой полноты смысла. Как вы там справлялись с языком? Подразумевается: Как вы обеспечивали эту жизненную необходимость в общении? или, точнее, то идеологическое утверждение, которое опровергается непосредственным общением: коммуникация возможна только в речи.

И вот оказывается, что в этой самой стране (Японии) империя означающих настолько широка, настолько превосходит речь, что обмен знаками сохраняет чарующие богатство, подвижность, утонченность несмотря на непроницаемость языка, а иногда даже благодаря этой самой непроницаемости. Так происходит потому, что тело там существует, раскрывается, действует, отдается без истерии, без нарциссизма, но повинуясь чистому эротическому движению, хотя и тонко скрываемому. В общении задействован отнюдь не голос (с которым мы отождествляем «права» личности; да и что он может выражать? нашу душу – безусловно, чистую? нашу искренность? наш престиж?), а всё тело (глаза, улыбка, прядь волос, жест, одежда) обращается к вам с каким-то лепетом, инфантильность или отсталость которого полностью устраняется по мере овладевания культурными кодами. Разумеется, на то, чтобы договориться о встрече (при помощи жестов, рисунков, имен собственных), уйдет час, но за этот час, потраченный на сообщение, которое, будучи произнесено вслух, тотчас лишилось бы смысла (одновременно такое важное и ничего не значащее), всё тело другого оказывается познанным, испробованным, принятым и развернувшим (без видимого конца) свой собственный рассказ, свой собственный текст.
Вода и волокна
Поднос с едой кажется изысканной картиной: это рамка, в которую заключены всевозможные предметы, выступающие на темном фоне (чашечки, коробочки, плошки, блюдечки, палочки, закуски, серый – кусочек имбиря, оранжевый – несколько ломтиков овощей, темный фон – соус), и, поскольку все эти емкости и кусочки еды мелкие и тонкие, однако весьма многочисленные, то можно сказать, что эти подносы воплощают саму живопись, которая, по определению Пьеро делла Франческа, есть «не что иное, как изображение тел и поверхностей, постоянно становящихся то больше, то меньше в соответствии с их назначением». Однако этому порядку, восхитительному в момент его появления, суждено быть нарушенным, измененным согласно ритму поедания; разложенный инвентарь превращается в стол-верстак или шахматную доску, пространство не для разглядывания, а для работы или игры; живопись, по сути, была лишь палитрой (рабочей поверхностью), с которой вы будете играть по мере того, как здесь почерпнете кусочек овощей, а там – риса, тут – приправы, там – глоток супа, произвольно предпочитая одно другому, точь-в-точь художник (японский!), играющий со своими баночками с краской, уверенный и вместе с тем нерешительный; подобным образом, без какого-либо отвержения или пренебрежения (речь ведь не идет о безразличии по отношению к еде – отношении, которое всегда остается моральным), питание приобретает отпечаток своего рода работы или игры, нацеленной не столько на переработку первичного сырья (что, собственно, и является объектом кулинарии; надо сказать, однако, что японская еда мало обработана, продукты попадают на стол свежими; единственное воздействие, которое они успевают претерпеть, это нарезка), сколько на волнующее и вдохновенное собирание составных частей без какой-либо инструкции, которая определяла бы порядок их изъятия (вы можете свободно чередовать глоток супа, горстку риса, щепотку овощей): всё дело поглощения состоит в компоновке; предпочитая то одно, то другое, вы сами творите то, что едите; само же блюдо более не является неким овеществленным продуктом, приготовление которого у нас стыдливо отдаляется как в пространстве, так и во времени (у нас еда заранее готовится за кухонной перегородкой, в этаком секретном месте, где всё позволено, лишь бы продукт вышел оттуда – в сочетании с другими – украшенным, благоухающим и подрумяненным). Отсюда характер живости (что не означает естественности), присущий этой еде, которая, похоже, в любое время года соответствует пожеланию поэта: «Изысканной кухней славить весну!» [9]
У живописи японская пища заимствует также качество, которое в меньшей мере является непосредственно визуальным, но более глубоко укоренено в теле (оно связано с тяжестью и работой руки, чертящей или накрывающей на стол); это не цвет, но штрих. Скажем, вареный рис (который понимается совершенно особым образом и называется специальным словом, в отличие от сырого риса) определяется исключительно через противоречивость материи; он одновременно сплошной и разделяемый; его субстанциальное предназначение – быть фрагментом, легким конгломератом; рис является единственным весомым элементом японской кухни (противоположной по отношению к кухне китайской); он – то, что падает, в противоположность тому, что плавает; на картине он являет собой зернистую белизну, плотную, но рыхлую (в противоположность хлебу); будучи подан к столу спрессованным и слипшимся, рис мгновенно разделяется при помощи палочек, никогда, однако, не рассыпаясь и не крошась, как будто это разделение неизбежно порождает новое сочленение; вот это-то размеренное и неполное разделение целого – помимо еды – и есть то, что предназначено к употреблению. Таким же способом – хотя и при участии противоположных субстанций – японский суп спешит добавить в эту красочную игру продуктов свой светлый штрих («суп» звучит для него неоправданно простоватым, а «потаж» отдает семейным пансионом). У нас прозрачный суп считается пустым; здесь же – легкость бульона, струящегося, подобно воде, частицы сои или фасоли, перемещающиеся в нем, с одним-двумя тяжелыми элементами вроде веточки зелени, ниточки овощей или кусочка рыбы, которые рассекают это небольшое пространство воды, – всё это порождает образ какой-то светлой плотности, питательности, лишенной жиров, эликсира, который тем действенней, чем чище и прозрачней; одним словом, это нечто водяное (в большей степени, чем водянистое), с привкусом моря, что наводит на мысль о животворящем источнике. Таким образом, японская еда возникает в системе снятой материи (от светлого к разреженному), в колебании означающего: она рождается по мере того, как закладываются первичные знаки письма, построенного на своего рода мерцании языка: пища пишется, подчиняясь жестам разделения и изъятия, которые вписывают ту или иную снедь не в поднос для еды, а в глубинное пространство, где в своем порядке располагаются человек, стол и вселенная (ничего общего с цветными фотокомпозициями из пищи в наших женских журналах). Ведь письмо как раз и объединяет в подобной работе всё то, что никак не могло бы собраться вместе в единой плоскости представления.
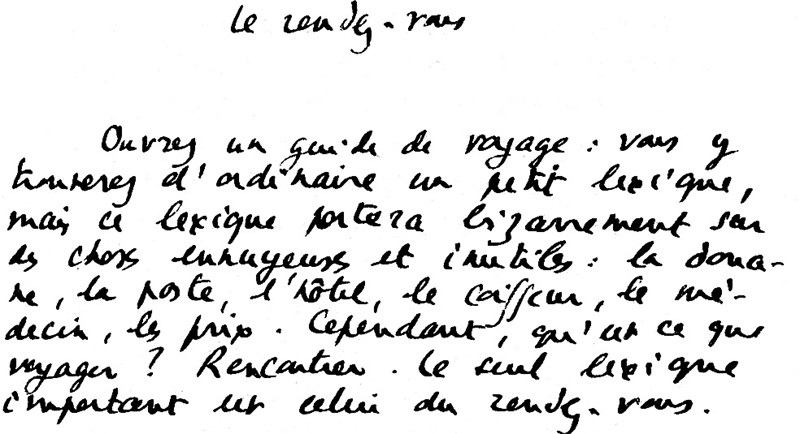
Свидание
Откройте путеводитель: обычно там можно обнаружить немного лексики, но вся эта лексика касается скучных и бесполезных вещей: таможня, почта, гостиница, парикмахер, врач, цена. А между тем что значит путешествовать? Встречаться: единственная лексика, которая действительно важна, это лексика свиданий.
Палочки
На плавучем рынке Бангкока каждый из продавцов сидит в маленькой неподвижной пиро́ге; он продает всякую мелочь: зерно, несколько яиц, бананы, кокосы, манго, пряности (не говоря о прочем Неименуемом). Тут всё крошечное – он сам, его лодка и его товар. Западные продукты, переизбыточные, раздутые от своего достоинства и величия, связанные всегда с неким престижным предприятием, неизбежно приводят нас к чему-то тучному, большому, излишнему и обильному; восточные же продукты идут в противоположном направлении – они устремляются в сторону ничтожно малого: огурцу предстоит не нагромождаться или измельчаться, но быть разделенным или сдержанно раздробленным, подобно тому, как об этом говорит следующее хайку [10]:
Есть связь между крошечностью и съедобностью: вещи малы лишь для того, чтобы быть съеденными, но и их поедание служит лишь воплощению их сущности – крошечности. Согласованность, существующая между восточной пищей и палочками, не может быть только функциональной или инструментальной: продукты нарезаются, чтобы ухватываться палочками, но и палочки существуют благодаря тому, что продукты мелко нарезаны; и материя, и ее орудие пронизаны единым действием: разделением.
У палочек существует множество других функций, помимо назначения переправлять пищу из тарелки в рот (которое, кстати, отнюдь не основное, ведь для этого есть также пальцы и вилки), эти-то функции и относятся к их сущности. Прежде всего, палочка – достаточно обратить внимание на ее форму – обладает указательной функцией пальца: она указывает на пищу, выделяет фрагмент, заставляет существовать посредством самого выбирающего жеста, который есть шифр; таким образом, вместо приема пищи в механической последовательности, когда мы лишь проглатываем друг за другом отдельные кусочки одного и того же блюда, палочка, указывающая и избирающая (а значит, предпочитающая на мгновение то, а не это), вводит в ритуал еды не порядок, а фантазию и своего рода праздность: во всяком случае, это действие сознательное, а не механическое. Другое назначение палочек – отщипывание кусочков пищи (а не жадное отхватывание, свойственное нашим вилкам); впрочем, щипать – слишком сильное, слишком агрессивное слово (отсылающее к шкодливым девочкам, хирургам, портнихам и всевозможным недоверчивым натурам, которым необходимо всё потрогать и пощупать), так как продукт никогда не испытывает большего давления, чем это необходимо для того, чтобы поднять его и переместить; в действии палочек, тем более смягченном тем материалом, из которого они изготовлены, – простым или лакированным деревом, – есть нечто материнское – выверенная сдержанность, с которой перекладывают ребенка: сила (в функциональном значении термина), а не импульс; к этому сводится всякое обращение с пищей, что хорошо видно на примере длинных палочек повара, которые используются для приготовления, а не для еды: это орудие не пронзает, не разрывает плоть, не ранит ее, но всего лишь приподнимает, переворачивает и переносит. Ибо палочки (и это их третья функция), чтобы разделить – отсоединяют, раздвигают, ощупывают, вместо того чтобы отрезать и отхватывать, как это делают наши приборы; они никогда не насилуют продукт: они либо постепенно распутывают его (в случае с зеленью), либо препарируют (при разделке угря и другой рыбы), находя проемы в самой материи (и в этом смысле они ближе к пальцам, нежели к ножу). Наконец, и в этом, по-видимому, наиболее прекрасное из их назначений, палочки переносят пищу: либо, подобно скрещенным рукам, – подставка, а не щипцы – они проскальзывают под щепотку риса и держат ее, поднося ко рту едока, либо, подобно лопатке (тысячелетним восточным жестом), они сгребают съедобный снег из плошки к губам. В любом употреблении, в каждом действии, которое они совершают, палочки противоположны нашему ножу (а также вилке, их хищному заместителю): они – столовый прибор, который отказывается резать, хватать, измельчать, протыкать (действия, которые строго ограничены предварительным этапом готовки: торговец рыбой, сдирающий на наших глазах шкуру с живого угря, изгоняет этим предварительным жертвоприношением идею убийства из самой пищи); благодаря палочкам, пища перестает быть добычей, над которой совершают насилие (мясо, на которое набрасываются), но превращается в гармонично преображенную субстанцию; палочки превращают предварительно разделенную материю в птичий корм, а рис – в молочные реки; они неустанно, заботливо, по-матерински переносят корм в клювике, оставляя все хищнические жесты нашему способу питания, вооруженному всякими пиками и ножами.

Пища, лишенная центра
Сукияки – рагу, в котором все составляющие предъявлены и узнаваемы, ибо готовится оно не сходя с места, на столе, прямо на ваших глазах, пока вы его едите. Сырые продукты (которые, однако, уже очищены от кожуры, вымыты и облачены в эстетичную, блестящую, разноцветную наготу, похожую на весеннюю одежду: «В них есть всё – цвет, утонченость, искусная кисть, эффектность, гармония, вкус», как сказал бы Дидро [12]) собраны вместе и принесены на подносе; свежесть, естественность, разнообразие и даже упорядоченность, словом, сама сущность базара привносит в простую материю обещание события: аппетит, вызванный этим смешанным продуктом рынка, одновременно товаром и самой природой, природой товарности, доступной всем, обостряется: съедобные листья, овощи, лапша, кубики тофу, сырой яичный желток, красное мясо и белый сахар (соседство бесконечно более экзотичное, завораживающее и более отвратительное, в силу своей визуальности, чем обычные солено-сладкие сочетания из китайской кухни, в которых, поскольку они подвергаются горячей обработке, сахар виден лишь в карамельном блеске некоторых «лакированных» блюд), – так вот, всё это сырье, предварительно отобранное и разложенное, как на какой-нибудь голландской картине с ее четкостью контуров, эластичной твердостью кисти и многоцветным глянцем (которые не знаешь, чему приписать – самой ли материи предметов, свету сцены, специальному покрытию поверхности полотна или же музейному освещению), постепенно переносится в большую кастрюлю и начинает готовиться на ваших глазах, терять свои цвета, границы и формы, размягчаться и видоизменяться, приобретая тот рыжий оттенок, который характерен для соуса; и по мере того, как вы изымаете кончиками палочек кусочки этого рагу, им на смену приходят следующие, еще сырые. Всем этим перетаскиванием туда-сюда руководит ассистентка, которая, стоя позади вас, вооруженная длинными палочками, поочередно поддерживает то уровень содержимого в котелке, то разговор: зрительно вы переживаете маленькую одиссею пищи, присутствуете при Закате Сырого.

Где начинается письмо? Где начинается живопись?

Сырое, как известно, – это божество, покровительствующее японской кухне: всё посвящается ему, и, если приготовление совершается всегда перед тем, кому предстоит это попробовать (что является отличительной чертой японской кухни), то делается это исключительно из почтения к смерти того, что так почитается. Почитается же в самой сырости (понятие, которое во французском языке подчеркивает, если употребить его в единственном числе, сексуальность языка, поскольку означает «непристойность», а если во множественном – «сырые» – некую «закулисную», анормальную и почти что табуированную часть наших меню), похоже, отнюдь не то же самое, что у нас, – не внутренняя сущность продукта, избыток соков и полнокровие (поскольку кровь – это символ силы и смерти), которые дают нам жизненную энергию (у нас сырость – состояние, в котором пища исполнена силы, что метонимически хорошо выражается в том, как обильно приправляют бифштекс). Сырое в японском понимании по большей части визуально; оно обозначает определенное цветовое состояние мяса или овощей (при этом учтем, что цвет никогда не исчерпывается набором оттенков, но всегда отсылает к осязаемости самой материи; так, сасими демонстрирует не столько цветовой ассортимент, сколько вариации резистентности сырой рыбы: от мягкого до волокнистого, от растягивающегося к сжатому, от шершавого к гладкому). Целиком зримая (мыслимая, обусловленная, подвластная взгляду, в том числе взгляду художника, графика), пища тем самым говорит, что в ней нет глубины: съедобная субстанция лишена сокровенной сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром (тем центром, который подразумевается в нашем ритуале еды и согласно которому происходит заказ, сервировка блюд в определенном порядке); здесь всё является украшением какого-то другого украшения, прежде всего потому, что на столе, на подносе еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых не претендует на исключительное место в порядке приема пищи: «есть» не означает следовать меню (расписанию блюд), но изымать легким прикосновением палочек то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному вдохновению, проявляющемуся во всей его неторопливости как косвенное, ничем не связанное сопровождение разговора (едва слышного); и еще потому, что эта еда, и в этом ее главная особенность, происходит в едином времени – времени ее приготовления и поглощения; сукияки бесконечно готовится, поедается и «разговаривается» не вследствие каких-то технических сложностей, но потому, что по своей природе и по мере приготовления оно должно постепенно исчерпывать себя и, следовательно, себя воспроизводить; сукияки отмечено лишь отправной точкой (то самое блюдо, полное разноцветных продуктов); после «отправления» оно не знает ни моментов, ни остановок: оно лишается центра, превращаясь в непрерывный текст.
Промежуток
Повар (который, впрочем, ничего не варит) берет живого угря, втыкает ему в голову длинную иглу, сдирает с него кожу и вычищает внутренности. Итогом этой быстрой (скорее мокрой, чем кровавой) сцены жестокости является некое кружево. Попав в кипящее масло и кристаллизовавшись подобно Зальцбургской ветке [13], угорь (или кусочек овощей, ракообразных) сводится к небольшому фрагменту пустоты, к череде дней, сквозящим просветам: теперь продукт стал воплощением мечты о парадоксальном объекте: бесплотном и плотном одновременно, сквозном и насыщающем (случается также, что продукту придают форму шара, подобного воздушному).
Тэмпура вовсе лишена того смысла, который мы традиционно связываем с жареньем и запеканием, а именно – смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретает здесь свою сущность размолотого цветка; это молоко в масляной позолоте остается настолько тонким, что покрывает не целиком, проступает то розоватый оттенок креветки, то зеленый цвет стручкового перца, то коричневатость баклажана; от этого тэмпура начисто лишается привычных составляющих нашего пирожка с начинкой – оболочки, упаковки, компактности. Даже масло (но масло ли это, действительно ли идет речь о маслянистости?), моментально впитывающееся листком бумаги, на которой вам подают тэмпуру в небольшой ивовой корзиночке, – это масло сухое, оно ничем не напоминает ту патоку, которой Средиземноморье и Восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которое сопутствует нашим продуктам, приготовленным на масле или на жире: они поджариваются, но не разогреваются. Вместо обжигания холодных жирных кусков – свежесть, в которой, казалось бы, отказано наши жареным блюдам. Свежесть, которая проникает в тэмпуру сквозь мучное кружево, высвечивая как самые плотные, так и самые мягкие продукты – рыбу и овощи, – эта свежесть нетронутого и вместе с тем освежающего и есть свежесть масла: рестораны, где готовят тэмпуру, различаются по степени использованности масла: в наиболее котирующихся – свежее масло; использованное продается во второсортный ресторан, и так далее; покупается не сам продукт и даже не его свежесть (а также не местоположение или уровень обслуживания), но право первого его опробования.
Иногда бывает тэмпура в несколько слоев: тесто окружает (это лучше, чем обволакивает) перец, который, в свою очередь, фарширован мидиями. Факт в том, что, фрагментированность сохраняется (это основное состояние всей японской кухни, которой незнакомо заливание соусом, сметаной или покрытие коркой) не только на предварительном этапе, но также – и особенно – при погружении в прозрачную, как вода, и сплошную, как жир, субстанцию, из которой кусок выходит законченным, отдельным, названным и при этом насквозь ажурным; очертания настолько легки, что становятся отвлеченностью: продукт обволакивает лишь время (тоже весьма разреженное), лишь оно утяжеляет его. Говорят, что тэмпура христианского (португальского) происхождения: блюдо готовится во время (tempora) поста, но, будучи утонченным японскими техниками снятия и освобождения, оно существует уже в ином времени, не связанном с воздержанием и искуплением, но связанном со своего рода медитацией, одновременно созерцательной и питательной (поскольку готовится тэмпура на ваших глазах): это медитация, направленная на то «нечто», что мы определяем, за неимением лучшего (а возможно, вследствие нашей понятийной косности), как легкое, воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, несуществующее, истинное название которому – промежуток, лишенный четких краев, или же пустой знак.

Промежуток
Вернемся, однако, к тому молодому мастеру, что творит кружева из рыбы и стручкового перца. Он готовит наше блюдо прямо перед нами, проводя рыбу через череду действий и состояний, от садка до белой бумаги, на которой она предстанет совершенно ажурной, не для того (только), чтобы сделать нас свидетелями высокого качества и чистоты его работы, но потому, что все его действия в буквальном смысле графичны. Он вписывает продукт в материю; его разделочный стол выглядит как стол каллиграфа; он работает с материалом как художник (особенно если тот японец), перед которым баночки с краской, кисти, тушечница, вода, бумага; таким образом, в шуме ресторана, среди перекрестных заказов, он воздвигает не время, но времена (что грамматически заложено в тэмпуре), он делает видимой всю гамму практик, рассказывает нам это блюдо, представляя его не как законченный товар, в котором ценна лишь его произведенность (как это происходит с нашими блюдами), а как продукт, смысл которого не является законченным, но проявляется, так сказать, исчерпывается, к тому моменту, когда его приготовление завершается: едите его вы, но произвел, написал, сыграл его – он.
Патинко
Патинко – это такой игровой автомат. На кассе вы покупаете немного металлических шариков; стоя перед аппаратом (вроде вертикального табло) одной рукой загружаете один за другим шарики в отверстие, а другой, при помощи рычага, проталкиваете их по лабиринту перегородок; если посылочный удар был четким (не слишком сильным и не слишком слабым), то запущенный шарик высвобождает целый поток других шариков, которые падают вам в ладонь, и остается лишь продолжать, если только вы не пожелаете обменять свой выигрыш на скромное вознаграждение (плитку шоколада, апельсин или пачку сигарет). Игровые залы Патинко очень распространены и постоянно заполнены разнообразной публикой (молодежь, женщины, студенты в черных мундирах, мужчины без возраста в офисных костюмах). Говорят, что торговый оборот Патинко не меньше (а то и больше) оборота крупнейших в Японии магазинов (что, конечно, впечатляет).

Кормушки и клозеты
Патинко – игра коллективная и индивидуальная. Аппараты выстроены длинными рядами; каждый стоящий у табло играет за себя, не глядя на соседа, хотя стоят они локоть к локтю. Слышен лишь звук проталкиваемых шариков (в очень быстром темпе); зал напоминает улей или цех; игроки похожи на заводских рабочих. В зале царит атмосфера усердного и прилежного труда; ничего общего с лениво-развязным, манерным поведением и театральной праздностью наших западных игроков, которые толпятся у электрических бильярдов, намеренно разыгрывая перед всеми роль всезнающего и искушенного бога. Что касается искусства самой игры, тут тоже есть разница. Для западного игрока смысл заключается в том, чтобы после заброса шарика постепенно влиять на траекторию его падения (посредством ударов); для японского же игрока всё решается посылочным ударом, всё зависит от силы, идущей от локтя к рычагу; движение пальцев мгновенно и бесповоротно, в нем и заключается талант игрока, который может воздействовать на случай только в начале; точнее: движение шарика лишь слегка сдерживается или ускоряется (но никоим образом не управляется) рукой игрока, который единым жестом толкает и следит; эта рука подобна руке художника (японского), для которого черта (графическая) – «контролируемый случай». Одним словом, Патинко в своей механике воспроизводит сам принцип живописи alla prima, которая требует, чтобы линия прочерчивалась единым движением, раз и навсегда, с учетом особенностей бумаги и туши, и без возможности исправить; так и брошенный шарик не может смещаться (грубо воздействовать на автомат, как это делают наши западные мошенники, немыслимо): путь шарика предопределен единым броском, подобным вспышке.
Для чего необходимо это искусство? Для того, чтобы регулировать цепь питания. На западе машина символически воспроизводит проникновение: речь о том, чтобы одним метким ударом завладеть подмигивающей красоткой на табло. В Патинко – никакого секса (вообще в Японии – в той стране, которую я называю Японией, – сексуальность присутствует в сексе, а не где – либо еще; в Соединенных Штатах, наоборот, – сексуальность повсюду, но только не в самом сексе). Здесь аппараты – кормушки, выстроенные рядами; игрок ловким движением, повторяющимся в таком быстром темпе, что оно кажется непрерывным, питает машину шариками, будто гуся откармливает; иногда c перекормленной машинной случается приступ диареи: всего за несколько йен игрок как бы символически оказывается осыпан золотом. Отсюда понятна вся серьезность игры: на прижимистость капитала и искусственную задержку зарплат она отвечает волшебным потоком блестящих шариков, внезапно наполняющих руки игрока.
Центр города, пустота центра
Говорят, что города с прямоугольной планировкой (такие, как Лос-Анджелес, например) порождают глубинную тревогу, ибо нарушают в нас кинестезическое ощущение, связанное с пространством города, – ощущение, требующее, чтобы в этом пространстве был центр, некое заполненное место, о котором мечтают, куда и откуда выбираются – одним словом, по отношению к которому изобретают себя. В силу множества причин (исторических, экономических, религиозных, военных) Запад был слишком уж верен этому закону: здесь все города имеют концентрическое строение; кроме того, сообразно с движением самой западной метафизики, для которой всякий центр является местом истины, центр наших городов всегда заполнен: это знаковое место, где собраны воедино все завоевания цивилизации: духовность (с ее храмами), власть (с ее кабинетами), деньги (с их банками), торговля (с ее магазинами), речь (с ее площадями, кафе и прогулками): «поехать в центр» значит пойти навстречу общественной «истине», причаститься высшей полноте «реальности».

Город – это идеограмма: бесконечный Текст
Город, о котором я говорю (Токио), представляет собой ценнейший парадокс: в нем есть центр, но этот центр пуст. Весь город вращается вокруг места, одновременно безразличного и запретного, оно скрыто зеленью, огорожено рвами с водой и населено императором, которого никогда не видно, – то есть в прямом смысле неизвестно кем. Проворные и шустрые такси день за днем энергично курсируют вокруг этого центра, старательно избегая попадания «в яблочко»: в это сакральное «ничто», в эту видимую форму невидимого, скрытую низким коньком крыши. Таким образом, центр одного из двух наиболее влиятельных городов современности окружен непроницаемым кольцом из стен, воды, крыш и деревьев, он не более чем испарившаяся идея, существующая здесь не для того, чтобы излучать власть, но для того, чтобы обеспечивать всякому городскому движению опору на ее центральную пустоту, обрекая это движение на вечное отклонение и объезд. Так же, говорят нам, разворачивается и пространство воображаемого – посредством возвращения и обращения вокруг пустого субъекта.
Без адресов

Адресная книжка
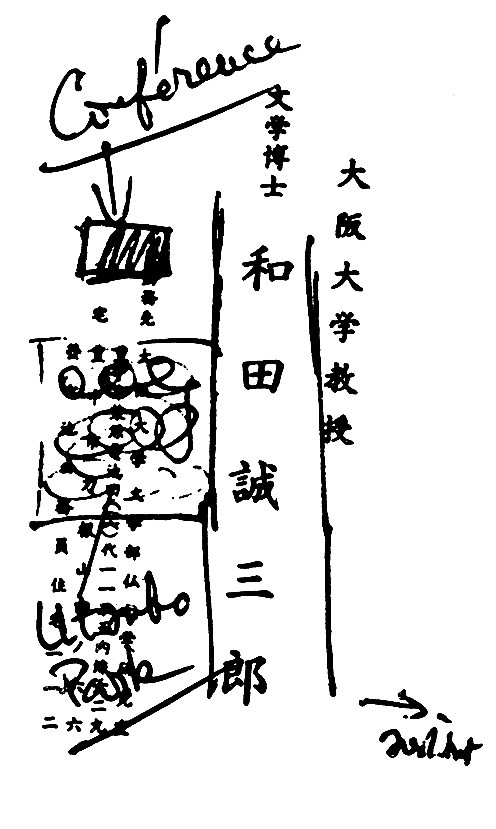
Улицы этого города не имеют названий. Есть, правда, письменный адрес, но он нужен только для почты и соотносится с реестром (составленным по кварталам и по жилым массивам, чуждым геометричности), знание которого доступно почтальону, но никак не посетителю города: самый большой город мира практически никак не упорядочен, составные части его пространства остаются неназванными. Такая невнятность жилого пространства кажется неудобной для тех, кто, как мы, привык считать наиболее практичным то, что устроено наиболее рационально (принцип, согласно которому наилучшей городской топонимией становится система нумерованных улиц, как в Соединенных Штатах или в Киото, китайском городе [14]). Токио, однако, показывает нам, что рациональность – не более, чем одна из возможных систем. Чтобы освоиться в реальности (как в случае с адресами), достаточно, чтобы существовала система, даже если внешне она покажется нелогичной, бессмысленно усложненной, нелепой и бесполезной: хороший разнобой, как известно, не только способен очень долго существовать, но и устраивать миллионы жителей, приученных при этом ко всем благам техногенной цивилизации.


Существуют способы возмещения этой анонимности (по крайней мере, нам так это представляется), и совмещение этих способов составляет систему. Можно представить адрес при помощи ориентирующей схемы (нарисованной или напечатанной), своего рода географической справки, где дом размещается относительно уже известной метки, например вокзала (жители города большие мастера в создании этих импровизированных рисунков, где прорисовываются улица, здание, канал, железная дорога, вывеска, – рисунки, которые превращают обмен адресами в приятное общение, в котором жизнь тела и искусство графического жеста вновь занимают свое место: всегда упоительно смотреть, как кто-то пишет, точнее, рисует; всякий раз, когда мне подобным образом сообщали адрес, мое внимание захватывал тот жест собеседника, когда он, перевернув карандаш, начинал стирать резинкой слишком размашистую линию какого-нибудь проспекта или перекрестья виадука; несмотря на то что ластик чужд японской графической традиции, от его действия исходило нечто умиротворяющее, ласкающее и надежное, как если бы даже в самом этом незначительном действии тело «трудилось с большей выдержкой, нежели дух», в согласии с заповедью актера Дзэами [15]; процесс изготовления адреса был гораздо важнее самого адреса, и, зачарованный этим зрелищем, я бы часами смотрел, как мне его готовят). Можно также, если только знаешь место, куда едешь, самому указывать водителю маршрут. Можно, в конце концов, уговорить водителя руководствоваться указаниями того, к кому вы отправляетесь, позвонив по одному из больших красных телефонов, которые расположены на каждом уличном перекрестке. Всё это делает визуальный опыт определяющим элементом ориентирования: такое положение было бы банальным, если бы речь шла о джунглях или чаще, но оно не кажется таковым применительно к очень большому современному городу, ориентация в котором чаще всего обеспечивается планом, гидом, телефонным справочником – одним словом, объектами печатной культуры, а не практикой жеста. Здесь, напротив, освоение жилого пространства не опирается ни на какую абстракцию; вне реестра оно – чистая случайность: больше действительное, нежели узаконенное, оно уже не выражает слияния идентичности с собственностью. Этот город может быть познан лишь этнографически: в нем надо ориентироваться не при помощи книги или адреса, но – шагом, взглядом, привычкой и опытом; всякое открытие здесь столь насыщенно и зыбко, что не может быть восстановлено иначе, чем припоминанием того следа, который оно в нас оставило: впервые где-то побывать – значит, в каком-то смысле, начать писать: и поскольку адрес не записан, необходимо, чтобы он сам основал свое собственное письмо.
Вокзал
В этом огромном городе, в этом краю урбанизма каждый квартал имеет простое, всем известное наименование; оно напоминает экстренное сообщение на пустоватой (так как улицы не имеют названий) карте; ему придается особая значимость вроде той, которую Пруст на свой манер обыграл в Именах Мест [16]. Квартал потому столь правильно ограничен, собран, очерчен своим именем, что он имеет центр, однако центр этот пуст в духовном смысле: обычно это вокзал [17].
Вокзал – это большой организм, где собраны вместе и поезда дальнего следования, и городские поезда, и метро, и торговый центр, и целая сеть подземной торговли; вокзал служит кварталу той точкой отсчета, которая, по мнению градостроителей, позволяет городу означать, быть читаемым. Японский вокзал пересекают тысячи функциональных маршрутов – от длительного путешествия до поездки за покупками, от покупки одежды до покупки продуктов: скажем, поезд может въехать в обувной отдел. Торговля, отправления и прибытия со всеми пересадками – всё это осуществляется в одном здании (стоит ли его по-прежнему называть вокзалом?), при этом оно лишено того священного характера, которым обычно отмечены все важные ориентиры наших городов: соборы, церкви, здания мэрии, исторические памятники. Здесь же точка отсчета абсолютно прозаична; конечно, рынок тоже часто является центральным местом западного города, но в Токио товарному избытку противостоит вокзальное движение: постоянное отправление мешает накоплению; кажется, что товар – лишь повод для упаковки, а пакет, в свою очередь, – не более чем пропуск или посадочный билет на поезд.

Эти борцы составляют касту, они живут отдельно, носят длинные волосы и употребляют ритуальную пищу. Бой длится одно мгновение – время, необходимое для того, чтобы повергнуть другую массу. Никакого кризиса, драмы или изнеможения, словом, никакого спорта: знак тяжести, а не напряженности конфликта.

Таким образом, каждый квартал стягивается к дыре своего вокзала, к точке пустоты, куда стекаются его заботы и удовольствия. Предположим, сегодня я решу отправиться туда-то и туда-то только ради того, чтобы в каком-то смысле подольше побыть с именем этого места. Я знаю, что в Уэно увижу вокзал, наземная часть которого наводнена молодыми лыжниками, а подполье, протяженностью с город, забито киосками, общедоступными барами, заполненными нищими и путешественниками, которые дремлют, болтают или едят прямо на полу в грязных переходах, воплощая всю романтику злачных мест. Неподалеку оттуда – но в другой день – мы увидим совсем иной народ: на торговых улочках Асакуса (где нет автомобилей), окаймленных арками из бумажных цветов сакуры, продают совершенно новую, удобную и недорогую одежду: куртки из грубой кожи (никаких ассоциаций с криминалом), перчатки с черной меховой оторочкой, очень длинные шерстяные шарфы, которые перебрасывают через плечо на манер деревенских мальчишек, возвращающихся из школы, кожаные кепки, всевозможные блестящие инструменты и шерстяные вещи из гардероба рабочего, который вынужден одеваться тепло и находить удовольствие в огромной, обжигающей и дымящейся плошке супа с лапшой. Еще один народец обитает по другую сторону императорского кольца (пустого, как мы помним): Икэбукуро, квартал одновременно и рабочий, и крестьянский, грубоватый и приветливый, как огромная дворняга. Каждый из этих кварталов порождает свою публику: другие тела, другая манера общения. Пересечь город (точнее, проникнуть в его глубину, а там, под землей, находится целая сеть баров и магазинчиков, к которым ведет обычная входная дверь какого-нибудь здания, и, войдя в нее, вы обнаружите настоящую, величественную и изобильную подпольную Индию: черный рынок торговли и развлечений) – всё равно что пересечь Японию сверху вниз, наложив на топографию письмо человеческих лиц. Что ни название, то идея места, а за ней свое неповторимое население, особое племя, для которого остальной город – точно непроходимые джунгли. Звучание места – это звучание истории; ибо здесь означающее – не воспоминание, но анамнез, как если бы все эти Уэно и Асакуса приходили ко мне из старинного хайку (написанного Басё [18] в XVII веке) [19]:
Пакеты

Если японские букеты, предметы, деревья, цветы, лица, сады, тексты, вещи и манеры кажутся нам уменьшенными (наша-то мифология воспевает большое, просторное, широкое, открытое), то размер тут ни при чем, дело в том, что всякий предмет или жест, даже абсолютно свободный и живой, кажется обрамленным. Миниатюра определяется не размером, но своего рода точностью, с которой вещь себя очерчивает, сдерживает, завершает. В этой точности нет ничего от разума или морали: чистота вещи достигается не пуританством (незапятнанностью, искренностью, объективностью), а неким галлюцинаторным дополнением (вроде той оптики, которую, если верить Бодлеру, пробуждает гашиш) или же отсеканием от предмета всего ореола смысла и устранением из его присутствия и его положения в мире всякой уклончивости. Между тем рамка остается невидимой: японская вещь не очерчивается и не подкрашивается; она не оформлена, не обрисована жирным контуром, рисунком, который должен «заполняться» цветом, тенью или мазком; вокруг нее – ничто, пустое пространство, которое ее обрамляет (а в наших глазах – сжимает и уменьшает).

Переверните картинку: ничего больше, ничего другого, ничего
Можно сказать, что предмет всякий раз неожиданно и между тем сознательно обыгрывает то пространство, в котором он расположен. К примеру: комната сохраняет свои вычерченные границы: это настилы на полу, плоские окна, деревянные перегородки (чистый образ поверхности), они же раздвижные двери; всё здесь черта, как если бы комната была написана единым движением кисти. И, меж тем, при повторном взгляде в этой строгости есть игра: перегородки хрупкие, стены податливые, мебель складная; в японской комнате мы находим ту «фантазию» (в одежде, в частности), которая позволяет каждому японцу обыгрывать свою вынужденную обрамленность, не впадая в театральный надрыв. Или вот еще: японский букет, «составленный строго по определенным правилам» (на языке западной эстетики), в чем бы ни заключалась символическая направленность этой конструкции, растолкованная в каждом путеводителе по Японии и в каждом альбоме по Икэбане, прежде всего стремится достигнуть некоей циркуляции воздуха, в котором цветы, листья, ветви (слова эти звучат слишком ботанически) вкупе образуют не что иное, как перегородки, дворы, лабиринты, изящно выстроенные в согласии с идеей разреженности, которая в нашем представлении никак не связана с природой, как если бы природное оправдывалось лишь изобилием; японский букет обладает объемностью; это тот неведомый шедевр, о котором мечтал еще бальзаковский Френхофер [21], желавший, чтобы можно было пройти за нарисованный объект, протиснуться в просвет между его ветвями, в проемы его строения – нет, не для того, чтобы его прочитать (вычитать его символический смысл), но чтобы воссоздать движение руки, изобразившей его, – это и есть настоящее чтение, ибо оно порождает объем и еще потому, что делает чтение не просто расшифровкой некоего послания (пусть даже с глубоким символическим смыслом), но позволяет вновь пройти путь его создания. В конце концов (или прежде всего): даже если не брать пример с известными японскими коробочками, вложенными одна в другую на манер матрешки и так до бесконечности, вернее, до обретения пустоты, – уже в простейшем японском пакете можно обнаружить настоящую семантическую медитацию. Геометричный, тщательно вычерченный и, между тем, всегда помеченный какой-нибудь ассиметричной складкой или углублением в силу самой технологии изготовления, игре картона, дерева, бумаги и тесемок, пакет перестает быть просто сопутствующим аксессуаром переносимого объекта, но сам становится объектом; упаковка самоценна, хотя и бесполезна; пакет – это мысль; подобным образом снимок молодого обнаженного японца в слегка порнографическом журнале, обтянутого бечевками, точно колбаса, свидетельствует о садистской направленности (правда, больше заявленной, чем исполненной), которая по наивности или из иронии преобразована в практику – не воздержания, но особого искусства – искусства упаковки и перевязки.

Чайный порошок, ресурс письма

Причем достоинство этой многослойной оболочки (пакет можно разворачивать бесконечно) именно в том, чтобы отсрочивать появление содержимого, которое часто оказывается совершенно незначительным, ибо в том и заключается особенность японского пакета, что ничтожность вещи несоразмерна роскоши упаковки: горстка сладостей, засахаренная фасолевая паста, какой-нибудь вульгарный «сувенир» (которыми, увы, богата Япония) обернуты с таким старанием, словно это драгоценности. В целом можно сказать, что дарится именно коробка, а не ее содержимое: толпы школьников в конце дня приносят своим родителям прекрасно упакованные свертки, наполненные непонятно чем, и выглядят так, словно бы они возвращались из дальних странствий, где все вместе предавались сладострастию обертывания. Таким образом, коробка играет роль знака: в качестве оболочки, ширмы, маски она равноценна тому содержимому, которое она скрывает, защищает и при этом обозначает: можно сказать, что она совершает обмен и подмену в финансовом и психологически-бытовом смыслах: обмен одной денежной единицы на другую и подмену одного другим, однако само скрываемое и обозначаемое до поры откладывается, как если бы функция пакета заключалась не в том, чтобы защищать в пространстве, а в том, чтобы отодвигать во времени; похоже, труд изготовления (делания) инвестирует себя именно в упаковку, но тем самым объект лишается существования, он превращается в мираж: означаемое распаковывается слой за слоем, и когда в конце концов его ухватываешь (а в пакете обычно лежит что-нибудь маленькое), оно кажется ничего не значащим, ничтожным, дешевым: удовольствие, поле означающего, уже было задействовано: пакет не пуст, но опустошен: обнаружить объект, находящийся в пакете, – всё равно что означаемое, заключенное в знаке, – значит отбросить его: то, что с энергичностью муравьев японцы переносят туда-сюда, суть пустые знаки. Ибо Япония изобилует тем, что можно было бы назвать инструментами транспортировки; они бывают различных видов и форм, из разных материалов: пакеты, сумки, чемоданы, узелки (фудзё [22], например, – платок или крестьянская косынка, в которую заворачивается вещь), каждый прохожий на улице тащит какой-нибудь сверток, пустой знак, старательно оберегаемый, аккуратно несомый, как если бы эта завершенность, обрамленность, галлюцинаторная очерченность, создающая японский объект, обрекала его на бесконечный перенос. Роскошь вещи и глубина смысла определяются всего тремя критериями, которым должен соответствовать всякий производимый объект: он должны быть четким, переносным и пустым.
Три письма
Куклы Бунраку ростом бывают от одного до двух метров. Это просто мужчины или женщины с подвижными частями тела – руками, ногами и ртами; каждую куклу поддерживают, сопровождают и приводят в движение трое: мастер держит верхнюю часть куклы и ее правую руку; его лицо открыто, гладко, светло, невозмутимо и холодно, как «свежевымытая белая луковица» (Басё); двое помощников, одетых в черное, с лицами, покрытыми тканью; один из них, в перчатках, но с голыми локтями, держит в руках большую раму с веревочками, которые отвечают за левую руку и левую кисть куклы; другой, согнувшись, поддерживает тело куклы и обеспечивает ее ходьбу. Эти люди перемещаются по неглубокой нише так, что их видно. За ними декорация, как в театре. Сбоку на сцене располагаются музыканты и чтецы; их задача – выражать текст (как выжимают сок из фруктов); текст этот наполовину читается, наполовину поется; пунктуация громких ударов плектров исполнителей на сямисэне сообщают тексту одновременно размеренность и порывистость, грубость и изящество. Истекая по́том и храня неподвижность, исполнители текста сидят позади невысоких загородок, на которых расположена огромная партитура, чьи вертикальные столбцы становятся видны всякий раз, когда они переворачивают страницу; к их плечам прикреплены треугольники из жесткой ткани, напоминающие воздушных змеев и обрамляющие их лица, подвластные всем колебаниям голоса.
Таким образом, в Бунраку осуществляются три отдельных уровня письма, которые считываются одновременно в трех составляющих спектакля: кукла, манипулятор, озвучивающий: жест-аффект, жест-стимул и жест вокальный. Голос: вся современная реальность ориентирована на эту особую субстанцию языка, которую повсюду пытаются заставить восторжествовать. В Бунраку, напротив, мы имеем дело с ограниченной идеей голоса; голос там не устраняется вовсе, но ему отводится раз и навсегда определенная, по сути, тривиальная роль. В самом деле, в голосе рассказчика собираются вместе утрированная декламация, тремоло, высокий женский тон, срывающиеся интонации, рыдания, умоляющие возгласы, приступы гнева, плача, изумления, невероятного пафоса – словом, целая кухня переживаний, открыто вырабатываемых посредством утробного тела, медиаторным мускулом которого выступает гортань. Кроме того, весь этот поток – не более чем код потока: голос движется лишь прерывистыми знаками бури; он исходит из неподвижного тела, скрытого треугольником одеяния, он привязан к книге, руководящей им со своего пюпитра, он подчиняется сухим и аритмичным (а потому и несколько нахальным) ударам исполнителя на сямисэне; вокальная субстанция остается написанной, прерывистой, закодированной, подвластной иронии (если отнять у этого слова язвительный оттенок); в конечном счете голос выносит на поверхность не то, что он нес («чувства»), но – самое себя, собственную обнаженность; каким-то хитрым образом означающее, словно перчатка, выворачивается наизнанку.


Восточный травести не копирует Женщину, но обозначает ее: он не встраивается в ее модель, но отстраняется от означаемого: Женственность надо не лицезреть, а читать: трансляция, а не трансгрессия; знак переходит от женской роли к сорокалетнему отцу семейства: это тот же самый человек, но где же начинается метафора?

Знак – это разрыв, всегда обнаруживающийся лишь на лице другого знака.
Голос не устраняется (что означало бы ввести цензуру, а значит, и указать на его значимость), но отводится в сторону (чтецы занимают боковую часть сцены). Куклы Бунраку представляют собой противовес, а точнее, противодействие по отношению к голосу – противодействие жеста. Этот жест двойной: эмотивный для кукол (публика плачет, когда кукла-любовница совершает самоубийство) и транзитивный для кукловодов. В нашем театральном искусстве актер изображает действия, но эти действия всегда остаются только жестами: на сцене – ничего кроме театра, но этот театр стыдится сам себя. Бунраку (по определению) разделяет действие и жест: он показывает жест, он позволяет увидеть действие, он разом являет и искусство, и труд, сохраняя для каждого из них его собственное письмо. Голос (и таким образом нет ничего страшного в том, что он выходит за пределы своей гаммы) сопровождается толщей тишины, где с изяществом прорисовываются иные черты, иное письмо. Вот здесь и возникает неслыханная вещь: помимо голоса и почти без мимики две этих разновидности безмолвного письма – транзитивное и жестовое, порождают экзальтацию, подобную интеллектуальной гиперестезии, производимой некоторыми наркотиками. Речь не очищена (ибо Бунраку не стремится к аскезе), но, скажем так, вся целиком вовлечена в игру, растворяя непременные составляющие западного театра: эмоция больше не захлестывает, не поглощает, но становится чтением, стереотипы исчезают, однако спектакль не стремится к «находкам», не впадает в оригинальничанье. Понятно, что всё это создает эффект дистанции, рекомендованный Брехтом [23]. Эта дистанция у нас считается невозможной, бесполезной, никчемной, старательно избегаемой, хотя именно ее Брехт положил в основание революционной драматургии [24] (и здесь одно объясняет другое); Бунраку же дает возможность понять, как эта дистанция функционирует: посредством прерывности кодов, посредством цезуры, прилагаемой к различным чертам представления; поэтому копия, создаваемая на сцене, не разрушается, но как бы дробится, покрывается бороздами, освобождаясь от метонимического смешения голоса с жестом и души с телом, которые у нашего комедианта слиты.

Письмо рождается из надписей на камне, это выемки и углубления, осязаемые, а не наблюдаемые (это не нанесение; скорее побуждение рассекать, а не наблюдать); письмо рассекает материю основы на отдельные участки, между которыми намечаются пустоты, оно лишь направляется к поверхности, впивается в нее, опуская на дно, которое уже не дно, поверхность пишущего волокна, которая тоже уже не поверхность, и это волокно наполняется тем, что внизу, вытягивая его наверх (кисть держится в руке прямо); так иероглиф втягивается в стержень – он же ствол или стремянка, – расщепляясь на уровни моносиллабикой голоса; этот стержень может быть назван «свободным запястьем», в котором на выдохе свободной кистью руки пишется «единая черта», она же – ключевой ход в «скрытом пятне» и «стертом следе».
Филипп Соллерс. О материализме, 1969 [25]
Будучи целостным, но разделенным, спектакль Бунраку, разумеется, исключает импровизацию: вернуться к спонтанности означало бы вернуться к стереотипам, на которых зиждется наша «глубина». Как это виделось и Брехту, здесь царит цитирование, щепотка письма, фрагмент кода, ибо ни один из создателей игры не может отнести исключительно к себе то, что никогда не пишется им одним. Как и в современном тексте, сплетение кодов, отсылок, фактов, вырванных из контекста, антологических жестов, умножает линию письма, не взывая к какой-либо метафизической реальности, но обращаясь к игре комбинаторики, которая раскрывается во всем театральном пространстве: то, что начинает один, подхватывает другой, и так далее, без остановки.
Одушевленное/Неодушевленное
Обращаясь к основной антиномии одушевленного/неодушевленного, Бунраку подрывает и размывает ее, не отдавая предпочтения ни одному из ее составляющих. У нас роль марионетки (Полишинеля [26], к примеру) заключается в том, чтобы держать перед актером зеркало, где отражается его противоположность; она одушевляет неодушевленное, но лишь для того, чтобы лучше показать его несовершенство, недостойность, заключающуюся в неподвижности. Будучи своего рода карикатурой на «жизнь», марионетка тем самым устанавливает ее моральные границы и стремится сосредоточить красоту, истину, переживание в живом теле актера, который тем временем превращает свое тело в обман. Театр Бунраку не обозначает актера, он просто избавляет нас от него. Каким образом? Именно посредством определенной мысли о человеческом теле, которая передается неодушевленной материей с гораздо большей строгостью и трепетом, нежели телом одушевленным (то есть наделенным «душой»). Западный актер (натуралист) никогда не бывает красив; его тело стремится к физиологической, а не к пластической сущности: это набор органов, мускулатура страстей, где каждая рессора (голос, мимика, жесты) включена в своего рода гимнастическое упражнение. Однако в силу чисто буржуазного переворачивания, его тело, хотя и остается сконструированным по принципу разделения страстей, заимствует у физиологии отпечаток органической целостности, присущей «жизни»; но, несмотря на связность его игры, моделью которой является не ласка, а сокровенная «правда», здесь именно актер остается марионеткой.
Основанием нашего театрального искусства является не столько иллюзия реальности, сколько иллюзия целостности: начиная с греческой choréia [27] вплоть до буржуазной оперы мы мыслим лирическое искусство как одновременность нескольких выражений (игры, пения, мимики), имеющих единое неделимое основание. Этим основанием является тело, и моделью упомянутой целостности является органическое единство: западный спектакль антропоморфен; в нем жест и речь (не говоря уже о пении) составляют единую материю, накачанную и блестящую, словно единый мускул, который играет выражением, но не разделяет его: единство голоса и движения производят того, кто играет, одним словом, именно в этом единстве конституируется «личность» персонажа, то есть сам актер. В самом деле, под видом «живости» и «естественности», западный актер сохраняет разделение своего тела, и таким образом дает пищу нашим фантазиям: здесь голос, там взгляд или осанка – всё становится эротичным, так же как части тела или фетиши. Западная марионетка (и это хорошо видно в Полишинеле) также является субпродуктом фантазий. Будучи редукцией, нестройным отражением, о чьей принадлежности к человеческому миру беспрестанно напоминает карикатурная симуляция, марионетка существует не как целостное тело, целиком вздрагивающее, но как ригидная часть актера, от которого она ведет свое происхождение; двигаясь как автомат, она и движение передает частично: рывками, толчками, это воплощенная прерывистость, разбитая на части проекция жестов; наконец, будучи куклой, обернутой в кусок материи или генитальную повязку, она и есть тот самый фаллический «малыш» («das Kleine» [28]), выпавший из тела, чтобы превратиться в фетиш.
Вполне возможно, что и в японской кукле сохраняется нечто от этих фантазмов; но искусство Бунраку наделяет их иным смыслом; бунраку не стремится «оживить» неживой объект, делая живой одну из частей тела, обрубок человека, сохраняя при этом за ним роль «части»; Бунраку стремится не к симуляции тела, но, если можно так выразиться, к его чувственному абстрагированию. Всё, что мы приписываем целостному телу, и всё, в чем отказано нашим актерам под прикрытием органического «живого» единства, собирает в себе человечек Бунраку и выражает всё это безо всякой фальши: хрупкость, сдержанность, торжественность, немыслимые тонкости, отбрасывающие всякую тривиальность, мелодическую фразировку жестов – словом, все те черты, которые древняя теология приписывала блаженным телам, а именно: невозмутимость, ясность, ловкость, изящество, – вот то, что воплощает Бунраку, вот каким образом оно обращает тело-фетиш в миловидное тело, вот как оно устраняет антиномию одушевленного/неодушевленного и утверждает идею, которая прячется за всяким оживлением материи, а именно идею «души».
Внутри/Снаружи
Возьмем западный театр последних столетий; его основная роль – демонстрировать то, что имеет репутацию тайного («чувства», «положения», «конфликты»), пряча при этом само искусство показывания (механику сцены, оформление, грим, источники света). Сцена, устроенная по-итальянски, раскрывает перед нами пространство этого обмана: здесь всё происходит в интерьере, куда мы тайком подсматриваем, приоткрывая, подглядывая из полутьмы зала, поглощенные зрелищем. Это фаустовское, теологическое пространство Греха: с одной стороны, залитый светом и делающий вид, что не замечает этого света, актер – то есть жест и речь, с другой же стороны, в ночном мраке, – публика, то есть сознание.
Бунраку не разрушает непосредственно соотношение зала и сцены (учитывая, что в Японии залы совсем не такие закрытые, душные и тяжелые, чем у нас); изменяется здесь нечто более глубинное, а именно движущая связь, соединяющая персонажа и актера, которая у нас всегда рассматривается как путь выражения внутреннего состояния. Надо напомнить, что все действующие лица театра Бунраку одновременно видимы и непроницаемы. Мужчины в черном суетятся вокруг куклы, не афишируя при этом своей ловкости или сдержанности, и, если можно так выразиться, без какой-либо показной демагогии; молчаливые, быстрые, изящные, их жесты в высшей степени транзитивны, действенны, окрашены тем сочетанием силы и изящества, которым отличается японская жестикуляция и которая является своего рода эстетичной упаковкой эффективности. Что касается мастера, его голова открыта; лицо гладкое, без грима, вид у него совершенно обычный (не театральный), его лицо предоставлено читающему взору зрителя, однако то, что действительно старательно предлагается прочесть, так это то, что читать нечего; здесь мы находим ту исключенность смысла, которую едва ли можем понять, потому как у нас посягать на смысл – это значит прятать его или опрокидывать, но никак не устранять. В Бунраку обнажается пустота того источника, на котором основан театр. Истерия, то есть театр как таковой, изгоняется со сцены и уступает место действию, необходимому для создания зрелища; труд занимает место внутренней жизни.
Таким образом, тщетно спрашивать себя, как это делают некоторые европейцы, может ли зритель забыть о присутствии тех, кто управляет куклами. Театр Бунраку не занимается ни сокрытием, ни высокопарным выставлением напоказ своих механизмов; таким же образом он снимает с действий актера налет сакральности и устраняет ту метафизическую связь, которую Запад неизменно устанавливает между душой и телом, причиной и следствием, двигателем и машиной, персонажем и актером, Судьбой и человеком, Богом и творением: если тот, кто всем управляет, не скрывается, каким образом вы сможете сделать из него Бога? В театре Бунраку куклы не поддерживаются никакими нитями. Нет больше нитей, нет больше метафор, нет больше Судьбы; кукла больше не подражает тварному, человек больше не является марионеткой в руках божества, а внутреннее больше не определяет внешнее.
Поклоны
Почему на Западе к вежливости относятся с недоверием? Отчего учтивость принимают за дистанцию [29] (если вообще не за отстраненность) или за лицемерие? Почему «неформальные» (как у нас говорят со смакованием) отношения более предпочтительны, чем отношения в рамках кода?
Западная бесцеремонность основана на особой мифологии «личности». Топологически западный человек считается раздвоенным, составленным из «внешнего» – социального, искусственного, ложного, и «внутреннего» – личного, подлинного (который является местом встречи с Богом). Согласно этой схеме, человеческая «личность» становится местом, преисполненным природой (или же божественностью, или виновностью), закрытым и окруженным презренной социальной оболочкой: жест вежливости (когда он необходим) – знак уважения, которым обмениваются между собой через светскую границу равно исполненные сущности (то есть, благодаря и при этом вопреки это границе). Между тем, как только речь заходит о высокочтимом внутреннем мире «личности», считается логичным относиться к этой личности, не проявляя никакого интереса к ее социальной оболочке: предполагается, что это отношение искреннее, первичное, обнаженное, искажаемое (как считается) любым общением посредством знаков, безразличное к опосредующим кодам, более всего дорожащее индивидуальной ценностью другого: быть невежливым значит быть правдивым – вот логика западной морали. В самом деле, раз уж есть человеческая «личность» (непроницаемая, исполненная, центрированная, священная), именно ее мы стараемся поприветствовать первым же движением (головы, губ, тела); но моя собственная личность, неизбежно вступая в борьбу с полнотой другого, может дать себя узнать, лишь отбросив всю опосредующую фальшь и утверждая целостность (слово двузначное: в моральном и в физическом плане) его «внутреннего мира». В следующий же момент я постараюсь умалить мое приветствие, сделать его естественным, спонтанным, избавленным от всех кодов; я буду слегка вежлив или же вежлив в силу только что возникшей фантазии, как прустовская принцесса Пармская [30], подчеркивавшая высоту своих доходов и своего положения (то есть ее способ быть «исполненной» вещами и таким образом утверждать себя как личность) не строгой дистанцией во время приема, но «простотой» манер: смотрите, как я прост, смотрите, как я мил, смотрите, как я искренен, смотрите, как я кем-нибудь являюсь, – за это у западного человека отвечает бесцеремонность.

Подарок сам по себе, нетронутый. Душа не загрязняет его ни щедростью, ни благодарностью.

Кто кого приветствует?
Иная вежливость, с тщательным соблюдением кодов, четкой графикой жестов, нам кажется слишком почтительной (и потому «унизительной»), ибо мы по привычке воспринимаем ее в рамках метафизики личности; тогда как эта другая вежливость есть своего рода упражнение в пустоте (чего и следует ожидать от сильного кода, который при этом обозначает «ничто»). Два тела склоняются очень низко друг перед другом (руки, колени, голова всегда принимают строго определенное положение), тщательно соблюдая установленный угол поклона. Или еще (как на старом фото): чтобы преподнести подарок, я должен лечь, согнувшись и почти впечатавшись в пол, а в ответ мой партнер поступает так же: единая линия пола соединяет дарящего, принимающего и сам предмет дарения, коробку, которая, может быть, вообще ничего не содержит или содержит что-нибудь совсем небольшое. Графическая форма (вписанная в пространство комнаты) придается акту обмена, в котором, благодаря этой форме, исчезает всякая жадность (подарок остается подвешенным между двумя исчезновениями). Здесь приветствие может быть свободно от унижения или гордыни, так как оно в буквальном смысле не адресовано никому; оно не является знаком коммуникации, поддерживаемой, снисходительной и предупредительной, между двумя автаркиями, двумя персональными империями (каждая из которых царствует на определенной территории я, небольшой области, от которой у него есть ключ); приветствие – не более чем сплетение форм, где ничто не остановилось, не увязло и не осело. Кто кого приветствует? Один этот вопрос оправдывает приветствие, превращает его в поклон, припавший к земле, заставляет восторжествовать не смысл, но графику очертаний и наделяет позу, которая в наших глазах выглядит чрезмерной, истинной сдержанностью жеста, означаемое которого непостижимым образом испарилось. «Форма – Пустота» [31], неизменно повторяются буддийские слова. Это и есть то, что выражают посредством практики форм (слово, чьи пластический и светский смыслы здесь становятся неразрывны) вежливость приветствия и склоненность двух тел, которые не повергаются ниц, но прописывают друг друга. Наша манера выражения слишком порочна, ибо, если я скажу, что вежливость там является религией, покажется, будто в ней заключено нечто священное, в то время как это высказывание должно быть понято в том смысле, что религия там – не более чем вежливость или, еще лучше, – религия подменила вежливость.
Взлом смысла
У хайку есть одна несколько фантасмагорическая особенность: всякий раз кажется, что его легко написать самому. Что, говорят, может быть более доступным спонтанному письму, чем подобные строки (Бусона [32]):
Хайку вызывает зависть: сколько западных читателей мечтали так прогуливаться по жизни с блокнотиком в руке, отмечая здесь и там некие «впечатления», краткость которых была бы гарантией совершенства, а простота – критерием глубины (и все благодаря мифу, состоящему из двух частей, одна из которых – классическая – делает лаконизм измерением искусства, другая – романтическая – в импровизации усматривает правдивость) [34]. Будучи абсолютно понятным, хайку при этом ничего не сообщает, и именно благодаря этому двойному условию, оно, кажется, преподносит себя смыслу с услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать себя у него как дома, принимая вас со всеми вашими привязанностями, ценностями и символами; это «отсутствие» хайку (в том смысле, какой имеется в виду, когда говорят об отвлеченном сознании, а не об уехавшем хозяине) чревато соблазном и падением, одним словом, сильным вожделением смысла. Этот самый смысл, ценный, жизненный и желанный, как счастливая фортуна (то есть случай и деньги), хайку, свободное от метрических правил (по крайней мере в переводах), поставляет нам в изобилии, по сниженной цене и по заказу; можно сказать, что в хайку символ, метафора, мораль не стоят почти ничего – от силы несколько слов, картинка, ощущение, – там, где нашей литературе потребуется целая развернутая поэма или же (в коротких жанрах) отточенная мысль, одним словом – долгий риторический труд. Похоже, хайку предоставляет Западу права, в которых ему отказывает его собственная литература, а также удобства, на которые она скупится. Вы имеете право, – говорит хайку, – быть пустым, кратким, банальным; просто замкните то, что вы видите и чувствуете, узким горизонтом слов, – и вы увлечете; у вас есть право самим (и исходя из себя самих) обосновать собственный закон; ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, высвободит символ, вы будете глубоким; малыми средствами вы достигнете полноты письма.

Огурец и два баклажана буквально воплощают трехстишие хайку.
Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной религии, навязывающей посвящение целым народам; в самом деле, объекты языка (созданные при участии речи) подобны новообращенным: первичный смысл языка метонимически апеллирует ко вторичному смыслу – смыслу дискурса, – и эта апелляция имеет ценность всеобщего принуждения. У нас есть два способа избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы систематически подчиняем высказывание (в остервенелом затушевывании всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту языка) тому или иному из имеющихся в нем значений (или же тому или иному производству знака): символ или рассуждение, метафора или силлогизм. Хайку с его простыми, расхожими, одним словом, приемлемыми (как говорят лингвисты) выражениями перетягивается в ту или иную из этих двух смысловых империй. Поскольку оно является «стихотворением», его помещают в ту часть общего кода эмоций, которую называют «лирическим переживанием» (у нас Поэзия обычно связывается с чем-то «расплывчатым», «невыразимым», «чувствительным», словом, с классом неклассифицируемых ощущений); обычно говорят о «насыщенном переживании», о «запечатлении особо значимого мгновения» и особенно – о «молчании» (которое всегда является для нас знаком полноты языка). Если кто-нибудь (Дзёко [35]) пишет:
то встает образ убегающего времени. А когда другой (Басё) пишет [37]:
то объясняют [39], что это он встретил буддийского отшельника, ибо фиалка считается «цветком добродетели»; и так далее. Не остается ни одной черты, которую западный комментатор не нагрузил бы символическим смыслом. Или еще во что бы то ни стало хотят усмотреть в трехстишии хайку (три строки: из пяти, семи и еще пяти слогов) схему силлогизма (две посылки и заключение):
(в данном конкретном силлогизме заключение удается с трудом: чтобы он совершился, нужно, чтобы более слабая посылка впрыгивала в более сильную). Разумеется, если отказаться от метафор и силлогизмов, комментарий становится невозможным: говорить о хайку значит просто повторять его. Что и делает – неосознанно – один из комментаторов Басё:
«Луна настолько прекрасна, говорит он, что поэт встает снова и снова, чтобы созерцать ее из своего окна». У нас подобные интерпретации – всякого рода расшифровки, тавтологии, формализации, стремящиеся проникнуть в смысл, взломать его, – всегда неизбежно бьют мимо хайку, тогда как практикующий Дзэн без конца твердит абсурдный коан до тех пор, пока смысл не выпадет, как зуб; цель нашего чтения – подвесить язык, а не спровоцировать его: между тем необходимость и сложность последнего, кажется, как раз Басё и осознавал:
Исключение смысла
Весь Дзэн направлен на борьбу с недоброкачественным смыслом. Известно, что буддизму удается избежать фатального пути, коим следует всякое утверждение или отрицание, ибо он рекомендует всегда избегать четырех возможных утверждений: это есть А – это не есть А – это есть одновременно и А, и не-А – это не есть ни А, ни не-А. Ведь эта четверичная возможность соответствует той совершенной парадигме, которую создала структурная лингвистика (А – не-А – ни А, ни не-А [нулевая степень] – А и не-А [сложная степень]); иначе говоря, буддийский путь – это путь преграждения смысла: схватывание значения, а именно парадигма, становится невозможной. Когда Шестой патриарх [43] дает указания относительно мондо [44], упражнения вопроса – ответа, он советует – дабы запутать парадигматику – в момент, когда нечто сказано, обратиться к чему-то противоположному («Если вас спрашивают о бытии, отвечайте небытием. Если вас спрашивают о не-бытии, отвечайте бытием. Если вас спрашивают об обычном человеке, заводите речь о мудреце, и т. д.») – так, чтобы выставить нелепыми парадигматическую замкнутость и механический характер смысла. Само основание знака, сам принцип классификации (майя [45]) подлежит упразднению (посредством ментальной техники, точность, выдержанность и утонченность которой показывают, до какой степени трудным восточная мысль считает неисполнение смысла); в отличие от классифицирования как такового, то есть посредством языка, хайку стремится к достижению стертого языка, в напластованиях которого не оседает ничего, что можно было бы назвать «наслоением» символов (что неизбежно случается в нашей поэзии). Когда говорят, что шум прыгающей лягушки пробудил Басё к истине Дзэн, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком западной манерой выражаться), что Басё нашел в этом звуке не какой-то мотив «озарения» или некоей символической гиперестезии, а, скорее, предел языка: существует момент, когда язык прерывается (это состояние достигается посредством усиленных упражнений), как раз в этом беззвучном разрыве возникает как истина Дзэн, так и краткая, пустая форма хайку. Полный отказ от «распаковывания»; поэтому «прервать язык» не значит погрузиться в некую гнетущую, значительную, глубокую, таинственную тишину или же освободить душу для встречи с Богом (в Дзэн нет Бога); то, о чем идет речь, не должно быть понятно ни из речи, ни в конце речи; то, о чем речь, принципиально непрозрачно, можно лишь повторять это до бесконечности; именно это и рекомендуется монаху, который работает над коаном (или же притчей, предложенной ему учителем): не нужно ни разгадывать его, как если бы у него был скрытый смысл, ни проникаться его абсурдностью (абсурдность – это все еще смысл), нужно твердить его до тех пор, «пока зуб не выпадет». Таким образом, весь Дзэн, литературным ответвлением которого является искусство хайкай [46], предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим (быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать), опорожнить, притупить, иссушить ту неудержимую болтовню, которой предается душа; и, быть может, то, что в Дзэн называется сатори и что на Западе могут перевести лишь приблизительными христианскими соответствиями (просветление, откровение, прозрение), есть лишь тревожная подвешенность языка, белизна, стирающая в нас господство Кодов, слом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. И если это состояние не-языка предстает освобождением, то потому, что в буддийском опыте размножение мысли (мысль о мысли) или, если угодно, бесконечное прибавление избыточных означаемых – круг, моделью и носителем которого является сам язык, – предстает как препятствие: уничтожение же вторичной мысли, напротив, разрывает дурную бесконечность языка [47]. Похоже, во всех этих экспериментах речь идет не о том, чтобы подавить язык таинственной тишиной неска́занного, но о том, чтобы познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов атакуется сам символ как семантическая операция.
В хайку ограничение языка является предметом непостижимой для нас заботы, ибо цель не в том, чтобы быть лаконичным (то есть, сократить означающее, не уменьшая плотности означаемого), но, напротив, в том, чтобы, воздействуя на само основание смысла, убедиться, что этот смысл не растекается, не замыкается в себе, не упрощается, не отрывается и не расплывается в бесконечности метафор, в сферах символического. Краткость хайку не является формальной; хайку не есть некая богатая мысль, сведенная к краткой форме, оно есть краткое событие, которое вмиг находит единственно возможную форму выражения. Мера в языке – то, что наименее свойственно Западу: не то чтобы его язык был слишком долгим или кратким, но вся его риторика накладывает на него обязательство делать означающее и означаемое несоответствующими друг другу – либо «отметая» второе под напором болтовни первого, либо «углубляя» форму в направлении скрытого содержания. В точности хайку (которое отнюдь не является точным изображением действительности, но есть как раз соответствие означающего означаемому, устранение полей, помарок и промежутков, обычно пронизывающих семантическое отношение)есть, по-видимому, что-то музыкальное (что-то от музыки смыслов, а не звуков): в хайку есть та же чистота, сферичность и пустота, что и в музыкальной ноте; возможно, именно поэтому хайку необходимо повторять дважды, как эхо; проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз значит привязать смысл к удивлению, к точке, к внезапному совершенству; произнести ее множество раз значит постулировать, что смысл еще необходимо раскрыть, намекнуть на глубину; между тем и другим – эхо, не однократное, но и не слишком раскатистое, не что иное как черта под пустотою смысла.
Случай
Западное искусство превращает «впечатление» в описание. Хайку же никогда не описывает: это искусство антидескриптивно, ибо всякое состояние вещи оно моментально, неустанно и победоносно превращает в хрупкую сущность явления: это мгновение – в буквальном смысле «неуловимое» – когда вещь, которая уже является всего лишь языком, начинает превращаться в речь, переходить из одного языка в другой – и предстает нам как воспоминание об этом будущем, являясь при этом уже прошедшей. В хайку существенно отнюдь не только событие
но также и то, что, как нам кажется, является скорее призванием живописи, небольших картинок, каких много в японском искусстве. Так, например, хайку Сики [49]:
становится своего рода абсолютной интонацией (подобно Дзэну, принимающему таким образом всякую вещь, пусть даже ничтожную), складкой, которая легким и точным движением ложится на страницу жизни, в ткань языка. Западному жанру описания в духовном плане соответствует созерцание, методическое воображение форм, присущих божественности, или же эпизодов из евангельского текста (у Игнатия Лойолы опыт созерцания по существу своему имеет описательный характер); хайку же, напротив, произносится на фоне метафизики без бога и субъекта и соответствует буддистскому Му и дзэнскому сатори, которые отнюдь не являются озаряющим нисхождением Бога, но являются «пробуждением перед фактом», схватыванием вещи как события, а не как субстанции, достижением того изначального предела языка, который граничит с беззвучием (впрочем, ретроспективным и восстановленным беззвучием) самого случая (что относится скорее к языку, нежели к субъекту).

Дзэнский сад: «ни цветов, ничего: где человек? В расположении камней, в следах от граблей, в надписях».
С одной стороны, количество и распространенность хайку, а с другой – краткость и замкнутость в себе каждого из них, похоже, делят и упорядочивают мир до бесконечности, открывают пространство чистых фрагментов, разлетающейся пыли событий, которую ничто не может ни собрать, ни выстроить, ни направить, ни завершить в силу того, что само значение изымается. Ибо время хайку лишено субъекта: в чтении нет другого меня, кроме всей совокупности хайку, где это я бесконечно преломляется и есть не более чем место чтения. Согласно образу, предложенному доктриной Хуаянь [51], можно было бы сказать, что коллективное тело хайку – жемчужная сеть, где в каждой жемчужине отражаются все остальные и так далее до бесконечности, где нет возможности нащупать центр, первичный источник излучения (для нас же наиболее близким образом, воплощающим это изобилие, не имеющее ни двигателя, ни опоры, эту игру вспышек, не имеющую начала, будет словарь, в котором каждое слово определяется только с помощью других слов). На Западе зеркало является по сути своей нарциссическим объектом; человек не мыслит зеркало иначе, нежели как предмет, который необходим ему, чтобы смотреть на себя; на Востоке же зеркало, похоже, пусто: оно символически отражает пустоту самого символа («Ум совершенного человека, говорит даос, подобен зеркалу. Он ничего не хватает, но ничего и не отталкивает. Он принимает, но не удерживает»: зеркало ловит лишь другие зеркала, и это бесконечное отражение есть сама пустота [которая, не будем забывать, есть сама форма]). Таким образом, хайку заставляет нас вспомнить о том, чего с нами никогда и не случалось; в нем мы узнаём повторение без начала, событие без причины, память без личности, речь без швартовов.
То, что я говорю о хайку, можно сказать обо всем, что происходит в той стране, которая здесь называется Японией. Ибо там – на улице, в баре, поезде или магазине – всегда что-то случается (advient). Это что-то – этимологически уже приключение (aventure) – является совершенно незначительным: нелепость одежды, анахронизм культуры, свобода поведения, алогизм путеводителя и т. д. Попытаться обозреть эти события – взяться за сизифов труд, ибо они могут промелькнуть лишь в тот момент, когда их считывают, посреди живого письма самой улицы; кроме того, западный человек не смог бы озвучить их иначе, чем нагрузив их смыслом собственной отстраненности: следовало бы превратить их в хайку, в язык, который нам недоступен. Всё, что можно здесь добавить, так это то, что в этих незначительных происшествиях (которые, накапливаясь в течение дня, приводят к своего рода эротическому опьянению) нет ничего ни живописного (японская живописность нам безразлична, ибо никак не связана с тем, что составляет особенность Японии, с ее современностью), ни романического (они никогда не поддаются той болтовне, что мигом превратила бы их в рассказы или в описания); то, что они позволяют прочесть (ибо я здесь читатель, а не посетитель), так это точную линию моего пути – без следа, обочин и отклонений. Множество незначительных деталей (от одежды до улыбки), которые у нас, вследствие неискоренимого нарциссизма западного человека, – не более чем знаки напыщенной самоуверенности, у японцев становятся просто способом пройти или миновать какую-нибудь неожиданность на улице: ибо уверенность и независимость жеста здесь связаны не с самоутверждением (или «самодостаточностью»), но лишь с графическим способом бытия; таким образом, спектакль японской улицы (вообще, любого общественного места), волнующее порождение многовековой эстетики, лишенной какой бы то ни было вульгарности, никогда не подчиняется театральности (истерии) тел, но подчинен раз и навсегда тому письму alla prima, для которого одинаково невозможны и набросок, и сожаление, и маневры, и исправления, ибо сама линия освобождается от стремления пишущего создать о себе выгодное впечатление; она не выражает что-либо, но просто позволяет быть. «Раз идешь – так иди, – говорит дзэнский наставник, – а сел – так сиди. Главное – не дергайся!»: кажется, именно об этом по-своему свидетельствуют молодой велосипедист, держащий в высоко поднятой руке поднос с плошками, или девушка, которая склоняется перед идущими к эскалатору на выход клиентами магазина в столь глубоком, столь подчиненном ритуалу поклоне, что он теряет всякую услужливость, или игрок в Патинко, заправляющий, проталкивающий и получающий свои шарики тремя чередующимися жестами, сама координация которых представляет собой рисунок, или денди в кафе, который отработанным хлопком (резко, по-мужски) срывает целлофановую пленку с теплого полотенца, которым он вытрет руки, прежде чем выпить свою кока-колу: все эти случаи и образуют материю хайку.
Так
Хайку занимается исключением смысла за счет прозрачности речи (в отличие от западного искусства, которое избавляется от смысла, делая речь непонятной), поэтому хайку не кажется нам ни эксцентричным, ни банальным, оно напоминает всё и ничего: оно легко читается, кажется нам простым, близким, хорошо знакомым, сочным, изысканным, «поэтичным» – словом, полностью удовлетворяющим набору успокоительных определений; но, не имея при этом значительного смысла, оно нам всё равно не дается и в конце концов теряет все те прилагательные, которые окружали его минуту назад, и впадает в состояние смысловой подвешенности, которая кажется нам наиболее странной, ибо она делает невозможным самое обычное упражнение нашей речи, а именно комментарий. Что можно сказать об этом:
Или вот об этом:
Или же вот об этом:
Или еще (но ни в коем случае не «наконец», ибо примеры здесь могут быть бесконечны):
Подобные черты (это слово очень подходит хайку, которое является чем-то вроде легкого надреза во времени) составляют то, что можно было бы назвать «видением без комментариев». Это видение (слово, которое остается еще слишком западным) в основе своей является совершенно устраняющим; однако уничтожается не собственно смысл, но сама идея целесообразности; хайку не подходит ни для одного из возможных назначений литературы (которые и так ничего не стоят): как, ничего особенного не означая (что достигается посредством техники остановки смысла), оно могло бы научать, выражать или развлекать? И хотя некоторые школы Дзэн сохраняют практику сидячей медитации как упражнение, нацеленное на достижение буддоподобия, другие отказываются приписывать ей даже и такую цель (на первый взгляд, чрезвычайно важную): нужно сидеть, потому что «раз уж сел – так сиди». Возможно, и хайку (как и бесчисленные графические жесты, которыми означена самая современная, самая социальная жизнь Японии) пишут из тех же соображений: «раз уж пишешь – так пиши!»
В хайку отсутствуют две фундаментальные черты нашей (тысячелетней) классической литературы: во-первых, описание (трубка лодочника, тень сосны, запах рыбы, зимний ветер здесь не описываются, то есть не украшаются разного рода значениями или моралью, которые, на правах знаков, вовлекаются в дело раскрытия истины или чувства: реальности отказано в смысле; более того, реальное лишено даже смысла реальности); во-вторых, определение; оно не только переводится в жест, пусть даже графический, но возводится к своеобразному эксцентричному распадению объекта, как это прекрасно выражено в дзэнской притче о том, как наставник решает, кого наградить за ответ на вопрос (что такое веер?) – не того, кто проиллюстрировал ответ функциональным жестом (раскрыть веер), но того, кто изобрел целую цепочку побочных действий (сложить веер, почесать им шею, вновь открыть, положить на него сласть и преподнести учителю). Не описывая и не определяя, хайку (так я буду называть в конечном счете всякую краткую черту, всякое событие японской жизни, каким оно предстает моему чтению) истончается, сводясь в конце концов к одному лишь чистому указанию. Вот это, вот как, вот так – говорит хайку. Или, еще лучше: так! – говорит оно мгновенной и краткой чертой (без колебаний и исправлений), и прибавить больше нечего, равно как и нечего сожалеть об утрате определений. Смысл здесь лишь вспышка, световая прорезь: «When the light of sense goes out, but with a flash that has revealed the invisible world» [56] – писал Шекспир [57]; однако вспышка хайку ничего не освещает, не выявляет; она подобна фотографической вспышке, когда фотографируют очень старательно (по-японски), забыв, однако, зарядить аппарат пленкой. И еще: хайку (черта) воспроизводит указательный жест маленького ребенка, который на что угодно показывает пальцем (хайку безразлично, на что указывать), говоря вот! таким непосредственным движением (то есть лишенным всякой опосредованности: знанием, именованием, обладанием), что указание выявляет тщетность какой бы то ни было классификации объектов: ровным счетом ничего особенного, говорит хайку в согласии с духом Дзэн: событие не относится ни к какому виду, особенность его сходит на нет; подобно изящному завитку, хайку сворачивается вокруг себя самого; след знака, который, казалось, намечался, стирается: ничто не достигнуто, камень слова был брошен напрасно: на водной глади смысла нет ни кругов, ни даже ряби.
Писчебумажная лавка
В пространство знаков мы проникаем через писчебумажную лавку – место и каталог вещей, необходимых для письма; именно здесь рука встречается с инструментом и материей черты; именно здесь начинается торговля знаками – еще до того, как они будут начертаны. В каждой стране свои писчебумажные лавки. В Соединенных Штатах они богаты, точны и хитроумны; это магазины архитекторов, студентов, магазины, продукция которых должна предусматривать прежде всего удобство; они говорят нам, что пользователь не должен вкладывать душу в письмо, он нуждается лишь в некоторых приспособлениях, предназначенных для удобной фиксации продуктов памяти, письма, обучения, коммуникации; господство вещей, и никакой мистики черты и инструмента; превратившись в чистую функцию, письмо никогда не бывает игрой вдохновения. Французские писчебумажные магазины, чаще всего расположенные в «Домах, построенных в 18..» с табличками из черного мрамора, инкрустированными золотыми буквами, остаются магазинами канцелярских товаров для писарей и торговцев; их штучный товар – это подлинники бланков, юридические и каллиграфические дубликаты, а их владельцы – вечные копировальщики, Бувар и Пекюше.

Аппарат письма
Объект японского писчебумажного магазина – то идеографическое письмо, которое в нашем представлении берет начало в живописи, в то время как на самом деле оно ее создает (очень важно то, что искусство ведет свое происхождение от письменности, а не выразительности). Насколько много форм и качеств, присущих первичным материям письма, то есть поверхности и чертежному инструменту, изобретает японская канцелярия, настолько она сравнительно равнодушна ко всем сопутствующим компонентам письма, которые составляют фантастический блеск американских канцелярских магазинов: черта здесь исключает помарку или исправление написанного (ибо знак пишется alla prima), исключает изобретение ластика и тому подобного (ластик отсылает к означаемому, которое мы хотели бы стереть, чью полноту мы стремились бы умалить и облегчить; но перед нами Восток, зачем там ластик, если в зеркале и так пустота?). Все инструменты и приспособления отсылают здесь к парадоксу необратимого и зыбкого письма, которое одновременно является и надрезом, и скольжением: множество разновидностей бумаги, бо́льшая часть которых выдает свое травяное происхождение – зернистостью молотой соломы, расплющенными волоконцами; тетради со сложенными вдвое, будто в неразрезанной книге, страницами, благодаря чему написанное переходит с одной сияющей поверхности на другую, нигде не просвечивая, не зная этого метонимического взаимопроникновения поверхности листа с его оборотом (здесь знаки наносятся поверх пустоты): палимпсест или стертая фраза, которая тем самым становится скрытой, здесь невозможны. Сама кисть (коснувшись, слегка увлажненной, камня для туши) движется так, будто это палец, но, в отличие от наших старинных перьев, которые порождали только кляксы или раздвоенные линии, царапая к тому же по бумаге в одном и том же направлении, кисть способна скользить, поворачиваться и приподниматься, проводя линию, можно сказать, прямо в толще самого воздуха; она обладает гибкостью скользящей плоти, руки. Изобретенный в Японии фломастер служит как бы заменой кисти: он не является усовершенствованным вариантом шариковой ручки, которая сама происходит от пера (стального или птичьего), но непосредственно наследует идеограмме. Это и есть та графическая мысль, к которой в Японии отсылают все письменные принадлежности (в каждом большом магазине есть писарь, который по желанию клиента наносит вертикальные адреса доставки подарков на специальные конверты с красной каймой), парадоксально (по крайней мере для нас) то, что эту мысль мы находим даже в пишущей машинке; наша спешит превратить письмо в меркантильный продукт: она как бы публикует текст уже в момент его написания; японская машинка – с ее бесчисленными знаками, которые не выстраиваются в линию вдоль рабочей поверхности, а нанесены на барабаны, – занимается скорее рисованием, создает идеографическую мозаику, покрывающую весь лист, всё пространство; в ней есть потенция настоящей графики – не эстетической разработки отдельной буквы, а расщепления знака, разбрасываемого во все стороны по поверхности листа.
Написанное лицо
В театре лицо не раскрашено (напудрено), оно написано. Происходит нечто непредвиденное: в основе письма и живописи лежит единый инструмент – кисть, и, между тем, не живопись вовлекает письмо в свой декоративный стиль, в широкое, ласкающее движение кисти, в свое репрезентативное пространство (как это неизбежно произошло у нас, где цивилизованное будущее некой функции всегда предстает как ее эстетическое усовершенствование), но, напротив, акт письма подчиняет себе живописный жест, так что рисовать – это в каком-то смысле всего лишь записывать. Это самое театральное лицо (скрытое под маской в театре Но, нарисованное в театре Кабуки, искусственное в театре Бунраку) состоит из двух субстанций: белизны бумаги и черного цвета надписи (чтобы написать глаза).
Белым лицо становится не для того, чтобы извратить естественный оттенок кожи или окарикатурить его (как это происходит в случае с нашими клоунами, у которых пудра и грим – от желания размалевать себе лицо), а лишь для того, чтобы стереть оставленный чертами лица след, чтобы привести лицо к состоянию пустой натяженности матовой ткани, которую не сможет метафорически оживить – зернистостью, бархатистостью или отражением – никакая естественная субстанция (мука, пудра, румяна или блестки).
Лицо – только подлежащая росписи вещь; и это будущее предназначение уже прописывается рукой, которая забелила брови, выступы носа и щек и обрамила гладкий лист плоти черным монолитом волос. Белизна лица, не сияющая, но до омерзения тяжелая, как будто сахарная, означает одновременно два противоположных состояния: неподвижность (которую мы «морально» назовем невозмутимостью) и хрупкость (которую подобным же образом, но с меньшим успехом можно было бы назвать эмоциональностью). Щели для глаз и рта, вытянутые строго определенным образом, не лежат на этой поверхности, а прорезаны, прочерчены в ней. Глаза, ограниченные и обведенные плоским, ровным веком, не подчеркнуты никакими кругами (круги под глазами: исключительно выразительная черта западного лица: усталость, болезненность, эротизм), – глаза так проглядывают сквозь лицо, как будто они являются пустым черным фоном, черной пустотой самого письма, «чернильной ночью» [58]; и еще: лицо, словно простыня, натянуто над черным (но не мрачным) колодцем глаз. Сведенное к первичным означающим письма (пустая страница и углубления нанесенных знаков), лицо, таким образом, устраняет всякое означаемое, то есть саму выразительность: это письмо, которое ничего не пишет (или пишет ничто); оно не только не отдает себя «взаймы» (слово наивно-канцелярское) никакому переживанию, никакому смыслу (даже смыслу, стоящему за невозмутимостью и невыразительностью), но даже никому не подражает: травести (поскольку женские роли исполняются мужчинами) – это не парень, загримированный под женщину при помощи большого количества ухищрений, правдоподобных деталей, дорогостоящих подделок, а чистое означающее, чье внутреннее (то есть истина) не скрывается (ревниво охраняемое маской), не обозначается обманным образом (когда, бросив взгляд на телосложение, мы со смехом обнаруживаем его мужские черты, как это случается с западными травести, пышными блондинками, чьи грубые руки и большие ступни не могут не подчеркивать неестественности пышной груди), а просто отсутствует; актер посредством лица не играет в женщину, не копирует ее, а лишь обозначает; и если, как говорит Малларме, письмо состоит из «жестов идеи» [59], то травести здесь выступает как жест идеи женственности, а не ее плагиат; как следствие, нет совершенно ничего примечательного, а значит, и маркированного (что совершенно невозможно на Западе, где явление травести как таковое плохо воспринимается, не переносится и выступает как чистое нарушение нормы) в том, что пятидесятилетний актер (известный и уважаемый) исполняет роль молоденькой девушки, влюбленной и трепещущей, ибо молодость, в той же мере, что и женственность, не воспринимается здесь как естественная сущность, за истиной которой гоняются сломя голову; утонченность кода, его неукоснительность, никоим образом не связанная с копированием органики (умением воссоздать реальное тело, физиологию молодой женщины), приводит к тому, что реальность женщины поглощается или испаряется в изощренном преломлении означающего: обозначенная, но не представленная, Женщина выступает как идея (а не природа); как таковая она вовлекается в игру классификаций и в истину чистого различия: западный травести хочет быть одной женщиной, восточный актер стремится лишь к тому, чтобы комбинировать различные знаки Женщины. Однако в той мере, в какой эти знаки чрезмерны не от напыщенности (думается, они не таковы), но в силу интеллектуальности, – будучи, подобно письму, «жестами идеи», – они очищают тело от всякой выразительности: можно сказать, что в силу своей знаковости они вытравливают смысл. Подобным образом объясняется то слияние знака с невозмутимостью (слово неподходящее, ибо, как уже было сказано, оно имеет моральный, выразительный оттенок), которым отличается азиатский театр. Это связано с особым отношением к смерти. Изобразить, сделать лицо – не бесчувственным или невозмутимым (что само по себе еще несет смысл), но словно вынутым из воды, отмытым от смысла – это и есть ответ на вызов смерти. Посмотрите на эту фотографию, сделанную 13 сентября 1912 года: генерал Ноги, победитель русских при Порт-Артуре, сфотографирован вместе со своей супругой; их император только что скончался, и они на следующий день решили последовать за ним, покончить с собой; стало быть, они знают; его лицо почти совсем скрыто бородой и кивером с парадным плюмажем; но что до нее – она открывает лицо целиком, султаном; невозмутимой? глупой? простоватой? исполненной достоинства? Как и в случае с актером-травести, никакие определения тут невозможны, предикат отменен, но не торжественным событием близкой смерти, но, напротив, исключением смысла из Смерти, Смерти как смысла. Супруга генерала Ноги посчитала, что Смерть – и так уже смысл, одно устраняет другое, а, следовательно, излишне «говорить об этом», пусть даже своим лицом.

Они умрут, они знают об этом,

но не подают виду.
Миллионы тел

Француз (если он не за рубежом) не может классифицировать французские лица; он, конечно, улавливает какие-то общие черты, но абстрактный образ этих повторяющихся лиц (или класс, к которому они принадлежат) от него ускользает. Тело его соотечественников, неразличимое в повседневности, есть речь, не соотносимая ни с каким кодом; дежавю, связанное с этими лицами, не имеет для него никакой интеллектуальной ценности; красота, с которой он сталкивается, никогда не является для него сущностью, вершиной или итогом поиска, плодом умопостигаемого вызревания данного вида, но лишь случаем, выступом на плоскости, разрывом в цепи повторений. И наоборот, тот же самый француз, увидев японца в Париже, воспримет его в соответствии с чисто абстрактным образом его племени (если не племени азиатов вообще); между этими столь редко встречающимися японскими телами он не может усмотреть никакой разницы; более того, однажды обобщив японский народ в единый тип, он незаконно накладывает этот тип на образ японца, почерпнутый им из культуры, – не из фильмов даже, так как фильмы представляют ему лишь анахронических существ, крестьян или самураев, которые скорее соотносятся не с «Японией», а с данным объектом: «японский фильм», – но из каких-нибудь двух-трех фотографий в прессе или сводках новостей, и этот архетипический японец выглядит довольно плачевно: невысокий человек в очках, неопределенного возраста, в строгом невыразительном костюме – мелкий чиновник из перенаселенной страны.

Этот западный лектор на странице газеты Кобэ Симбун обнаруживает японские черты: удлиненные глаза и зрачки, затемненные японской типографией.
С другой стороны, японский актер Тэцуро Тамба, имитирующий Энтони Перкинса, утратил свои азиатские глаза. Что наше лицо, как не цитата?
Но как только он оказывается в Японии, всё меняется: та пропасть или избыток экзотического кода, на которые француз обречен при встрече с иностранным (которое ему не удается воспринять как странное), здесь поглощается новой диалектикой речи и языка, группы и индивида, тела и народа (тут можно говорить о диалектике в буквальном смысле слова, ибо то, что открывает перед вами – одним широким жестом – прибытие в Японию, так это превращение качества в количество, мелкого служащего в обильное многообразие). Открытие поражает: улицы, бары, магазины, поезда, кинотеатры разворачивают огромный словарь лиц и силуэтов, где каждое тело (каждое слово) высказывает лишь само себя и, между тем, отсылает к некоему классу; таким образом, ты получаешь удовольствие от встречи (с хрупким и особенным), и одновременно перед тобой высвечивается тип (хитрец, крестьянин, толстяк – круглый, как красное яблоко, дикарь, коротышка, интеллектуал, соня, луноликий, весельчак, мечтатель): вот где источник для интеллектуального ликования, ибо неизмеримое оказывается измеренным. Погружаясь в этот народ, состоящий из сотен миллионов тел (такое исчисление предпочтительнее, чем исчисление «душ»), мы ускользаем от двойной неразличимости – от неразличимости абсолютного разнообразия, которое в конечном счете есть не что иное, как чистое повторение (как это происходит с французом, находящимся в ряду своих соотечественников), и от неразличимости единого класса, лишенного всякого различия (как в случае с мелким чиновником-японцем, каким его представляют себе европейцы). Между тем здесь, как и в других семантических ансамблях, система ценна своими исключениями; складывается некий тип, но его индивидуальные представители никогда с ним полностью не совпадают; глядя на людей в каком-нибудь общественном месте, вы – по аналогии с фразой – ухватываете особенные, но узнаваемые знаки, новые, но в принципе повторяемые тела; в подобной сцене никогда не встретишь сразу двух сонь или двух весельчаков, и, однако, и тот и другой соединяются в узнавании: стереотип разрушен, но понимание сохранено. Или вот еще одно открытое место кода – открываются новые комбинации: вдруг совпадают дикое и женское, гладкое и взъерошенное, денди и студент и т. д., объединяясь в серии, порождая новые отсылки, ответвления – понятные и вместе с тем неисчерпаемые. Можно сказать, что Япония применяет одну и ту же диалектику и к телам, и к вещам; посмотрите на отдел платков в большом магазине: бесчисленные, совершенно непохожие друг на друга, они, между тем, ни в чем не проявляют неповиновения по отношению к серии, никакого переворачивания порядка. Или те же хайку: сколько их появилось на протяжении японской истории? Все они в принципе об одном: погода, растения, море, деревня, силуэт, и, между тем, каждое представляет собой ни к чему не сводимое событие. Или же иероглифы: их невозможно логически классифицировать, ибо они выпадают из фонетического ряда, произвольного и вместе с тем ограниченного, а значит, и запоминаемого (как алфавит), и между тем они поддаются классифицированию в словарях, где, благодаря замечательному участию тела в процессе письма и упорядочивания, число и порядок действий, необходимых для начертания иероглифов, определяют типологию знаков. То же и с телами: все японцы (но не азиаты) составляют некое общее тело (не обобщенное, однако, как это может показаться издалека), и между тем это обширное племя различных тел, каждое из которых отсылает к некоему классу, который размыкает порядок до бесконечности, не впадая при этом в беспорядок; одним словом: тела, как и логическая система, – система открытая. Результат или цель этой диалектики следующие: японское тело доводит свою индивидуальность до предела (подобно дзэнскому наставнику, который изобретает нелепый, сбивающий с толку ответ на серьезный и банальный вопрос ученика), однако эту индивидуальность не стоит понимать в западном смысле: она свободна от всякой истерии, она не стремится превратить индивида в оригинальное тело, отличное от прочих тел и охваченное этой нездоровой страстью выгодно представить себя, охватившей весь Запад. Здесь индивидуальность – не ограда, не театр, не преодоление и не победа; она лишь отличие, которое, не предоставляя никому привилегий, преломляется от тела к телу. Вот почему красота не воспринимается здесь на западный манер, как недостижимое своеобразие: она вновь возникает здесь и там, пробегая от одного различия к другому, встроенная в великую синтагму тел.


Японец приобретает западные черты: его знаки линяют, выпадают, как зубы или волосы, слезают наподобие кожи; от (пустоты) значения он переходит к (массе) сообщения. Здесь: два очаровательных участника модной в Японии группы Tigers (тигры смотрят с открытки, с календарика, из музыкального автомата).
Веко
Несколько черт, составляющих иероглиф, наносятся в определенном порядке, свободным, но выверенным движением; линия, которую начинают с сильным нажимом, завершается обратным движением кончика кисти в самый последний момент. Тот же способ нанесения обнаруживает и японский глаз. Как будто каллиграф-анатом ставит кисть во внутренний уголок глаза и, слегка поворачивая ее, одной чертой, как того требует живопись alla prima, вскрывает лицо эллиптическим разрезом и заканчивает его в направлении виска быстрым движением руки; эта линия совершенна, ибо проста, мгновенна, непосредственна, но притом это линия зрелая, словно круги, требующие целой жизни для того, чтобы научиться писать их одним свободным жестом [60]. Таким образом, глаз обрамлен двумя параллельными краями и двойной изогнутой линией уголков (обращенной внутрь): словно след от прорези на листе бумаги, линия, оставленная широкой живописной запятой. Глаз плоский (и в этом его чудо); не выпученный и не глубоко посаженный, без какой-либо кромки или углубления, и даже, если можно так сказать, без кожи, он – ровная прорезь на гладкой поверхности. Зрачок, непроницаемый, хрупкий, живой и умный (ибо этот прикрытый глаз, заслоняемый верхней стороной прорези, скрывает сдержанную задумчивость, избыток понимания, оставленный про запас, но не за взглядом, а где-то, как бы сверху); этому зрачку глазница не придает никакого драматизма, как это случается в западной морфологии; глаз свободно существует в своей прорези (которую он заполняет безраздельно, но деликатно), и мы совершенно ошибочно (в силу очевидного этноцентризма) зовем такой глаз раскосым: его ничто не удерживает, ибо он наносится на поверхность кожи, а не встраивается в глазную впадину черепной коробки; его пространство – вся поверхность лица. Западный глаз подчинен мифологическому образу души, сердцевины, чей огонь, скрытый в углублениях глазниц, излучается по направлению к поверхности чувственной и страстной плоти; японское же лицо лишено моральной иерархии, оно целиком остается живущим, даже живым (в противоположность мифу о восточной неподвижности), ибо его морфология не прочитывается «вглубь», то есть исходя из внутренней точки отсчета; его модель – не скульптура, но скриптура: оно – материя: тонкая, легкая и натянутая (разумеется, как шелк) ткань, где непринужденно каллиграфически выведены две черты; «жизнь» здесь не в блеске глаз, она в открытом отношении поверхности и прорезей; она в этом разрыве, в этом различии, в этой синкопе, которая, как говорят, есть пустая форма удовольствия.

Под фарфоровым веком
черная капля:
Чернильная Ночь,
как сказал Малларме [61]
При столь небольшом наборе морфологических элементов погружение в сон (которое можно наблюдать на многочисленных лицах в метро и вечерних поездах) оказывается простейшей процедурой: лишенные складок кожи, глаза не «утяжеляются»; они лишь проходят размеренные этапы единого поступательного процесса, которые один за другим сменяются на лице: глаза опускаются, закрываются, «спят», и сомкнутая линия продолжает смыкаться под уже опущенными веками всё плотнее и плотнее.
Письмо жестокости
Когда о протестных выступлениях Дзэнгакурэн [62] говорят, что они определенным образом организованы, то имеется в виду не свод тактических предосторожностей (такой ход мысли уже противоположен самому мифу бунта), а письмо жестов, которое очищает жестокость от ее западной сущности – спонтанности. В нашей мифологии восприятие жестокости находится во власти того же предрассудка, что и восприятие искусства и литературы: им всегда приписывается функция выражения внутреннего, скрытого, природы, которой жестокость будто бы служит первичным, диким и бессистемным языком; мы, конечно, признаём, что можно направить жестокость на некие обдуманные цели, сделать ее орудием мысли, но всё равно для нас речь идет лишь о том, чтобы приручить некую первичную, властно самобытную силу. В действиях Дзэнгакурэн жестокость не предшествует управлению жестокостью, а рождается вместе с ней: жестокость сразу являет себя как знак: не выражая ничего (ни ненависти, ни оскорбления, ни морального принципа), она тем более не совместима ни с какой целью (взять штурмом мэрию или преодолеть проволочное заграждение); между тем эффективность не является ее единственным измерением; чисто прагматичное действие оставляет за скобками символы, но не устраняет их: запущенный в дело субъект остается незатронутым (ситуация, типичная для солдата). Протест Дзэнгакурэн, каким бы действенным он ни был, остается великим сценарием знаков (у этих действий есть публика); черты этого письма, несколько более многочисленные, чем можно было бы предположить, исходя из флегматичного англосаксонского представления об эффективности, довольно прерывисты, упорядочены и организованны – не для того, чтобы нечто обозначить, но как бы для того, чтобы покончить (в наших глазах) с мифом о произвольном бунте, с избытком «спонтанных» символов: существует определенная цветовая парадигма: красно-бело-голубые каски, но эти цвета, в отличие от наших, не связаны ни с чем историческим; есть синтаксис действий (перевернуть, вырвать, потянуть, свалить), которые выполняются подобно прозаической фразе, а не вдохновенному извержению; есть обозначения для перерывов в борьбе (отступить назад для отдыха, придать расслаблению некую форму). Всё это способствует произведению массового (а не группового) письма (жесты дополняют друг друга, но люди друг другу не помогают); в конце концов – и в этом предельная дерзость знака – иногда допускается, чтобы слоганы, ритмично выкрикиваемые бунтовщиками, провозглашали не Причину действия или Повод к нему (то, за что или против чего они будут бороться), что означало бы в очередной раз сделать речь выражением разума, обоснованием законного права, а только само это действие («Дзэнгакурэн будут сражаться»), которое язык – этакое божество над схваткой типа Марсельезы во фригийском колпаке [63] – более не возглавляет, не направляет, не обосновывает и не оправдывает; действие просто дублируется чисто голосовым упражнением, которое добавляет к толще жестокости еще одно движение, еще один дополнительный мускул.

Студенты
Кабинет знаков
В любом месте этой страны мы находим особую организацию пространства: путешествуя (гуляя по улице или отправляясь на поезде в пригород или в горы), я всюду замечаю сочетание отдаленного и раздробленного, сосуществование противоположных полей (и в деревенском, и в визуальном смысле слова), одновременно замкнутых и открытых (изгороди из чайного кустарника, сосен, мальвы, композиция из черных крыш, квадратная сеть улочек, асимметрично расположенные низкие домики): никаких оград (разве что очень низкие), и, между тем, здесь я никогда не чувствую себя окруженным горизонтом (который всегда отдает мечтой): никакого желания наполнить легкие воздухом и ударить себя в грудь, утверждая свое я в центре, равном бесконечности: подведенный к очевидности пустой границы, я поистине становлюсь безграничным, но без всякой идеи величия, без метафизической отсылки.

Всё здесь жилище – от склона горы и до угла квартала; и я всегда нахожусь в самой роскошной комнате этого жилища: впечатление роскоши (которая вместе с тем есть роскошь киосков, коридоров, загородных домиков, мастерских живописцев, частных библиотек) возникает из-за того, что никакое место не имеет иных границ, кроме ковра, сотканного из живых ощущений, ослепительных знаков (цветы, окна, листва, картины, книги); пространство ограничено только абстракцией фрагментов видимого («видами»), но не стеной: стена изъедена письменами; сад предстает каменистым гобеленом, сотканным из минимальных углублений (камни, бороздки на песке, оставленные граблями), общественное место – череда мгновенных событий, дающих доступ к значимому в столь живой и резкой вспышке, что знак исчезает еще до того, как какое-либо означаемое успевает «установиться». Как будто какая-то многовековая техника позволяет пейзажу или спектаклю разворачиваться в пространстве чистой значимости, обрывистой и пустой, как надлом. Империя Знаков? Да, если иметь в виду, что эти знаки пусты, а ритуал лишен бога. Посмотрите на кабинет Знаков (где жил Малларме [64]), то есть туда, на все эти городские, домашние и сельские виды, и, чтобы лучше понять, как устроен этот кабинет, возьмите в качестве примера сикидай [65]: он отделан светом, обрамлен пустотой и ничего в себе не содержит, он, конечно, украшен, но таким образом, что рисунки (цветы, деревья, птицы, животные) подняты, скрыты, убраны подальше от глаз, в нем нет места мебели (довольно парадоксальное слово, обозначающее обычно не особенно подвижное имущество, которое стараются хранить как можно дольше: у нас мебель обречена на неподвижность, в Японии же сам дом, который часто перестраивают, являет собой скорее движимость, чем недвижимость); в этом коридоре, как в образцовом японском доме, лишенном мебели (или с редкой мебелью), нет ни одного места, хоть сколько-нибудь обозначающего собственность: ни сидения, ни кровати, ни стола, ни одного места, откуда тело могло бы утверждать себя в качестве субъекта (или хозяина) пространства: центр устранен (страшное испытание для западного человека, хозяина домашней обстановки, повсюду оснащенного собственным креслом, собственной кроватью). Лишенное центра, пространство оказывается обратимым: вы можете его перевернуть, и ничего не изменится, разве что право – лево или верх – низ поменяются местами без последствий: означаемое устранено раз и навсегда: проходя, пересекая или садясь на пол (или же на потолок, если вы перевернули картинку), вы не найдете ничего, что можно было бы ухватить…

… разве что улыбку.
«Сырая» книга
1. Среди прочего и среди прочих
Империя знаков (далее – ИЗ) – японская книга (или, если угодно, японский альбом) Ролана Барта – впервые была опубликована в 1970 году женевским издательством Skira. Альбер Скира, глава издательства, выступил своего рода «заказчиком» этой небольшой книжки, над которой Барт работал почти три года. ИЗ вышла в престижной, стильной, цветной иллюстрированной книжной серии Пути творения (Les Sentiers de la création), основанной Гаэтаном Пиконом, в которой до Барта успели опубликоваться Эльза Триоле, Луи Арагон, Мишель Бютор и Эжен Ионеско. Таким образом, книга Барта в этой серии – пятая, а в его собственной библиографии – десятая.
Формально основным «сырьем» для этого «альбома» послужили фотографии, заметки и наброски, сделанные Бартом во время его первой поездки в Японию со 2 мая по 2 июня 1966 года: тогда он ехал в Токио с остановками в Афинах, Бангкоке и Гонконге. Поездка эта случилась среди прочих: после Голландии и Италии, перед отъездом в Марокко, однако именно японские гастроли Барта-лектора обернулись неустранимой биографемой, замыслом книги, материалом для всех последующих вхождений вплоть до последнего курса в Коллеж де Франс (1978‒1980, Приготовление романа). Замыслом «книги о японском лице», как она ему виделась первоначально, Барт делится с Морисом Пэнге: благодаря ему в Японии с лекциями побывали Барт, Фуко и Лакан, к нему Барт обращается с просьбой подыскать место для более длительного пребывания в Японии; Пэнге принимает Барта в Японии еще дважды: с 4 марта по 5 апреля 1967 года и с 17 декабря 1967 года по 10 января 1968 года. Морис Пэнге – тот, кому Барт посвящает ИЗ.
Помимо поездок («полевые исследования»), ИЗ имеет параллельные источники: это «японское чтение» из домашней библиотеки Барта, знакомство с первыми французскими переводами хайку, к которым он будет пунктирно обращаться в течение тридцати лет, идея «романического без романа» (хайку, «происшествие») и шире – ориентальный фантазм. В спецвыпуске Tel Quel (№ 47, 1971), посвященном Ролану Барту, Франсуа Валь говорит об их общем с Бартом замысле написать какой-нибудь оммаж Пьеру Лоти: что-то вроде письма-путешествия или же что-то вроде испытания письма на прочность опытом «другого» «как испытания границ, где наши способы и категории означивания/говорения/мышления сталкиваются с тем, что вне их» [66]. Вслед только что опубликованной ИЗ Валь размечает траектории реализации их замысла: «… писать Японию для Барта значит прежде всего выходить вовне из Запада (из «означаемого», из «речи») <…> обосновывать возможность новой критики, расставаться с буквализмом, с «истинным», символически открываться множественному смыслу…» [67], и посылает вслед «его Японии» свою, но Индию, «mon Inde», где многие черты буддийского письма вторят японской семиологии Барта, лишая последнюю иллюзии территориальности.
Барт закончил работу над текстом ИЗ 16 ноября 1968 года, после чего почти год подбирал изображения для нее. Японский фотоальбом Барта пополняется изображениями из личной коллекции Даниэля Кордье, хранителя Музея Гиме, а также Николя Бувье, который в этот момент издал в Лозанне свою «Японию» [68] (он жил на островах в 1964‒1965). Тифен Самойо замечает, что книга Бувье была у Барта [69]. Среди прочих, разумеется [70].
Чего у Барта не могло быть, так это книги Мориса Пэнге Текст Япония (Le Texte Japon), на страницах которой сам Барт был портретирован наряду с другими звездными французскими визитерами архипелага: эта книга оставалась неизданной до 2009 года [71]. Пэнге был свидетелем записи первых японских «карточек» – заметок Барта и описал друга с наивной доброжелательностью: мол, тот не довольствовался никакой информацией из вторых рук, просто хотел отразить в своей книге о Японии «наивность первого впечатления» [72]. В этом смысле ИЗ, – как пишет о ней Пэнге, – это книга без интертекста, написанная «по опыту», «книга с картинками», собранная из хрупких первых наблюдений за происходящим вокруг путешественника. Многие не согласились (бы) с этой оценкой, как, впрочем, и сам Барт: в книге Ролан Барт о Ролане Барте он определит жанр ИЗ как «текстуальность» с соответствующим набором интертекстов [73].
Не могло быть у Барта и японской книги более чем значимого для него автора, Андре Леруа-Гурана, чьи письма, наблюдения и исследования, сделанные в Японии в 1938‒1940-х годах также оставались «забытыми японскими страницами» в течение шестидесяти пяти лет и увидели свет под этим названием лишь в 2004 году [74]. Был ли у Барта, например, японский альбом фотографий о жизни айнов, изданный в 1938 Леруа-Гураном и его женой и бессменной коллегой [75], судить сложно. По крайней мере, к Леруа-Гурану «японский текст» Барта не апеллирует.
За месяц до выхода Империи знаков в Швейцарии в Париже в издательстве Seuil выходит S/Z [76]. В следующем году (1971) выходит Сад. Фурье. Лойола [77]. Над всеми тремя книгами Барт работает одновременно в конце шестидесятых, между всеми тремя книгами есть пересечения явные и неявные. Очевидно, что все они состоят из небольших именованных главок-фрагментов, это своего рода «нарезки» [78]. Дробность и фрагментарность, «нарезочность» присущи бартезианской кухне: почти все книги Барта обыгрывают технику «нарезки», а курсы в Коллеж де Франс обосновывают этот рецепт как «метод» и «порядок беспорядка». В случае ИЗ фрагментированность как будто бы приобретает дополнительный оттенок, вступая в перекличку с известными на Западе примерами фрагментарного письма из японской классики (вспомним произведения в жанре дзуйхицу: Записки у изголовья Сэй-Сёнагон или Записки на досуге Кэнко-хоси / Ёсиды Канэёси). Может сложиться впечатление, что Барт учитывает этот японский опыт / способ фрагментарного письма «вслед за кистью», при котором запись не вторична по отношению к мысли, а наоборот (и в котором оттого есть что-то счастливо-привольно-акынское: «что вижу – то пою», вернее – «что придет в голову, то и запишу»), однако доказательств того, что Барт был знаком с указанными японскими источниками, у нас нет. Французский перевод Записок у изголовья, выполненный Андре Божаром, вышел в 1966 году, а перевод Ёсиды Кэнко – в 1987 (переводчики – Шарль Гросбуа и Ёсида Томико). Тем не менее у Империи знаков и у японских дзуйхицу есть ряд общих черт: эссеизм и лиризм, меткость и точность наблюдения, полет ассоциаций, сочетание конкретно-исторического с мифом, личный взгляд и апелляция к общекультурному, наконец, серьезность подхода и легкая небрежность на грани с необязательностью и анекдотичностью.
«Японский текст» был знаком Барту и до Японии, до его путешествия-письма. Что, разумеется, не отменяет главного источника ИЗ. Сама Япония стала для Барта местом письма, она его очаровала, поразила неметафорически. А поразил ли Барт Японию в 1966 году? Его доклады о литературной критике, о мифологиях, как они прозвучали для японцев наряду с выступлениями других заезжих «звезд», тех же Фуко, Лакана, Деррида…? Можно сказать одно: в отличие от действительно «прогремевших» в Японии Деррида, Лакана и Фуко, Барт «греметь» и не собирался. При этом, в отличие от упомянутых коллег, он единственный, кто посвятил Японии отдельную, по собственному выражению «абсолютно удачную (счастливую)» [79] и при этом весьма кропотливую книгу. Причина в том, что «японская вещь» (выражение Лакана) не оставляла Барта уже с 1950-х годов: именно тогда, по всей видимости, к нему в руки попала книга хайку На японских устах [80] в переводе Кику Ямата. Здесь еще одна биографема: эта редкое издание, предположительно, досталось Барту от второго мужа его бабушки по материнской линии, Луи Ревелена (Louis Révelin), известного социалиста и профессора философии, завсегдатая салона «Пантеон», где бывал также Поль Валери, друг Кику Ямата и автор предисловия к этой книге [81].
Оммажем Пьеру Лоти, книгой-путешествием его памяти ИЗ так и не стала. Но вслед за ней, в 1970‒1971 годах, Барт пишет предисловие к итальянскому переводу дебютного романа Лоти, Азиадэ [82]. Этот не менее нарезочный краткий текст разворачивает карту ориентального фантазма, разделяемого с лейтенантом Лоти, – от Марокко, где Барт находится в тот момент, до Токио, куда он хочет, но не может отправиться. Как Лоуренс Аравийский для Андре Мальро, Лоти для Барта – романный персонаж, который позволяет ему размышлять о себе: о путешествиях и Востоке (для) самого Барта, не Лоти. В главке А где же, собственно, Восток? Барт задается вопросом: «Сегодня, сотню лет спустя, каким сегодня мог бы быть восточный фантазм лейтенанта Лоти? Какие-нибудь арабские страны, Египет или Марокко; наш лейтенант сегодня скорее был бы молодым профессором, занявшим антиизраильскую позицию, как когда-то Лоти встал на защиту милой сердцу Турции в войне против России… Турция или Магриб – неважно, Восток всегда ставка в игре, маркированный полюс в выборе: Запад или нечто другое» [83]. Книга (восточный любовный роман Лоти) возможна только до тех пор, пока «нечто» не конкретизируется, не оборачивается означаемым. По мере приближения реального Япония (Стамбул, Марокко и т. д.) становится означаемым, а не знаком; фантазм Востока улетучивается, сменяясь разочарованием. Эти этапы деградации фантазма представлены у того же Лоти: туризм, пребывание (резиденция), экспатриация (натурализация). Для Барта это существенно: после первой поездки он постоянно помышляет о новом отъезде в Японию – туда, где место его желания и письма. Кроме того, через это предисловие Барт получает очередную возможность как будто бы повторить опыт ИЗ и исполнить некогда задуманное совместно с Франсуа Валем: письмо о путешествии на край безумия как письмо-путешествие. Но на этот раз субъект пребывания (резидент) живет уже не в конкретной восточной столице, но в некоем «нейтральном» городе, составленном из разных возможных «восточных» городов, это некий другой город, куда или где он может «сбежать, спрятаться, ускользнуть, захлебнуться, впасть в забвение, исчезнуть, устраниться, умереть для всего, что не является его желанием» [84]. Ему случается «выйти вовне», «расположиться снаружи» от Запада, о чем писал Валь. В этом курсиве слышится фраза Клоделя о великом жителе «комнаты знаков», Стефане Малларме: тот научил его «смотреть извне, но не как на спектакль <…>, а как на текст» [85]. «Кабинет знаков» Малларме – Клоделя нередко называют непосредственным источником названия ИЗ.
В специальном выпуске Tel Quel о Барте, во многом центрированном вокруг только что вышедшей ИЗ, Барт – скорее герой и бенефициар, нежели автор, хотя его анкета (ответы на вопросы) помещены отдельной рубрикой, а программный текст Писатели, интеллектуалы, профессура (Écrivains, Intellectuels, Professeurs) открывает номер. Вся компания авторов-активистов – Филипп Соллерс, Юлия Кристева, Марселен Плейне, Франсуа Валь, Северо Сардуй – пишет о некоем «Ролане Барте» или же посвящает ему свои тексты. Кроме Валя, по сути «повторившего» вслед за Бартом ход ИЗ, описав близким образом свой опыт Индии, выпуск примечателен появлением писателя «Р. Б.»: Филипп Соллерс пишет текст R. B., превращая автора в персонажа и тем самым как бы предвещая будущую книгу Ролан Барт о Ролане Барте, которая выйдет в 1975 году. Меньше всего R. B. Cоллерса похож на «университария или скандально известного писателя, неизменно готовых поддержать разговор об их местечковых „делах“ образовательных институций или успехах в нарциссизме» [86]. «Не говорил ли я уже неоднократно, – риторически вопрошает Соллерс, – что Р. Б. – один из величайших писателей нашего времени, а ИЗ, Сад, Фурье, Лойола – настоящие шедевры?»; «он изобрел письмо-ветвление, хрупкий монтаж, прозаический блок в текучем состоянии, классификацию по принципу музыкальности, мерцающую утопию одной детали, <…> синтаксическое сатори, языковой прорыв к истине языка» [87].
Среди прочего, Барт получил письма от Клода Леви-Стросса и Луи Альтюссера. Первый очень тепло принял ИЗ: книга помогла ему в теле другого побывать в стране, с которой были связаны его детские читательские впечатления, – побывать, не повредив фантазма, сохранив его [88]. Второго поразило предисловие к Азиадэ: Альтюссер счел эту статью «блистательной» [89]. Лакан в своей Лекции о литературе назовет ИЗ «работой поистине сенсационной» [90].
2. Japonisme, japonologie, fantasme
В Японии на сегодняшний день (со-)существуют два перевода ИЗ: в 1974 году книгу перевел известный японский поэт (!) Со Сакон [91] (宗左近, 1919–2006), а в 2004 году, в рамках подготовки полного собрания сочинений Барта на японском, вышел второй перевод ИЗ, который осуществила Исикава Ёсико [92]. В том же 2004 году вышел первый перевод ИЗ на русский язык в издательстве Праксис. Он был благосклонно принят читателями и быстро стал библиографической редкостью, при этом сведущие в японской культуре читатели были оправданно критичны по отношению к нему.
Любой переводчик ИЗ сталкивается с объективной сложностью бартезианского замысла и исполнения: вопреки описанию Пэнге этот текст не сводится к наивным впечатлениям туриста, за ним стоит долгая библиотечная работа. Вместе с тем, несмотря на отсылки к японским реалиям и дзэнским понятиям, текст ИЗ совсем не похож на экскурс даже начинающего японоведа. В этом заключается отличие от упомянутых «японских» книг Пэнге и Леруа-Гурана: эти двое, хоть и в разной степени, все-таки были профессиональными исследователями Японии.
При переводе приходится делать выбор (выбор этот стоял и перед японскими переводчиками, и перед французскими издателями): сохранить ли эффект «записной книжки» Барта со всеми ее неточностями, приблизительностями, ослышками или же «нормализовать» текст, исправив по возможности «ошибки» с учетом современного уровня знаний о Японии, канонических переводов классических хайку и поняв, что в том или ином случае «на самом деле» имел в виду Барт.
Несмотря на то что сотрудники и друзья издательства Skira (среди которых был Рене Сиффер, переводчик Басё и специалист по японской поэзии) активно помогали Барту в подготовке издания, они воспроизвели авторскую версию текста, включая изящную бартезианскую верстку. В ИЗ нет ссылок на цитируемые тексты; японские сочинители хайку, к которым обращается Барт, не всегда названы по имени; пять хайку приводятся Бартом в собственном переводе с английской версии, в свою очередь не всегда верной японскому источнику. Авторизованной «неточностью» отмечен не только собственно японский пласт текста, но в данном случае именно это чувствительно: японистическая «некомпетентность» этой книги о Японии поразительным образом компенсируется ее точностью в каком-то ином смысле слова. Автор первого перевода, поэт Со Сакон, переводил с французского на японский хайку именно в том виде, как они были воспроизведены Бартом, притом что в большинстве случаев это были тексты «n-ной итерации» (японский → английский/немецкий → французский → японский), в которых с трудом угадывались известные оригиналы хайку (их Со Сакон также нашел и поместил в текст перевода). Этот же бартезианский «принцип деликатности», уважения к чужому фантазму и его личным смещениям, был соблюден и в английской версии ИЗ. Дилемма «Книга Барта» vs. «Книга о Японии» не разрешается: и то, и это. В определенной степени текст ИЗ уходит корнями в историю и традицию западной японистики – как современной Барту, так и довоенной, на структурном уровне в чем-то с неизбежностью повторяя ее ходы и аберрации, но как бы уже на следующем, «закавыченном» этапе.
Первыми европейцами, увидевшими настоящую Японию, были, как известно, португальцы [93], однако не будет излишним преувеличением заметить, что именно Франция (разумеется, среди прочих), явилась законодательницей западной моды на Восток и все восточное. Сейчас уже можно наверняка сказать, что это сюжет известный, избитый, «раскрученный» и даже, как следовало ожидать, у многих вызывающий неприязнь и отвращение (начиная с ориентализма вообще, с «шинуазри», с первого выставочного «japonisme», или японизма, с его коллекционированием лаков, ширм, масок, гравюр Хокусая, – и далее, через американизированный и популяризированный битниками дзэн под командованием Дайсэцу Судзуки, вплоть до относительно недавних субкультурных веяний/увлечений вроде манга-аниме-каваии).
Западные путешественники, дипломаты, писатели и художники создавали образ «прекрасной Японии» для широкого западного потребителя товаров и образов, но нельзя забывать, что из этой очарованности в какой-то момент возник и профессиональный, научный интерес к Востоку. Французский, британский, американский и русский научные подходы к изучению различных культур Востока развиваются «ноздря в ноздрю». Если португальцы и голландцы в свое время «открыли» Японию и попытались ее «обратить», то «форсированным вскрытием» ее в XIX веке занимались уже британцы, русские и американцы. Последние в лице коммодора Мэтью Перри и его эскадры в 1853‒1854 годах в итоге преуспели. Перл-Харбор и Хиросима спустя сто лет явились самыми мощными маркерами в истории японо-американских отношений, однако, несмотря на это или даже, скорее, благодаря этому американская японистика на сегодняшний день считается и является самой сильной в мире, притом что во время японского вторжения Перри будущие пионеры американского японоведения Лафкадио Хёрн (1850–1904) и Эрнест Феноллоза (1853–1908) только-только появились на свет.
Британские дипломаты и исследователи Японии предпочли консервативный дипломатично-энциклопедичный подход. Уильям Джордж Астон (1841–1911), Эрнест Сатоу (1843–1929), Бэзил Холл Чемберлен (1850–1935) – три величайших имени из числа тех, кто написал первые книги о Японии на английском языке. Основной жанр, в котором специализировались эти люди, – «Guide»: путеводитель, методичка, пособие по обращению с Японией и японцами. Британцы создавали энциклопедии быта и нравов японского царства. Литература, словари, грамматика – само собой, без этого никуда. Чуть позднее Реджинальд Блайс (1898–1964) уже переводил хайку и интересовался буддизмом. Труды Блайса стали одним из основных источников Барта в его японской одиссее.
Франция не «вскрывала» Японию, ей для «окультуривания» достался Индокитай. Поэтому франкофонный научный японизм слегка запаздывал по сравнению с Британией, Америкой и Россией. Волны промышленников, коллекционеров, дипломатов, увлекавшихся Японией, а позже и исследователей этой страны поднимались во Франции с конца XIX до 1960-х годов XX века. Современный французский исследователь и директор Французской школы азиатских исследований Кристоф Марке замечает, что художественный и литературный французский «japonisme» конца XIX и первой половины XX века был полностью исчерпан к концу Первой мировой войны, а большие коллекции японского искусства, собранные в Париже, оказались распроданы [94]. Вместе с тем, именно в эти годы появляются первые молодые исследователи Японии и возникает само понятие «японоведение» (japonologie), которое постепенно обретает дисциплинарные и институциональные границы.
Литературоцентричность Франции сказалась и здесь. Клод Эжэн Мэтр (1876–1925), один из первых французских японистов, занимался чтением древних японских хроник Кодзики и Нихонги и писал об истории Японии. С 1901 по 1925 год выходили его исследования о японских исторических хрониках, о Русско-японской войне, об искусстве Японии и об истории индокитайской картографии. В 1923 году он возглавил парижское периодическое издание Япония и Дальний Восток (JEO, Japon et Extrême-Orient), которое манифестировало необходимость переводов современных японских писателей. Именно на страницах этого издания, при поддержке Сержа Елисеева и Шарля Агенауэра, по-французски были впервые (если не считать отдельных фрагментов в антологиях 1910-х годов) опубликованы новеллы Нацумэ Сосэки, Танидзаки Дзюнъитиро, Нагаи Кафу, – в основном в переводах Елисеева. Выдающийся востоковед русского происхождения Серж Елисеев (Сергей Григорьевич Елисеев, 1889–1975), внесший существенный вклад в развитие как французского, так и американского японоведения, длительное время работал в Японии, был другом Сосэки и Танидзаки; его переводы позже вышли в сборниках Пионовый сад Нагаи Кафу и еще пять рассказов современных японских писателей (1927) и Девять японских новелл (1928). Шарль Агенауэр (Мойше Шарль Гагенауэр, 1896–1976), французский лингвист и японист, ученик Марселя Гране, Поля Пеллио, Анри Масперо и Антуана Мейе, переводил на французский Мори Огай и Сига Наоя. В этот период (после 1923 года и вплоть до начала Второй мировой войны) французская японистика «эволюционирует от кабинетного ориентализма к полевым исследованиям и профессиональному взаимодействию с японскими специалистами» [95]. Тогда же (в 1924) был создан и Франко-японский дом (Maison franco-japonaise), который в конце 1930-х раскроет свои двери перед этнологом Андре Леруа-Гураном, а в 1963 году будет возглавлен Морисом Пэнге, чье приглашение в 1966 году примет Барт.
Как показывает еще один современный французский специалист Эммануэль Лозеран (сотрудник Национального института языков и цивилизаций Востока, INALCO), Барт в разные периоды знакомился как с популярной, так и с профессиональной литературой о Японии. Вот некоторые из тех, кого он читал: Алан Уоттс, Дайсэцу (Тэйтаро) Судзуки, Шарль Агенауэр, Рене Сиффер. Рене Сиффер (1923–2004), автор книг о литературе и религии Японии, переводчик японской классической и современной литературы (Дневник путешествия из Тоса, Повесть о Гэндзи, Ямато-моногатари, Сто стихотворений ста поэтов, Повесть о доме Тайра, Угэцу-моногатари, Похвала тени Танидзаки и др.), в 1960-е годы возглавил поход против «дзэннификации и мистификации» хайку – тенденциозного наследия гуру Дайсэцу Судзуки. По мнению французского японоведа, Барт в ИЗ воспроизводит популярную стратегию Судзуки – рассматривать хайку как «литературную ветвь дзэн» [96]. Пафос Сиффера, видимо, от Барта ускользнул.
И снова биографема: свой вклад в развитие японистики и ориенталистики внес знаменитый Андре Ситроен (1878–1935), инженер и создатель одноименного автоконцерна. Он не только поддерживал издания Клода Мэтра (Япония и Дальний Восток, Журнал азиатских искусств), но и участвовал в создании коллекции Музея Гиме, а в 1933 выступил организатором «Желтого круиза» – автопробега от Бейрута до Пекина и одновременно экспедиции, членами которой стали многие исследователи Востока. «Желтый круиз» Ситроена обернулся банкротством для концерна, а самому Ситроену фактически стоил жизни. Примечательно, что новая модель «Ситроена» 1955 года выпуска – один из самых запоминающихся образов из Мифологий (1957) Барта (точнее, из соответствующего пассажа «Новый „Ситроен“», посвященного модели Citroën DS [Déesse, 1955‒1975]). К слову, этим текстом бартезианская автомобильная эпопея вовсе не заканчивается. По возвращении из первой поездки в Японию Барт вынужден дописывать текст о семантике автомобиля по заказу концерна Renault. Задача в духе Шкловского его не вдохновляет: «нам попался семантически „тусклый“ объект» [97].
В Мифологиях Барт характеризует новую модель «Ситроена» как «сверхсовершенный объект». Среди неотъемлемых атрибутов такого объекта он выделяет гладкость поверхности, обтекаемость формы, «отсутствие швов» (вместо спайки и сварки – идеальная стыковка). Таким же «сверхсовершенным» объектом, но уже в ИЗ, выступает пресловутая «единая черта»: идеальная линия, проводимая единым касанием, та самая alla prima. Жест, движение, необходимое для создания этой черты, по Барту, усматривается в движении играющего в патинко, и эту же черту (или прорезь) представляет собой японское веко. Об исходном понятии этой самой «единой черты» Барт, по-видимому, узнает от Соллерса, а тот, в свою очередь, почерпнул метафору из китайского материала (конкретнее, из теоретических работ Ши-Тао [98]). Эта же исходная черта, но уже в специфически переписанном и переосмысленном виде, вскоре, в 1971 году, возникает в японских и околояпонских лекциях и рассуждениях Жака Лакана, в ходе которых тот активно и восторженно ссылался на ИЗ Барта. Эти рассуждения подхватил и развил, в свою очередь, также ссылаясь на ИЗ, японский последователь и переводчик Лакана, профессор Кадзусигэ Сингу (р. 1950):
«…как формулирует Лакан, японский субъект „ради своей первичной идентификации полагается скорее на звездное небо, нежели на единичную черту“ <…> На мой взгляд, среди всех характерных типов письменности Барт находит единичную черту прежде всего в японском глазе <…> Что означает эта «прорезь» в тексте Барта? <…> это то место, из которого он может разглядеть себя. То, что он видит в этом разрезе, это разрез означающих, или означающее как первичный разрез <…> Действие Барта созвучно с тем, о чем говорит Лакан на семинаре 1964 года. Единичная черта – это то, с помощью чего человек помечает себя в мире <…> Он происходит из первичной черты и покоится там, считая себя из этого места. Возможность самосознания появляется только потому, что это место лишено всяких характеристик; это просто линия, но фундаментальная линия, в отсутствие которой любая концепция одного или единого была бы стерта из мира. Конституция этой линии позволяет изъять универсальные принадлежности единства из любой сущности, человеческой или астральной, группы или объекта. Как мне кажется, такая линия или разрез – это то, что Лакан подразумевает под единичной чертой. Это может быть глаз Божий, но даже в отсутствии Бога черта, которую Барт вновь открывает в чужой стране в линиеобразном глазе иностранца, является структурной необходимостью для субъекта» [99].
3. В общих чертах
Говоря о Барте, Барт выделял различные «фазы» самого себя: социальную мифологию, семиологию, текстуальность, моральность [100]. Какое место в этих жанрах своей деятельности он смог бы отвести «теории фотографии» (Camera lucida), «приготовлению романа» (в значительной степени также теоретизировавшего фото-кино-ноэму и хайку) и работе о современных ему художниках (Сай Твомбли), сложно сказать: возможно, это следующая «фаза» после «моральности». Сегодня всем известен Барт-мифолог, – семиолог, – структуралист, – теоретик фотографии; издания и выставки, посвященные столетию со дня его рождения явили Барта художником, практикующим на досуге абстракции («графизм», «колористику»). А был ли Барт каллиграфом? Барт – теоретик каллиграфии…?
Под каллиграфией в данном случае имеет смысл понимать письмо Китая и Японии (ориентальное письмо, ориентальная каллиграфия). Простого и очевидного (наглядного) ответа тут, как будто, нет. «Барт-каллиграф» или «Барт – теоретик японской каллиграфии» как таковой в литературе не представлен. При этом ориентальное письмо после поездок в Японию и в Китай, как известно, оказало на Барта исключительное влияние.
По возвращении из первой поездки в Японию Барт начинает учить японский и брать уроки каллиграфии [101]. Насколько он преуспел в этом деле, неизвестно. В теле текста ИЗ есть примеры каллиграфии: это и классические памятники (фрагмент из хэйанского собрания Исэсю; работы Рэнгэцу и Ёкои Яю), представляющие собой национальные японские сокровища, золотой фонд некоторого совокупного Музея Японии, и совсем неумелые (иероглиф МУ, «начертанный ученицей»). Чуть ли не единственное, что впечатляет Барта во время поездки в Китай, – это каллиграфия (ну, и кухня, разумеется): «Барт без ума от каллиграфии, несколько образцов которой он себе раздобыл» [102]. О травянистой скорописи Мао Цзэдуна он пишет у себя в дневнике: «В высшей степени элегантно, нетерпеливая и воздушная скоропись» [103].
Так называемый «поздний» Барт – автор «искусствоведческих» очерков о Сае Твомбли и Андре Массоне, большой любитель работ Анри Мишо и Джексона Поллока. Все они так или иначе испытали на себе влияние ориентальной каллиграфии и/или сами повлияли на облик современного ориентального письма. Графические и живописные опыты самого Барта (в том числе его практика «асемического письма») [104] характеризуются Т. Самойо следующим образом: «Его рисунки в подавляющем большинстве остаются абстракциями, переплетением мелких оборванных кривых, линий, точек в различных комбинациях»; «Барт остается подражателем, работающим в стиле произведений, которые сам любит, а это в основном абстрактный экспрессионизм» [105]. Но если в западной традиции «подражательность» означает «вторичность», что автоматически лишает изображение ценности, то на Востоке творчество, искусство письма и подражание (копия, имитация, подделка, плагиат) – практически синонимы.
Ключевым оператором в ИЗ является trait (traits) – черта (черты), слово, «графическое и лингвистическое одновременно». Оглавление ИЗ – перечень такого рода черт (trait), в которых автору дает себя видеть / читать Япония, и одновременно способ его собственного каталогизирования посредством граф (trait). Trait структурна и феноменальна, она одновременно то, что (описывается, мыслится, наблюдается, читается) и то, чем. В Ролан Барт о Ролане Барте trait займет место в ряду других бартезианских амфиболий – «драгоценно двусмысленных слов», каждое из которых «в одной и той же фразе в одно и то же время означает две разных вещи и мы пользуемся одним смыслом через посредство другого» [106]. Курс лекций Как жить вместе (1976‒1977) также состоит из тридцати traits (граф, черт, фигур) [107] совместности. Графы здесь и орудия классификации (как всегда, алфавитной, беспорядочной), и сами несущие конструкции макета «Жизни-вместе», графики-чертежи архитектурных решений сосуществования. Каждая из граф (trait) в Как жить вместе представляет собой нишу (полку в общем стеллаже, как поясняет Барт слушателям), в которой «надкушена», приоткрыта, слегка опробована та или иная «трактовка» (traiter – трактовать) жизни-вместе. Тридцать граф, прочерченных Бартом, потенциально образуют новые графы, новые рецепты проб и вкушения совместности. Вкушение, в свою очередь, также и когнитивно и феноменально, что Барт подчеркивает графически: saveur ~ savoir [108].
Однако trait, l’unique trait в текстуальности ИЗ, имеет непосредственную связь с ориентальной практикой письма. В дальневосточной практике письма черта (линия, штрих, след стилуса/кисти…) существует в двух смыслах в соответствии с двумя видами деятельности: резьба (гравировка) и собственно письмо кистью.
Первый смысл – прорезь (надрез, разрез): в резьбе и гравировке часть материала (поверхности, субстрата) удаляется при помощи некоторого твердого стилуса (резца или его аналога в древности); в результате образуется «канал», «траншея», словом – выемка; знак, таким образом, существует как «отрицательная форма рельефа», он «утоплен» в породе. Такой способ нанесения знаков считается самым древним в Китае, первые найденные артефакты (письмена на панцирях черепах, костях животных, бронзе) относятся к гадательным практикам Шан-Инь (1600–1046 годы до н. э.). В современной дальневосточной практике резьба – это в основном резьба всевозможных печатей (и как искусство, и в утилитарном плане), а также резьба иероглифов по дереву (декоративно-прикладное искусство, один из жанров каллиграфии). В современной резьбе могут быть воспроизведены все существующие каллиграфические стили, даже сумасшедшая скоропись, тогда как в древней (от Шан-Инь до Цинь, 221–206 годы до н. э.) – соответственно, синхронные, древние стили, наиболее близкие к пиктограммам. Письмо здесь голос древности, мир мертвых (ископаемые артефакты, надгробья, эпитафии, стелы, ритуальные жертвенные сосуды и т. п.). В силу субстрата и инструментария это письмо сухое, холодное, жесткое. Оттиск печатей на бумаге за счет киновари имеет красный цвет. Это обстоятельство, в частности, дало повод Юлии Кристевой обыграть и переосмыслить цветовую семантику красной печати в революционном ключе [109].
Второй смысл – собственно черта. След, который остается после нанесения на поверхность/субстрат (дерево, ткань, бумага, керамика и т. д.) туши (в основе – сосновая сажа) при помощи волосяной кисти. Эта черта лежит в основе искусства каллиграфии и живописи на Дальнем Востоке. Именно переход от твердого стилуса (резца) к волосяной кисти позволил ориентальному (в то время, по сути, исключительно китайскому) письму разработать множество стилей и их разновидностей (вплоть до ярких авторских почерков), которые условно подразделяются на протоустав, устав, полускоропись и скоропись. Ассоциации и коннотации: сырое, мягкое, текучее, влажное, эротичное, проникающее, сочащееся… Сырость/сухость (сухость как выдыхание/исчерпывание влажного, наполненного тушью) составляет в письме часть эффекта: эстетическое измерение написанного (что при резьбе – в камне/бронзе – технически невозможно). Этот процесс апеллирует к мягкой, теплой материи, к гладкой и ворсистой поверхности и соответствующей чувственности; он производится и воспринимается в категориях ритма, темпа, пульсации, динамики/статики, страсти, спокойного/беспокойного и даже сумасшедшего/безумного (как в случае сумасшедшей скорописи куанцао: нечто подобное и поразило Барта в работах Мао).
Открыв для себя «каллиграфию» в Китае и Японии, Барт продолжает практиковать свои графические абстракции, берет уроки ориентального письма и параллельно рефлексирует само письмо, письмо вообще, его отдельные особенности и составляющие. В разные моменты (1973, 1978), как замечает Т. Самойо, Барт размышляет об отношении между рукой и записью, обращаясь к истории скорости письма начиная с египетского демотического языка и шумерской клинописи, двух видов письма, связанных с упрощением, до появления лигатур, позволявших писать быстрее. «Пусть письмо бежит быстрее!» – воскликнет он в курсе 1978 года. «За чем гнаться? За временем, речью, деньгами, мыслью, ослеплением, аффектом и т. д. Пусть моя рука движется так же быстро, как мой язык, глаза, память: демиургическая мечта; вся литература, культура, вся «психология» были бы иными, если бы рука была такой же быстрой, как то, что в голове» [110]. В ходе этих изысканий Барт обращается к классическому тексту Леруа-Гурана Жест и слово. Как известно, Леруа-Гуран активно использовал привезенный им перед войной «японский» материал в ходе работы над этим двухтомником [111]. Барт заимствует у Леруа-Гурана различие между графизмом и письмом: «Доисторический графизм, появившийся вместе с первыми красками, предстает в форме линий, начертанных на кости или камне, равноудаленных мелких насечек. Скорее ритмические, чем знаковые, эти первые письмена были больше похожи на абстракцию, чем на подражание или означивание» [112]. Т. Самойо объясняет интерес Барта к асемическому письму желанием освобождения и очищения от власти законов – означивания и референции [113]. «Воображаемые письмена – не слова или рисунки, а сочетание того и другого, достигнутое благодаря экспериментированию с нейтральным: колебание между двумя совершенно разными мирами, читаемым и зримым, объединившимися в написанном. Показывается, что есть знаки, но нет смысла» [114].
Чем может быть письмо, если оно асемично (или семично, но ничего не значит)?
По крайней мере – знаком того, что оно было, имело место (и время). Это знак обстоятельств. Имела место некая запись. Как отметина на руке для памяти (или шрам, след происшествия). Это память-шифр, след события, но к чему он отсылает и относится, знает только тот, с кем событие произошло. В курсе Приготовление романа (1978‒1980) такой же чистой эпифанией определяется ноэма фотографии и хайку: «…хайку самым непосредственным образом подводит к фотографической ноэме „это было“. Моя рабочая гипотеза заключается в том, что хайку создает впечатление того, что сообщаемое им случилось абсолютно, и вот здесь я приведу пример, где передается именно уверенность такого рода: это состоялось, это было высказано, это было» [115].
Тут очевидна своего рода «девальвация» понятий: от «языка» – к «письму», от «письма» к «trait» (черте). Черта в конечном счете также тяготеет к «чистой эпифании»: след (Деррида), «так бывает» (il arrive – Ж.-Ф. Лиотар); «chose quelconque» («нечто такое какое бы то ни было» – Ж.-Ф. Лиотар). В случае Барта, убеждена Т. Самойо, восхваление чистого означающего обусловлено его любительской художественной практикой: «Следы этого живописного и графического воображаемого и его вклада в новое осмысление письма присутствуют во всех текстах этого периода» [116].
Александр Беляев, Яна Янпольская
Август – сентябрь 2022, Москва
P.S.
В переводе на русский язык Империя знаков Ролана Барта выходит во второй раз. У нынешнего перевода – тот же автор, что и почти двадцать лет назад, многие части текста совпадают, однако это второе издание стоит рассматривать не как «второе, исправленное и дополненное», но как новый перевод, по отношению к которому предыдущий был своего рода черновиком. Новому переводу сопутствуют комментарии переводчика и научного редактора, а также их совместное послесловие.
В работе над примечаниями / комментариями нам помогали: Масами Судзуки, Инухико Ёмота, Сергей Зенкин, Владислав Карелин, Александр Смулянский. Благодарим наших коллег за помощь.
Список иллюстраций (по страницам)
10 Актер Кацуо Фунаки (архив автора)
14 Знак Му (無), обозначающий «ничто» и «пустоту», начерченный ученицей (фото Николя Бувье, Artephot)
16–7 Каллиграфия. Фрагмент манускрипта Исэсю, известный под названием «Исияма-гирэ». Китайская тушь и живопись на склеенной цветной бумаге. Период Хэйан, начало XII века (20,1 × 31,8). Токио, коллекция Гиити Умэдзава (фото Х. -Д. Вебера, Кёльн) [117]
18 Старинная маска, используемая в народном танце. Принадлежит священнику из деревни на севере острова Кюсю (фото Пьера Рамбаха, Монтрё)
23 Автограф Ролана Барта
26 Автограф Ролана Барта
29 Ёкои Яю [118] (1702–1783). Сбор грибов (киноко-гари). Бумага, тушь (31,4 × 49,1). Цюрих, коллекция Хайнца Браша (фото А. Гривеля, Женева)
Японцы, когда идут за грибами, берут с собой стебель папоротника или, как на этой картинке, соломинку, на которую они насаживают грибы. Живопись хайга всегда привязана к хайку, короткому стихотворению из трех строк:
29 Автограф Ролана Барта
34 Веревочная занавеска (нава-норэн). Правая часть ширмы. Китайская тушь на бумаге с аппликацией из золотых листьев. Начало периода Эдо, первая половина XVII века (159,6 × 90,3). Токио, коллекция Таки Хара (фото Х.-Д. Вебера, Кёльн)
36 Игроки в патинко (фото Дзаухо Пресс, Токио)
39 План Токио. Конец XVIII – начало XIX века. Женева, архив Николя Бувье / Artephot
41 План квартала Синдзюку, Токио: бары, рестораны, кинотеатры, универмаг Исэтан (архив автора)
42 Схема ориентировки на оборотной стороне визитки (архив автора)
42 Автограф Ролана Барта
46 –7 Борцы сумо (архив автора)
49 Бочонки с сакэ (фото Даниэля Кордье, Париж)
50 Коридор сикидай. Замок Нидзё, Киото. Построен в 1603 году (архив автора)
52 Монах Рэнгэцу (1791–1875). Чайник (яп. тябин). Бумага, тушь (29,5 × 56,2 см). Цюрих, коллекция Хайнца Браша (фото А. Гривеля, Женева)
Собственно говоря, это не совсем живопись хайга, поскольку сопровождает ее не хайку, а танка, стихотворение из пяти строк. Однако она очень хорошо отражает суть этого жанра. Рэнгэцу воспевает воду, ее важнейшую роль в приготовлении чая. Удзи – город, расположенный близ Киото – поставляет самый лучший чай в Японии:
Когда исчерпана вода
текущая к Удзи
ни с чем не сравнима она
словно цветущего боярышника
глубокий аромат [119] – Р. Б.
52 Цветочные композиции чайных мастеров – фрагмент из Тетрадей Сансая (Сансайко мондзё), манускрипт Хосокавы Тадаоки (1563–1645) [120]. Киото, коллекция Мирэи Сигэмори (фото: издательство Бидзюцу Сюппанся, Токио)
56–7 Актер театра Кабуки на сцене и в городе (архив автора)
59 Статуя буддийского монаха (яп. хоси, 法師). Конец периода Хэйан XI век. Киото, Национальный Музей (фото: Дзаухо Пресс, Токио)
60 Жест учителя письма (фото: Николя Бувье / Artephot)
69 Преподнесение подарка. Japon illustré (op. cit.)
69 На набережной Йокогамы. Документ из: Japon illustré / par Félicien Challaye. Paris: Librairie Larousse, 1915 (фото: Андервуд, Лондон и Нью-Йорк)
72 Анонимный автор (предположительно середина XVI века). Баклажаны и огурец (насу-ури). Живопись в стилистике Северной школы. Бумага, тушь (28,7 × 42,5). Цюрих, коллекция Хайнца Браша (фото Мориса Бабея / Artephot)
81 Сад Храма Тофукудзи, Киото, основан в 1236 году (фото: Фукуи Асахидо, Киото)
89 Женщина за письмом
Оборотная сторона почтовой открытки, отправленной мне моим японским другом. Лицевая сторона неразборчива: я не знаю, кто эта женщина, нарисована она или загримирована и что она собирается написать: потеря основания, в которой узнается то самое письмо, роскошным и сдержанным выражением которого является, на мой взгляд, эта картинка. – Р. Б.
94–5 Последние фотографии генерала Ноги и его супруги, сделанные накануне их самоубийства. Сентябрь 1912 года. Документы из: Japon illustré (op. cit.)
97 Процессия, выходящая из храма Сэнсодзи и сопровождающая священный паланкин. Асакуса, Токио (ежегодно 17 и 18 мая) [121]
98 Вырезка из газеты Кобэ Симбун и портрет актера Тэцуро Тамба (архив автора)
100 Портреты молодых певцов из календаря (архив автора)
104 Мальчики и девочки перед «бумажным кукольным театром». Это театр картинок, устанавливаемый на углу улицы профессиональным рассказчиком вместе с банками конфет, прямо на багажнике его велосипеда. – Р. Б. Токио, 1951 год (фото Вернера Бишофа / Magnum)
106 Акция токийских студентов против войны во Вьетнаме (фото Бруно Барбея / Magnum)
109 Балки
Эта фотография, как и «бочонки с сакэ», заимствована из личной коллекции Даниэля Кордье, которому автор выражает признательность.
111 Актер Кацуо Фунаки (архив автора)
Примечания
1
1. Морис Пэнге (Maurice Pinguet, 1929–1991) – французский писатель и исследователь, автор книги о сэппуку Добровольная смерть в Японии (1984). Преподавал в Токийском университете (1958–1963, 1979–1989), а с 1989 года – в частном университете Васэда. В 1963–1968 годах возглавлял франко-японский институт в Токио. По его приглашению Барт посетил Японию в 1966 году. Подробнее: Pinguet M. Le Texte Japon, introuvables et inédits réunis et présentés par Michaël Ferrier. Paris: Éditions du Seuil, 2009 (сollection «Réflexion»). – Я. Я.
(обратно)2
2. Намек на сборник гротескно-фантастической прозы Анри Мишо Путешествие в Великогарабанию (1936). – Я. Я.
(обратно)3
3. Возможно, Барт имеет в виду Journal asiatique, издающийся с 1822 года французским Азиатским обществом, и Revue des Arts Asiatiques (основан в 1924, издается в Париже) – Обозрение азиатских искусств (в котором, в частности, в конце 1930-х годов публиковались ориентальные исследования Андре Леруа-Гурана). – Я. Я.
(обратно)4
4. Пьер Лоти (настоящее имя Луи Мари-Жюльен Вио, 1850–1923) – французский офицер и писатель, создатель ориентального любовного романа. Японская тема представлена в его романе Госпожа Хризантема (1887). В 1971 году Барт написал предисловие к итальянскому изданию дебютного романа Лоти Азиадэ (см.: Barthes R. Pierre Loti: Aziyadé // R. Barthes. Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux Essais critiques. Paris: Éditions du Seuil, 1972. P. 122‒134). – Я. Я.
(обратно)5
5. Журнал национальной авиакомпании Air France. С 1930 по 1970 год издавался под названием Air France revue, с 1970 по 1997 год – как Air France Atlas. С 1997 – Air France Magazine. – Я. Я.
(обратно)6
6. Скорее всего, Барт здесь имеет в виду текст Эмиля Бенвениста Категории мысли и категории языка (1958; см.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 104‒114). – Я. Я.
(обратно)7
7. Эдвард Сепир (1884–1939) и Бенджамин Уорф (1897–1941) – американские лингвисты-теоретики, исследователи языков и культур североамериканских индейцев. Имена обоих лингвистов приобрели максимальную известность благодаря так называемой «гипотезе Сепира – Уорфа» (каковой гипотезы, правда, ни тот, ни другой ни вместе, ни порознь не формулировали именно в качестве гипотезы – будь то в сильной или в слабой форме; «гипотеза» «пошла в народ» благодаря активности их учеников и последователей). Суть гипотезы в том, что язык (его устройство, структура, категории и т. д.) – причем, можно даже усилить, как это делали многие лингвисты ХХ века: именно язык и только язык! – определяет вообще все когнитивные процессы индивида («сильная форма»), либо же язык как-то связан, как-то соотносится с когнитивными процессами индивида («слабая форма»). – Я. Я.
(обратно)8
8. Марсель Гране (1884–1940) – французский синолог, переводчик, специалист по культуре Древнего Китая. – Я. Я.
(обратно)9
9. Строки из книги Кику Ямата (山田菊, 1897–1975), франко-японской писательницы, прославившейся романом Масако (1925; cм.: Yamata K. Les huit renommées, avec 47 dessins inédits. de Foujita. Paris: André Delpeuch, 1927). – Я. Я.
(обратно)10
10. Такараи (Эномото) Кикаку (1661–1707), хайку взято Бартом из сборника Хайку Басё и его учеников Куниноскэ Мацуо и Эмиля Стейнилбера-Оберлина (Haïkaï de Bashô et ses disciples. Illustré par Foujita / traduction de K. Matsuo, É. Steinilber-Oberlin. Paris: Institut international de coopération intellectuelle, 1936. P. 58). Подробнее о составителях этой книги см. примеч. 38. – Я. Я.
(обратно)11
11. Оригинальный текст Кикаку отличается от того, что вышло у Барта. У Кикаку сказано так: «…и сок стекает во все стороны по дынной кожуре». Или: «По дынной кожуре сок растекается, как лапки паука». Тут всё дело в том, что в этом хайку во второй строке употреблен оборот «кумодэни» (яп. くもてに или 蜘蛛手に), который может значить и «во все стороны», и – буквально – «паучьими лапками». Что до бартовского «огурца», то в хайку – «ури» (瓜): это слово-гипероним обозначает различные бахчевые культуры (дыни, тыквы, кабачки и пр.) без конкретики. Огурец по-японски – «кюри» (胡瓜), как видно, это слово содержит тот же иероглиф «ури». Вероятно, гипоним «огурец» взялся из той книги, которой пользовался Барт, переводя хайку. Однако дотошные японские комментаторы указывают на то, что тут, скорее всего, речь именно о дыне. В качестве аргумента они приводят три предшествующих хайку из сборника Кикаку. В них говорится: «Очистив кожуру, кормит дыней мартышку уличный дрессировщик. Жара!» (1); «Капли дынного сока падают на свежепромытый рис» (2); «Подвешена вниз головой, сушится дыня в рыбачьей лодке» (3); и, наконец, наш текст: «Дынная кожура: сок течет во все стороны паучьими лапками» (4). В тексте (1) в пользу дыни выступают мартышка и жара; в тексте (3) – высушивание с целью получения цукатов или маринования. Наконец, приводится любопытное указание на возможное двоякое понимание, наложение зрительных образов: и сок дыни может стекать по кожуре в разных направлениях (манера этого растекания напоминает лапки паука), и сам рисунок на кожуре дыни напоминает то ли паутину, то ли паучьи лапки. – А. Б.
(обратно)12
12. Барт, судя по всему, цитирует по памяти фразу Дидро, в которой речь идет о картинах итальянского художника-баталиста Франческо Казановы (1727–1802): «La couleur, la finesse, la touche, l’effet, l’harmonie, le ragoût, tout s’y trouve». Фраза Дидро в оригинале выглядит несколько иначе: «La couleur, la finesse de touche, l’effet, l’harmonie, le ragoût, tout s’y trouve» (Diderot D. Salon de 1767. Œuvres complètes. T. XIV. P. 350). В переводе: «В них есть колорит, тонкость кисти, гармония, вкус» (Дидро Д. Салон 1767 // Д. Дидро. Салоны. В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1989. С. 116). – Я. Я.
(обратно)13
13. Зальцбургская ветка – образ «первой кристаллизации любви» из второй главы трактата Стендаля О любви (1822): «В соляных копях Зальцбурга в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами; даже самые маленькие веточки, которые не больше лапки синицы, украшены бесчисленным множеством подвижных и ослепительных алмазов; прежнюю ветку невозможно узнать. То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами». – Я. Я.
(обратно)14
14. Киото (старое название – Хэйан) назван «китайским» городом («китайской столицей»), потому что был построен по модели китайской столицы Чанъань (династия Тан, 618–907) и имеет параллельно-перпендикулярную планировку улиц (на карте выглядит «городом в клеточку»). – А. Б.
(обратно)15
15. Имеется в виду японский театральный деятель (актер, драматург, теоретик театрального искусства) Дзэами Мотокиё (世阿弥元清, 1363?–1443?), известный на Западе своим трактатом Фуси Кадэн (風姿花伝 или 風姿華傳), в русском переводе: Предание о цветке стиля (пер. Н. Анариной. М.: Наука, 1989). Этот текст был популярен среди западных интеллектуалов во второй половине ХХ века. Упоминается у Жана-Франсуа Лиотара в Либидинальной экономике; повлиял на структуру романа Мертвые Кристиана Крахта. – А. Б.
(обратно)16
16. Пруст М. Имена мест: имя // М. Пруст. В сторону Сванна/пер. Е. Баевской. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. C. 393‒439. – Я. Я.
(обратно)17
17. Если слово «квартал» или «округ» (лексика районирования, дискурс западной урбанистики) еще как-то соотносится с устройством Токио, то слово «вокзал», равно как и специфика самого этого места, тем более во множественном числе, применительно к японской столице в самом деле отличается от западного образа вокзала, во многом поражает и заслуживает комментария. Нечто напоминающее Сен-Лазар, Кинг-Кросс или Киевский и Казанский (Финляндский и Витебский) вокзалы, то есть характерное сооружение для приема и отправки поездов и пассажиров, в Токио всего одно: это знаменитая «Токио-стейшн» (или Токио-эки, в районе Тиёда; в переводной литературе часто называется «Токийскиим вокзалом»). Архитектор Тацуно Кинго, помимо здания этого вокзала, спроектировал также здание Банка Японии. Что одна, что другая постройка – некое среднее арифметическое «вокзала» или «банка» в западном духе, это наиболее заметные следы рецепции и реализации западной архитектуры в Токио. Бытует версия, что прообразом токийского вокзала послужил амстердамский, но многими эта версия считается бездоказательной. Остальные «вокзалы» надо представлять себе скорее в виде громадных пересадочно-перевалочных пунктов сродни аэропортам (зачастую плавно переходящих в торгово-развлекательные кварталы небоскребов, так что «поезд может въехать в обувной отдел» – это чистая правда), где подземно-наземно-надземным образом пересекается множество линий и маршрутов: частных и государственных железных дорог, подземки (точнее, двух подземок – разного времени строительства и разной глубины залегания), не говоря уже об автобусах и такси. Самая загруженная станция – Синдзюку – служит узлом пересечения одиннадцати веток. Во времена поездок Барта в Японию, разумеется, Токио был менее урбанизирован и не столь загружен, железнодорожные вокзалы не так напоминали аэропорты, как сейчас, но суть феномена, очевидно, верно улавливалась уже тогда. Что же касается бартовского тезиса-наблюдения о том, что центром всякого токийского «квартала» (района) является вокзал, то это не совсем отражает действительность. Количество и распределение крупных железнодорожных узлов в Токио не вполне соответствует районам. Крупнейших узлов немного: Синдзюку, Икэбукуро, Токио-эки, Уэно, Синагава, Акабанэ. Районов же (точнее, «специальных районов», или «муниципалитетов» (яп. 区, ку) в Токио двадцать три, все они сосредоточены ближе к центру (если считать центром императорский дворец), но в некоторых (например, в Бункё или Аракаве) нет ни одной подобной крупной станции пересадок. По мере удаления от центра к западу столица делится уже не на районы (ку), а на «города» (яп. 市, си), которые ничем не отличаются от ку, кроме дистанции от «пустого» (по Барту) центра. Центральные станции многих си, не являясь при этом крупными транспортными узлами, тоже могут представлять собой торговые центры (например, станция Китидзёдзи в Мусасино-си или станция Митака в одноименном си). – А. Б.
(обратно)18
18. Мацуо Басё (1644–1694) – выдающийся японский поэт хайку (хайдзин). – А. Б.
(обратно)19
19. Барт приводит хайку Басё в собственном переводе с английского:
A cloud of cherry blossoms:
The bell, – is it Ueno?
Is it Asakusa?
Un nuage de cerisiers en fleurs:
La cloche. – Celle de Ueno
Celle d’Asakusa?
Хайку взято им из антологии Реджинальда Хораса Блайса: Blyth R. H. Haïku. Quatre volumes. Tôkyô: The Hokuseido Press, 1949‒1952. – Я. Я.
(обратно)20
20. В переводе Веры Марковой:
Облака вишневых цветов!
Звон колокольный доплыл… Из Уэно
Или Аса́куса? – А. Б.
(обратно)21
21. Френхофер – герой новеллы Бальзака Неведомый шедевр (1831), публиковавшейся также под названиями Метр Френхофер и Екатерина Леско. Рассказ молодого художника Пуссена о старом «великом» художнике Френхофере, много лет писавшем портрет куртизанки Екатерины Леско, который он скрывает от мира. Приняв предложение Пуссена, Френхофер пишет обнаженную возлюбленную Пуссена, Жилетту. Итогом долгой работы над новым шедевром становится «одна – но замечательно точно написанная – нога», поясняет Барт в курсе Как жить вместе, где шедевр Френхофера служит Барту примером детализованной разработки фантазма, рассеянного по различным романам и объяснением «романической симуляции» (см.: Барт Р. Как жить вместе: романические симуляции некоторых пространств повседневности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016, С. 59). – Я. Я.
(обратно)22
22. Фудзё – такого слова, означающего платок или косынку для заворачивания, в японском нет, однако есть слово фудзё с другим значением: «грязь, нечистоты» (от яп. 不浄). Согласно описанию Барта, тут имеется в виду общее слово для платка или просто куска ткани, в который что-то заворачивают с целью последующей переноски (ср. с рус. «узел», «узелок», «котомка»). Обычно в японском для этого используется слово фуросики (яп. 風呂敷), обозначающее цветной или узорчатый платок для заворачивания, хранения или переноски вещей. Однако изначально фуросики обозначало кусок ткани, с которым ходили мыться и заворачивали в него банные принадлежности (фуро – японская ванна, представляющая собой бочку с подогревом для отмокания), а возможно, им же и вытирались. При этом для очищения от пыли и грязи (реальной или воображаемой, как при протирании утвари во время чайного действа), а также для завертывания денег или подарков тоже используется платок, но не фуросики, а фукуса (яп. 袱紗). Именно это слово в данном случае, переводя бартовское «fujo», использовал поэт Со Сакон (1919–2006), который перевел Империю знаков на японский (перевод опубликован в 1974 году). Каким образом в бартовский текст вместо фуросики или фукуса проникло фудзё – неясно, но, вообще-то, во всем этом разговоре о японских платках, тканях и прочих тряпочках и бумажках для заворачивания, обертывания и протирания (в том числе, ритуальных, то есть, по сути, «пустых», «бессмысленных», поскольку реально предмет может и не быть покрыт пылью, но всё равно непременно протирается) очень важно следующее: согласно традиционным (синтоистским) японским представлениям, и вещи, и люди по умолчанию грязны (осквернены), а потому требуют непрестанного мытья, очищения, протирания, омовения и т. п., как реального, так и символического. С этим, в частности, связана знаменитая японская чистоплотность, так поразившая европейцев в свое время. Упаковка (например, суммы денег в подарок на свадьбу в специальный конвертик с красной каймой, на котором японский писарь пишет адрес доставки [см. главу Писчебумажная лавка]), несет в себе тот же символический смысл: «Внутри лежит не грязное, а чистое!» Но поскольку эти дополнительные означаемые Барту, скорее всего, не были известны, а если и были, то он их намеренно не касался, потому как они помешали бы благодатному (и тоже по-своему ритуальному) очищению от смысла, – Барт увидел и описал Японскую Империю Упаковки по-своему. – А. Б.
(обратно)23
23. Для отсылки к понятиям Бертольта Брехта «Verfremdung», «Verfremdungseffekt» («очуждение/остранение», «эффект очуждения», «эффект остранения», «эффект дистанцирования») Барт использует «distance», «l’effet de distance». С 1964 года принятым вариантом перевода этих понятий на французский становится «la distanciation», «l’effet de distanciation». Понятие «дистанция» часто встречается в работах Барта о театре применительно к методу Брехта: «драматургию дистанции» он называет краеугольным камнем его системы (Барт Р. Работы о театре. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 46). В этом контексте «distance» у Барта синонимично «очуждению», «остранению». Однако, значение «distance» у Барта не сводится к этому контексту, это одна из ключевых «черт» в книге Ролан Барт о Ролане Барте, в материалах лекционных курсов Коллеж де Франс 1976‒1978 годов Как жить вместе (Барт Р. Как жить вместе: романические симуляции некоторых пространств повседневности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 147‒152) и Le Neutre (Barthes R. Le Neutre. Cours et séminaires au Collège de France (1977‒1978). Paris: Éditions du Seuil, 2002). – Я. Я.
(обратно)24
24. В 1937 году Брехт писал об «эффекте очуждения» на примере древнего китайского театра (Брехт Б. «Эффект отчуждения» в китайском сценическом искусстве // Б. Брехт. О театре. Сборник статей. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. C. 229‒240). Терминологическая путаница возникла в советском издании из-за того, что для перевода «Verfremdung» было выбрано «оТчуждение», используемое для перевода «Entäußerung» (Гегель) и «Entfremdung» (Маркс), имеющих, скорее, противоположное значение. – Я. Я.
(обратно)25
65. Филипп Соллерс (род. 1936) – французский писатель, основатель журнала Tel Quel и его главный редактор (1960‒1982), друг Барта. Барт цитирует статью Соллерса, опубликованную в Tel Quel. Серия его статей о материализме, а также его перевод поэмы Мао составили одноименное издание: Sollers P. Sur le matérialisme: De l’atomisme à la dialectique révolutionnaire. Paris: Éditions du Seuil, 1974. В этом отрывке Соллерс отсылает к живописно-каллиграфическим принципам и приемам, описанным, в частности, у Ши-Тао (石涛, 1642–1707): «свободное запястье», «единая черта» и т. д. (см., напр.: Завадская Е. В. Беседы о живописи Ши-Тао. М.: Наука, 1978). – Я. Я.
(обратно)26
25. Комический персонаж французского ярмарочного театра (конец XVI века), ведет происхождение из итальянской комедии дель арте (Пульчинелла). – Я. Я.
(обратно)27
26. Сhoréia (греч. χορεία) – хоровое представление в Древней Греции, пение и танец. – Я. Я.
(обратно)28
27. «Das Kleine» («малыш») в близком ключе был описан З. Фрейдом в работе О преобразовании влечений, главным образом анально-эротических (1917): «Ребенка, как и пенис, порой называют, малышом“». Известно, что символический язык часто не считается с различием между полами. <…> У девочки, обнаружившей существование пениса, возникает зависть к пенису, которая позднее преобразуется в желание иметь мужа как носителя пениса. Еще раньше желание иметь пенис превратилось у нее в желание иметь ребенка, либо желание иметь ребенка заняло место желания иметь пенис. Органическое соответствие между пенисом и ребенком <…> находит выражение в наличии общего для них символа, малыш“» (Фрейд З. О преобразовании влечений, главным образом анально-эротических // З. Фрейд. Собрание сочинений в 26 т. Т. 6. Любовь и сексуальность. Закат Эдипова комплекса. СПб: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2015. С. 139‒143). В классическом переводе Джеймса Стрейчи первые строки этого фрагмента графически схожи с написанием Барта: «…both baby and penis are called,littleone“ [,das Kleine“]» (Freud S. On transformations of instinct as exemplified in anal erotism [1917] // The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Vol. 17. An infantile neurosis; and other works (1917‒1919) / trans. J. Strachey, A. Freud, A. Strachey, A. Tyson. London: Hogart Press, The Institute of Psycho-Analysis, 1955. P. 129). Ранее этот сюжет описывался Фрейдом в Толковании сновидений (1900). Cвязь «малыша» с куклой отсылает к фрейдовской статье Das Unheimliche (Жуткое, 1919) и к посвященному ей семинару Жаку Лакана L’angoisse (1962‒1963), где кукла предстает своего рода тренажером жуткого (cм.: Фрейд З. Жуткое // З. Фрейд. Художник и фантазирование (сборник работ). М.: Республика, 1995. C. 265‒281; Лакан Ж. Семинары. Книга X. Тревога. В редакции Жака-Алэна Миллера. М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2010). Кроме того, в этом семинаре Лакан неоднократно апеллирует к японскому контексту. – Я. Я.
(обратно)29
28. См. примеч. 23. – Я. Я.
(обратно)30
29. Принцесса Пармская – героиня прустовского цикла В поисках утраченного времени. В основном фигурирует в третьей книге Поисков (Сторона Германтов). – Я. Я.
(обратно)31
30. Цитата из Сутры сердца: 色即是空、空即是色. В других переводах: «Материя не отлична от пустоты. Пустота не отлична от материи» (Торчинов); «Форма – пустота, а пустота – форма» (Терентьев); «Видимость есть пустота, пустота есть видимость» (Трубникова). – А. Б.
(обратно)32
31. Ёса Бусон (1716–1784) – японский поэт хайку. Вместе с Мацуо Басё и Кобаяси Иссой составляет тройку величайших хайдзинов (поэтов хайку) периода Эдо (1603–1868). – А. Б.
(обратно)33
32. Барт приводит хайку Бусона в собственном переводе с английского:
It is evening, autumn
I think only
Of my parents
C’est le soir, l’automne,
Je pense seulement
À mes parents.
Хайку из антологии Р. Х. Блайса (Blyth R. Н. Haïku. Op. cit. Vol. I. P. 204.). – Я. Я.
(обратно)34
33. Ср.: «Наверное, уже не осталось ни одного подростка, у кого бывал бы такой фантазм – быть писателем! Да и с кого же теперь брать пример – не в творчестве, а в поведении, позах, в этой манере ходить по свету с записной книжкой в кармане и с какой-нибудь фразой в голове (таким я воображал Жида – ездит то в Россию, то в Конго, читает классиков и, ожидая очередного блюда в вагоне-ресторане, делает записи у себя в книжке; таким я и увидел его однажды в 1939 году, в зале ресторана „Лютеция“, – он ел грушу и читал книгу)? В самом деле, фантазм внушает нам такой образ писателя, какой виден в его дневнике, – писатель минус его книги; это высшая форма сакрального – отмеченность и пустота» (пассаж Писатель как фантазм из книги Ролан Барт о Ролане Барте [рус. изд. в пер. С. Зенкина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 82‒83]). – А. Б.
(обратно)35
34. Имеется в виду ученик Басё, поэт Кондо Дзёко; упоминается у Басё в сборнике По тропинкам севера. – А. Б.
(обратно)36
35. Хайку взято Бартом из сборника К. Мацуо и Э. Стейнилбера-Оберлина (Haïkaï de Bashô et ses disciples. P. 69). – Я. Я.
(обратно)37
36. Ibid. P. 40. – Я. Я.
(обратно)38
37. В переводе Веры Марковой:
По горной тропинке иду.
Вдруг стало мне отчего-то легко.
Фиалки в густой траве. – А. Б.
(обратно)39
38. Кто такие «западные комментаторы», стремящиеся во что бы то ни стало объяснить «смысл» хайку, по адресу которых постоянно иронизирует Барт? В специальном выпуске Revue Roland Barthes, посвященном Империи знаков и ее источникам, Эммануэль Лозеран показывает, что во всех подобных случаях Барт почти дословно иронично воспроизводит комментарии Куниноскэ Мацуо и Эмиля Стейнилбера-Оберлина (Haïkaï de Bashô et ses disciples), но не Реджинальда Блайса (1898‒1964), к примеру, чей четырехтомник Хайку также богат комментариями. Именно эти (со)авторы объясняют хайку про мост Сэта «образом утекающего времени», указывают, что «фиалка – образ добродетели», а также тавтологично пересказывают хайку о луне: «Луна так прекрасна, что поэт снова и снова встает, чтобы полюбоваться ею» (см. подробнее: Lozerand E. D’où viennent les haïkus de L’Empire des signes? Электронный ресурс: [https://revue.roland-barthes.org/2021/emmanuel-lozerand/dou-viennent-les-haikus-de-lempire-des-signes]). Куниноскэ Мацуо (1899–1975), выходец из семьи торговцев, выучил французский в Японии; оказавшись в Париже в начале двадцатых и прожив там до оккупации в 1940 году, успел сделать многое для укрепления франко-японских отношений. Японские писатели и поэты (Хаяси Фумико, Симадзаки Тосон, Такахама Кёси, Ёкомицу Риити и другие), приезжавшие в Париж в конце 1920-х и начале 1930-х, окрестили Куниноскэ «парижской культурной таможней», поскольку полностью зависели от этого влиятельного человека. Он был известен как журналист, критик и переводчик; возглавлял парижское отделение японской газеты Ёмиури симбун (закрыв его в 1941, он переехал в Берлин). Дружил и сотрудничал с Андре Жидом, Роменом Ролланом, а также с перебравшимся в Париж художником японского происхождения Леонардом (Цугухару) Фудзитой. В соавторстве с Эмилем Стейнилбером-Оберлином Куниноскэ издал ряд переводов и исследований о японской поэзии. В январе 1946 года, после поражения Японии в войне, он вернулся на репатриационном корабле и работал в головном офисе газеты Ёмиури в Токио.
Эмиль Стейнилбер-Оберлин (1878–19…) – французский философ, лингвист, переводчик; переводил с японского и санскрита. В 1926 году вместе с Куниноскэ Мацуо, Кику Ямата, Леонардом Фудзитой и др. он участвовал в подготовке первого номера Франко-японского журнала (Revue Franco-Nippone, 1926‒1930). В 1828 издал книгу В защиту Азии и буддизма (Défense de l’Asie et du bouddhisme) в ответ на книгу Анри Массиса В защиту Запада (Défense de l’Occident, 1927). Его книга Буддийские школы Японии (Les sectes bouddhiques japonaises. Histoire, doctrines philosophiques, textes, les sanctuaires, 1930, в соавторстве с К. Мацуо) переиздавалась восемнадцать (!) раз в течение одного только 1930 года, а ее перевод на английский язык выдержал сорок шесть изданий с 1938 по 2013 год. В 2018 году книга была переиздана на языке оригинала под заголовком Японский буддизм (Le bouddhisme japonais. Paris: Sully, 2018). Это «философское исследование», возникшее из записей многочисленных бесед Э. Стейнилбера-Оберлина с японскими монахами и наставниками, явилось итогом его длительного пребывания в различных буддийских монастырях Японии. Он также перевел на французский пьесу Кураты Хякудзо (倉田 百三, 1891–1943) Учитель и его ученики, посвященную Синрану (親鸞, 1173–1263, он же – Дзэнсин, 善信) – основателю японской буддийской школы Дзёдо-синсю («Истинной школы Чистой земли»). После публикации в 1939 году Антологии современных японских поэтов о нем более небыло никаких сведений; обстоятельства смерти также неизвестны. – Я. Я.
(обратно)40
39. Барт приводит хайку Басё в собственном переводе с английского:
The old pond
A frog jumps in,
The sound of the water
La vieille mare:
Une grenouille saute dedans:
Oh! le bruit de l’eau.
Хайку из антологии Р. Х. Блайса (Blyth R. Haïku. Op. cit. Vol. I. P. 284). – Я. Я.
В переводе Веры Марковой:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине. – А. Б.
(обратно)41
40. Haïkaï de Bashô et ses disciples. Op. cit. P. 38. – Я. Я.
(обратно)42
41. Хайку Басё взято Бартом из книги А. Уоттса Дзэн-буддизм (Watts A. Le Bouddhisme zen [1960]. Paris: Payot et Rivages, 2003. P. 253). – Я. Я.
В одном из сборников этому хайку предпослан пояснительный текст: «Один мудрый монах сказал: „Учение секты Дзэн, неверно понятое, наносит душам большие увечья“. Я согласился с ним». И ниже – само хайку:
Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она – наша жизнь!»
(пер. В. Марковой; см.: Басё, Бусон, Исса. Летние травы. М.: Толк, 1993. C. 91) – А. Б.
(обратно)43
42. Шестой (и последний) патриарх Чань (Дзэн) – Хуэйнэн (惠能,638–713), в японском прочтении – Эно. Шестой патриарх также упоминается Бартом в лекционном курсе Коллеж де Франс 1977‒1978 Le Neutre со ссылкой на Эссе о дзэн-буддизме Дайсэцу (Тэйтаро) Судзуки (1927; французское издание, цитируемое Бартом в курсе лекций: Suzuki D. Essais sur le bouddhisme Zen. Paris: Albin Michel, 1972). Судзуки пишет, что Пятый патриарх Дзэн избрал в свои наследники единственного непосвященного из сотен монахов именно потому, что тот «не понимал буддизм, понимал только путь»; именно он и стал Шестым патриархом. Барт воспроизводит этот рассказ Судзуки в связи с «отказом от теоретической вербализации»: Barthes R. Le Neutre. Op. cit. P. 57. – А. Б.
(обратно)44
43. Мондо (яп. 問答) – букв. «вопрос-ответ»: парадоксальный диалог-поединок в дзэнской практике. – А. Б.
(обратно)45
44. Майя – в философии древней Индии, в том числе буддизме: представление обо всем окружающем мире (иногда даже включая богов и духов) как о псевдореальности, иллюзии, видимости и т. п. возникающее из созерцания окружающего как непостоянного, бренного и преходящего. – А. Б.
(обратно)46
45. В этом месте – единственный у Барта случай словоупотребления хайкай (франц. haïkaï) вместо обычного для него хайку. О разнице между хайку, хокку, хайкай и др. см.: Дьяконова Е. М. Поэзия японского жанра трехстиший (хайку). Происхождение и главные черты. Электронный ресурс: [http://www.philology.ru/literature4/dyakonova-02.htm]. – А. Б.
(обратно)47
46. Ср.: «Я пишу – это первая ступень языка. Потом я пишу, что я пишу, – это его вторая ступень. (Еще у Паскаля:,Хотел записать ускользнувшую мысль; вместо этого пишу, что она ускользнула“.)
Сегодня мы в огромных количествах пользуемся этой второй ступенью. Наш интеллектуальный труд – это во многом подозрительность к любому высказыванию, где мы вскрываем многоступенчатую иерархию; такая иерархия бесконечна, и для этой бездонной пропасти, разверзающейся под каждым словом, для этого языкового безумия у нас есть ученое название – акт высказывания (изначально мы разверзаем эту бездну по тактической причине: чтобы преодолеть самодовольство своих высказываний, надменность своей науки).
Вторая ступень – это еще и особый образ жизни. Достаточно отойти на шаг от какого-нибудь слова, зрелища, тела, чтобы полностью переменилось наше вкусовое отношение к ним, смысл, который мы могли бы им придать. Бывают эротика и эстетика второй ступени (например, китч). Мы можем даже стать маньяками второй ступени – полностью отказаться от денотации, спонтанного лепета, невинного повторения одних и тех же фраз, соглашаясь терпеть лишь те языки, которые хоть немного демонстрируют способность к отрыву: пародию, амфибологию, скрытую цитацию. Становясь самосознательным, язык начинает всё разъедать. Но лишь при одном условии: если делает это до бесконечности. Ведь если я остановлюсь на второй ступени, то меня по праву можно будет упрекнуть в интеллектуализме (в чем буддизм обвиняет всякое простое размышление); а вот если я уберу любые ограничители (вроде рассудка, науки, морали) и отпущу акт высказывания в свободный ход, то тем самым позволю ему бесконечно отрываться от себя самого, упразднив спокойную совесть языка.
В эту игру ступеней втянут любой дискурс. Ее можно назвать бафмологией. Неологизм здесь уместен, ведь мы подходим к идее новой науки – науки об иерархии речевых уровней. То будет совершенно неслыханная наука, ибо в ней потеряют устойчивость привычные инстанции языкового выражения, чтения и слушания (,истина“,,реальность“,,искренность“); ее принципом станет рывок, она будет перешагивать одним прыжком через любое выражение» (этот пассаж под названием Вторая и дальнейшие ступени из книги Ролан Барт о Ролане Барте [указ. соч. С. 71‒72]). – А. Б.
(обратно)48
47. В материалах курса лекций 1978‒1980 годов Приготовление романа Барт указывает, что это хайку Басё из сборника Кику Яматы (См.: Barthes R. Préparation du roman. Paris: Éditions du Seuil, 2015. P. 711; Yamata K. Sur des lèvres japonaises. Paris: Le Divan, 1924). – Я. Я.
Неточность: на самом деле это хайку не Басё, а его ученика по имени Оти Эцудзин (1656–1739?), и сказано в нем следующее: «Увидев первый снег, умыл лицо [вероятно, этим же снегом]». – А. Б.
(обратно)49
48. Масаока Сики (1867–1902) – японский поэт, теоретик и реформатор хайку. – А. Б.
(обратно)50
49. Барт приводит хайку Сики в собственном переводе с английского:
With a bull on board
A small boat passes across the river
Through the evening rain
Avec un taureau à bord,
Un petit bateau traverse la rivière,
À travers la pluie du soir.
Хайку из антологии Р. Х. Блайса (Blyth R. Н. Haïku. Op. cit. Vol. I. P. 165.). – Я. Я.
(обратно)51
50. Хуаянь (華厳) – направление китайского буддизма, распространившегося в Корее под названием Хваом и затем в Японии под названием Кэгон (начало его изучения в Японии – 736 год). Основная идея этой школы заключается в том, что мир – единое и неделимое целое, а все его части связаны взаимопроникающими отношениями. Буквальный перевод иероглифов названия – «цветочная гирлянда». – А. Б.
(обратно)52
51. Хайку Басё из сборника Кику Яматы (см.: Barthes R. Préparation du roman. Op. cit. P. 711; Yamata K. Sur des lèvres japonaises. Op. cit. P. 96). – Я. Я.
(обратно)53
52. Хайку Кикаку взято Бартом из книги Рене Сиффера (Sieffert R. La Littérature japonaise. Paris: Armand Colin, 1961 [collection «Langues et civilisations»]. P. 149). Р. Сиффер (René Sieffert, 1923–2004) – переводчик японской классической поэзии, в частности Басё. Его переводы Басё были опубликованы в 1968 году в поэтическом журнале L’Éphémère Гаэтаном Пиконом (Gaёtan Picon,1915‒1976), который в 1969 году основал в издательстве Skira серию Les Sentiers de la création. Пятым изданием этой серии и стала Империя знаков Барта. Авторами предшествующих изданий выступили: Эльза Триоле (Triolet E. La mise en mots. Paris: Skira, 1969 [Les Sentiers de la Création № 1]), Луи Арагон (Aragon L. Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit. Paris: Skira, 1969 [Les Sentiers de la Création № 2]), Мишель Бютор (Butor M. Les mots dans la peinture. Paris: Skira, 1969 [Les Sentiers de la Création № 3]) и Эжен Ионеско (Ionesco E. Découvertes. Paris: Skira, 1969 [Les Sentiers de la Création № 4]). – Я. Я.
Это же хайку Кикаку в переводе Веры Марковой:
Яркий лунный свет!
На циновку тень свою
Бросила луна. – А. Б.
(обратно)54
53. Барт приводит хайку в собственном переводе с английского:
In the fisherman’s house
The smell of dried fish,
And the heat
Dans la maison du pêcheur,
L’odeur du poisson séché
Et la chaleur.
Хайку из антологии Р. Х. Блайса (Blyth R. Haïku. Op. cit. Vol. III. P. 656.). – Я. Я.
(обратно)55
54. Хайку японского поэта Хассо (八桑, годы жизни неизвестны), которое впоследствии, в своем курсе Приготовление романа, Барт будет приписывать Басё, повторяя ошибку Мацуо Куниноскэ и Э. Стейнилбера-Оберлина – составителей сборника, откуда он и почерпнул это стихотворение (см.: Barthes R. Préparation du roman. Op. cit. P. 708; Haïkaï de Bashô et ses disciples. Op. cit. P. 22.). Авторство Хассо указывается в работе Эммануэля Лозерана (о нем см. примеч. 38). – Я. Я.
(обратно)56
55. Когда меркнет свет смысла, является вспышка, открывая невидимый мир (англ.). – Я. Я.
(обратно)57
56. Неточность. Цитируемые строки принадлежат не Шекспиру, а Уильяму Вордсворту: «Когда свет разума как будто гаснет, / Но в ярких вспышках вдруг приоткрывает / Незримый мир» (пер. Т. Стамовой, см.: Вордсворт У. Прелюдия. М.: Ладомир, Наука, 2017. С. 122). – А. Б..
(обратно)58
57. У Барта «la nuit de l’encrier» (досл. «ночь у чернильницы»). См. примеч. 65 к псевдохайку Барта, которым завершается глава Веко: «…Чернильная Ночь, / как сказал Малларме». – Я. Я.
(обратно)59
58. «Des gestes de l’idée» – Стефан Малларме пишет о «жестах идеи» в Заметках о языке (Notes sur le langage, 1869), материалах для диссертации, которая не была завершена. В поэме в прозе Igitur (1869; см. примеч. 62) есть близкие строки: «reprend l’Idée, en tant qu’Idée: et l’Acte» («передает Идею как Идею: и как Жест» [перевод мой – Я. Я.] ср. «принимая Идею как Идею, а также и сам Шаг» – пер. Р. Дубровкина; см.: Малларме С. Игитур // С. Малларме. Стихотворения / пер. Р. Дубровкина. М.: Текст, 2012. С. 143). – Я. Я.
(обратно)60
59. Имеется ввиду круг «энсо» (яп. 円相), дзэнское каллиграфическое упражнение по начертанию круга одним движением. – А. Б.
(обратно)61
64. У Барта: «la Nuit de l’Encrier» («ночь у чернильницы»). Ночь и Чернила/Тушь (чернильница/тушечница) нередко соседствуют в строках Стефана Малларме. Ближайшим образом «la nuit de l’Encrier» отсылает к сборнику Малларме Divagations (1897). Эссе Разреженное действие, входящее в него, обыгрывает фонетическое сходство «Écrire» (писать) и «Еncrier» (чернильница): см. Mallarmé S. Divagations / ed. E. Fasquelle. Paris, 1897. P. 256. В эссе Таинство в словесности (Le mystère dans les lettres) из того же сборника Малларме пишет о «чернильнице без Ночи»: см. Mallarmé S. Divagations. Op. cit. P. 285. – Я. Я.
(обратно)62
60. Дзэнгакурэн (яп. 全学連, сокращение от дзэннихон гакусэй дзитикай сорэнго, 全日本学生自治会総連合, что можно перевести как «Всеяпонская федерация ассоциаций студенческого самоуправления») – послевоенное японское студенческое движение, получившее статус организации в 1948 году. Активисты движения – студенты и выпускники крупнейших университетов Японии – выступали с требованиями, касающимися непосредственно университетской жизни (снижения платы за обучение, а также различных реформ образования), но также реагировали на общественно-политическую повестку дня вообще. Направленность движения в целом: против (проамериканского) правительства, против империализма, против «красных чисток», против американских военных баз, против договора о безопасности между Японией и Америкой, который легитимировал сохранение старых и строительство новых американских военных баз на территории Японии. В разное время дзэнгакурэн получали поддержку со стороны компартии Японии, от «новых левых» и т. п. Расхождения во взглядах и позициях между активистами со временем привело к тому, что движение раскололось на несколько фракций («сект»), переживало периоды спада активности. «Внешняя» деятельность дзэнгакурэн выражалась в акциях протеста, забастовках, демонстрациях, попытках захватить и блокировать те или иные объекты городской инфраструктуры. «Внутренняя» деятельность состояла, среди прочего, из активной политической борьбы между приверженцами разных политических стратегий (которые распределялись по шкале «левизны/правизны/центризма», миролюбивости/воинственности, авангардности/консерватизма и пр.). Отдельные «секты» дзэнгакурэн имели свои печатные органы, издавали свои «официальные» газеты и журналы. Среди наиболее громких акций дзэнгакурэн числятся: университетские акции протеста 1968‒1969 годов в Токио, протесты против подписания договора о безопасности между Японией и Америкой в 1959‒1960 годах и в 1970 году (в том числе один из самых громких – «инцидент 15 июня» 1960 года, когда к зданию парламента Японии в Токио двинулись десятки тысяч человек и во время столкновений с полицией была убита студентка Токийского университета, активистка дзэнгакурэн Митико Камба), а также выступления против строительства аэропорта Нарита (префектура Тиба) в 1966 году. Считается, что к настоящему времени деятельность дзэнгакурэн практически прекратилась. – А. Б.
(обратно)63
61. Марсельеза (La Marseillaise) – национальный гимн Франции, один из ключевых символов Великой французской революции (наряду с «фригийским колпаком», головным убором рабов-вольноотпущенников в Древнем Риме, и «Марианной», аллегорическим персонажем с непременным фригийским колпаком на голове, воплощающим свободную Францию). Автор песни – Руже де Лиль, написавший ее в 1792 году на музыкальную тему Джованни Баттисты Виотти, озаглавил композицию Марш войны; в том же году песня стала называться Марсельезой, так как с ней в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон. Произведения, иллюстрирующие Марсельезу, превратили «песню» в аллегорический женский образ Революции. Самыми известными «воплощениями» Марсельезы стали картина Эжена Делакруа Свобода, ведущая народ (1830; в центре над баррикадами возвышается женщина во фригийском головном уборе) и барельеф Франсуа Рюда Отправление в поход (Départ des volontaires de 1792, 1833), также называемый Марсельезой. Замечание Барта о чисто вокальном, внеязыковом, сопровождении бунта отсылает к дискуссиям конца 1968 года о связи восстания и языка, «взятого слова», в частности, к двум текстам Мишеля де Серто, написанным по горячим следам майских протестов в Париже. В первом из них (К новой культуре: взятие слова) говорится: «В этом мае мы взяли слово так же, как взяли Бастилию в 1789 году». О своеобразном «низвержении» взятого слова речь заходит во втором тексте де Серто (К новой культуре: власть слова): «Язык манифестаций мог быть только языком, их предававшим». (См.: Certeau M. La Prise de parole, et autres écrits politiques. Paris: Éditions du Seuil, Points, 1994). – Я. Я.
(обратно)64
62. Отсылка к знаменитой поэме в прозе Стефана Малларме Igitur или безумие Эльбенона (1869; впервые опубликована посмертно в 1925 году, на русском языке публиковалась в переводе Р. Дубровкина): Полночь, Комната, ночь без просвета надежды, задутая свеча и Ничто – своего рода сюжет безумия пишущего прослеживается во фрагментах. В 1926 году, находясь в Токио, Поль Клодель написал статью для Nouvelle Revue Française о только что опубликованной поэме Малларме, озаглавив ее Катастрофа Igitur (La catastrophe d’Igitur), в которой описал автора Igitur как обитателя «темницы знаков» (prison des signes), «узника кабинета Знаков» (reclus du cabinet des Signes) (Claudel P. La catastrophe d’Igitur // P. Claudel. Œuvres en prose. Paris: Gallimard; Bibliothèque de la Pléiade, 1973. P. 511). Барт не упоминает Клоделя, но сохраняет как клоделевский образ, так и орфографию. Отзвуки упомянутого текста Клоделя присутствуют и в других текстах Барта; в статье Теория текста 1974 года для Encyclopedia universalis он напоминает слова Клоделя о Малларме из Катастрофы Igitur: «смотреть извне, но не как на спектакль <…>, а как на текст». «Тюрьма знаков» узнается и в выражении Барта «тюрьма языка». Кто-то из комментаторов отмечает, что и само название Империя знаков коррелирует с размышлениями о «знаках» в Японии у Клоделя (но вовсе не вторит им). – Я. Я.
(обратно)65
63. Начиная с периода Муромати (1336–1573) и до начала времени Эдо (1603–1868) словом сикидай (яп. 式台) называлось специальное пространство внутри дворцовых покоев, где проводились церемонии встречи высоких гостей; оно располагалось между главным (основным) залом и помещением для охраны при входе. В настоящее время сикидай сохранился во дворце Нидзё в Киото. – А. Б.
(обратно)66
66. Wahl F. Le code, la roue, la reserve // Tel Quel. № 47. Automne 1971. P. 64.
(обратно)67
67. Ibid.
(обратно)68
68. Bouvier N. Japon. Lausanne: Éditions Rencontres, 1967.
(обратно)69
69. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. М.: Издательский дом «Дело», 2019. С. 389.
(обратно)70
70. О книгах, которыми располагал Барт в работе над ИЗ, см. комментарии к данному изданию, а также специальный выпуск Revue Roland Barthes. № 5. Oсtobre 2021. Электронный ресурс: [https://revue.roland-barthes.org/category/numero-5]. – Я. Я.
(обратно)71
71. Pinguet M. Le Texte Japon, introuvables et inédits présentés par Michel Ferrier. Paris: Éditions du Seuil, 2009.
(обратно)72
72. Ibid. P. 31.
(обратно)73
73. Ролан Барт о Ролане Барте. С. 148.
(обратно)74
74. Leroi-Gourhan A. Pages oubliées sur le Japon. Grenoble: Editions Jérome Millon, 2004. P. 469.
(обратно)75
75. Leroi-Gourhan Ar., Leroi-Gourhan An. Les derniers Aïnous. Photographies au Japon en 1938.
(обратно)76
76. Барт. Р. S/Z. Бальзаковский текст: опыт прочтения. М.: Ad Marginem, 1994.
(обратно)77
77. Барт. Р. Сад, Фурье, Лойола. М.: Праксис, 2007.
(обратно)78
78. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 388.
(обратно)79
79. Ролан Барт о Ролане Барте. С. 157.
(обратно)80
80. Yamata K. Sur des lèvres japonaises. Paris, 1924.
(обратно)81
81. Подробнее см.: Lozerand E. D’où viennent les haïkus de L’Empire des signes? Электронный ресурс: [https://revue.roland-barthes.org/2021/emmanuel-lozerand/dou-viennent-les-haikus-de-lempire-des-signes]). – Я. Я.
(обратно)82
82. На французском текст был опубликован в 1972 году в сборнике Nouveaux essais critiques. – Я. Я.
(обратно)83
83. Barthes R. Pierre Loti: Aziyadé // R. Barthes. Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux Essais critiques. Paris: Éditions du Seuil,1972. P. 174.
(обратно)84
84. Ibid. P. 176.
(обратно)85
85. См. примеч. 62.
(обратно)86
86. Sollers Ph. R. B. // Tel Quel. № 47. Automne 1971. P. 19.
(обратно)87
87. Ibid. P. 26.
(обратно)88
88. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 298.
(обратно)89
89. Там же. С. 381.
(обратно)90
90. Лакан в Японии. СПб.: Алетейя, 2012. С. 62.
(обратно)91
91. 『表徴の帝国』(新潮社〈創造の小径〉、1974年)(Империя знаков (яп. «Хётё-но тэйкоку»). Токио: Синтёся, [серия Пути творения (яп. «Содзо-но сёкэй»)], 1974; переиздано в 1996). Необходимо отметить, что японцы фактически продублировали весьма объемный сегмент серии Пути творения издательства Skira: они перевели из нее восемнадцать книг и тем самым «взрыхлили почву», задав необходимый контекст. – А. Б.
(обратно)92
92. ロラン・バルト著作集7 記号の国 1970(みすず書房、2004年)(Ролан Барт. Полное собрание сочинений. Том 7. Страна знаков 1970. Токио: Мисудзусёбо, 2004). – А. Б
(обратно)93
93. Португальцев занесло (именно занесло, бурей) на японские острова в 1543 году. Это была первая встреча японцев и европейцев. Поскольку последние прибыли с юга, их окрестили «южными варварами». Впоследствии к португальцам присоединились испанцы, чуть позже – в начале XVII века – голландцы и англичане. Португальцы привезли в Японию огнестрельное оружие, испанцы – табак и помидоры. В плане символического капитала и те и другие завезли в Японию католицизм, а голландцы и англичане, соответственно, протестантизм. Одно с другим сочеталось плохо, японская реакция на западные новшества и различные формы всяческих транзакций постепенно изменялась, и вот уже к середине XVII века торговые контакты с европейцами были прекращены (за редким исключением для голландских кораблей), любой христианский прозелитизм был объявлен вне закона, и Япония вступила в период изоляции, который продлится пару веков. Так стартовал и финишировал первый период японско-европейских контактов, который получил условное название «Торговля с южными варварами». Однако историческая память японцев поразительна: некоторые современные АТМ-банкоматы (например, у банка «Мицубиси») оснащены, среди прочего, пользовательским интерфейсом на португальском языке. – А. Б
(обратно)94
94. Christophe M. Le développement de la japonologie en France dans les années 1920: autour de la revue Japon et Extrême-Orient // Ebisu [En ligne]. № 51. 2014. P. 68. Электронный ресурс: [http://ebisu.revues.org/1388; DOI: 10.4000/ebisu.1388]. – Я. Я.
(обратно)95
95. Там же.
(обратно)96
96. Lozerand E. D’où viennent les haïkus de L’Empire des signes? Op.cit.
(обратно)97
97. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 351.
(обратно)98
98. См. примеч. 64.
(обратно)99
99. Лакан в Японии. Указ. соч. С. 79‒83.
(обратно)100
100. Ролан Барт о Ролане Барте. Указ. соч. С. 148.
(обратно)101
101. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 349.
(обратно)102
102. Там же. С. 423.
(обратно)103
103. Там же.
(обратно)104
104. Les dessins de Roland Barthes. Электронный ресурс: [https://www.youtube.com/watch?v=WbvvbP_pSaI]; Lumières de Roland Barthes: présentation de l’exposition par Magali Nachtergael. Электронный ресурс: [https://www.youtube.com/watch?v=0tStNajswTY].
(обратно)105
105. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 433.
(обратно)106
106. Ролан Барт о Ролане Барте. Указ. соч. С. 38.
(обратно)107
107. Барт Р. Как жить вместе. Указ. соч. С. 67‒70. В русском переводе Как жить вместе «trait» переводится как «фигура», хотя «figure» не употребляется Бартом в этом курсе. В сходном с «trait» значении «figure» присутствует в его Фрагментах любовной речи. – Я. Я.
(обратно)108
108. См.: Барт Р. Как жить вместе. Указ. соч. С. 70: «Парадигма, которую я предлагаю здесь, не следует разделению функций; она не ставит целью отделить и поместить по одну сторону – ученых, исследователей, а по другую – писателей и эссеистов. Напротив, она предполагает, что письмо – повсюду, где слова имеют вкус (знание [savoir] и вкус [saveur] в латинском языке имеют общий корень)» (OC, III, 806). – Я. Я.
(обратно)109
109. Кристева Ю. Семиотика: Исследования по семанализу. М.: Академический проект, 2015. С. 247‒276.
(обратно)110
110. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 435.
(обратно)111
111. Leroi-Gourhan A. Le Geste et la Parole. 2 vol. Paris: Albin Michel, 1964.
(обратно)112
112. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 435‒436.
(обратно)113
113. Там же. С. 436.
(обратно)114
114. Там же.
(обратно)115
115. Barthes R. La préparation du roman. Cours au Collège de France (1978‒1979 et 1979‒1980). Paris: Editions du Seuil, 2015. P. 208. См.: Барт Р. Отступление от курса Приготовление романа. Электронный ресурс: [https://cineticle.com/barthes-preparation-du-roman]. – Я. Я.
(обратно)116
116. Самойо Т. Ролан Барт. Биография. Указ. соч. С. 437.
(обратно)117
117. Исэсю (伊勢集) – личная антология поэзии с комментариями в прозе, составленная поэтессой Исэ (Исэ-но Тайфу, 伊勢大輔870?–940?) – одной из самых известных японских поэтесс. Наряду с Мурасаки Сикибу, Сэй-сёнагон, Оно-но Комати и др. Исэ входит в «золотой фонд» хэйанской женской дневниковой и поэтической словесности. Как отмечает М. В. Торопыгина, в антологии Кокинсю помещены двадцать две (или двадцать три) ее песни (см.: Торопыгина М. В. Бухта песен. СПб.: Гиперион, 2020. С. 117, 162). Антология Сто стихотворений ста поэтов также содержит одно стихотворение Исэ и краткую биографическую справку (см.: Сто стихотворений ста поэтов. М., СПб.: Летний сад; Журнал «Нева», 1998. С. 90‒91). Представленный в Империи знаков фрагмент Исэсю получил название «Исияма-гирэ» (石山切れ), авторство каллиграфии приписывается кисти Фудзивара-но Кинто (966–1041).
Годы идут, но мир забыть невозможно.
Сердце, уймись! Но оно опять за свое.
Умереть от любви – не хочу и слышать об этом,
но умереть от мира, должно быть, не лучше.
Завидев цветы в цвету, дурак-человек полагает,
что и сам начинает цвести. Будто не зная о том,
что придется скорбеть, к чему насмехаться?
Замереть от любви по весне: цветы-то как пахнут! —
подумать, но поздно… Река Отова.
Закончу скорее рассказ остроумной концовкой.
Сердце его увижу ли в бурных водах…
– А. Б. (Перевод мой.)
(обратно)118
118. Ёкои Яю (横井 也有) – самурай, поэт-хайдзин, один из ученых-нативистов (кокугакуся), составитель поэтических антологий, наиболее знаменит своей прозой хайбун. Хайбун – литературный жанр, сочетающий хайку и прозу. Классическим примером хайбуна является По тропинкам севера Басё. Подробнее об этом жанре и о его влиянии на отечественную словесность см.: Орлицкий Ю. Б. Стихосложение новейшей русской поэзии. М.: Языки славянских культур, 2021. С. 455‒475. Известный японский писатель Нагаи Кафу (1879–1959) считал хайбун Яю моделью для японской прозы XX века. – А. Б.
(обратно)119
119. Точнее, в стихотворении сказано следующее:
Даже если до дна исчерпать
этот мир всё равно
останется мутным но
глубок аромат цветов ямабуки
как речная вода в Удзи
Ямабуки, или Кэррия японская (Kerria japonica), – кустарник с мелкими желтыми цветами, входящий в семейство розоцветных. – А. Б.
(обратно)120
120. Хосокава (Нагаока) Тадаоки (細川忠興, 1563–1645) – высокопоставленный самурай (даймё), живший в Японии в конце периода Сэнгоку (1467 (1493) –1590) – начале Эдо (1603–1868). Был разносторонне образованным человеком, занимался поэзией (танка), театром (Но), живописью, традиционной медициной и тем, что мы сейчас назвали бы диетологией. Учился чайному делу у самого основателя японского чайного искусства Сэн-но Рикю (千利休, 1522–1591), является одним из «Семи мудрецов Рикю» (яп. 利休七哲, то есть семи наиболее выдающихся и близких сэнсэю учеников Рикю). Чайное имя Хосокавы – Сансай (三斎). – А. Б.
(обратно)121
121. На фото изображены торжества по случаю фестиваля Трех Святынь (яп. сандзя мацури, 三社祭), который отмечается в третьи выходные мая в синтоистском храме Асакуса-дзиндзя (Токио). В торжествах участвуют три священных паланкина (яп. микоси, они же – «три святыни»), по числу почитаемых в эти дни основателей храма Сэнсодзи (старейший храм Токио): Хинокума Хаманари, Хинокума Такэнари и Хадзино Накатомо. – А. Б.
(обратно)