| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Балет моей жизни (fb2)
 - Балет моей жизни (пер. Мария С. Кленская) 5594K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Клео де Мерод
- Балет моей жизни (пер. Мария С. Кленская) 5594K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Клео де Мерод
Клео де Мерод
Балет моей жизни
В память о моей любимой матери. Я бы хотела поблагодарить Клод Каррас за неоценимую помощь в работе над этим произведением.
К. де М.
© М. С. Кленская, перевод, 2021
© А. А. Васильев, предисловие, фотографии, 2021
© ООО «Издательство „Этерна“», издание на русском языке, 2021
* * *
Предисловие к русскому изданию
Каждый раз, когда я думаю о Прекрасной эпохе 1900-х годов, я невольно вспоминаю женские образы того утонченного времени. Их изысканные и нежные черты живо рисуют мне два легендарных камейных профиля — божественной танцовщицы Клео де Мерод и дивной итальянской красавицы с трагической судьбой Лины Кавальери.
О Клео де Мерод я узнал в ранние детские годы от своей двоюродной бабушки, петербургской модницы, пианистки Ольги Петровны Дрябиной, урожденной Васильевой. Она была замужем за тенором Дягилевской антрепризы Иваном Поликарповичем Варфаломеевым и вхожа в артистический мир блистательного Санкт-Петербурга, где Клео де Мерод, как и в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, была притчей во языцех. Легендарная красота этой балерины австро-венгерского происхождения так ярко блистала на рубеже веков, что ее фотопортреты многотысячными тиражами повсеместно распространялись среди ее поклонников обоих полов. Так и в моей коллекции от вышеупомянутой Ольги Петровны мне достались изящные открытки с легендарным профилем Клео и не менее известными изображениями ее тончайшей талии, бывшей предметом восхищения миллионов мужчин и предметом зависти миллионов женщин.
Говоря о Клео, надо отметить ее удивительный дар нравиться всем, восхищая массы, при этом не станцевав ни одной ведущей партии в балетах Гранд-Опера. Первым импресарио Клео была ее мама, бывшая фрейлина австро-венгерской императрицы Сисси, посвятившая дочери всю свою жизнь. Клео начала карьеру в кордебалете и дорослая до сольных концертных выступлений с камбоджийскими танцами на выставке 1900 года, благодаря своей божественной внешности и феноменальной фотогеничности. Возможно, главной причиной было соответствие ее внешности канонам красоты стиля art nouveau, где образы дам-ундин, с тонкими и вытянутыми чертами лица и волнистыми длинными волосами, как нельзя лучше подходили и под ювелирные украшения Рене Лалика, и под плакаты Альфонса Мухи. Став эталоном красоты, Клео де Мерод позировала для многих скульпторов и великих художников своего времени — от Тулуз-Лотрека до Джованни Больдини.
Особенностью Клео де Мерод была ее знаменитая прическа с бандо, прикрывавшая уши, которую она нередко носила на средневековый манер с золотым обручем на лбу. Это так понравилось современницам, что появились тысячи последовательниц, и такую прическу стали называть «а-ля Клео де Мерод». Они даже попали под язвительное перо Надежды Тэффи, которая, описывая в своих воспоминаниях советскую служащую в конторе, упомянула о скучной даме с «осыпанной перхотью прической „а-ля Клео де Мерод“». Балерина была столь преданна этому образу, что ее удивительная верность дала повод различным сплетням и кривотолкам, мол Клео скрывала под густыми бандо своих волос деформированное ухо, что было пустой выдумкой завистников. Но было время, каюсь, и я верил в эти россказни, пока не нашел в архивах ранние фотографии красавицы с другой, поднятой наверх, прической и не убедился, что с ушами у нее было так же прекрасно, как и с другими частями ее изящного тела.
Довольно долго работая в Королевском балете Фландрии в Антверпене, я как-то наткнулся в театральной библиотеке на книгу воспоминаний Клео де Мерод, которую вы держите в руках. Эпоха тогда была доинтернетная, добывать новую информацию было, увы, непросто, и я с радостью прочел эту книгу, скопировал ее и подумал, что ее надо будет издать в России. Ведь Клео так «вкусно» описывает свои гастроли в Москве и Петербурге, блеск мундиров русского двора, бриллиантовые ривьеры на дамских декольте и величественные театры царской России. Прошло почти тридцать лет, и эта моя мечта осуществилась — книга воспоминаний Клео де Мерод перед вами.
В парижский период жизни мне приходилось часто слышать анекдот, что первые линии знаменитого парижского метрополитена были построены к Всемирной выставке 1900 года на деньги бельгийского короля Леопольда II, престарелого поклонника и покровителя Клео де Мерод. За его слабость к этой балерине в родной Бельгии влюбчивого короля прозвали Клеопольдом, но метро было все же построено по ее капризу и, скажу более, успешно функционирует по сей день, радуя парижан и гостей французской столицы. Несмотря на этот факт, в своих воспоминаниях Клео отвергает всякую связь с бельгийским монархом и утверждает, что его подарки ограничились лишь одним большим букетом цветов.
Во время чтения книги воспоминаний создается ложное впечатление, что Клео де Мерод была вечной девственницей и отказывала всем. Но, из рассказов очевидцев ее парижского прошлого, я узнал, что в эпоху расцвета ее популярности, заведя себе роскошный особняк в VIII районе Парижа в районе рю де Тегеран, Клео де Мерод позаботилась и об оригинальном досуге своих поклонников. На первом этаже ее дома был бильярдный зал, где играли мужчины, ожидая своей очереди якобы в ее спальню. Так это было или нет, но слухи о ее легендарном богатстве ползли по Парижу. Ее бриллианты были сравнимы с теми, что носила другая звезда — прекрасная испанка Каролина Отеро, чьи ласки испытали на себе все действовавшие монархи Европы того времени. А наряды Клео были просто немыслимыми. Талия балерины колебалась в районе 50 см, она часто одевалась у Жака Дусе, Чарльза Ворта, сестер Калло и других знаменитых мастеров Высокой моды тех лет. К счастью, ее наряды не канули в Лету! На старости лет, а она прожила 91 год, Клео, понимая собственную важность как видного персонажа Прекрасной эпохи, передала бо€льшую часть своих роскошных нарядов 1900-х годов в парижский Музей моды и костюма во дворце Гальера. Именно там они и хранятся поныне и время от времени экспонируются на выставках, посвященных стилю модерн в моде. Помню ее вышитые фильдеперсовые черные чулки, демисезонные карако с перьевой опушкой и рукавами жиго, платья с тончайшей талией в роскошных брюссельских кружевах, муфту с меховой оторочкой. Как мне в Москве не хватает такого музея моды! Как грустно, что мы не смогли сохранить этот пласт культуры нашего отечества…
Но вернемся к Клео. Удивительно осознавать, что лишь одно рукопожатие отделяет меня, автора этих строк, от легенды танца и красоты, от богини в стиле art nouveau Клео де Мерод. В годы моей молодости я был дружен с балериной Мариинского театра Алисией Францевной Вронской. Она прожила тоже почти 100 лет и скончалась в Лозанне, в Швейцарии. После отъезда из Петрограда в 1917 году ее карьера сложилась очень удачно. В Париже она сразу нашла себе место в театре Opéra Comique, так как ее контракт с Дягилевым не был ратифицирован. Именно там Алисия Вронская лично встретилась с Клео де Мерод, которая в 1918 году работала балетмейстером в этой небольшой, но престижной балетной труппе. Алисия была наслышана о ее красоте, но очень разочаровалась, когда увидела ее на сцене, в виде статуи. По ее словам, Клео уже не танцевала, но очень грациозно принимала позы античной статуи в греческих хитонах, что не соответствовало уровню классической подготовки выпускницы Театрального училища Алисии Вронской, которая была стремительна в прыжках, точна в арабесках и сильна в пируэтах. Именно там, в репетиционных залах Opéra Comique, она нашла своего партнера по сцене и спутника жизни Константина Альперова, выходца из московской цирковой семьи акробатов. Иными словами, Клео де Мерод выглядела бледно в своих сценических танцах на фоне новых русских солистов-эмигрантов. Ее сценическая слава клонилась к закату, у нее появилось множество новых конкурентов в мире танца: великая Анна Павлова, грациозная Тамара Карсавина, гениальная Ольга Спесивцева, кстати, носившая всегда прическу с бандо «а-ля Клео де Мерод». А в 1920-е годы в моду вошел джаз и новые танцы, особенно темнокожей танцовщицы Жозефины Бейкер.
Париж — это город, который никогда не испытывает ностальгии по прошлому, всегда живет настоящим и не задумывается о будущем. О Клео де Мерод стали забывать. Она покинет Париж и окажется в теплом климате Биаррица, где будет преподавать балет маленьким девочкам. Неудивительно, что никто из ее учениц не станет прославленной балериной. Тем более, что на юге Франции создала свою балетную школу еще одна солистка Императорского русского балета — Юлия Седова. Конкуренция в этой сфере всегда была велика. Иное дело красота. У Клео де Мерод в этой ипостаси конкурентов не было, но и это не вечно. На последней фотографии мы видим пожилую и очень красивую даму с легендарным профилем — постаревшую Клео де Мерод. Ее прекрасные глаза полузакрыты, нос все так же аристократичен, кисть руки грациозна, а губы скрывают множество тайн, которые она унесет в могилу на кладбище Пер-Лашез в 1966 году. Но ее воспоминания смогут вновь воссоздать незабываемый образ иконы стиля Прекрасной эпохи и рассказать нам о том интересном и изысканном времени.
Александр Васильев,
историк моды, 2021
Часть I
Чудесное детство
Глава первая
Путешествие моей матери. — Однажды, прекрасным осенним днем… — Я появилась на свет на холме Святой Женевьевы. — История моего имени. — Первые годы на улице des Écoles. — Детство, полное заботы и ласки. — «Лулу» и ее мать в Люксембургском саду. — Мы осваиваем Париж. — Малышка, которая не любит ждать. — Весь квартал поднят на ноги.
Всегда сомневались в истинности моего имени. Я никогда не придумывала себе псевдоним. Меня на самом деле зовут Клеопатра Диана де Мерод. Я происхожу из австрийской ветви рода де Мерод, корни которого восходят к XII веку. Хотя оба родителя были родом из Вены, сама я родилась в Париже.
Однажды, когда один из моих друзей, герцог Н., навещал меня на улице Капуцинок, где я жила в 1900-х годах, речь зашла о моем имени. Знатный гость тогда сказал мне:
— Имя, какое вы себе выбрали, звучит вполне аристократично.
— Как это «выбрала»? Это мое настоящее имя!
Поскольку во взгляде его читалось сомнение, я пошла за бумагами, которые не только доказывали истинность моих слов, но и позволяли убедиться, что я принадлежу к роду, возможно, намного более знатному, чем род моего собеседника. Герцог Н., с большим тщанием изучив бумаги, вынужден был признать справедливость моих слов, но это открытие его так обескуражило, что, возвращая мне бумаги, он только смог пробормотать с растерянным видом: «Как забавно…»
В другой раз в Танцевальном фойе[1] мне был представлен маркиз М. После обычных любезностей и комплиментов он, улыбаясь, спросил меня: «И как же вас следует называть: маркиза, графиня или баронесса?» Улыбнувшись в ответ, я сказала: «Вы не поверите, насколько это уместный вопрос!» Однако дальнейшими объяснениями пренебрегла. Если бы я сказала, что действительно являюсь баронессой и маркизой, мои слова, лишенные в тот момент доказательств, он бы воспринял как ложь… но я же не ношу свои бумаги в складках балетной пачки!
Скептическое отношение герцога Н. и маркиза М. в целом в обществе разделяли, и, конечно, многие были убеждены: для того, чтобы придать яркости своему дебюту на сцене и оригинальности образу, я придумала фамильное имя, незаслуженно создававшее вокруг меня аристократический ореол. Сколько раз за годы своей карьеры я слышала среди зрителей в театре или гостей на светском приеме знакомое шушуканье: «Это не ее настоящее имя…», «Это всего лишь псевдоним…»
Эти суждения на самом деле выдают отсутствие серьезных размышлений. Если бы я не имела права носить фамилию Мерод, семья де Мерод безусловно оспорила бы это, принудив меня или полностью сменить псевдоним, или изменить его написание. Этого никогда не случилось, а я повторяла бесчисленное количество раз, что всегда носила только то имя, которое было записано в книгу актов гражданского состояния мэрии V округа при моем рождении: Клеопатра Диана де Мерод. Единственное изменение, которое я себе позволила, это сократить имя Клеопатра до Клео. Это имя короче, легче произносится и лишено помпезности по сравнению с именем знаменитой царицы из рода Лагидов. Что касается фамилии Мерод, возможно, стоит обратиться к его истории в самом начале рассказа о моей жизни. Но я немного боюсь слишком углубиться в детали генеалогии, поскольку это может оказаться утомительным.
Я просто скажу, что род де Мерод, один из самых знаменитых в Нидерландах, уходит корнями в XII век. В результате разнообразных матримониальных альянсов у него в XVII веке возникла австрийская ветвь, которая в конце концов расцвела союзом семейств де Берхтольд и де Мерод, плодом чего я и стала.
Для любителей геральдики привожу описание нашего герба, изящно выведенное кистью на старинном пергаменте, принадлежащем нашей семье: «На золотом четыре червленых столба, обрамленных лазоревым». А вот гордый девиз семьи де Мерод: «Честь дороже почестей».
* * *
Моя мать была баронессой де Мерод, маркизой де Трелон. Она родилась в Медлинге, рядом с Веной, в 1850 году, у родителей уже был сын. Ее мать умерла довольно молодой после рождения второго сына от травм, полученных при падении с лошади. Мой дед, которому принадлежала многочисленная недвижимость в Вене, не надолго пережил свою жену. Оставшись сиротой, мать попала на воспитание к своей строгой религиозной тетушке, отдавшей ее обучаться сначала в монастырь урсулинок, а потом визитанток[2]. В этих двух монастырях она получила довольно хорошее, но очень строгое воспитание. Сестры серьезно относились к выполнению религиозного долга и хорошим манерам. Между тем, поскольку они были достойнейшими женщинами, у них получилось превратить своих воспитанниц — дочерей самых известных семейств — в прекрасно образованных блистательных дам. Мама там получила солидные знания: кроме родного языка, она научилась свободно разговаривать на французском, английском и итальянском. С особенным тщанием в ней развивали художественные способности: насыщенные занятия превратили в рутину рисование, сделали ее виртуозной пианисткой и развили природные голосовые данные. Ее братья, также необыкновенно одаренные, учились в венской Терезианской академии[3] вместе с будущим королем Испании Альфонсо ХII.
* * *
В восемнадцать лет моя мать была нежной девушкой среднего роста, тонкой и стройной, с грациозными движениями и изящной походкой. Ее красота была очень выразительна: тонкие чистые черты и бледный цвет лица оттенялись глубиной огромных карих глаз, а маленькая точеная головка тонула в водопаде темных кудрей, волнами ниспадавших на плечи. Ее руки совершенных пропорций были ослепительно-белыми. Когда ребенком я завороженно смотрела, как они порхают над клавишами фортепьяно, то словно видела двух белоснежных птиц.
Получив дипломы, мама покинула пансион; она должна была отправиться служить фрейлиной при дворе императрицы Елизаветы, когда встретила моего отца. Их соединила большая любовь, которая для матери стала единственной в жизни.
* * *
Как же так случилось, что, имея родителей-венцев, я увидела свет в Париже, а Франция стала моей единственной родиной? История этого необыкновенного приключения до сих пор остается для меня во многом загадкой.
За несколько месяцев до моего рождения мать мучили обстоятельства тягостного судебного процесса австрийской части семейства де Мерод против бельгийской. Будучи особой крайне энергичной, моя мать решила способствовать скорейшему завершению этого слишком затянувшегося процесса. Она отправилась в Париж с целью нанести визит бельгийскому барону де Мерод, который тогда проживал на улице Grenelle. По причине важных дел на родине отец не смог сопровождать Зенси — так мама всегда писала свое имя.
Она остановилась в отеле «Павильон» на улице de l’Échiquier. Но ее пребывание в Париже затянулось. Я так никогда и не узнала, что же произошло тогда между родителями и в результате каких обстоятельств они стали жить отдельно друг от друга, отец — в Вене, а мать — в Париже. Но как бы то ни было, она оставила отель и поселилась на улице des Écoles, рядом с Коллеж де Франс, в просторной квартире, какую обставила с большим вкусом и где прожила довольно долго.
Я решила не настаивать и не выяснять обстоятельства, которые она мне по своей собственной воле не открывала, поскольку предчувствовала, что это будет тяжелым испытанием. Проявив настойчивость, я бы сорвала завесу с горестных воспоминаний, но из уважения к ней делать этого не захотела…
На этом ее личная жизнь была кончена. С этого момента она жила лишь для ребенка, которого ждала.
* * *
Расположенный совсем близко Люксембургский дворец неодолимо ее притягивал. Почти ежедневно она искала умиротворения и ясности в его величественной сени. Однажды солнечным осенним днем — было 27 сентября — она прогуливалась там, ступая осторожно, маленькими шагами, и вдруг почувствовала первые боли, которые так стремительно усиливались, что она упала на ближайшую скамейку, не в силах вздохнуть. Две проходившие мимо дамы подбежали к ней, а третий прохожий побежал за фиакром. Добросердечные дамы сопроводили мою мать до выхода, посадили в экипаж и отвезли к повитухе, жившей ближе всего — на холме Святой Женевьевы, на улице Montagne Sainte-Genevieve, совсем рядом с церковью Saint-Étienne-du-Mont.
Вот так нетерпеливо, уже тогда продемонстрировав свой будущий характер, я и появилась на свет раньше срока и вовсе не на улице des Écoles, где все было готово к моему появлению, а в совершенно случайном месте! Я родилась в пять часов вечера. Часто потом мама мне говорила: «Как раз в тот момент, как ты родилась, комнату осветил луч солнца!»
Солнце приветствовало меня — счастливое предзнаменование! Я родилась на холме Святой Женевьевы под тройной защитой: покровительницы Парижа[4]; Расина, похороненного в церкви Saint-Étienne-du-Mont, и тех великих, кто покоится в Пантеоне… Если верить в силу предзнаменований, то судя по тем, кто осенял мою колыбель, неудивительно, что на роду мне было написано стать парижанкой и заниматься литературой и искусством.
* * *
Как я уже говорила, мать назвала меня Клеопатра Диана, и выбор этих двух имен, напоминающих о Древнем Египте и греческих мифах, не был случайным, но тщательно и долго обдумывался. После помолвки родители посетили Дрезденский музей, коллекция которого — одна из самых богатых в Европе, как все знают. Поскольку оба были восторженными ценителями живописи и скульптуры, они подолгу любовались там известными шедеврами, среди них были образы Клеопатры и Дианы. Они казались такими прекрасными, что родители решили назвать своего первого ребенка, в том случае, если это будет девочка, Клеопатра Диана. Если бы родился мальчик, то ему бы дали имя Деметрий, по какой причине, я точно не знаю. Возможно, в честь греческого историка, основателя Александрийской библиотеки.
Но повторюсь, мое чересчур декоративное имя Клеопатра фигурирует лишь в моих документах и в реальной жизни никогда не звучало. Никто так меня никогда не называл. Для всех я была и остаюсь Клео, а мама всегда называла меня милым прозвищем Лулу. С момента моего рождения у нее вошло в привычку называть меня этим уменьшительным домашним именем.
* * *
Мое раннее детство прошло в счастливом спокойствии. Я родилась сильной и полной жизни, мать кормила меня сама, и ее молоко подарило мне цветущее здоровье, на которое в дальнейшем ничто не могло повлиять.
Дома мой взгляд встречал лишь приятные предметы, а на улице я делала первые шаги за руку с матерью, окруженная забавным спектаклем городской жизни.
Мать страстно полюбила Париж. Она хотела досконально изучить его и показать мне: сначала наш квартал, который мы исходили вдоль и поперек, музей Клюни, Сорбонна, Коллеж; потом узкие улочки, поднимавшиеся к «моему» холму, и сам холм с величественным Пантеоном, и Saint-Étienne-du-Mont со старинными каменными стенами, словно со старинного офорта. Иногда, поднимаясь по улице Monge, мы доходили до Arènes de Lutèce и даже до церкви Saint-Médard. Однажды во время прогулки мы добрались до улицы Les Gobelins, а потом, пройдя ее до конца, свернули на улицу Croulebarbe. Дорога заканчивалась очень узкими мостками через странную маленькую речку Бьевр шафранно-желтого цвета с резким, довольно неприятным запахом. Еще нам нравилось, возвращаясь домой, подниматься вверх по бульвару Saint-Michel, чтобы пройтись рядом с Val-de-Grâce[5]. Мы могли затеряться в сплетении старинных улочек, романские названия которых меня просто очаровывали: «улица Урсулинок», «улица Фельянтинок» — здесь мне слышался звук колокола; название улицы Эразм звучало нежно и загадочно; а вот названия улиц Abbaye, Épée и Еstrapade[6] меня немного пугали, тем более что мама мне рассказала, что последнее слово означало вид казни былых времен. Потом мы возвращались по улице Petit Luxembourg, обрамленной высокими величественными деревьями, чьи ровно подстриженные длинные и узкие кроны так удачно сравнивают с париками Людовика ХIV. Мы обязательно останавливались полюбоваться на фонтан Carpeaux, и почти всегда наш день завершался у Люксембургского дворца, в милом ресторанчике Le Luco, где мы оставались очень долго, часто до самого закрытия.
Я вспоминаю еще бронзовую фигуру некоего кота — думаю, это был лев, созданный скульптором Огюстом Кеном, которую я окрестила «зеленой собакой», а поскольку я еще не умела хорошо выговаривать слово «собака», то получалось «зеленая бабака», что очень смешило маму. Если я немного от нее отставала, она оборачивалась и кричала: «Давай-ка скорее, моя маленькая бабака!»
Конечно, как и все маленькие посетители Le Luco, я с упоением предавалась разным играм: бросать мяч, вертеть обруч, прыгать через скакалку. Мне нравилось прыгать, бегать, кружиться, я все это уже тогда проделывала с необычайными гибкостью и силой: эти качества так хорошо будут служить мне потом, когда я стану танцовщицей, во время прыжков и пируэтов. Короткая юбочка колыхалась вокруг меня. Я носила платьица с оборками и низкой талией, украшенные широкими муаровыми поясами, которые сзади завязывались в большие красивые банты. Этого требовала тогдашняя мода. У матери был прекрасный вкус, и мои яркие изящные туалеты мне очень шли. У меня были густые, очень светлые волосы, вьющиеся от природы. Меня стригли, как говорится, «под горшок», и золотистая челка красиво оттеняла мои немного восточные глаза. Когда мне исполнилось три года, мать отвела меня к Надару[7], королю фотообъектива. Он сделал несколько довольно удачных моих фотографий. Одну из них мать поставила на ночной столик. «Это мой ангелочек», — говорила она, указывая на нее.
* * *
Возможно, создается впечатление, что я и не спрашивала о своем отце. Это не так, я спрашивала о нем и с детской наивностью иногда шептала, что мне хотелось, чтобы у меня, как и у других девочек, тоже был папа! Мне хотелось знать о нем все, и мать описывала мне его внешность: красивые черты лица, выразительные умные глаза, высокую фигуру. Иногда, получив от курьера письмо, она показывала мне подпись: «Смотри, это почерк твоего отца». Время от времени она в уклончивых выражениях объясняла мне, что важные дела вынуждают отца жить вдалеке от нас и я смогу увидеть его, только когда вырасту. И больше ничего. Когда я подросла и стала размышлять на эту тему, то перестала расспрашивать мать, прекрасно понимая, что отвечать ей не хочется.

Клео в детстве
По правде говоря, из-за отсутствия отца я не чувствовала никакой пустоты в жизни, когда была ребенком. Мы с матерью были так близки, что наша жизнь вдвоем не допускала никакого чувства одиночества или брошенности. Она во всем шла мне навстречу, удовлетворяя все мои нужды и желания, давая все, о чем ребенок только может мечтать. Мне кажется, никакая мать не дала своему ребенку столько радости и прекрасных воспоминаний, как моя Зенси. Ее любовь по-прежнему остается самым драгоценным подарком, который я получила от судьбы. Чем только я не обязана матери! Я унаследовала `ее вкус и способности к музыке, если вообще не весь талант, ее уравновешенность, веселый нрав и невероятную чувствительность. И хотя последняя черта характера делает меня очень уязвимой, она позволяет мне испытывать такую богатую гамму эмоций, что жаловаться было бы лютой неблагодарностью.
Наконец, моим воспитанием мать занималась с несравненным тщанием, самоотверженностью и с вызывающей восхищение нежностью. Нет, никогда женщина не посвящала себя материнству с таким глубоким самозабвением! Единственное, что могу сказать: она ограничивала себя во всем остальном: ни одно удовольствие, которое я не могла с ней разделить, она себе не позволяла.
Единственное, что меня утешает при мысли обо всех лишениях, которые она терпела ради меня, так это то, что я тоже в свою очередь сделала ее счастливой: своей любовью, заботой, усердием, страстью к работе, да и самим своим успехом, в конце концов.
* * *
Несмотря на то что она была веселой, задорной и полной жизни, у нее был твердый характер и авторитет. Достаточно было одного ее слова, чтобы я слушалась и исполняла то, что требовалось; но в то же время она была терпеливой и понимающей. Правда, этими качествами мне не приходилось особенно пользоваться. Зачем было испытывать ее терпение и быть непослушной, я же была совершенно счастлива и всем довольна.
Мне бы не хотелось создать впечатление, что я была ребенком без недостатков. Впрочем, сложно спустя столько времени анализировать свой детский характер, на этом пути много ловушек, худшая из которых, несомненно, искушение быть к себе слишком снисходительной. И все же я попытаюсь нарисовать правдивый портрет души маленькой Клео с улицы des Écoles и представить его читателю без бахвальства. Я была ребенком ласковым, эмоциональным, чувствительным, без каких-либо сложностей; во мне не было совершенно никакого коварства и хитрости, требовательности, недовольства и гневливости. В общем, ничего такого, что сейчас называют «строптивостью». Мне даже в голову не приходило ничего плохого. Если в жизни или в книгах я сталкивалась с несправедливыми, злыми, жестокими действиями, то переживала это как нарушение жизненной гармонии, как диссонанс. Я не была ни скандальной, ни саркастичной, стремилась лишь к радости и видела во всем красоту. Можно ли сказать, что я была воплощенным совершенством? Вовсе нет. Я была маленькой кокеткой и стремилась всем нравиться, совсем не смелая, даже можно сказать, трусоватая, но при этом страшно нетерпеливая. Я не любила ждать и сохранила эту черту на всю жизнь. Сейчас мне трудно даже подождать, пока немного остынет чай в чашке или горячий суп в тарелке, рискуя обжечься. Именно эта нетерпеливость — тогда очень сильная — заставила нас, маму и меня, участвовать в одном драматическом приключении.
* * *
Начало этому приключению положила одна из наших прогулок по набережной, воспоминание о ней и сейчас еще свежо, благодаря сильному потрясению, которое я тогда испытала. В тот день мать отправилась к одной из своих милых родственниц, жившей на набережной Тournelle. Я, естественно, ее сопровождала, потому что мы никогда не расставались. После полдника наша хозяйка дала мне книжки с картинками, которые я рассматривала, пока они болтали с матерью. Когда все картинки были тщательно рассмотрены, много раз со всех сторон, мне стало скучно. Мама решила, что настало время отправляться домой, и поднялась, чтобы попрощаться. Наша хозяйка проводила нас до дверей, и там они с матерью немного задержались, продолжая разговор, а я, не дожидаясь его окончания, выбежала за дверь одна быстро, словно горная козочка. Я резво неслась вдоль домов по набережной Тournelle, также бегом пересекла две или три улицы и оказалась рядом с мостом. Тут я обернулась, ожидая увидеть мать, спешащую за мной, но… никого не увидела! Встревожившись, я побежала назад, внимательно осматривая двери домов, но не могла вспомнить, как выглядел дом нашей родственницы. Я опять развернулась и пошла назад, ожидая встретить мать, идущую по моим следам. Начинало темнеть. Стремясь перейти на более светлую часть улицы, я пересекла набережную и остановилась на берегу Сены, оглядываясь по сторонам. Напрасно! Я была одна, я потерялась и стояла, испуганная надвигавшимися ночными тенями. Не осмеливаясь уже сделать ни шагу, совершенно не понимая, где нахожусь, я принялась громко рыдать. Двое прохожих, увидев такую маленькую девочку совсем одну, испуганную, в слезах, подошли и стали спрашивать меня: «Что ты здесь делаешь одна? Где ты живешь?» Мне тогда было, наверное, года три с половиной, и своего адреса я не знала. Заливаясь слезами, я только и могла, что беспомощно повторять, заикаясь от рыданий: «Мама! Мама!» Дамы, которые, вероятно, были приезжие и не знали этот квартал, очень растерялись. Рядом находился пункт помощи утопающим, и они отвели меня к спасателям.
В это время мама, не найдя меня внизу у дверей и потеряв голову от страха, бегала туда-сюда по улицам, воображая, что меня похитили. После бесплодных поисков она вернулась в дом к родственнице, надеясь, что я вернулась туда. Увы! Никаких следов ее Лулу! Расстроенная дама пыталась успокоить Зенси: «Она заблудилась, но она не могла уйти далеко, и мы ее обязательно скоро найдем!» Мать не желала ничего слушать и снова бросилась меня искать, громко крича: «Лулу! Лулу!», вбегала в магазины, в подъезды, расспрашивала консьержей и просто прохожих на соседних улицах. Тронутые материнской тревогой, портье и продавцы выходили на улицу, и вскоре почти весь квартал был занят поисками маленькой девочки, которую совсем рядом, в спасательной будке, поили теплым бульоном.
Наконец, мать решила обратиться в полицию и дала им мое описание и адрес родственницы, которую мы навещали. Я не знаю, что именно сделал комиссар полиции, но перед рассветом к спасателям прибыл сыщик, забрал меня и отвел на набережную Тournelle как раз тогда, когда туда вернулась обезумевшая от тревоги мать. Она бросилась ко мне и обняла, захлебываясь рыданиями. Не знаю, что тогда произвело на меня большее впечатление: страх остаться одной на темной улице ночью или радость снова оказаться в материнских объятиях.
Глава вторая
Музыка у нас дома: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Вебер, Шуман, Шопен. — Очарование парижских улиц. — Два ребенка на балконе. — Старинное лекарство. — Школа в одной комнате. — Поездки на империале. — Моя первая победа. — Святой Николай и рождественская елка. — Фонарики на 14 июля. — Наши друзья Вилларды. — Принято решение отдать меня на обучение в младшие классы при парижской Опере. — Моя мать и не думала, что я стану балериной.
Первое время в Париже моя мать жила не только в изоляции от общества, поскольку никого еще не знала в городе, но и вынуждена была забросить игру на фортепьяно, так как забота о младенце отнимала все ее время. После у нее появились знакомые, да и к музыке она тоже постепенно вернулась. Она одновременно учила меня грамоте и занималась со мной сольфеджио, разучивала гаммы и довольно быстро обучила играть на фортепьяно. Потом я уже не занималась так много музыкой, потому что отдавала все свое время танцу; в любом случае, у меня никогда не получалось играть так легко и виртуозно, как мама. Слушая ее, я всегда испытывала восторг. Она играла на память произведения Вебера, Моцарта, Бетховена, а также Шумана и Шопена, прекрасно понимая их ритм и придавая каждой ноте неповторимое звучание, яркость и чувство. Казалось, что под гибкими и уверенными пальцами Зенси музыка рождалась заново. Она вдохновенно импровизировала и подпевала сама себе, в том числе и играя мелодии своего соотечественника, Шуберта. Моей любимой была песня на стихи Гете Heidenroslein (Дикая роза), которая в исполнении матери, обладавшей чистым как кристалл голосом, звучала очаровательно. Еще она играла на цитре, инструменте, очень любимом венцами, и слушать ее было восхитительно!
Именно благодаря Зенси я страстно полюбила музыку. Эта страсть лишь усиливалась на протяжении всей моей жизни и карьеры, доставляя мне столько радости, чистой и глубокой! Музыка всегда была моим верным другом и проводником в мире танца, точно направляя мои движения в балете, делая минуты счастья еще более пронзительными, поддерживая в моменты печали, вознося меня над непониманием и мещанством, которые всегда встречаются на пути артиста. Наконец, музыка всегда оставалась надежным убежищем, прекрасным оазисом, где никто не мог меня потревожить.
Недалеко от нас, на той же улице des Écoles, проживала очень музыкальная семья из Италии. Не знаю, как именно мать познакомилась с ними, важно то, что вместе они неистово предавались культу Евтерпы[8], той музы, что лучше других умеет объединять людей. Какие прекрасные вечера я проводила у этих соседей-виртуозов! Один играл на виолончели, другой — на скрипке, третий — на флейте, все отлично пели, а моя мать была ценным участником этих камерных музыкальных вечеров. Благодаря им я довольно рано познакомилась с операми Доницетти, Россини, Беллини и Верди, которые потом увидела и услышала в Опере, в самом великолепном исполнении. Особенно прекрасна была опера «Отелло», ее премьера проходила в присутствии самого маэстро, о чем я храню самые яркие воспоминания[9].
* * *
Мою мать беспокоило отсутствие у меня аппетита. Все время тревожась, что меня постигнет какая-нибудь болезнь, она пыталась меня «укрепить». В то время применялись довольно странные рецепты укрепляющих средств. Во всех семейных аптечках были тогда кувшинчики с ячменным отваром, железосодержащие микстуры или пептофер, часто еще и настой из стружек бразильского дерева квассия амара, что считалось волшебным лекарством от всех болезней. Мать и его мне давала. Вкус был ужасно горьким. Если ей казалось, что я простудилась, мама применяла очень часто употреблявшееся тогда лекарство, которое сейчас, спустя долгое время, мне кажется очень странным — свечные компрессы. Вам на грудь клали большой кусок промасленной пекарской бумаги и капали на него свечным воском. Вероятно, средство было эффективным, потому что через несколько часов никакого кашля и в помине не оставалось. У меня, во всяком случае. Но я была такая крепкая! Я не помню, чтобы страдала от каких-либо типичных для детей хворей: краснуха, коклюш, скарлатина — все это мне было неведомо!
* * *
Со мной почти никогда не сюсюкали, избегая всех этих словечек для малышей — «бобо», «сися», «бай-бай»… Моя мать говорила на очень чистом французском, учила меня хорошему произношению и правильной грамматике языка, который станет мне родным на всю жизнь. Она немного учила меня итальянскому и английскому, а вот немецкого я почти не слышала. Воспоминания о войне 1870 года еще были живы, и звуки немецкого языка коробили слух парижан, поэтому я знала всего несколько слов родного для моей семьи языка.
Когда мне исполнилось пять или шесть лет, мать решила, что мне пойдут на пользу школьные уроки и общение со сверстниками. Она отдала меня на дневное обучение частного курса, который вела бывшая школьная преподавательница. С большим терпением и добродушием она вела уроки в своем маленьком классе, состоявшем всего из нескольких учеников. Я была в восторге и считала все происходившее крайне занимательным.
В моей жизни появились обязанности и уроки, которые, впрочем, я находила такими же увлекательными, как и переменки.
Все это ничуть не мешало нам с матерью совершать после школы наши ежедневные прогулки по Люксембургскому саду, а по четвергам и воскресеньям мы отправлялись в путешествия по Парижу. Нам очень нравилось ездить на омнибусе. В хорошую погоду мы забирались на второй этаж и располагались на империале, наблюдая, как город бурлит под нашими ногами. Любимый, самый красивый маршрут: площадь Batignolles — ботанический сад Jardin des Plantes. Омнибус проезжал Notre-Dame, ехал по набережным, а заканчивал свой путь на улицах Jussieu и Linné. На последней находился один дом, который был особенно привлекателен по довольно оригинальной причине: перед ним постоянно расхаживала группа итальянцев в пестрых одеждах, с горящими черными глазами и кудрявыми шевелюрами. Кажется, это был рынок моделей для художников.
По воскресеньям мы иногда изменяли Люксембургскому дворцу и отправлялись или в Тюильри, или в Пале-Рояль, где после обеда Республиканская гвардия устраивала музыкальные концерты. Пале-Рояль меня покорил, это место мне казалось волшебным: большой тенистый сад, скрытый от города благородным фасадом с изящными балюстрадами; галереи, где теснилось столько соблазнительных лавочек, ломившихся от всяких прелестных вещичек, тяжелых восточных ковров, колье и золотых цепочек!.. Именно там в одно прекрасное воскресное утро я одержала свою первую победу над мужским полом. Мы стояли под сводами галереи перед магазинчиком с бижутерией, когда какой-то прохожий, увидев меня, замер на месте. Это был солидного вида господин среднего возраста, модно и со вкусом одетый, в руке он держал трость с дорогим набалдашником. Мгновение он меня рассматривал; немного поколебался, но потом решительным шагом вошел в магазин. Вскоре он вышел, держа в руках очень красивую серебряную погремушку, подошел ко мне, всунул ее мне в руку и быстро удалился, не произнеся ни слова.
Мы настолько удивились, что некоторое время просто молча стояли на месте. А что до погремушки, хотя я и была уже немного взрослее, чем требуется, чтобы наслаждаться такой игрушкой, она меня очень веселила. Она и сейчас у меня в целости и сохранности, нимало не утратив своего блеска!
* * *
Три праздника в году доставляли мне особое удовольствие. 6 декабря — праздник святого Николая, это была традиция из детства моей матери, она и меня приучила вешать чулочек на камин. Потом наступало Рождество, и мы всегда тщательно украшали елку, и особенной радостью было покупать елочные игрушки. Я всегда соблюдала эту очаровательную традицию и многие годы после смерти Зенси продолжала наряжать рождественскую елку, собирала вокруг нее детей подруг и молоденьких танцовщиц Оперы, для которых была «маленькой мамой».
Летом наступал третий любимый праздник — 14 июля. Лучезарный день веселья! На улицах играли оркестры, все вокруг танцевали. Окна, балконы, террасы кафе украшались фонариками, голубыми, зелеными, оранжевыми, красными или трехцветными как флаг. Их легкие гирлянды украшали городскую праздничную ярмарку, а когда наступал вечер, они светились, создавая вокруг яркую фантасмагорию летающих огней. Прекрасное 14 июля моего детства, сверкавшее огнями, наполненное смехом и песнями!
* * *
В последний период нашего проживания на улице des Écoles я полюбила чтение. Конечно, как все девчонки, я обожала истории графини де Сегюр[10], но любимой моей книгой долгое время была «Кругосветное путешествие двух детей». Потом я погрузилась с головой в сказки Андерсена и истории Жюля Верна. С ума сходила от эпинальских картинок[11].
Они стоили один су за два листка, и я долго выбирала их у продавщицы с книжным лотком на бульваре Сен-Мишель. Она была очень терпелива и позволяла мне вволю разглядывать их все, прежде чем выбрать, на что потратить свои пять сантимов. Даже переехав на правый берег[12] и став ученицей в школе при соборе Saint-Vincent-de-Paul, я все так же испытывала страсть к эпинальским картинкам и покупала их в магазинчике на бульваре Курсель, который располагался почти у входа в школу сестер-монахинь, что я считала крайне удачным обстоятельством. Дорогие сердцу картинки лежали у меня в школьном шкафчике, и я любовалась ими на переменках между уроками.
* * *
В Люксембургском саду мы познакомились с одной молодой вдовой, мадам Виллард, и ее дочкой Терезой. Она была старше меня на год или два и училась в танцевальной школе для младших при Опере. Мы с ней играли, пока наши мамы болтали на скамейке. Они очень подружились, и Вилларды часто навещали нас на улице des Écoles. Я с нетерпением ждала их приходов на полдник, потому что это сулило мне несказанное удовольствие. Дело в том, что Тереза приносила с собой балетную пачку и танцевальные туфельки и под аккомпанемент моей матери демонстрировала нам свои способности. Она была очень хорошо сложена, танцевала с большим изяществом и вызывала у меня огромное восхищение. В моих глазах она была каким-то нездешним, нереальным существом из другого мира, где обитают лишь наделенные особенными способностями и волшебными возможностями.
Когда она танцевала, я поднимала края платьица и вставала на цыпочки, пытаясь ей подражать. Я уже знала некоторые танцевальные па, потому что мама виртуозно играла венские вальсы, и я часто танцевала под ритм «раз-два-три». Мама уже тогда заметила, что мне это дается очень легко, но серьезно к этому тогда не относилась.
Однажды, когда наши подруги были у нас в гостях и я по обыкновению кружилась и подпрыгивала, подражая Терезе, мадам Виллард, некоторое время внимательно наблюдавшая за тем, как я поднимаюсь на цыпочки и округляю руки в такт музыке, воскликнула:
— Это очень, очень хорошо, моя маленькая Клео, просто очень хорошо! Все твои движения попадают в такт музыке. Можно подумать, что ты брала уроки балета!
— Уроки балета? — задумалась мать. — Но где бы она могла заниматься балетом? Я не знаю, откуда и время на это взять, она так много учится! Да и какая в этом нужда? Мне и в голову не приходило сделать из дочери танцовщицу!
Мадам Виллард не стала в тот день развивать эту тему, но каждый раз, приходя к нам, с большим интересом наблюдала за моими наивными хореографическими упражнениями. Однажды, после того как я с особенным рвением повторяла движения танца за Терезой, она очень серьезно сказала моей матери:
— Дорогая моя, почему бы вам не отдать Клео в Оперу, в младший танцевальный класс, где учится Тереза? Было бы прелестно, если бы они танцевали вместе!
— О, нет! Лулу слишком застенчивая. Она не будет знать, что делать и как себя вести.
— Поверьте мне, она научится!
— И потом, я не могу толкать ее в этом направлении без серьезного намерения и дальше направлять ее по этому пути…
— Но это абсолютно ничего не значит! Даже если вы не хотите, чтобы она стала танцовщицей, такие упражнения станут хорошей гимнастикой и в любом случае пойдут ей на пользу.
Ее доводы повлияли на мать. В то время я была очень худенькой, и она всегда боялась, как бы со мной не приключилось какой-нибудь хвори. Убежденная словами подруги, она решилась:
— Да, это может ее укрепить… Вы правы, это действительно очень хорошее занятие. Но как это все происходит?
— Не беспокойтесь. Новых учениц принимают в сентябре. Я поговорю с преподавателем и скажу вам, когда можно будет привести Клео.
Я слушала их разговор, вся обратившись в слух, и сердце мое сильно билось. И я! Я тоже пойду в Оперу, как Тереза… Я попаду в этот волшебный таинственный мир! Я не помню точно весь спектр своих чувств тогда, но мне кажется, что к радости от встречи с новым примешивались страх и беспокойство. Примут ли меня туда? Не будут ли ко мне слишком строги? Не станет ли мне одиноко среди всех этих незнакомых девочек?
Я задавала маме множество вопросов, но которые она, конечно, не могла ответить. Она лишь сказала: «Я не могу заранее знать, как все сложится. Но если тебя примут, я уверена, что ежедневные занятия вместе с маленькими подругами будут очень тебя забавлять и пойдут на пользу твоему здоровью». Она тут же стала придумывать наряд, в каком я пойду на собеседование, и немедленно взялась за исполнение своих планов.
Глава третья
В Опере. — Дом, в котором я выросла. — Господин Плюк и его лорнет. — Вот и я, маленькая балеринка! — Сложный костюм. — Мадемуазель Теодор, жрица танца. — Мадам Крампон и ее роман-фельетон. — Тяжелые занятия и экзамены. — Мой дебют на сцене в восемь лет. — Танец конькобежцев. — Как-то вечером, в «Ромео и Джульетте». — Аделина Патти[13]. — Кобольды[14] и бесенята. — Грудь Сибил Сандерсон[15]. — «Полеты ангелов» в «Фаусте». — Моя судьба решена.
Ближе к середине сентября, когда мне должно было исполниться семь лет, мадам Виллард объявила матери: «Наступило время ее представить».
В назначенный день мать подготовила меня так тщательно, что вы не можете себе даже представить. С необычайным искусством сделав мне прическу — из нее не выбивалось ни волоска, — она одела меня в «костюм», соответствовавший важности момента: платьице из шотландки с плиссированной юбкой, красивое плюшевое пальто гранатового цвета с перламутровыми пуговицами и большая бретонская шляпа из бархата со страусиными перьями. Я не знаю, что о таком наряде подумали бы современные девочки, но для того времени я выглядела шикарно. Гранатовый бархат прекрасно оттенял мою белую кожу и золотистые волосы. Закончив, мама оглядела свое произведение с большим удовлетворением.
И вот мы отправились в Оперу, чтобы нанести визит управляющему школой господину Плюку.
Опера… Каждый раз, когда мне предоставляется возможность туда попасть, я испытываю глубокое волнение. Когда я поднимаюсь по лестницам, прохожу по коридорам, вхожу в зал и сажусь в одно из кресел под потолком с росписями Леневё[16] и огромной люстрой, время останавливается… Я чувствую себя дома, окруженной знакомой обстановкой, и сотни картин проносятся перед моими глазами, полными нежности. Я снова вижу классы, преподавателей, экзамены. Кольцо страха перед выходом на сцену вновь сжимает мне горло, затем аплодисменты под сводами огромного сверкающего зала… В Опере я провела детство и отрочество, связана с этим театром самыми прочными узами. Каждый уголок, каждый коридор, каждая колонна хранит кусочек моего прошлого, поэтому я не могу оставаться равнодушной, находясь в этом здании, меня там всегда охватывают эмоции…
* * *
Вот мы уже разговариваем с господином Плюком. Конечно, сначала я чувствовала робость, но на удивление она быстро прошла: все было таким новым, интересным и любопытным! Я была за кулисами Оперы, с другой стороны, которую никто из зрителей не видит, там, где готовят представления, где артисты предстают перед вами в своем естественном виде. Этот таинственный мир примет меня и сделает своей частью, здесь я буду учиться танцевать! Это было завораживающее чувство.
Мне казалось, что я стала одним из персонажей волшебных сказок, которые так любила читать.
Господин Плюк имел худощавую фигуру, высоко держал голову, движения его были по-военному точными, и неспроста: перед нами стоял бывший императорский кавалергард. Он поднес к глазам лорнет, чтобы получше меня разглядеть, попросил повернуться в одну сторону, в другую и особенно внимательно рассматривал ноги. Потом бросил лаконичное: «Хорошо». Мадемуазель Теодор, моя будущая преподавательница, тоже присоединилась к нам и в свою очередь внимательно меня изучила, заключив следующее: «Мне кажется, она прекрасно подходит». Нам назначили день для медицинского осмотра и зачисления в школу.
Все это тоже прошло весьма неплохо. В присутствии господина Плюка и мадемуазель Теодор меня осмотрел врач Оперы: глаза, уши, нос, горло, проверил рефлексы, пощупал пульс и объявил, что все замечательно. Меня записали в журнал, и теперь нам оставалось только ждать.
Через несколько дней нам прислали подтверждение поступления в младшие классы. Из ста девочек приняли лишь восемь… и я была в их числе! Мать была очень довольна, а мадам Виллард чуть ли не больше нее. Ах! Эти первые дни, сколько эмоций, сколько новостей! Я была взволнована и растеряна… но смущение прошло очень быстро, уже ко второму или к третьему занятию, вскоре я уже обожала танцевать.
* * *
Мадемуазель Теодор, в прошлом замечательная танцовщица, стала идеальной преподавательницей. Эта женщина довольно маленького роста, с седеющими волосами, очень просто одетая, обладала властным голосом и пользовалась удивительным авторитетом. Она вела два начальных класса, большой и малый, в целом около сорока учениц… И все шло четко и ровно.
Балетным мышкам были предоставлены два довольно больших шкафа на двадцать учениц, где у каждой было свое «отделение» и футляр для костюмов и пачек. Наши шкафы находились на пятом этаже, и мы приходили за полчаса до начала занятия, чтобы переодеться в балетный костюм. Все это напоминало птичий двор: мы хихикали, болтали, рассказывали всякие истории, пыхтя от возни с бесчисленными предписанными нам элементами костюмов. Наконец, подготовившись, мы карабкались через два этажа, потому что классы находились на седьмом. Между шестым и седьмым этажами нам предстояло пробежать по огромному бесконечно длинному коридору, в середине которого располагалась «ротонда», служившая комнатой занятий для «корифеев». А нам надо было поспешать!.. Мы все время не ходили, а бегали.
Костюм для занятий был очень сложен и доставлял много хлопот. Он состоял из рубашки… со шлейфом, его нужно было завязывать спереди большим бантом. Верхняя часть тела затягивалась в корсет из тика на пуговицах довольно туго, потом надевались маленькие штанишки из рубашечной ткани и хлопковые чулки, державшиеся подвязками, за которые засовывался и низ штанишек. Затем наступала очередь корсажа, венчавшего этот туалет сверху: белый корсаж из батиста, без рукавов и довольно низко вырезанный, с легкими воланами вокруг декольте. И наконец, пачка: две юбочки из тарлатана[17], сверху сшитые вместе и накрахмаленные так, что топорщились во все стороны. Широкий пояс был последним штрихом этого костюма, тщательно выверенного для того, чтобы и юбочки были пышными и летящими, и все приличия были соблюдены. А они соблюдались даже слишком тщательно, учитывая, что мы были упакованы в три «оберегающих» слоя и с толстыми чулками на ногах! Мы могли двигаться как угодно, принимать любые позы, но от плеч до кончиков пальцев на ногах нельзя было заметить даже самого маленького участка голой кожи!
Если бы какой-нибудь маг или предсказатель показал нам тоненькие трико сегодняшних балерин или рассказал, что в будущем артисты будут выходить на сцену с голыми ногами, нас бы это повергло в шок. Даже в своей компании ученицы переодевались очень осторожно. Одну рубашку мы зажимали в зубах, пока стягивали через голову другую, чтобы сразу ее надеть. Однажды утром, поднимаясь за мной по лестнице на урок, одна из девочек ради шутки подняла мне юбочку сзади, так что стали видны панталончики. Все вокруг захохотали, а я покраснела как мак!
Костюмы для экзаменов и для сцены мало отличались от рабочих, разве что тарлатан был тоньше. Некрасивые панталоны из рубашечной ткани заменялись на трико из розового шелка из двух частей, верхняя была c рукавами, скрывавшими плечи и подмышки. Вместо обычной юбочки надевалась настоящая пачка: три юбки с одним поясом, внутри с вырезами для ног, третий слой был самым легким и самым темным.
Когда меня приняли в школу, то выдали тик, муслин, перкаль, а мадам Виллард показала матери, как шить юбочки и корсажи. Мама быстро всему научилась. Наша костюмерша, госпожа Сапан, благоговейно хранила костюмы для сцены, она мастерски умела добиваться того, чтобы пачки и юбочки становились особенно легкими и летящими.
Специалистом по трико был Милон. Клиентура ходила к нему важная, самые известные танцовщики и балерины изо всех театров. Ведь никто в те времена не мог выступать без нижнего трико. Это никому не пришло бы в голову, как и пользоваться макияжем, в те времена почти несуществующим. Для некоторых ролей приходилось гримироваться, но просто танцевать балерины выходили в естественном виде, пользовались лишь немного пудрой и иногда подкрашивали губы. Что касается меня, на протяжении долгих лет я никогда не появлялась на сцене даже слегка накрашенной.
Во время обучения в младших классах нам иногда давали роли в дивертисментах, и старая костюмерша матушка Лефевр пользовалась пудровыми румянами, чтобы слегка оживить цвет наших щек. Однако такое их использование вызывало у нас недоверие, потому что эти румяна служили для того, чтобы, растворив их в теплой воде, окрашивать в нежно-розовый цвет наши скучные белые чулки из хлопка…
Что же до туфелек, которые покупались у мастера Кре, то они делались из розового или серого тика, на замшевой подкладке и были очень легкими из-за невероятно тонкой подошвы. Это не были, как сейчас говорят, пуанты: носки у них делались мягкими. Сейчас балетные туфли тяжелые, с уплотненными мысками. Их тяжелее носить, чем наши, зато легче вставать на пуанты. Туфельки получались очень хрупкими, и приходилось укреплять носки, чтобы дольше служили, но все равно для выступления на сцене в «больших постановках» они могли продержаться лишь один вечер.
Зимой, чтобы не замерзнуть, поднимаясь по лестницам и бегая по коридорам, поверх чулок мы надевали шерстяные гетры, заворачивались в шали или надевали теплые жилеты на тонкие батистовые корсажи.
* * *
Во время занятий от нас требовали строгой дисциплины. Велся учет посещаемости, войдя в класс, следовало поставить подпись рядом со своей фамилией в списке присутствовавших. Как только начинался урок, двери в класс закрывали на ключ. Если ученица пропускала занятие по болезни, то родителям вменялось в обязанность принести оправдание или медицинскую справку, а на дом к больной отправляли кого-то, кто мог бы лично подтвердить ее состояние. Я не могу вспомнить ни одного пропущенного мною занятия или опоздания. Пропуск всего лишь одного занятия мог серьезно помешать развитию мастерства ученицы, потому что, обучаясь танцу, нельзя останавливаться, нельзя пропускать ни дня, чтобы не отстать от других.
В классе замирали всякая болтовня и хихиканье, наступали завороженное внимание и абсолютная тишина… начинались священные ритуалы занятий, а с мадемуазель Теодор и речи не могло идти о баловстве. Она жила и дышала преподаванием своего искусства, классического танца, культ которого она соблюдала с восторженной покорностью, словно жрица Весты[18], что поддерживает постоянно огонь ее алтаря. Все правила этой литургии, казалось, были высечены в ее душе, она знала наизусть все до малейших деталей и не выносила никаких сбоев. Следовало двигаться по избранному пути, не отклоняясь ни на йоту, механизм работал отлаженно и точно. Мадемуазель Теодор диктовала движения одно за одним и строго следила за их четким исполнением. Сама же она не показывала ни одно из движений: все объяснялось несколькими словами и легкими жестами.
Аккомпаниаторшу звали мадам Крампон. Полноватая, с безмятежным выражением лица, большими голубыми, немного навыкате глазами, она была в своем роде довольно любопытным персонажем. Она стучала по фортепьяно словно механическая кукла, играла всегда одни и те же пьесы, не глядя на клавиши, потому что читала какой-нибудь роман-фельетон, стоявший перед ней на пюпитре. Над ней втайне посмеивались. Несмотря на свою несуразность, Крампон опередила время, изобретя джаз на свой манер: для сопровождения упражнений temps sautee[19] она однажды сыграла «Похоронный марш» Шопена в ритме… польки. Это, как понятно сейчас, можно считать непризнанной инновацией, более того, касающейся одного из лучших музыкальных произведений на свете.
Урок продолжался полтора часа. Сначала минут 20–25 шла разминка у станка, гимнастика, необходимая для обретения гибкости и эластичности мышц, мы делали классические упражнения, чтобы научиться правильно ставить ноги и выворачивать ступни: плие, батманы, пуанты, тамп соте, кабриоли и, конечно, растягивание ног на станке в трех разных позициях. Потом, пять минут отдохнув, мы выходили на середину зала и выстраивались в пять рядов, по четыре девочки в каждом. Время от времени мадемуазель Теодор вытаскивала кого-нибудь из первого ряда и ставила одну перед всеми. В течение получаса мы делали адажио, медленные упражнения в спокойном ритме, в них включалось пять разных поз. Следующие полчаса мы работали над тамп соте, в сопровождении аллегро мадам Крампон, бодро отстукивавшей свои добрые старые шлягеры, в числе которых звучала и песенка «По реке плывет кораблик, мама». Для выполнения тамп соте четыре ученицы вставали в круг посреди залы, а остальные выстраивались вдоль станка. Четыре вышедшие вперед начинали выполнять вариации по указанию преподавательницы. Эти вариации в тамп соте непросто исполнить, тогда еще не удавалось в совершенстве исполнять самые простые па, а тамп соте — это особенно трудное. Их исполнение требует одновременных гибкости и умения держать равновесие, нужно стоять очень прямо, грудь вперед, талия изогнута. Орлиный взор мадемуазель Теодор сразу же улавливал любую неточность, и упражнение повторялось до тех пор, пока выполнение не становилось таким, как надо.
Было недостаточно просто выучить сложное па «навскидку», нужно было повторить его тысячу раз, чтобы все «встало на место». Можно быть виртуозной танцовщицей, умеющей делать головокружительные прыжки, антрашá и великолепно кружиться, но так и не стать при этом великой балериной, потому что движения «негармоничны».
Наши упражнения походили на настоящие хореографические гаммы, которые мы неустанно повторяли каждый день, как пианист, разрабатывавший аппликатуру и кисть, повторяя изо дня в день одно и то же чередование звуков. Но нас никогда не заставляли делать какие-то акробатические движения: огромные прыжки через весь зал, например, как это делают современные артисты, для чего требуется быть акробатом, а не танцовщиком. Все наши позы и движения, все вариации разворачивались в классических рамках, не нарушая хрупкого равновесия, сохраняя умеренность и изящество: оберегая классический стиль, но стараясь, тем не менее, не отставать от времени…
После тамп соте мы опять становились по рядам, урок завершался большими батманами и двумя глубокими реверансами.
В буквальном смысле мокрые до нитки после всех упражнений, мы спешили завернуться в шали и надеть на ноги гетры. Тепло укутанные, мы галопом неслись по лестницам и коридорам, чтобы не простудиться. Добежав до шкафа, мы спешили переодеться, мамы изо всех сил растирали нас губками с одеколоном.
* * *
Поднимаясь на следующий уровень школьной иерархии, мы получали все более сложные упражнения на занятиях, хотя основа оставалась прежней. Уроки всегда начинались с получасовой разминки у станка, потому что нужно было разогреть мышцы и держать себя в форме. Все девочки успевали за программой по-разному и не всегда достигали успеха. Некоторые, идеально исполнявшие адажио, быстро уставали во время тамп соте или же им не хватало живости исполнения. Другим ученицам прекрасно удавались прыжки, они раньше всех начинали вставать на пуанты, но их движениям не хватало грации при медленном танце. Уметь все в совершенстве — это было почти недостижимым идеалом!.. Также большинство учениц никогда не достигали уровня grand sujet — солистки[20]. Они хорошо, правильно танцевали, и на этом всё.
Но в труппу входит около ста человек, и балетный корпус, конечно, не может состоять из одних только звезд! Необходимы и звездочки малой яркости, чтобы оттенять блеск больших светил…
* * *
Для младших классов, классов «второй четверти» и «первой четверти», устраивалось два совместных экзамена. В классе «корифеев» — еще два экзамена, там ученица впервые танцевала одна. Экзамены принимали наш директор Педро Гайяр[21], балетмейстер маэстро Хансен и прима-балерина Росита Маури. Мадемуазель Теодор долго готовила нас к экзаменам, накануне она с особым вниманием следила за генеральной репетицией. Мы чувствовали, что хорошо подготовлены, но это не мешало нам испытывать безумный страх в этот важный день.
Мы выходили из-за кулис и появлялись на сцене по очереди, одна за другой. Все начинали с двух красивых реверансов, потом становились в ряд в форме подковы, чтобы вместе исполнить адажио, после этого танцевали четверо на четверо тамп соте и в конце показывали много разных фигур[22]. Все вариации, фигуры и сцены для экзаменов придумывала, ставила и отрабатывала с нами мадемуазель Теодор. Она занималась этим вдохновенно и с воодушевлением, создавая настоящие маленькие балеты, с большим вкусом и оригинальностью. И конечно же, наша добрая Крампон, солидно водрузившись перед фортепьяно, добросовестно извлекала мелодию за мелодией из своей музыкальной шкатулки. Правда, в этот день она забывала о романах-фельетонах и «Похоронном марше»-польке!
Театр казался пустым, но на самом деле матери участниц были тут, стараясь оставаться незамеченными. Сжавшись в комочек, они пробирались в зал и прятались по углам. Другого освещения, кроме света рампы, не было, и огромный черный зал немного пугал нас.
Сейчас экзамены в балетных школах проходят совсем не так. Они публичны. Можно попасть на такой экзамен за плату, как на спектакль. Ярко освещенный зал полон зрителей, и найти свободное место, чтобы посмотреть на юных балерин, выступающих перед комиссией, довольно сложно.
* * *
Думаю, комиссия была весьма строга, уже в мое время было так, и не одной ученице приходилось проходить второй год обучения в том же младшем или квадриль-классе[23].
Что касается меня, то это время обучения первым шагам в танце вызывало только приятные чувства, и ничто не было тогда мучительным и тяжелым. Природа наделила меня сильными мышцами и гибкими суставами, безовсякого труда мне давались все повороты и прыжки. Я не помню, чтобы делала много ошибок, даже на самых первых уроках. Все упражнения я выполняла с такой легкостью, что мадемуазель Теодор была поражена. Как-то она спросила меня: «Ты уже занималась раньше балетом? В какой школе?» Она очень удивилась, услышав, что я никогда и нигде не училась ни одному туру, ни одному батману, никогда не занималась ни с каким преподавателем.
Моя мать сказала ей, что, возможно, легкость, с какой я учусь, возникла из-за того, что я росла в музыкальной атмосфере и постепенно привыкла ко всем музыкальным ритмам. Мадемуазель Теодор, полюбившая меня за влечение к музыке и за таланты, которые замечала во мне, всегда особенно интересовалась успехами «маленькой Клео», она даже предложила заниматься со мной частным образом, не взимая платы. «У тебя дар. Я сделаю из тебя звезду». Мне не довелось воспользоваться этим великодушным предложением, тем более благородным, что заработная плата нашей дорогой преподавательницы из бюджета Оперы была крайне скудной. На самом деле жизнь моя вскоре, как читатель увидит, очень усложнилась, и времени на частные уроки мадемуазель Теодор не хватало бы. Я должна была довольствоваться общими занятиями… в которых достаточно преуспевала. Я очень быстро всему училась и без труда прошла все этапы обучения. Новичок первые четыре года, два года в первом классе основной школы, два года — во втором, к одиннадцати годам я перешла во вторую квадриль, еще через год — в первую квадриль, в тринадцать занимала позицию «корифея», а после финального экзамена стала grand sujet — солисткой в четырнадцать лет. И уже тогда я поступила в труппу Оперы и оставалась в ней еще долгие годы.
* * *
Наше обучение балетному искусству было совершенно особенным еще и потому, что очень рано оно сопровождалось выступлениями в настоящих постановках. В большинстве спектаклей были детские роли, которые играли ученицы младших классов. Некоторые счастливицы получали приглашение на роль чаще других. Так я стала одновременно ученицей младших классов и актрисой.
Первый раз я вышла на сцену в «Аиде» в возрасте восьми лет. Я танцевала в кордебалете, исполнявшем роли маленьких негритят. Папаша Саломон — мастер по гриму, — похожий на доброго лесовика с копной лохматых волос и седой козлиной бородкой, должен был нас «обафриканить». Он добивался этого, размазывая нам по лицу кусочком ткани какую-то коричневую смесь, кажется, вполне безобидную.
…Ступив на деревянный пол сцены, я почувствовала, как рампа ослепила меня, но присутствие рядом подруг-негритят придало мне уверенности, и никакие страхи больше не омрачали радости от участия в спектакле и первого появления перед публикой… Отныне я никогда не испытывала страха на сцене в окружении танцовщиц.
Другое дело, если я выступала одна, например, на экзамене. Ступая на сцену, я чувствовала, что меня охватывает дрожь… но после первых же движений все приходило в норму. Когда я стала звездой, страх усилился, я никогда не выходила на сцену, под взгляды множества зрителей, не чувствуя головокружения и леденящего холода в ладонях. Это состояние длилось всего несколько секунд. Как только я собиралась с духом, тело мое согревалось, и я не думала уже ни о чем, кроме танца.
Со своей маленькой ролью я справилась довольно хорошо, что Педро Гайяр заметил. Он счел меня милой и стал чувствовать ко мне такой благожелательный интерес, что, начиная с того выступления, настаивал, чтобы меня задействовали в постановках как можно чаще. Каждый раз, когда я выходила на сцену, он делал так, чтобы я стояла ближе всех к рампе, в первом ряду. Меня все время приглашали на роли, и я была в числе тех немногих учениц начальных классов, кто очень часто выходил на сцену. По причине частых выступлений меня даже решили нанять в труппу: в восемь лет я получала от театра зарплату в пятьдесят франков ежемесячно. В те времена и для такого нежного возраста это было очень неплохо. Долгое время я была единственной в классе, за кем было закреплено такое положение. За спиной у меня шептались, что я «в любимчиках».

Клео в 7 лет
* * *
Я принимала участие во многих операх: «Генрих XIII», «Ромео и Джульетта», «Фауст», «Таис», «Пророк», «Гугеноты», «Сигурд», «Сид», «Родина!» — и конечно же в балетах: «Буря», «Маладетта», «Корригана» и многих других.
Одним из развлекательных номеров в «Пророке»[24] был «танец конькобежцев». Я каталась по сцене на роликовых коньках среди других маленьких балерин, изображавших батавских крестьянских девочек. На роликах мы учились кататься в большом зале и во время этих занятий умирали от смеха. Папаша Саломон, отвечавший за ролики, вздрагивал, когда мы хохоча вваливались к нему после занятий, размахивая этими коньками.
Звезда этого балета, мадемуазель Хирш, с восхитительной легкостью вписывалась в декорации, изображавшие лед и снег. Настоящая grand sujet, она в полной мере оправдывала свой титул: прекрасно держала ритм, совмещая изящество с необыкновенной живостью исполнения и несравненной легкостью прыжка. Казалось, что она не касается земли, а парит в воздухе.
А мы, крестьянские фигуристки, скользили по сцене на своих роликовых коньках, каждая под руку с маленьким танцовщиком в костюме голландского крестьянина. Наши костюмы ярких цветов были довольно милы, однако шляпами нас снабдили престранными. В первом акте мы появлялись ненадолго, чтобы выступить с коротким танцем рейдовак[25] в трактире, украшенные характерным высоким чепцом c острыми «крыльями» по сторонам. Мы должны были кружиться на воображаемом льду, а это главное наше украшение, похожее на бархатный торт — я так и не поняла причину его важности, — угрожало в каждый момент упасть с головы и только каким-то чудом держалось на месте с помощью многочисленных лент и булавок.
Участие в «Пророке» за счет того, что мы долго оставались на сцене, приносило нам «гонорар» в целых три франка за катание. Это казалось тогда царской наградой.
Мальчики участвовали только в сцене катания. В общем-то, существовал целый класс для мальчиков, в котором числилось около двадцати учеников, но когда большинству из них исполнялось тринадцать или четырнадцать лет, они уходили из школы, и я не знаю, что с ними происходило дальше. А вот в чем я весьма уверена, так это в том, что большинство ролей мальчиков и молоденьких юношей играли тогда актрисы-травести.
В «Родине», где пел изумительный баритон Ласалль[26], на сцене появлялся огромный корабль, на борту которого собрались женщины из всех стран. Я выступала в роли одной из пассажирок, маленькой африканки… после того, как играла в первом акте роль «маленькой жертвы».
* * *
День первой репризы в «Ромео и Джульетте» в Опере — одно из самых трогательных и волнующих воспоминаний о времени моих дебютов. В этой лирической драме я танцевала в роли девочки из семьи патрициев. Костюм у меня был очаровательный: красивое платье эпохи Ренессанса, расшитое бисером, и маленький бархатный чепчик, украшенный лихо торчащим сбоку пером. Форма и цвет чепчика прекрасно подходили моим светлым волосам. Я все еще носила челку, но волосы мне уже не стригли, у меня были две косы, которые я оборачивала вокруг головы. Мама делала из моих волос настоящий культ, каждый день подолгу расчесывала, отчего кудри были мягкие и блестящие. Педро Гайяр это заметил, чему я получила доказательство в день показа «Ромео и Джульетты». Оглядев мой венецианский наряд, наш директор воскликнул: «Но прическа у тебя совсем в другом стиле! Распусти косы, пусть твои кудри рассыпаются по плечам!» Это был незабываемый вечер! Ян де Решке[27] пел партию Ромео, а Патти — Джульетту! Какой триумф! Зал гремел аплодисментами… Когда моя скромная роль была окончена, я, потрясенная и взволнованная игрой двух великих артистов, застыла на месте, не желая возвращаться в гримерную. Педро Гайяр, с которым я столкнулась, уходя со сцены, увидел, как я растеряна, и, как всегда понимающий и добрый, отвел меня в сторонку: «Отдохни здесь в уголке за кулисами, если хочешь». И так, прячась за декорациями, я досмотрела до конца все представление, наслаждаясь несравненным голосом Патти.

Клео в опере «Ромео и Джульетта»
В самом конце она должна была спускаться с некоего подобия помоста, и Педро Гайяр встал внизу лестницы, чтобы предложить великой певице руку. Посмотрев на меня, пожиравшую глазами опускавшийся занавес, он тихо сказал: «Держись поближе к выходу». Когда дива появилась за кулисами, мне была оказана честь представиться ей. Я замерла от восторга и потрясения. Аделина Патти, хотя и небольшого роста, выглядела очень величественно в длинном белом платье и была так прекрасна, так благородна! Ее лицо еще хранило трагическое напряжение роли, и казалось, что от нее исходит свет!.. Она нежно потрепала меня по щеке и похвалила красоту моих волос и костюма. Я не помню, что пробормотала в ответ, до глубины сердца взволнованная тем, что эта богиня удостоила меня взгляда.
* * *
Когда мы играли кобольдов в «Сигурде», нашей задачей было охранять Валькирию, и мы, не щадя себя, неистово скакали и гримасничали перед главным героем, стараясь помешать ему пробраться сквозь завесу дыма и огня к прекрасной спящей красавице.
В балете «Корригана» мы превращались в бесенят. В тот вечер папаша Саломон превзошел самого себя, гримируя нас, и сделал наши лица ужасающе безобразными. Бесенята, числом двадцать, должны были прятаться в нише под сценой, а потом в нужный момент быстро подняться по лесенке, выпрыгнуть на сцену и сразу же начать танцевать. В восемь лет я была довольно маленького роста и всегда стояла первой в очереди на лесенку, но с возрастом отходила все дальше назад, потому что сначала выпрыгивали самые низенькие. Когда, по понятным физическим причинам, я оказалась в самом конце очереди, стало понятно, что время играть бесенка прошло.
Тем, кто стоял дальше всех, все время приходилось держать ухо востро: они должны были галопом выскочить на сцену, не задерживаясь, чтобы успеть подхватить движения тех, кто уже начал танцевать.
* * *
Когда я была уже большой девочкой, то также участвовала в «Таис», где танцевала с некоторыми своими одноклассницами в красивой интермедии. Мы изображали маленьких комедианток, следующих за куртизанкой, кружились вокруг нее, с розой в одной руке и маской в другой. Дельма[28] пел партию Атанаэля, а роль Таис исполняла сама Сибил Сандерсон! Потрясающе красивая пластика, изящная фигура и покоряющее очарование, исходившее от нее, вызывали всеобщее восхищение. Серебристому голосу и музыкальности ни в чем не уступали и другие ее таланты.
Одно из ее выступлений особенно запомнилось благодаря пикантному происшествию, о котором потом долго говорили. В конце первого акта Таис должна была подняться по лестнице, предположительно из мрамора, и провожать взглядом удалявшегося Атанаэля, оперевшись рукой о колонну. Мы, замерев в неподвижности, любовались изящной позой артистки и следили за каждым ее жестом. В тот вечер, когда она оперлась белой рукой с большим золотым браслетом о колонну, раздался еле слышный треск: одна из пряжек, скреплявшая на плечах тунику, сломалась, туника упала на талию, слегка обнажив прекрасную грудь. Потеряв голову, мы принялись шептать изо всех сил, пытаясь привлечь ее внимание: «Мадемуазель! Мадемуазель!» Но в шуме аплодисментов Сибил не слышала наших слабых голосов, потому что аплодисменты были такими воодушевленными: неожиданный вид прекрасной груди удваивал удовольствие, полученное от необыкновенного выступления певицы!

Клео в сценическом костюме
Мы же были в ужасе. В наших глазах это происшествие равнялось греческой трагедии, и мы искренне жалели «бедную» Сандерсон, жертву такого несчастья… а она сама от души смеялась!
Но самым важным для нас было выступление в роли ангелов в «Фаусте». Сначала мы ненадолго появлялись в первом акте, потом надо было ждать до одиннадцати часов, чтобы танцевать дивертисмент, и наконец, в сцене с тюрьмой мы показывали «полет ангелов». Попасть в «полет ангелов» было величайшим счастьем, самой желанной целью! Но танцевать в нем на сцене позволяли лишь самым достойным, самым лучшим ученицам, в качестве поощрения.
Я не пропустила ни одного «полета ангела» в последнем акте «Фауста». Здесь тоже Педро Гайяр заставлял меня распускать косы, и волосы свободно струились у меня по спине. Чтобы превратить нас в ангелочков, к спине нам прикрепляли крылья и подвешивали к какой-то механической штуковине. Безумно весело было болтаться в воздухе в виде херувима, «несущего в небеса» страждущую душу Маргариты. Поскольку наше ангельское появление происходило в самом конце оперы, мы были вынуждены какое-то время ждать, пока занавес окончательно не закроется, чтобы нас спустили вниз, а это иногда происходило не быстро. За эти выступления нам платили пять франков «гонорара». Целое состояние!
Время между выходами на сцену тянулось долго, но мы знали, как себя занять. В гримерной мы играли в ребусы, в бабки, в Желтого гнома, а еще играли «в Фауста». Мне обычно доставалась роль Мефистофеля, и, закутанная в алый шифон, я изображала знаменитых артистов, низким голосом выкрикивая «Маргарита проклята!» и сопровождая все это трагико-комической жестикуляцией, что очень забавляло моих зрителей.
* * *
Итак, на втором году обучения в начальных классах для «маленьких» я была практически единственной, кому часто доверяли играть в настоящих спектаклях: обычно дети начинали постепенно выходить на сцену, начиная лишь со средних классов, именно оттуда набирали ангелочков для «Фауста». Совсем малыши первого года обучения на сцену вообще не выходили. Только в балете, где катались на роликах, изображая фигуристок, участвовали вместе старшие и младшие.
Одноклассницы мне, вероятно, втайне немного завидовали, но директор, балетмейстер и наш преподаватель были мною очарованы. Даже зрители меня замечали, потому что я всегда стояла у самой рампы и всегда хорошо справлялась с ролью. Я больше не была обычной ученицей балетного класса, меня приучили к сцене, в восемь лет я уже выступала перед огромным залом, сумев справиться со смущением!
В такой ситуации, думаю, было уже довольно сложно остановить мое сценическое развитие. Как я могла остановиться? Меня вела судьба, и мой жребий был предрешен — я стану балериной. Матери пришлось принимать решение, мои первые успехи на сцене вызывали у нее сомнения, и в этой ситуации мнение мадемуазель Теодор сыграло важную роль. Каждый раз, когда поднимался вопрос о моем будущем, она говорила матери: «Запрещать Клео стать балериной грешно, учитывая ее способности».
Глава четвертая
Акробатическая жизнь. — Они будут есть? — Наш отъезд в Латинский квартал. — Проживание в XVII округе. — Ученица в монастыре Saint-Vincent-de-Paul. — Монахини думают, что я учусь в Консерватории. — Как все раскрылось. — Все хорошо, что хорошо кончается. — Принята на службу в одиннадцать лет. — Моя подруга Леонтина Бове. — Вишни из Гаренны. — Прекрасные выходные на острове Гранд-Жатт. — Друзья-покровители. — Первый браслет и последняя кукла. — Я позирую для Дега и Форена. — Жорж Каэн пишет мой портрет в образе графини Гвиччиоли.
Наша с матерью жизнь ни в малейшей степени не была монотонной, скорее, как сейчас говорят, «суматошной». Пока я не начала заниматься балетом, времени хватало, уроки заканчивались, мы возвращались домой на омнибусе, и вся вторая половина дня была в нашем распоряжении. Но как только я начала участвовать в спектаклях, все переменилось: наши планы подчинялись расписанию репетиций. Даты и время были указаны в расписании, и перед тем, как начать репетировать, господин Плюк делал перекличку, а часто и сам оставался на репетицию. Потому что наш добрый Плюк, кроме бумажной работы, которой требовала его должность, занимался еще и артистической деятельностью: он играл в пантомиме, в частности изображал бейлифа в «Корригане» и цыганского барона в «Двух голубях». Ему это очень нравилось, и он полностью погружался в образ своего персонажа. Нас ужасно веселило наблюдать на сцене, рядом с собой, нашего уважаемого управляющего в костюме и гриме. Балетмейстер Хансен, который сам уже почти не танцевал балет, тоже иногда выступал с пантомимой: он очень убедительно играл дикого Калибана в «Буре».
Работа на репетициях поглощала нас целиком. Когда мы танцевали в опере из репертуара, партия была нам знакома и мы репетировали ее лишь накануне представления. Но если речь шла о дивертисменте в новой постановке, репетиции длились часами каждый день, пока вся группа не достигала совершенства, чего всегда добивался Хансен, работая с нами c научной точностью.
* * *
Несмотря на наши полупрозрачные пачки, мы были не бесплотными духами и должны были подкреплять свои силы. Но вопрос обеда почти всегда оставался гипотетическим, и Виктор Гюго, подражая самому себе, мог бы воскликнуть по нашему поводу: «Будут ли они есть?» На второй год обучения во всех начальных классах уроки проходили в полдень, тогда хотя бы можно было поесть дома перед тем, как отправиться в Оперу, а после урока пойти на репетицию, если было нужно. Но в среднем классе уроки начинались утром, в девять часов, а репетиции в половину двенадцатого. Для тех, кто должен был идти на репетицию, и речи не шло о том, чтобы отправиться домой пообедать. Приходилось есть в гримерной или то, что приносили с собой, или то, что удавалось где-то случайно перехватить. Часто за едой посылали младших учениц, отплачивая им за услугу мелкой монеткой, что очень приветствовалось, поскольку многие из них не принадлежали к состоятельным семействам. После уроков они со всех ног бежали к нашим гримерным, нетерпеливо стучали в дверь, толкаясь вбегали в комнату и все хором спрашивали у матерей: «Мадам, мадам, не нужно ли сбегать?»
Ужин был так же эфемерен, как и обед. Репетиция часто длилась очень долго, до вечера. Если я играла вечером, то выкроить время на еду было трудно. Когда же я возвращалась домой с пустым желудком, то получала от матери тарелку горячего супа, это меня успокаивало и позволяло заснуть в поздний час.
* * *
Такая жизнь была невероятно утомительной, и мать решила, что улица des Écoles находится слишком далеко от Оперы… Чтобы добраться до Латинского квартала, мы ехали по маршруту Panthéon-Courcelles, если успевали. Опаздывая на последний омнибус, мы всегда бежали изо всех сил. Поездка стоила полтора франка, и надо было оставить кучеру сантимов двадцать пять на стаканчик. Вопрос денег, к счастью, не был первостепенным. Несложно догадаться, что жили мы, безусловно, не на мои гонорары и что без личных доходов матери я бы не смогла стать танцовщицей. Но главное, что ее беспокоило в то время, — огромные расстояния, которые приходилось преодолевать каждый день, это отнимало огромную часть свободного времени.
Эту ситуацию нужно было разрешить. Мать подумала переехать, чтобы жить поблизости от Оперы. Она описала задачу мадам Крампон. Эта добросердечная, всегда готовая помочь женщина как-то особенно нас полюбила и тут же вызвалась искать жилье. Задача, прямо скажем, была не то чтобы вычислить квадратуру круга, совсем наоборот, в те прекрасные времена везде висели объявления: «Сдается». Наша дорогая Крампон довольно быстро нашла нам жилище мечты на улице de la Terrasse. Квартира находилась на пятом этаже, как и наша на улице des Écoles, и в ней была такая же большая терраса, как там. Это полностью соответствовало пожеланиям Зенси, которая любила, когда вокруг много воздуха и света, и признавала жилье только на верхних этажах. Сам дом был красивым, и квартира — удобная, «современная»… по меркам того времени. Там конечно же не было ни лифта, ни центрального отопления, но мы были опытными покорительницами высоких лестниц, а мать умела отлично обогревать жилье, обходясь лишь брикетами каменного угля.
Важный период нашей жизни закончился. Прощай, улица des Écoles, и здравствуй, любимый Латинский квартал, где прошло столько прекрасных часов моей жизни! Позже я буду часто с легкой грустью вспоминать милые стены, в которых прошло мое раннее детство. Хотя мама и с сожалением оставляла правый берег, сама я не помню никаких страданий, связанных с переездом. В восемь лет еще не оглядываются с грустью на прошлое. Кроме того, в этом возрасте переезд — это так весело!
Переселившись на улицу de la Terrasse, мы озаботились еще одним серьезным вопросом: надо было решить, где я буду учиться. И снова с этой заботой мать обратилась к мадам Крампон: «Танцы — это прекрасно, но Лулу нужно образование. Куда бы мне ее отдать?» Крестница мадам Крампон, которая тоже училась в танцевальном классе Оперы, в качестве основного образования посещала институт монахинь при Saint-Vincent-de-Paul на улице Monceau. «Почему бы вам не отдать туда и Клео? — предложила наша подруга. — Это совсем рядом с вами».
Идея казалась отличной. Мать представила меня сестрам-монахиням, которые без всяких сложностей приняли меня в число своих учениц. Единственной проблемой было то, что я не могла приходить по общему расписанию из-за занятий в Опере, и, чтобы объяснить мой фантастический распорядок дня, мать сказала благочестивым сестрам, что я учусь в классе фортепьяно Консерватории, не решаясь открыть им истинное положение дел.
Разрываясь между Оперой и улицей Monceau, я жила жизнью, похожей на полет акробата под куполом цирка. Монахини меня любили и старались учить наилучшим образом, максимально используя то ограниченное время, каким я располагала. Если во время ответа на уроке меня подводила память, они объясняли это переутомлением. «Этот ребенок, — думали они, — так загружен!»
* * *
В церковь Saint-Vincent-de-Paul часто приходили «старожилы» этого района, среди прочих и дамы семейства Г., мать и две дочки, регулярно посещавшие службы. Эти дамы, хорошие подруги сестры Робера де Флера, были завсегдатаями Оперы, видели меня во время спектаклей и хорошо запомнили, потому что меня, как я уже упоминала, почти всегда ставили перед рампой.
Однажды, вскоре после моего поступления в монастырскую школу Saint-Vincent-de-Paul, они заметили меня в церкви, и мать сказала дочерям: «Вот та девочка со светлой челкой, разве это не маленькая танцовщица кордебалета? Она танцует в „Сиде“ и в „Родине“. Если только у нее нет сестры-близнеца, это точно она!» Как и их мать, обе дочки безошибочно меня узнали. Выходя со службы, взволнованные своим открытием дамы поспешили расспросить монахинь, им как раз попалась сестра Габриэль, которая всегда оставляла меня заниматься после уроков.
— Эта девочка со светлыми волосами и зелеными глазами, это же маленькая Клео, танцовщица в Опере, да?
Справедливо удивленная до глубины души, сестра Габриэль ответила:
— Вот это новость! Вы ничего не путаете?
— Мы ее видели много раз и с очень близкого расстояния, так что мы вполне уверены.
— Хорошо. Я с ней сейчас же поговорю.
Сестра Габриэль подошла к стайке учениц, стоявших во дворе рядом с церковью, среди которых была и я, и отозвала меня в сторонку. Понизив голос, она сказала:
— Тут две дамы говорят, что видели тебя на сцене в Опере. Но они наверняка ошибаются и приняли тебя за другую, очень похожую на тебя девочку…
Я страшно испугалась, думая: «Теперь меня выставят». Покраснев как рак, я призналась с дрожью в голосе:
— Они не ошибаются, матушка, это точно я. Я учусь в младшем балетном классе и уже играю роли в балетах…
Я глубоко вздохнула, слезы катились у меня по щекам. Сестра Габриэль поспешила облегчить мои страдания:
— Но я тебя не браню! Быстренько вытри глазки! Нет никакой причины плакать, малышка Клео! Это не преступление, уверяю тебя.
Мгновенно успокоившись, я запрыгала от радости. Вечером, когда я рассказала об этом происшествии матери, она, в отличие от меня, не обрадовалась, а сильно разволновалась:
— Сестра Габриэль, конечно, ангел, но она должна будет доложить об этом настоятельнице. А вдруг та рассердится?
Но ничего не случилось, абсолютно ничего. Никаких последствий не было. Сестры так же шли мне навстречу в занятиях, как и прежде, и ни разу не вспоминали эту маленькую дипломатическую ложь, которую мы себе позволили.
Во втором отделении для младших следовало появляться в Опере в половине девятого. Когда я выступала, то ложилась спать довольно рано, чтобы на следующее утро выйти из дома в восемь. Я старалась поспать как можно дольше, в половине восьмого мама, уже полностью готовая, будила меня: «Поторопись, Лулу, опоздаешь!» У меня едва оставалось время выпить чашку кофе с молоком. От бутербродов я отказывалась: «Нет, это слишком долго. Возьмем круассаны». В булочной на улице Rome все было очень вкусным, мы покупали там круассаны по пути, и я шла по улице, уплетая их за обе щеки.
* * *
В одиннадцать лет, когда я перешла во вторую квадриль, меня уже полностью оформили на работу. Мне предложили контракт, который, конечно, не сулил золотые горы, но был очень неплох для тех времен и тем более для моего возраста. Я нагнала и даже перегнала свою подружку Терезу Виллард: мы вместе учились в классах второй и первой квадрили и перешли в группу «корифеев» в одно время. В конце года мы вместе проходили экзамен на «маленьких солисток», но Тереза его не сдала, покинула Оперу, и я потеряла ее из виду.
Вскоре после ее ухода я сблизилась с другой девочкой по имени Леонтина Бове, которая стала моей ближайшей подругой. При поступлении в Оперу я ее не встречала, поскольку она училась в старших классах. Нас познакомила ее мать. Во время экзамена мадам Бове оказалась соседкой Зенси по темному уголку в зале, откуда они втайне наблюдали за выступавшими на сцене дочерями. Они обменивались впечатлениями и в конце концов подружились. Вскоре их дружба переросла в очень близкие отношения, которые с годами только крепли. Дружба матерей сделала подругами и нас.
Мадам Бове происходила из прекрасной семьи, была очень воспитанна и образованна, о многом у них с матерью было общее мнение. У нее вошло в привычку почти каждый день приходить ко мне в гримерную, чтобы поболтать с мамой. Я слышала, как они говорят о Леонтине и о том, какую сложную жизнь она вела. Это напоминало мне мою собственную жизнь между Оперой и школой при Saint-Vincent-de-Paul с той лишь разницей, что Леонтине удавалось совмещать два вида артистической деятельности. Какое необыкновенное существо! Таких одаренных людей встречаешь редко. Она одновременно посещала танцевальные классы в Опере и училась фортепьяно в консерватории. И не просто училась: в Опере Леонтина стала grand sujet и сделала неплохую карьеру, а в Консерватории, где обучалась у Рейнальдо Ана[29], она получила (после упорных трудов) вторую премию по игре на фортепьяно. Первая премия не досталась ей лишь потому, что ее охватил ужасный страх и она один раз ошиблась.
После того как она покинула Оперу, Леонтина виртуозно выступала, а потом преподавала танец и сценическое движение. Несколько лет она вместе с Жоржем Вагом[30] вела курс, который пользовался большим успехом. Получив образование в области классического искусства, она с легкостью освоила современные виды танца и восхитительно их преподавала. В числе ее учеников было довольно много звезд: именно она обучала начинающих артистов Мистангет[31] и Мориса Шевалье[32]. Она также работала с Эдме Фавар[33] и Ивонной Прентан[34]. Все, кто проходил обучение в ее студии, обожали ее, потому что Леонтина Бове — исключительное, необыкновенное создание, обладавшее как многочисленными талантами и способностями, так и удивительными душевными качествами. Добрая, благородная, полная желания помочь молодым артистам, привести их к успеху… и при этом совершенно бескорыстная! Единственное искусство, в каком она не преуспела, это умение обогащаться: иногда давала уроки вообще бесплатно.
* * *
Представления проходили по понедельникам, средам и пятницам. За исключением дней репетиций, у нас было три свободных вечера в неделю. По вторникам и четвергам мы часто ходили в театр или ужинали у Крампонов. Сложно представить себе людей лучше, чем наши Крампоны. Они совершенно не оправдывали своей фамилии[35]. В них не было ничего чрезмерно превосходного, но и недостатки не замечались, в их поведении было много очаровательной фантазии, что, в частности, проявлялось в оригинальном аккомпанементе нашей пианистки. Они жили рядом с театром Batignolles в скромной, но очень приятной квартире, куда любили приглашать своих маленьких подружек из Оперы. Господин Крампон, служивший в банке, был благодушным и веселым человеком, совсем не глупым и даже очень начитанным, с бо€льшим удовольствием рассуждавший о литературе и музыке, чем о расчетах и сроках оплаты. Время от времени мы вместе с Бове приходили к ним на домашние обеды для своих. Кроме того, радушные Крампоны многие месяцы откладывали деньги, во всем себя ограничивая, чтобы устраивать раз в год торжественный ужин на двадцать человек, куда приглашали своих подруг-балерин, которые приходили в компании родных. Наши батиньольцы старались изо всех сил, чтобы нам запомнилось и вкусное угощение, и то веселье, что царило вокруг этого любовно подготовленного пиршества. После десерта мадам Крампон садилась за фортепьяно, а мы принимались демонстрировать свои умения, подготовив для этого случая самые эксцентричные па и такие кульбиты, которые несомненно вызвали бы дрожь у мадемуазель Теодор.
* * *
По воскресеньям, если погода позволяла, мы отправлялись за город. Мать настаивала на прогулках, чтобы я дышала свежим воздухом после целой недели, проведенной в пыльном театре. Мы ехали в Севр, Шавиль, где еще сохранились деревни, а когда наступал июнь — в Гаренну, чтобы полакомиться вишнями. Очень рано утром мы садились на поезд, отправлявшийся с вокзала Saint-Lazare. В те времена после станций Асниер и Леваллуа ничего не было, если не считать деревьев и полей. В Гаренне стояло всего несколько домов, вокруг которых простирались вишневые сады. Мы обедали в маленькой харчевне, а потом отправлялись на охоту за вишнями, охотно собирали их сами, заплатив хозяину сада тридцать су. Вишни были восхитительными, ярко-красными, очень сладкими, с еле заметной кислинкой. Эти прогулки гурманов очень хорошо влияли на самочувствие: после целого дня, проведенного на воздухе, я возвращалась в город полная сил и готовая к работе в понедельник.
* * *
Но воскресные дни на острове Гранд-Жатт у Крампонов были еще веселее. У них на острове был милый домик, простой, без всяких ухищрений и украшений, где всегда были всем рады. Соседство с водой делало это место желанным в самые жаркие дни. Они любили приглашать туда друзей летом на выходные. Своих любимиц, Леонтину и меня, мадам Крампон всегда приглашала вместе. Не желая, чтобы наши гостеприимные хозяева разорились, мадам Бове и моя мать привозили с собой солидные запасы провизии.
Мы приезжали в субботу вечером, с подругами занимали одну большую комнату, оборудованную как дортуар[36], но никто и не думал спать: мы болтали и веселились всю ночь.
Сад выходил на Сену. Днем мы купались, ловили рыбу и катались на лодке. Сын Крампонов, очень ловкий мальчик, ловил рыбу, чтобы пожарить ее на обед, всегда был на веслах и греб с таким умением, какое приходит с большим опытом. Эта часть программы нравилась мне меньше всего: я притворялась довольной, чтобы никого не беспокоить, но страх воды мешал мне искренне веселиться, купальщица из меня тоже получалась плохая. Я никогда не любила воду и этого не скрывала! Я научилась плавать и была способна довольно легко проплыть какое-то расстояние, но всегда спешила поскорее выйти на берег. Но зато моя мама была прекрасной пловчихой и плавала как рыба и в море, и в реке. Но ее заплывы всегда вызывали у меня глухую тревогу. Однажды на Гранд-Жатте она слегка запуталась в водорослях у берега, и это меня страшно испугало.
* * *
Поступив на службу в Оперу, я оказалась в особенном положении. Еще совсем девочка, я уже стала полноценной актрисой и в одиннадцать лет начала танцевать в светских салонах. Многие дамы меня отмечали и просили выступить на их вечерах. Я танцевала у маркизы де Барбетан и у графини Пилле-Вилл. В зале возводилась небольшая сцена, на которой я выступала. Мой номер чаще всего состоял из гавота и менуэта, которые я танцевала одетая в красивый костюм с напудренным париком. Сначала я смущалась окружавших меня дам в бриллиантах, в роскошных платьях, расшитых жемчугами, но потом поняла, с какой симпатией они смотрят на меня, и забыла обо всем, кроме своего танца. Аплодисменты подбадривали меня, а восхищенные вскрики убеждали, что я на высоте. Я благодарила зрителей глубоким реверансом, которому нас так хорошо обучила мадемуазель Теодор и который в исполнении маленькой маркизы былых времен, изящно приподнимавшей края платья пальчиками, чрезвычайно умилял публику. Менуэты и гавоты режиссировали господин Плюк и господин де Сориа, служивший в Опере мимом и отвечавший за частные выступления. Иногда на таких светских вечерах я танцевала с партнершей. Однажды я выступала переодетая в Людовика XV как кавалер прелестной соученицы Берты Келлер. Этот танец для двоих тоже поставил господин Плюк с большим вкусом и изяществом.
Только подумайте, неужели в молодости, гарцуя на лихом коне в бравой императорской гвардии, господин Плюк лелеял в сердце любовь к хореографии? Об этом он мне никогда не говорил, но совершенно очевидно, что он всегда в глубине души был балетмейстером. В те времена, когда я перешла в ранг «корифеев», приходила к нему на улицу Pépinière, чтобы репетировать фигуры очень красивой интермедии, которую он придумал на музыку Годара. Я должна была танцевать ее на благотворительном утреннике в мэрии Coirbevoie. В номере сочетались пение и танец, вокальная часть исполнялась Марселль Дарту, ей хорошо удавались роли травести в Опере. В Coirbevoie нас ждал безумный успех, и заслуга оного совершенно справедливо в большей части принадлежала господину Плюку.
Количество друзей и знакомых, которых я приобрела в детстве, учась и работая в Опере, просто невероятно, я даже с трудом могу перечислить всех, с кем познакомилась только в самые первые годы.
Был один регулярный посетитель, которого называли «Господин Лео», — довольно любопытный персонаж. Он обожал маленьких балерин-первоклашек и провозгласил себя их «добрым дядюшкой». Он всех нас знал по именам и завел правило приходить по утрам и ждать нас после урока у подножия лестницы с охапкой фиалок. Каждая, спускаясь вниз, получала букетик, и наша гримерная всегда благоухала.
Другой завсегдатай, господин Жан Жубер, так же как и Господин Лео увлекался танцовщицами и питал особую слабость ко мне. Он любил слоняться за кулисами и болтать с маленькими танцовщицами. У него стало привычкой приходить в день моего выступления и всячески баловать. Каждый раз, когда я играла новую роль, он приносил мне подарок. Так, в двенадцать лет я получила свой первый браслет, а в тринадцать — золотые часы со своими инициалами.
Мать приняла это без восторга, с некоторым замешательством, но юноша вел себя так мило, просто и сердечно, дарил свои подарки так непринужденно, словно старший брат, что не принять подарок значило бы его обидеть. Однажды декабрьским вечером в пятницу он, как всегда, болтал со мной во время антракта и спросил между прочим: «Что вы делали в четверг?» Я ответила с горящими глазами: «О, в четверг мы ходили смотреть на витрины с елочными игрушками! Ах, как же красиво! В магазинах при Лувре я просто чуть с ума не сошла от восторга: там на витрине стоит кукла! Но какая! Мечта, а не кукла!.. Почти одного роста со мной, представляете, и одета как настоящая дама! В белом, шелком вышитом платье!.. А шляпа, что за шляпа!.. Восхитительная! Такая большая, широкая, с настоящим страусиным пером! Какая кукла!» Все это я сказала просто так, без всякого расчета, просто делясь чувствами, как всякая простодушная девочка. Жан Жубер мягко улыбнулся, слушая мои восторженные речи.
На следующий день на мое имя пришла огромная посылка. Я открываю коробку… и вижу там ту самую куклу, которую так подробно описала Жану Жуберу. Голова куклы была размером почти как моя, шляпа, если чуть-чуть постараться, прекрасно мне подходила и была так красива, что я ее однажды надела на детский бал, нарядившись Тоской. Она чудесно дополняла мой маскарадный костюм!
* * *
Часто приходили художники нас рисовать. Иногда во время репетиций, а иногда на занятия. Много раз мы видели, как Поль Ренуар или Огюст Мепле, всю жизнь рисовавшие танцовщиц, следят за нами, быстро выводя на бумаге линию за линией.
Но эти маститые рисовальщики почти не рисовали индивидуальных портретов, только групповые. Впервые позировать одной мне предложила женщина-художница, мадемуазель Грюгг, постоянная посетительница Оперы.
Она жила на бульваре Clichy со своим отцом, художником, как и она сама, преподавателем живописи, у которого было множество учеников. Пока я позировала для дочери, отец воспользовался этим обстоятельством и нарисовал две миниатюры с моей головой. Мадемуазель Грюгг рисовала меня в пачке, одна рука на бедре, в другой — золотой веер. В те времена я еще не носила своего знаменитого пробора и ободка и все еще была причесана как «дитя эпохи Эдуарда», с закрывавшей лоб челкой. Портрет мадемуазель Грюгг не произвел революции в искусстве, но получился очень милым. Она выставляла его на одном из Салонов, так мой образ появился там первый раз. Истории искусства неизвестна дальнейшая судьба художницы, и я не знаю, что стало с портретом.

Клео в юности
Педро Гайяр, художник во всем, тоже забавлялся, делая карандашные наброски с моей головки, выходило очень похоже. Постепенно он вошел во вкус. Однажды он меня попросил прийти к его друзьям позировать для одного художника. Пока тот рисовал, Гайяр тоже взял холст, кисти и стал рисовать мой портрет. Удивительная вещь, но произведение певца в результате оказалось гораздо лучше, чем работа художника.
* * *
Еще я много позировала для Дега и Форена. Они были очень близки, и часто меня вызывал один и посылал к другому. Все знают, что Дега постоянно ходил за кулисы Оперы, где находил моделей, вдохновлявших его писать шедевры. Он просил меня позировать, одно время я несколько раз в неделю ходила к нему в мастерскую.
Он обращался с нами с очаровательной простотой. В этом человеке не было ни капли высокомерия: прямой, откровенный, разговорчивый и полный жизни. Он был очень остроумен, никого не щадил, и ехидные фразочки постоянно слетали у него с языка.
Самым смешным было то, что он сказал о Мейссонье[37]: «Это великан среди карликов». Дега очень нравилось слушать мои рассказы о том, что происходит в Опере, особенно охотно слушал о Рейере[38], своем друге, чью музыку очень ценил.
Он делал с меня множество набросков, напоминавших всех его «Танцовщиц», с этой особой живостью линий и знанием жестов, которые сразу выдавали в нем мастера. Он не фиксировался на статичной фигуре, его интересовало движение. Художник просил меня поднять руку, согнуть ногу, встать на пуанты, принимать все танцевальные позы, какие его так интересовали.
У Форена сеансы позирования тоже проходили очень приятно. Он был женат, и они с женой прекрасно ладили. Меня изучали две пары глаз, потому что мадам Форен тоже была художницей, и пока муж рисовал меня с одной стороны, она писала мой портрет с другой. Потом нам предлагали перекусить, и за чашкой чая велись интереснейшие беседы. Очень занимательно было слушать, как господин Форен описывал кого-нибудь тремя словами так же точно, как рисовал портрет, добиваясь сходства всего несколькими мазками.
* * *
Намного позже я позировала в мастерской Жоржа Каэна, брата драматурга Анри Каэна и сына скульптура Огюста Каэна, который сделал того тигра в Люксембургском саду, которого я называла «зеленой собакой».
Мне тогда было двенадцать лет, я была хорошо развита, уже такого же роста, как сейчас, и походила на «маленькую женщину». Жорж Каэн, безусловно, находил во мне нечто итальянское и рисовал меня романтически одетую в образе графини Гвиччиоли[39] для картины «Первая встреча Байрона и Гвиччиоли». Жорж Каэн часто просил мою мать сесть за фортепьяно, и часы работы проходили под музыку Моцарта и Шопена!
Были и другие художники, другие портреты. Мы с ними постепенно познакомимся. Многим художникам удивительно хорошо удавались мои портреты и бюсты. Большинство из них не стали шедеврами, но тогда я об этом еще не знала. В любом случае, я не могу определять такие вещи, так как я не художественный критик. Сама Сара Бернар вдохновила только двух гениев. А ведь это Сара Бернар!
Глава пятая
Репетиции бок о бок со знаменитостями. — Камиль Сен-Санс. — Гуно. — Рейер и исполнительница его музыки Роза Карон[40] — Массне и Жан Ришпен[41]. — Мой друг Рейнальдо Ан. — Когда я вдохновляла Марселя Пруста… — Танцевальное фойе и его завсегдатаи. — Лента-ободок: мода, которую я ввела, сама того не желая. — Сплетни, что у меня нет ушей. — Основная балетная труппа. — Звезды: Росита Маури[42] и Сюбра. — Фаворитка Сандрини. — Моя приятельница Замбелли[43]. — Певческая труппа. — Реприза «Лоэнгрина». — Мельба и Офелия. — Верди на премьере «Отелло». — Царь в Зеркальной галерее. — Пожар в Ope€ra Comique.
Период всеобщего ко мне благоволения, хотя еще и не достиг своего crescendo[44], становился все приятнее, одаривая меня все более лестными происшествиями. Мне не только позволяли оставаться за кулисами и в гримерной после спектаклей, в которых я играла, но и разрешалось пробираться в зал или в гримерную к друзьям во время репетиций, когда моя работа уже была закончена. Более того, если шла репетиция спектакля, где я не участвовала, Педро Гайяр часто посылал за мною, сажал рядом и знакомил с авторами… Я была «в любимчиках» больше чем когда-либо!
Словно рыбка, резвившаяся в волнах, я с головой погрузилась в свое особое положение в театре, наслаждаясь каждым днем, это позволяло мне знакомиться с самыми известными музыкантами и композиторами, говорить с ними. Гайяр пользовался уважением, благодаря своим опыту и компетентности в области музыки и театра. Он стал директором Оперы вместе с Риттом в 1884 году. В 1892-м их пути разошлись, я не знаю по какой причине, но после небольшой паузы Гайяр снова занял кресло директора великого театра, на этот раз в сотрудничестве с Бертраном, который занимался административными вопросами. Бертран умер в 1901 году, и Гайяр снова остался один у руля и служил директором (на этот раз его помощником был Капуль) вплоть до 1908 года.
Гайяр был красивым мужчиной, высоким, хорошо сложенным и довольно импозантным. Угольно-черные глаза, матовый оттенок кожи, густая черная шевелюра выдавали его южное происхождение, впечатление подкреплялось обходительными манерами и тулузским акцентом. Он сделал весьма успешную карьеру певца и, когда репетировали новое произведение, сам иногда принимался петь, чтобы подчеркнуть важные нюансы, все еще глубоким и хорошо поставленным голосом. Стоя на сцене, мы с удовольствием наблюдали за нашим директором. Он представлял собою очень живописное зрелище: иногда одетый в рабочую куртку, но чаще всего с цилиндром на голове, размахивал листками партитуры и громко пел, а главный исполнитель стоял перед ним, внимательно слушая, потому что все артисты любили Гайяра и следовали его советам. Его сын Андре, очень милый мальчуган, тоже приходил на репетиции. Еще совсем малыш, он уже вовсю гулял за кулисами. Первый раз я его заметила во время показа «Фауста». Он был еще в коротких штанишках, а я в костюме ангела. При виде меня он восторженно раскрыл глаза и подошел ко мне, желая потрогать крылышки: «А они из настоящих перьев?» Мы быстро поладили, и наша дружба, возникшая еще в детстве, продолжается до сих пор. Андре вскоре поступил в консерваторию, где учился блестяще.
Он получил Римскую премию[45] за музыкальную композицию и затем писал прекрасные произведения для театра.
* * *
Камиль Сен-Санс выглядел статным и величественным. Широкий лоб, длинный нос и большая белая борода делали его похожим на библейского патриарха. Он был не очень любезен и не смущался ворчать, если что-то шло не так, как ему хотелось. Мы его боялись, тем не менее репетировать с ним обожали, поскольку он был восхитительным пианистом и аккомпанировал сам все репетиции балета «Самсон». Его любимая исполнительница, мадам Эглон, очень талантливо играла Далилу: высокая и стройная, как богиня, с миндалевидными магнетическими глазами и красивыми правильными чертами лица… Один критик так писал о ней: «В ней сочетаются величественность Юноны и изящество Венеры». Она очень эффектно смотрелась на сцене, а ее глубокое контральто трогало за душу, передавая страстные чувства ее героини. Мне не представилось возможности поговорить тогда с мадам Эглон в Опере, но позже мы встретились и стали хорошими подругами.
Я много раз видела Гуно на репетициях «Ромео и Джульетты». Этот композитор, тогда уже знаменитый лет пятьдесят, отличался удивительной простотой обращения и благодушием. У него было свежее розовощекое лицо, выражение которого всегда было спокойно и дружелюбно. Но он тоже иногда бывал требователен и часто сам садился аккомпанировать на репетициях своего балета. Несмотря на свой почтенный возраст, Гуно играл очень экспрессивно и удивительно бодро. Слушать его было настоящим праздником, и вы можете себе представить, как мы, маленькие ученицы балета, были взволнованы, глядя, как знаменитый автор «Фауста», «Ромео и Джульетты» и «Мирей» сам играл свою музыку.
Рейер был не такой общительный. Внешность его говорила сама за себя: лицо солдата с пронзительным взглядом, сухое выражение, телосложение военное, он напоминал пожилого полковника в отставке. Голос у него был грубый, повелительный, и он постоянно брюзжал. Ему ставили стул на сцене лицом к дирижеру оркестра, и композитор часто прерывал музыку резким коротким жестом, чтобы высказать свои замечания. Очень остроумный и немного насмешник, он всегда сыпал едкими словечками, но я не думаю, что он и в самом деле был злым человеком. Я видела, как Рейер репетирует «Сигурда» и «Саламбо». Первые женские роли в этих операх играла Роза Карон. Рейер ее очень ценил и, разговаривая с ней, немного смягчал тон.
Эта потрясающая трагическая актриса очень скромно, почти незаметно, начала свой творческий путь. В Консерватории она получила лишь второй приз за пение и не пользовалась любовью критиков. Не сумев покорить Париж, она работала в Брюсселе. Там и заметил ее Рейер и пригласил играть в «Сигурде» в Ла Монне[46]. Роль Брунгильды стала настоящим триумфом, и новая примадонна вернулась в Париж играть роли героинь в операх.
Роза Карон, высокая и стройная, не могла похвастаться классической чистотой черт, но она обладала бóльшим: у нее был странный характер, немного дикий, в ней словно вспыхивали яркие огни… Она восхитительно, умело передавала эту черту своим персонажам. Ее искусство было элитарным, каждый раз, когда я слушала ее исполнение в «Саламбо» или «Валькирии», меня охватывали самые противоречивые и глубокие чувства.
Еще большее впечатление на меня произвела ее роль Дездемоны в тот незабываемый вечер, когда на премьере «Отелло» присутствовал Верди. Все в Опере восхищались Розой Карон, а больше всех господин Плюк. Она очень ценила опытность Плюка и перед тем, как начать репетировать роль, советовалась с ним обо всем, что касалось мимики и жестов. Однажды вечером, когда на сцене шел «Сигурд», я осталась за кулисами после того, как выступила в роли маленького скачущего кобольда, чтобы посмотреть на великую артистку в роли Брунгильды. Из своего уголка я увидела Плюка, который, тоже спрятавшись за кулисами, смотрел на сцену и, казалось, пребывал в совершенном экстазе. Он подошел ко мне и тихо сказал: «Какое мастерство, какой образ, какие движения! Посмотри на эти прекрасные руки! Посмотри, как всего лишь одним жестом она может выразить все величие воительницы!» Плюк произнес эти слова с таким жаром, что я стала подозревать, что он втайне влюблен в Розу Карон. То, что он режиссер, не означало, что он перестал быть мужчиной… Конечно, он бы никогда не осмелился признаться в своих чувствах, я не могу представить, чтобы он бросился к ногам певицы и открыл перед ней пламень своих желаний, это бы очень ее смутило. Нет, сердце Плюка, словно в стихотворении Арвера[47], хранило свой секрет…
* * *
Я хорошо знала Массне, впервые увидела его, когда ставили оперу «Маг», либретто для которой написал Жан Ришпен. Композитор и либреттист присутствовали на всех репетициях вместе с Педро Гайяром. Закончив репетировать свою маленькую роль, я присоединилась к ждавшей меня Зенси, которая пряталась в глубине зала и очень любила смотреть, как ставят новые оперы. Но директор меня заметил и посадил рядом со знаменитостями. Мадам Массне почти всегда сопровождала мужа, но впоследствии, когда репетировали «Таис», уже не появлялась. Все были уверены, что Массне без ума от Сибилл Сандерсон, этим и объясняли то, что мадам Массне предпочитает оставаться дома.
Лицо счастливого автора стольких успешных сентиментально-лирических произведений было светлым, приятным, выражение глаз — нежным, голос — мягким. Довольно худощавый, невысокий и очень нервный, он никогда не стоял на одном месте, ходил взад и вперед вдоль кресел, выходил из зала, возвращался… Остроумия ему тоже хватало. Его слова о Сен-Сансе всем известны. Я напомню, если вы вдруг забыли. Однажды кто-то его спросил, почему он всегда говорит о Сен-Сансе столько хорошего, в то время как тот говорит о нем столько дурного. Массне ответил: «Вы хорошо знаете, что все мы обычно говорим противоположное тому, что думаем».
Жан Ришпен, тогда лет сорока, производил впечатление человека, обладавшего какой-то дикарской силой и красотой. Я вспоминаю его римский профиль, горящие глаза, крупный подбородок, тонувший в звериной бороде фавна, круглую голову, увенчанную густыми локонами, как у Тита или Марка Аврелия… Прибавьте к этому широкие плечи, могучий торс, всепоглощавшую страсть к жизни! Это был великолепный образец человеческой мощи. Писатель служил матросом, работал грузчиком, рабочим и не скрывал этого. Его первым известным произведением стала «Песнь оборванцев», взорвавшая общественное мнение, за что ему грозило тюремное заключение в тюрьме Saint-Pélage. Этим скандалом он очень гордился. Потом Ришпен опубликовал сборники стихов «Ласки» и «Святотатства», а также множество прозаических произведений, восхвалявших буянов, авантюристов и всех стоявших вне закона. Однако гораздо позже он стал членом Французской академии.
Массне, который был профессором Консерватории, приводил с собой в Оперу любимого ученика, «малыша Ана». Рейнальдо Ану было тогда, наверное, лет пятнадцать-шестнадцать: миловидный мальчик, немного толстоват, впрочем, со временем он вытянулся и похудел… Уже тогда он носил маленькие усики, из-под красивых каштановых кудрей блестели бархатные выразительные глаза. Он охотно садился рядом со мной, и мне это было приятно, все в нем меня привлекало: живость, красивый тембр голоса, энтузиазм и исходивший от него магнетизм. Я, должно быть, вызывала у него доверие, потому что он свободно разговаривал со мной об искусстве и литературе с необыкновенным для юноши знанием предмета. Беседы с ним приводили меня в восторг, казалось, что он знает все, к тому же он блистал остроумием. Однажды в Опере его спросили:
— Что вы думаете о пении Ван Дейка[48]?
— Я предпочитаю его живопись, — ответил он.
Одаренный в музыкальном отношении так же, как и во всем другом, он уже в то время сочинил и опубликовал некоторое количество вокальных произведений на стихи Банвиля, Гюго, Жана Лаора, Генриха Гейне, Леконта де Лиля, Теофиля Готье, Поля Верлена и работал над музыкой к «Серым песням» того же Верлена. Мы очень быстро стали с Рейнальдо друзьями. Поняв, что я страстно люблю музыку, он стал приносить свои новые сочинения в Оперу. Во время перерывов на репетициях мы уходили в Певческое фойе, там он садился за фортепьяно и играл свою музыку лишь для меня одной. Когда он заканчивал очередное произведение, всегда дарил мне рукопись с посвящением, поэтому у меня сохранилось много оригинальных рукописей Рейнальдо Ана, в числе прочих и знаменитое «Приношение».
После «Мага» молодой музыкант часто по вечерам приходил в Оперу посмотреть, как я танцую другие партии из своего репертуара. После выступления он ждал меня в фиакре перед выходом из театра, чтобы попрощаться. Не умея сидеть без дела, он в это время карандашом записывал приходившие в голову мелодии.
На одном из сочинений, автограф которого он мне подарил, написано: «Начато в фиакре!»
Когда мы с Зенси жили на улице Капуцинок, Рейнальдо стал другом дома. С возрастом он постройнел, черты приобрели четкость, а взгляд — глубину. Он был красив, соблазнителен, и каждый его жест гармоничен. Рейнальдо приносил с собой целую музыкальную вселенную, и наше жилище, благодаря его присутствию, становилось храмом звуков. Он пел нам песенные произведения Шуберта, Форе, Мессаже и даже целые оперные партии, которые исполнял вдохновенно и пылко, приспосабливая свой мягкий голос к любой роли, к любому регистру, выявляя в каждом произведении его особый смысл и колорит. Какая радость для нас! Я чувствовала, что музыка уносит меня туда, где находится вся суть моей жизни, откуда родом мое детство. Я все о себе рассказала Рейнальдо, о своем происхождении, обучении и перипетиях, уже многочисленных, моей карьеры молодой балерины, интересных и забавных. Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше радовались нашим встречам, без конца разговаривая о поэтах и музыкантах, которые нам нравились. Между нами расцвела сентиментальная привязанность, одновременно нежная и волнующая, дружеская влюбленность, если хотите. Мало-помалу взаимная нежность превратилась в глубокую дружбу, серьезную, неизменную, прекратить ее смогла лишь смерть моего друга.
Однажды Рейнальдо привел к нам домой на улицу Капуцинок молодого человека, которого представил как своего лучшего друга. Его звали Марсель Пруст. Он был особенным созданием: красивый, но странной красотой, густые волосы, очень черные, контрастировали с бледными впалыми щеками, небольшие, близко посаженные глаза под кустистыми бровями смотрели с особенным выражением, пронзительно и настороженно. Этот взгляд напоминал большую бабочку, в любой момент готовую улететь. Редкой тонкости черты выражали мечтательность, граничившую с меланхолией. Можно сказать, что он походил на собственный портрет. Его отличие от всех остальных сразу же бросалось в глаза. Говорил он тихо и медленно, в первый вечер держался сдержанно, но, казалось, был рад знакомству.
Они приходили ко мне вдвоем, и Марсель Пруст раскрывался все больше. Беседы шли о музыке и поэзии. Я говорила, что мне нравятся стихи Верлена, Бодлера и Рембо, делилась впечатлениями от «Лоэнгрина», «Тристана» и «Отелло». Марсель Пруст казался удивленным. Он, без сомнения, не ожидал, что простая танцовщица способна понимать серьезную музыку и утонченную поэзию. Мы втроем вели довольно доверительные беседы, такие же увлекательные, как и вдвоем с Рейнальдо. Марсель приходил в Оперу посмотреть, как я танцую, и невыразимо красиво и тонко рассуждал о моем искусстве, внешности и манере держаться.

Клео де Мерод, 1893
Спустя некоторое время он принес мне рукопись, озаглавленную: «Портрет. Для Клео де Мерод». Десять больших страниц, от начала до конца покрытых его странным почерком, легким, воздушным, причудливо сплетавшим буквы, словно лианы. Этот текст, который я выучила наизусть, был восхитителен. Словно лавина из расплавленного золота удивительных мыслей ползла по извилистому руслу стилистических изысков, волнующих поэтических образов и ситуаций, где каждое слово многозначно. Если бы я умела предсказывать, то прочла бы в этом своем портрете, составленном из прекрасных мерцающих слов, похожем на мозаики Равенны, великое литературное будущее автора. Я бережно хранила этот великолепный драгоценный подарок, свидетельство особого отношения, чем я могла по праву гордиться. Увы! Я прятала его недостаточно хорошо, во время последней войны его у меня украли вместе со многими другими ценными документами. Эту потерю я очень переживала.
Во время коротких каникул мы с моими двумя друзьями почти перестали видеться. Они почти никуда не ходили и вообще редко выезжали из Мов, полностью погруженные в работу. Ан увлеченно сочинял музыку, Пруст заканчивал свою первую книгу «Утехи и дни», для которой Мадлен Лемер[49] нарисовала много акварельных иллюстраций: цветочные гирлянды и букеты в модном тогда стиле «китайского веера». Вскоре это произведение было опубликовано с прекрасным предисловием Анатоля Франса. В нем мэтр отмечал необыкновенный талант молодого писателя, а о Мадлен Лемер написал так: «…Расточающая своей божественной рукой розы и росы»[50].
Другого случая встретиться с Марселем Прустом мне не представилось, спустя некоторое время он почти совсем перестал выходить из дома, сражаясь с тяжелой болезнью. Я же, постоянно разъезжая по гастролям, лишь наездами бывала в Париже. Я никогда не переставала поддерживать самые теплые отношения с Рейнальдо, виделись мы лишь изредка, но всегда писали друг другу письма. Вы можете догадаться, с какой радостью я следила за его блестящей карьерой.
* * *
Для того чтобы перейти в разряд «корифеев», нужно было пройти экзамен на сольное выступление. Мне повезло, и мое соло понравилось, так что я перешла еще на уровень выше, с чем меня все и поздравили. В этом классе, довольно значимом по иерархии, наша дорогая Крампон больше не сопровождала занятия своим аккомпанементом. Ее место занял Диани, «папаша Диани», бывший танцовщик, который аккомпанировал нам на скрипке. Он весьма мало походил на Жака Тибо[51], поэтому звуки, извлеченные им из скрипки, не всегда можно было назвать самыми гармоничными.
Вступив в ряды «корифеев», мы получали право посещать Танцевальное фойе[52], куда до этого наша нога не ступала. Большое событие. Мы робко входили в этот рай для избранных, но очень скоро освоились. Зал украшала роспись Поля Бодри[53], вызывавшая у нас восторг, несколько кресел и большой красный диван. Элегантные завсегдатаи, держатели абонементов, приходили сюда сразу по окончании представления. Мы с любопытством наблюдали, как они кружат вокруг примадонн, сами, впрочем, получая достаточное количество комплиментов и улыбок. В Танцевальное фойе могли пройти только те, кто посещал театр по самым роскошным билетам, это были дни шика — понедельник, среда и пятница.
Владельцы «трехдневного абонемента» принадлежали и к аристократическому обществу, и к миру финансов, и к людям творческих профессий. Граф Жак де Пуртале, худощавый блондин, и герцог де Грамон с красивыми усами сразу привлекали внимание важным видом. Герцог не довольствовался своим креслом по абонементу три раза в неделю, по понедельникам он часто еще заказывал ложу и приводил всю семью. Ведь тогда дамам было сидеть в партере не принято, там можно было увидеть лишь мужчин в обязательных вечерних черных фраках. Дамы, в великолепных вечерних нарядах и сверкавшие драгоценностями, сидели в ложах и на балконах.

Клео де Мерод в юности
К тому времени я уже знала многих завсегдатаев в лицо, вскоре узнала и их имена, а со многими начала вполне дружески общаться. Большинство присутствовавших, оставаясь верными стилю герцога де Морни[54], носили пышные, в зависимости от вкуса владельца, бакенбарды. Господин Шерами, известный адвокат, демонстрировал прекрасные их образцы, похожие на две черные котлеты, завита была только одна сторона, в зависимости от того, в какой глаз был вставлен монокль, с помощью которого он оценивал шансы танцовщиц на свое внимание. Он обожал находиться среди балетных и постоянно, скажем так, менял свои симпатии. Об этом столько говорили!
Маркиз де Моден, тоже страстный поклонник юбочек из тюля и один из самых усердных посетителей, не носил бакенбарды, зато мог похвалиться замечательной бородой, разделенной посередине и образующей два длинных остроконечных пучка.
Исаак де Камондо[55], основатель Общества любителей оперы, весьма низкорослый и совершенно круглый, всегда ходил выворачивая носки наружу и был предан балету просто фанатично. После нескольких зигзагообразных проходов по залу от балерины к балерине он фиксировал свое внимание на мадемуазель Салль, около которой затем терпеливо нес караул. Он приходился кузеном Ниссиму де Камондо по прозвищу Соломинка в глазу из-за черной повязки, скрывавшей один глаз. Он был известным коллекционером и завещал свой особняк институту, который превратился в музей Камондо.
Граф де Валон из старого и очень знатного рода, хорошо сложенный и с приятным лицом, был всегда очень галантен со всеми танцовщицами. Он устраивал грандиозные псовые охоты в своих владениях в Карецце. Говорили, что расточительность по отношению к прекрасному полу нанесла сильный ущерб его наследству.

Жан-Луи Форен. Поклонник, ок. 1872/1886
Маркиз де Недоншель, происходивший из рода чуть менее древнего, получил прозвище Сумасшедшая лапа из-за легкой хромоты. Граф де Фитц-Джеймс, красивый мужчина, владелец и страстный любитель скаковых лошадей, был мне знаком: совсем маленькой я танцевала гавоты на светских приемах, которые он устраивал у себя. Граф де Синети и господин Шаланá тоже приходились знакомыми. Они числились почетными членами Спортивного клуба, расположенного на бульваре Капуцинок. Поскольку я жила в квартире, окнами выходившей на бульвар, мы часто здоровались, приветствуя друг друга жестами, стоя у окна.
В то время, когда я была «корифеем», господин Шаланá иногда приглашал нас с матерью на праздники в Нейи, проходившие по определенным пятницам, где можно было встретить самое роскошное светское общество в дорогих экипажах. Я там очень веселилась и возвращалась домой с кучей безделушек, выигранных в лотерею.
Среди нетитулованных держателей абонемента были господин Гастон Кальман-Леви, банкиры Оппенхайм и Бишофсхайм, Леопольд Вайссвеллер и его брат Эдуард, который прекрасно играл на фортепьяно, Александр Дюваль, «Готфрид Бульонский» и три наших любимца — господа Лорийе, Рабуло и Боше. Двое первых всегда осыпали нас по первому требованию сладостями от Гуаш или Буассье. А что до господина Боше, бывшего помощника герцога Омальского и самого старинного завсегдатая Оперы, он был очаровательнейшим из людей! Не знал, что только придумать, чтобы нас побаловать! Он жил на улице Saint-Florentin, напротив баронессы Ротшильд, и ему нравилось время от времени устраивать у себя утренники в нашу честь. Баронесса занималась составлением меню, и превосходный Боше потчевал нас от души! Помню, что летом каждой приглашенной танцовщице вручалась корзиночка с клубникой. Во время этих утренников мы слушали, как актеры Comédie Française и Odéon читали стихи, и громко аплодировали этим виртуозам. Моя подруга Леонтина Бове блистала там много раз с большим успехом. Господин Боше, настоящий ангел-хранитель маленьких танцовщиц, очень заботился о них, он даже посылал нас к своей знакомой даме-дантистке, чтобы у нас зубы всегда выглядели безупречно!
Я оставалась в рядах «корифеев» всего год, в конце которого без труда перешла в группу «маленьких солисток» — рetits sujets. Именно тогда я и поменяла прическу. Мне было тринадцать лет, и мамы моих соучениц говорили, что я уже «слишком большая, чтобы выглядеть, как малышка». К тому же челка мне надоела, раздражала меня и смущала, больше я не хотела ее носить. Но избавиться от нее оказалось непростой задачей, я пробовала зачесывать ее назад, но пряди все время выбивались. Тогда я решила разделить волосы на пробор, а еще не отросшие концы челки убирать под ленту, охватывавшую мою голову, словно ободок, и скрывавшую уши. Волосы становились все гуще, длиннее и темнее, превратившись в светло-русые, но, разделенные пробором, они казались темнее, по крайней мере, на фотографиях, поэтому многие считают меня брюнеткой. C косичками тоже надо было что-то придумывать. Я стала их убирать в небрежный пучок на затылке, из которого часто выбивались локоны. Так случайно была придумана прическа «Клео», ставшая потом такой модной. Я и не подозревала, импровизируя тогда с волосами, что по поводу моей прически возникнет столько слухов и легенд. В основном из-за ушей!.. То говорили, что природа наделила меня лишь одним ухом или что у меня вообще нет ушей, а иногда — что уши-то у меня есть, но одно из них деформировано. Между тем мои уши были прекрасно всем видны, когда я танцевала в костюме Людовика XV, в парике. Тем не менее всегда встречался кто-то, упрямо утверждавший, что я лишена этих частей тела.
Спустя годы после того, как я стала носить свой знаменитый ободок, ко мне однажды пришел один американский журналист. Мы сидели и разговаривали о разных вещах, но было заметно, что мысли его были чем-то заняты. …Он очень хотел посмотреть на мои уши, это желание буквально пожирало его, не давало покоя. Наконец, он больше не мог сдерживаться, высказал свою просьбу и успокоился только тогда, когда, подойдя ко мне, потрогал кончиками пальцев сначала одно, а потом и второе мое ухо. Приходил он лишь за этим…

Клео в сценическом костюме
После первых заметных успехов на сцене мои фотографии с новой прической стали везде продаваться, и тогда лента вокруг головы произвела настоящий фурор. А между тем в этой прическе не было ничего нового. Разве так не ходили во времена итальянского Ренессанса? Большинство моделей да Винчи были причесаны так; например, на картинах «Прекрасная Ферроньера» и «Тщеславие» изображены женщины с такой же прической, скрывавшей уши. В эпоху романтизма женщины тоже носили прически с ободками и буклями, прикрывавшими уши. Можно это проверить, отыскав портреты Дельфины де Жирарден[56] и Жорж Санд. Я никогда не могла понять, почему мой ободок вызывал такой ажиотаж. Как бы то ни было, но огромное количество женщин имитировали этот стиль, в основном в артистических кругах. В какой-то момент проходу не было от дам с лентами или металлическими ободками на греческий манер. Сама того не желая, я стала родоначальницей новой моды, возникшей в самом конце века и продлившейся чуть позже 1900 года.
* * *
В Танцевальном фойе мы могли видеть солисток и примадонн, с которыми, обучаясь в младших классах, никогда не встречались. Если ты сдавала экзамен блестяще после обучения в классе «младших солисток», то переходила в класс «старших солисток» — grand sujet, выше которых были только примадонны.
Когда я стала младшей солисткой, в театре сияли две главные звезды — Росита Маури и Сюбра. Росита Маури царила в Опере уже пятнадцать лет. Испанка дебютировала в «Ла Скала» в Милане, где считалась выдающейся танцовщицей. Когда я начинала выступать со своими первыми маленькими ролями, Росита Маури была на вершине своего виртуозного мастерства и блеска, о ней говорили всегда как о первой звезде театра. Это была красивая брюнетка с хорошим цветом лица, очень живая, с огромными черными блестящими глазами, пылкая и привлекательная. От ее нервных, страстных движений, казалось, плавилась сцена, она была словно живой огонь.
Сюбра, француженка, закончила классы в Опере и служила образцом упорного труда. Красивая светлокожая девушка… ее искусство напоминало ее внешность: гармоничность во всем, точность, четкий ритм, совершенство классицизма… но не более. В ней не было ни страсти, ни оригинальности Маури. С годами она располнела и оставила балет.
Звезд второго плана звали Сандрини и Хирш. Сандрини, любимица Гайяра, в пятнадцать лет выглядела так, будто ей все двадцать пять. Она быстро прошла все классы, безусловно соблазнив директора своей рано созревшей красивой фигурой. Поскольку красавицей она не была, но сложением могла похвалиться замечательным, ее козырем были чувственные танцы с медленными движениями, представлявшими в выгодном свете ее потрясающую пластику, например роль Клеопатры в балете «Фауст». Ее выступления в «Асканио» и «Маладетте» были тоже замечательными. Успехом она также пользовалась в балете Ганна «Фрина», в котором она выступала вместе со мной в Руайане в роли Праксителя. Но ей не хватало обаяния. Когда она танцевала, на ее лице вместо улыбки было выражение скуки и усталости. У нее был сын, который стал директором Табарана[57]. Сандрини покинула Оперу вместе с Гайяром, когда он вышел на пенсию.
Я уже говорила, что Хирш, которая была старшей солисткой, когда я только начинала, танцевала замечательно, удивительно тонко чувствуя меру, но с восхитительным воодушевлением. В вариациях балета «Дон Кихот» она танцевала так, что вызывала шквал аплодисментов и криков «браво». Она легко умела совмещать грацию с напором, а пылкость с изяществом.
В числе старших солисток была мадемуазель Дезире, хорошая танцовщица, умевшая прекрасно использовать в танце ноги, но суховатая в корпусе, не очень гармоничная в общем и целом и совершенно не имевшая чувства меры. Другая хорошая балерина была мадемуазель Салль, превосходно игравшая роли травести и владевшая искусством пантомимы. Веселая и забавная, настоящая хохотушка, очень остроумная, всегда готовая ввернуть острое словечко по поводу окружающих.
* * *
Когда Маури ушла со сцены, она осталась в Опере преподавать. Незадолго до этого появились две восходящие звезды ей на смену — Замбелли и Пьоди.
Замбелли было едва ли шестнадцать лет, когда она появилась в Опере. Хорошо сложенная, одновременно гибкая и сильная, с теплым цветом лица, миндалевидными глазами и красивым, всегда готовым улыбнуться ртом. Ее танец восхищал силой и точностью движений, гораздо более мастерский, чем у Пьоди. Ей удавалось в головокружительных па сохранять стиль и изящество. Ни один волосок не выбивался из прически, улыбка не покидала лица, когда она кружилась в виртуозном фуэте, а потом замирала на пуантах лицом к публике, грациозно округлив руки, и на ее красивом лице не отражалось ни малейшей усталости или следов недавних усилий.
Мы часто выступали вместе на вечерах в Елисейском дворце и в министерствах, где она исполняла роль Бланш Мант[58], а я танцевала «Двое образуют пару», номер с танцами и пантомимой, придуманный для нас Хансеном и пользовавшийся огромным успехом, он всегда вызывал бурю аплодисментов.
Карлотта Замбелли преуспела в Опере как благодаря своему исключительному несравненному искусству, так и своей сердечности и достойному поведению, которые снискали ей всеобщую симпатию и уважение даже со стороны тех, кто без особой радости принял ее первенство в труппе. Что касается меня, то я от нее не видела ничего, кроме восхищения и ласкового отношения. Ее дружеское расположение было одной из радостей моей жизни. Всем известно, что после блестящей балетной карьеры она стала выдающимся педагогом.
Пьоди, очень красивая девушка и опытная танцовщица, начинала, как и Замбелли, в «Ла Скала». Грациозная, утонченная, с прекрасным чувством ритма, она все же не обладала божественным даром передавать пульсацию жизни и чувств в своих героинях, чем блистала ее однокурсница. Ее танец был не таким вдохновенным, больше классически выверенным.
Три сестры Мант пользовались тогда большой известностью. Они выступали по всему миру, и везде их очень ценили за нежное очарование, красоту и легкость шага.
Кроме этих звезд, на сцене блистали звездочки поскромнее и иногда проносились совсем небольшие кометы… Можно перечислять бесконечно.
* * *
Между ученицами одного класса возникала очень крепкая дружба в результате многочасовой совместной работы. Вы мне не поверите, если я скажу, что в труппе никогда не было зависти, сплетен и интриг. Мы все играли свои роли, и нам не нравилось, когда кто-то пытался отобрать их у нас, а если ролей не было, мы пытались их получить. Такова человеческая природа. Если соперничество и не проявлялось в открытую, оно все равно существовало. Маури слыла довольно зловредной и подозрительной, быстро занимала угрожающую позицию. Ее черные андалузские глаза зорко следили за теми звездочками, кто осмеливался светить слишком ярко. Если вы добивались успеха очень молодой, как я, симпатия Маури растворялась, словно утренний туман. Она довольно забавно вела себя, когда появившиеся на горизонте восходившие звезды Замбелли и Пьоди осветили ее собственный закат.
Сандрини не очень любили, и в этом есть немного ее вины, потому что она совершенно не старалась понравиться. У нее всегда был недовольный вид. Когда мы целое лето вместе выступали в балете «Фрина» в Руайане, ее лицо было всегда мрачным и она старалась не замечать меня, так что за весь сезон обратилась ко мне с какими-то словами всего один раз.
Такую желчность можно было наблюдать довольно часто, но я все же не думаю, что среди танцовщиков подобные отношения распространены так же широко, как в других артистических кругах. Это не более чем тайные манипуляции, с целью победить конкуренток. К счастью, я никогда не прибегала к интригам, чтобы навредить своим коллегам. Мой характер известен: я очень веселая, люблю шутки и дурачества, но терпеть не могу сплетни за спиной и завистливые перешептывания, поэтому всегда старалась держаться от этого в стороне. Я застенчивая, совсем не боец, каждый раз, когда я бывала вынуждена защищаться от глупой клеветы, мне это давалось очень тяжело.
В сущности, настоящий талант все равно пробьет себе дорогу, невзирая на «дворцовые» интриги. В остальном по многим причинам мы не могли тратить много времени на болтовню и сплетни. Вообще надо сказать, что танцовщицы в этой огромной труппе не так уж часто пересекались. «Корифеи» не знали имен «новеньких», так же как «солистки» понятия не имели, кто учится в «квадрилях». И потом, мы были полностью поглощены своей работой: если тратить время на плетение сетей для врагов, то сам ты ничего не достигнешь.
* * *
Всякие личные истории, влюбленности, любовные связи происходили в общем и целом втайне ото всех. Но когда личные склонности разворачивались буквально перед носом, то, конечно, вызывали внимание. Хансен охотно вертелся среди балерин. Я расскажу, как однажды, став жертвой его донжуанских устремлений, вынуждена была искать от него защиты. Мы видели в фойе Шарля Нюиттера[59], почтенного, убеленного сединами, фанатичного поклонника мадемуазель Шабо, который держал караул у объекта своей страсти. Нюиттер, автор многочисленных либретто опер, в том числе «Ромео и Джульетты», основал в Опере библиотеку художественной и театроведческой литературы, самым эрудированным хранителем которой служил сам. Он завещал туда интересные и познавательные книги из собственной очень богатой библиотеки. Пышную фигуру Шабо венчала головка с миловидным личиком субретки, она дошла до ранга «младшей солистки» и дальше не продвинулась.
За мадемуазель Салль всегда ходил ее ухажер Исаак де Камондо. Красавец же Антонен Пруст[60] не покидал своей дорогой Роситы Маури. Все привыкли видеть их вместе. Они уже были как семья. Мои коллеги вообще почти все в конечном итоге удачно выходили замуж, часто находя себе блестящие партии.
Класс «младших солисток» приходил в фойе под руководством Мишеля Васкеза. Он прекрасно преподавал и, как серьезный профессор, следил, чтобы пачки его учениц не сминались. С блеском дебютировав с фанданго[61] в «Сиде», где он танцевал с Маури, он остался первым танцовщиком труппы и, в общем-то, почти единственным. Конечно, в программе можно было прочесть имена Ренье, Ладама, Стилба и Сориа, но их задачей была скорее пантомима, а не танец.
Хансен играл во многих балетах, где делал несколько па в своей роли, но никогда не танцевал большие классические партии, оставаясь в рамках пантомимы. В те времена в балете было мало звезд-мужчин, роли юношей, как я уже писала, чаще всего играли балерины-травести. Мужчины-танцовщики вошли в моду после появления «Русских сезонов», где их было достаточное количество в труппе, и танцевали они не хуже своих партнерш, а часто и лучше.
* * *
Балетная труппа и певческая были достаточно сильно разделены. В огромной вселенной Оперы каждый оставался в своем уголке, и певцы обычно не пересекались с артистами балета. Мы видели их только на сцене, и можно было провести в Опере годы, но так ни разу и не поговорить ни с кем из них. У них было собственное фойе, куда они между тем ходили редко, по причине перемены костюма и необходимости «поставить голову на место». Своих многочисленных поклонников они принимали у себя в гримерных. А когда артисты выходили, зрители толпились около театра, как живая изгородь, чтобы их поприветствовать. В Опере не пели случайные люди, об этом шансе мечтали все звезды. Сейчас трудно представить, какое важное место в жизни общества занимали этот великий театр и его вторая часть — Opéra Comique. Балеты можно было увидеть только на этих двух сценах. Иностранные труппы не приезжали с гастролями в другие театры, а сольных концертов еще не существовало. Не было ни кино, где музыка и танец так востребованы, ни радио, утоляющего музыкальный голод стольких людей.
В те времена, когда я начинала, балет был самым процветавшим из искусств. Пользовались огромным успехом оперы из классического репертуара, не говоря уже о многочисленных новых операх, которые появлялись каждый год. Не было ничего более почетного для композиторов, чем написание оперы. Современные же музыканты пишут оперы все меньше и меньше, и, несомненно, скоро настанет время, когда их вообще перестанут писать.
Конечно, любая премьера в Опере становилась событием, в зал собиралась разодетая публика, блиставшая драгоценностями, ослепительно-белыми манишками, шелками и обнаженными плечами. Потом новую оперу долго обсуждали, важность самих певцов равнялась значительности произведений, которые они исполняли. Мы сейчас не можем представить себе, какой безумной славой пользовались великие оперные певцы в то время.
Обладавшие бельканто артисты, «священные чудовища», если можно так сказать, считались особыми существами, выше обычных смертных, они постоянно жили словно на сцене, в театральной постановке. Но это и понятно, учитывая их невероятные гонорары и тот культ, который создавала вокруг них толпа, тот фанатизм поклонников, делавших из них идолов, те преувеличенные похвалы и комплименты, какие они постоянно слышали от окружавших их лизоблюдов. Их высокое самомнение было оправданно, поскольку от их вокальных данных и артистического мастерства зависели судьбы величайших музыкальных произведений эпохи.
Безумный восторг, который сейчас вызывают Чарли Чаплин, Гэри Купер и Ингрид Бергман, может дать довольно слабое представление о впечатлении, какое когда-то вызывали у публики знаменитые теноры и примадонны.
* * *
В конце прошлого века в Опере собралась великолепная труппа оперных певцов. Мощный бас Шамбона был всем известен. Дельма, другой бас, очень красивый, вызывал огромную любовь, у него была связь с молодой артисткой, которая играла пажей. Она с ума по нему сходила и, когда он женился на другой женщине, пыталась покончить с собой. Среди теноров выделялся Эскале, чей громоподобный голос прекрасно звучал в партии Рауля в «Гугенотах», но физическими данными он был обделен и скорее походил на Квазимодо, чем на Аполлона. Он был очень низенького роста, коренастый и носил высокие каблуки, чтобы казаться выше. Ян де Решке, одаренный со всех сторон — и физическими данными, и прекрасным голосом, — создал самого очаровательного Ромео, которого можно только себе представить. Он был долгое время фаворитом публики. Салеза также входил в число самых известных теноров. Еще один тенор, Селлье, сделал потрясающую карьеру, он был средоточием исключительных достоинств, а сделал себя из ничего: простой рабочий в винном магазине в молодости, он пел, наполняя бутылки, подпевая стуку молотка сапожника Ла Фонтена. Однажды мимо проходил один знаток музыки и поразился, услышав голос такой чистоты и звучности. Он вытащил Селлье из этой лавчонки и, обучив его, привел на прослушивание в Оперу, в результате чего певец получил контракт на исполнение главных партий. Я слышала его пение в «Фаусте» и «Сигурде». Он был великолепен. Также он играл в «Аиде» вместе с Лассалем и мадам Краусс. Последняя обладала звучным сопрано звенящего тембра. Другой замечательной певицей была мадам Рене Ришар, величественное контральто, которая пела партию Фидес в «Пророке». Она часто гастролировала в Америке, где публика носила ее на руках.
Феерическая судьба Селлье удивительным образом напоминала жизнь Делны. Долгое время желающим показывали место, в Ба-Медоне, где она провела детство. Потом молоденькая служанка пела за мытьем посуды, даже не подозревая, каким сокровищем наделила ее природа. Один из гостей ее хозяев как-то это услышал и пришел в восторг. Он оплатил ее занятия с преподавателями, она прошла обучение, и ее дебют в Opéra Comique произвел фурор. Вся пресса писала, что сам дух пения воплотился в этой девушке. Триумфальные выступления во втором по значению театре обеспечили Делне контракт с Оперой.
Фьерен была одарена не меньшим по силе голосом. Это она пела в «Маге» вместе с Ласаллем, обладателем прекрасного баритона и очень хорошим актером. Возможно, еще помнят, что у меня была небольшая роль в балетной части этой оперы. Когда Ласалль встречал меня за кулисами, он всегда галантно кланялся и приветствовал словами: «Здравствуйте, мадам Рекамье[62]!» Произведение прошло на сцене всего несколько раз, несмотря на талант исполнителей. Однако Ласалль после этого с триумфом играл и многие другие роли.
Я уже говорила о том необыкновенном влиянии, которое имела Роза Карон на публику. Когда она пела в «Саламбо» и в определенный момент обращалась к своему партнеру Салеза, игравшему Мато, овации достигали такой силы, что становилось страшно: вдруг это навредит исполнителям. Кстати, такая неприятность произошла 20 мая 1896 года, в тот день Роза Карон пела в «Гелле». Я не знаю, были ли тому причиной невероятно громкие аплодисменты, но цепь, на которых держался противовес люстры, порвалась: он рухнул, пробив метровую брешь в двух галереях, в клубах пыли и штукатурки была насмерть задавлена зрительница, сидевшая на четвертой галерее.
Люсьена Бреваль[63] дебютировала очень молоденькой в «Вильгельме Телле», знаменитой опере Россини, где играла роль ребенка с яблоком. Впоследствии ее превосходное меццо-сопрано и мастерская игра лучше всего подходили произведениям Вагнера, который всегда испытывал неизменную преданность по отношению к этой непревзойденной трагической актрисе.
Но где найти слова, чтобы описать головокружительный успех и невероятнейшую славу знаменитых иностранных артистов, которые, выступая в Опере, наслаждались новым, но ничуть не меньшим, чем на родине, триумфом? Я помню тот экстаз, в который меня, еще совсем ребенка, привел волшебный голос Патти. А Мельба[64]! Она родилась в Мельбурне, отсюда и ее сценическое имя. Кто-то однажды сказал об этой звезде: «Своим девизом ей надо выбрать слова „Veni, vidi, vici“[65]. Она завоевала все сердца». Принадлежавшая труппе Ковент-Гардена, она приезжала с гастролями и в Оперу. Я имела счастье видеть ее в роли Офелии. Певший с ней Ласалль был идеальным Гамлетом. Мельба была очень красива, обладала сопрано широкого диапазона и хрустального тембра. После ее вокализов удивительной нежности и прозрачности зал взрывался аплодисментами. Восторг публики просто невозможно было описать!
Я слышала и Айно Акте[66], еще одну пленительную диву. Ее голос был необычайно высоким и чистым. Раньше эту певицу называли «шведский соловей». Она пела в Опере несколько сезонов, и ее приезд всегда очень широко освещался. Ее исполнение партии Джульетты было совершенно.
Среди выдающихся вечерних представлений, которые словно свет маяка освещают мою память, назову репризу «Лоэнгрина». Какие воспоминания!.. Еще более глубокие чувства, возможно, я испытала во время премьеры «Отелло». Роза Карон исполняла партию Дездемоны, мадам Эглон — партию Эмилии. Яго играл Виктор Морель[67], артист мощной экспрессивности, а Мавра изображал Таманьо[68]. Таманьо! Исключительный тенор магической внешности, поразительный актер: сама жизнь, искренность, подлинность — это был воплощенный Отелло! Все артисты пели по-итальянски. Слова, написанные Арриго Бойто[69], и мелодичные звуки текста удивительно точно ложились на музыку Верди. Итальянские оперы всегда надо петь на оригинальном языке.
Настоящий фурор, гром аплодисментов, ураган «браво»! Весь зал стоя вызывал артистов на бис раз за разом! Опустить занавес просто не получалось! Верди, великий Верди, сидел в директорской ложе. Да, Верди собственной персоной! В тот вечер я играла в дивертисменте маленькую венецианку. Когда я закончила танцевать, то поспешила в зал, в глубину ложи маркиза де Модена, который меня пригласил. Он со мной заигрывал, как и со всеми танцовщицами. Но мне было не до него! Все мои мысли были поглощены Верди, я погрузилась в созерцание его фигуры. Он скромно сидел в углу своей ложи, облокотившись о край. Несмотря на это, я прекрасно разглядела его красивое худое лицо c выпуклым лбом, большими, немного навыкате глазами, грустными и нежными… Это серьезное лицо художника, на котором заботы и горести оставили свой след, обрамляли седая борода и волосы. После финала все зрители повернулись к его ложе, устроили ему овацию и кричали: «Автора! Автора!» Но он еще глубже забился в полумрак ложи, так и не вышел к публике и этим вызвал еще большее мое восхищение.
* * *
Иногда хористы вместо слов либретто пели какую-нибудь отсебятину, что нас безумно смешило. Персидскому шаху, посещавшему Париж, предложили посмотреть оперу «Сид». Когда начался испанский дивертисмент, хор вместо положенного «Альза! Альза!» начал громко завывать нечто вроде: «В’ла И’шах! В’ла И’шах». Публика, разумеется, ничего не поняла, но мы на сцене задыхались от смеха. В те времена развеселить нас ничего не стоило…
Визит русского царя и царицы произвел гораздо больше шума, чем шах. В их честь в Опере было устроено очень изысканное представление. Роскошное праздничное убранство театра было и впрямь императорским. Красивейшие ковры из запасников украшали главное фойе, где гостям был предложен прекрасный фуршет, в середине красовался корабль, целиком сделанный из цветов, в честь русской морской эскадры. Да и вообще весь театр утопал в цветах, это был настоящий пир цвета и аромата.
Также по поводу приезда правителей России устраивали большой прием в Версале, где участвовали актеры Оперы. Это было в начале осени 1896 года. Царь и царица в сопровождении президента Феликса Фора были встречены Пьером де Нольяком[70] во дворце, за несколько дней преобразившемся, благодаря стараниям большого количества рабочих. Царским особам предложили прогуляться по парку и посмотреть на прекрасные фонтаны, струи которых переливались на солнце. Потом был обед в Галерее Битв при свечах в зале с гобеленами.
День закончился представлением в салоне Геркулеса. Сцена располагалась перед огромным камином, увенчанным портретом Людовика XIV на коне работы Миньяра. Там Сара Бернар, в платье, украшенном перламутром, в котором она походила на высокую нимфу в белой тунике, декламировала стихи, и ее неземной голос вызывал удивительные чувства. Наша балетная труппа представляла спектакль по мотивам старинных танцев, режиссировать его Педро Гайяр когда-то поручил Хансену для воскресных концертов в Опере.
«Для выступления перед такой аудиторией были выбраны Клео де Мерод и самые гибкие балерины из Большой Оперы. Французские танцы былых времен, от паваны до менуэта, столько раз уже танцевали в этих стенах придворные! Олимпийские боги с потолка, расписанного Лемуаном, услышат снова музыку Люлли[71] и Рамо[72], которая столько раз уже здесь звучала и которую, возможно, они уже не услышат больше никогда»[73].
Мне поручили танцы времен Людовика XIII, которые я танцевала в костюме той эпохи, вместе с соученицей, переодетой в галантного кавалера. Выписывая фигуры своей паваны, я старалась разглядеть получше высоких гостей, застывших неподвижно в своих золоченых креслах и не проявлявших особенного оживления. Лицо Николая II, холеное и гладкое, как на придворном портрете, выражало скрытое официальной любезной улыбкой беспокойство. Александра, совсем молодая, стройная и гибкая, в роскошном голубом туалете, мерцавшем бриллиантами, выглядела величественно. Она была красива, но холодной красотой, и ее фарфоровое лицо, непроницаемые глаза, отстраненная улыбка заставляли меня думать о меланхолическом характере их обладательницы.

Клео де Мерод и ее знаменитая прическа с ободком, 1896
Государи поднялись с кресел и, приветствуемые со всех сторон, в сопровождении блестящего кортежа направились к карете в Мраморный Дворик, освещенный электрическими гирляндами. Этим же вечером царь и царица отбыли в Шалон, где на следующий день должны были присутствовать на большом военном параде.
* * *
Еще одно незабываемое впечатление, но на этот раз трагическое: пожар в Opéra Comique, в то время директором был Карвальо. Я не очень хорошо помню этот год, должно быть, училась во втором квадриле, когда произошла эта катастрофа. В тот вечер давали «Пророка». Мы собирались танцевать свой номер конькобежцев, когда пошли шушуканья, что горит Opéra Comique. Вся труппа во главе с Педро Гайяром поднялась на крышу Оперы. Зрелище открывалось фантастическое. Огромный столб красного пламени, откуда со всех сторон вырывались огненные языки и в середине которого мы явственно различали каски пожарных. Жар достигал даже того места, где мы стояли. Горло у нас сжалось от горя. Гайяр, вне себя, все повторял: «Бедный Карвальо! Бедный Карвальо!» Даже на следующий день пожар не был окончательно потушен, и директор снова повел нас на крышу. Мы смотрели, как пожарные спускались и поднимались по огромным лестницам с сумками за плечами, а в сумках лежали обуглившиеся тела. Это было ужасающе. Когда мы узнали, что в пожаре погибло много балерин, нас стали мучить ночные кошмары.
За время, проведенное в Опере, я видела трех дирижеров за пультом: Таффанеля, в прошлом флейтиста, Мангена и Поля Видаля. Последний был еще и композитором, автором балета «Маладетта», очень благосклонно принятого публикой, либретто которого написал Гайяр. Ободренный успехом, Видаль взялся за новое произведение — оперу в четырех актах «Бургундка» — по либретто, написанному Эмилем Бержера в сотрудничестве с Камилем де Сент-Круа. На репетиции можно было попасть, купив билеты, а средства шли на памятник Шарлю Гарнье[74]. Но это произведение довольно быстро сошло со сцены. Критики писали не просто жестко, но порой жестоко, и Поль Видаль, уязвленный этим отношением, которое считал несправедливым, больше для театра не писал.
Часть II
Звезда балета
Глава первая
Мне, как балерине, сопутствует удача. — Женщина, которую фотографируют больше всех в мире. — Меня выбрали королевой красоты, несмотря на Мельбу, Сесиль Сорель[75]и Сару Бернар. — Статуя Фальгьера[76]. — Мы переезжаем на улицу Капуцинок. — Терраса с видом на бульвары. — Я получаю предложение играть роль Фрины в Руайане. — Мое первое большое путешествие: «Тристан и Изольда» в Мюнхене. — В Австрии: возврат к корням. — Воспоминание о Бетховене в Медлинге. — Цена славы. — В моей жизни появляется любовь. — Помолвлена…
Когда я вспоминаю, как начинался мой путь в балете, мне кажется, что какая-то божественная рука забрала меня из гнездышка на улице des Écoles и поставила на сцену Оперы… Удача, благодаря которой я стала в очень нежном возрасте обласканной публикой и начальством артисткой, тоже представляется мне просто волшебной. Я была вполне счастлива своей судьбой и не желала ничего лучшего, чем следовать в этом прекрасном театре своему пути танцовщицы.
Мои шансы на успех были тем более высоки, что никто в театре не мог мне навредить благодаря симпатии и отеческому отношению Гайяра, который почти с самого моего поступления не переставал печься обо мне. Было и еще одно, благодаря чему я стояла особняком: я не была ни на кого похожа, и новая прическа с ободком только подчеркивала мою непохожесть, потому что все танцовщицы носили волосы заколотыми в высокие пучки, обнажавшие затылок и виски. В общем, можно сказать, что я была в единственном числе, а все остальные — во множественном.
Когда критики начали осыпать меня похвалами, а газетчики поминать мое имя чуть ли не каждый день, мне стали поступать приглашения сниматься у знаменитых фотографов: Бенка, Оге, Ретлингера, Мануэля. Начав посещать их мастерские, я, словно ученик волшебника, открывший запретный сундук, выпустила на волю ураган, который остановить было невозможно. Лучшие фотографии бессовестно копировались и выпускались в виде открыток в бесчисленном количестве. Их продавали почти везде, и любой за несколько су мог позволить себе иметь под рукой фотографию «Клео», танцовщицы с лентой вокруг головы. Театральные брошюры и журналы под любым предлогом печатали мои портреты с лирическими комплиментами в мой адрес.
События, которые последовали за этим, словно волны, набегающие на берег, только содействовали этой моде публиковать мои портреты по поводу и без повода. Первым стало мое избрание королевой красоты в 1896 году.
* * *
Тогда не существовало таких конкурсов красоты, как сейчас, когда соперницы выходят на сцену, раздетые до белья. На этих конкурсах выбирают Мисс Францию, Мисс Европу или Мисс Вселенную, но этим «королевам» они приносят лишь преходящую славу, поскольку повторяются каждый год. Конкурс, о котором я говорю, никаким, даже малейшим образом меня не затрагивал и тем более не подразумевал, что я буду вертеться так и сяк под взглядами какого-то жюри. Инициатором этой избирательной кампании был Рене Баше, директор журнала L’Illustration. Он собрал «панораму красоты» в форме фотоальбома, состоявшего из ста тридцати одного портрета известных артистов театра, которые считались самыми красивыми в то время. Эти портреты были выставлены в зале депеш в «Эклер». Людей просили проголосовать за самую красивую актрису на свете. Для голосования в провинции альбом был напечатан.

Клео де Мерод. Открытка
Моя голова фигурировала там по крайней мере три раза: в анфас, в профиль, с разными прическами. Под одной из этих картинок можно было прочесть следующий комментарий без подписи: «Эта красивая женщина — самая востребованная фотомодель в Париже, и не без причины! Можно бесконечно смотреть на эти бархатные глаза, белоснежные зубы и изящную фигуру в томной позе». Под другим портретом красовалось такое личное мнение… тоже анонимное: «Самый прекрасный цветок балетной труппы Оперы. Она пришла к успеху с помощью головы, а не ног. Этот ободок уже известен по всему миру». В этих словах сквозила легкая ирония, поскольку я все-таки в первую очередь была балериной.
Голосование, по правде говоря, не могло истинно отражать мнение всех жителей Франции, поскольку всего набралось 7000 голосов. Но как бы то ни было, я набрала большинство голосов, и этот конкурс, которым я вообще не интересовалась, был разрекламирован во всех журналах. Скипетр королевы красоты достался мне благодаря 3076 голосам. Второе место заняла Сибилл Сандерсон с 2295 голосами, а третье — Ванда де Бонеза, получившая 1884 голоса. Среди тех, кто шел далее по списку, были следующие имена (в том же порядке): Сесиль Сорель, Отеро, Кассив, Эглон, Сегонд-Вебер, Мельба, Джейн Хейдинг, Марта Бранде, Бартет, Эмма Кальве, Андре Мегар, Сара Бернар, Рейян, Лавальер, Жанна Гранье, Баретта, Сюзанна Райхенберг.
После этого мои фотографии стали тиражироваться больше обычного. В последние годы века продажа моих портретов достигла невообразимых масштабов. На витринах магазинов они красовались на почетном месте между Эдуардом XII и Вильгельмом II.
После выступлений в больших городах за границей я сразу замечала у лоточниц, продававших газеты и журналы, и на книжных развалах на вокзале целую россыпь открыток с моим лицом. Если я появлялась на улице, за мной тут же бежала стайка девчонок с просьбой поставить на открытке автограф. Это превращалось в настоящее преследование, так что в конце концов я просто старалась не покидать гостиничный номер.
* * *
В тот 1896 год со мной происходили разные лестные и удивительно приятные события, и даже если бы какой-то злой гений решил меня погубить любой ценой, все равно ничего бы не изменилось. Почти одновременно с моим избранием королевой красоты произошла история со статуей Фальгьера.

Клео де Мерод. Открытка
Фальгьер, знаменитый скульптор, автор многочисленных статуй, признанных шедеврами, был родом из Тулузы, как и Гайяр, с которым он близко дружил. Он часто посещал Оперу, однажды вечером в Танцевальном фойе вдруг остановился передо мной, замерев, потом представился и начал мне говорить разные приятные вещи. Он внимательно рассматривал меня с разных сторон, в анфас, в профиль, чуть сбоку, а потом без предисловий прямо попросил прийти к нему в мастерскую позировать для бюста. Это был невысокий седеющий мужчина уже довольно пожилого возраста, но энергичный, с бодрым громким голосом, в котором явственно звучал гасконский акцент. Я не знала, что ему ответить, и растерялась. У меня не было столько свободного времени, и вообще… позировать для скульптора… Что может от меня потребоваться? «Ну что ж, мое прекрасное дитя, вы согласны?» Он очень упорно настаивал, так что в конце концов я довольно робко ответила «да». Тем не менее сочла необходимым уточнить:
— Но ведь речь идет только о голове, господин Фальгьер?
— Безусловно!
Когда моя мать, никогда не бывавшая в Фойе, услышала эту новость, то заняла твердую позицию: «Ты не должна была этого обещать! Но что теперь поделать! Конечно же, я пойду с тобой!» И мы отправились на улицу Assas, где у Фальгьера находилась мастерская.
Старый художник не торопился. Сначала он сделал маску, очень удачную, необычайно похожую на оригинал. Как ни странно, но эта заготовка была украдена из шкафа, куда ее положил скульптор. Мы так и не узнали разгадку этого происшествия, очень рассердившего Фальгьера. Затем он взялся за саму скульптуру, вылепливая мое лицо из комка глины. Работа продвигалась медленно, он все уничтожал и начинал снова и снова, пока результат не начал ему нравиться. Работа требовала нескольких сеансов позирования. Произведение получилось в конечном итоге неплохое, но гораздо хуже пропавшей маски, по моему мнению.
Наконец, художник вылепил из глины голову и шею, соответствовавшие его задумке. Я уже считала свою задачу выполненной и собиралась уходить, когда Фальгьер, все еще не вполне довольный, попросил меня слегка расстегнуть корсаж, чтобы он мог изучить мои плечи, и снова принялся за свою глину. После плеч он захотел, чтобы я приоткрыла грудь. Помня о нашей договоренности, я отказалась. Пытаясь сломить мое сопротивление, он громко сказал дрожащим голосом: «Искусство не только оправдывает, но и требует жертвы! А красота имеет все права! Разве Паулина Боргезе не позировала во всей роскоши своей наготы для Кановы? Если бы из стыдливости она отказалась это делать, мир был бы лишен прекраснейшего шедевра! Вы что, целомудренней сестры Наполеона?» Он продолжал с горячностью меня уговаривать, приводя и другие убедительные примеры, но я не позволила ему себя упросить и твердо стояла на своем: «Нет, мой дорогой мэтр, нет! Того, что есть, вполне достаточно! Почему бы не оставить этот бюст таким, какой есть? А если вы хотите целую фигуру, почему бы вам потом не поработать с кем-нибудь из ваших обычных натурщиц? Чтобы никто не подумал, что я позировала обнаженной, я прошу вас сделать статую с легкой драпировкой».
Фальгьер, немного разочарованный, тем не менее был признателен мне за услугу, рассыпался в благодарностях и затем принялся за статую уже без моего участия. Сам ли он работал с мрамором или поручил эту часть ученику? Точно сказать не берусь. Это произведение было выставлено в Салоне под простым названием «Танцовщица». Фальгьер меня не послушал: его «Танцовщица» была полностью обнажена. Это была молодая женщина c прекрасной фигурой в изящной позе, совершавшая руками какое-то замысловатое движение. Ее тело, стройное, нежное, миниатюрное, могло принадлежать девушке лет восемнадцати — двадцати. Но этот дьявол Фальгьер подчеркнул сходство статуи со мной, чего не делал на сеансах. Теперь же все: профиль, ободок, прическа в греческом стиле с пробором — все было детально вылеплено, точно скопировано! Неудивительно, что зрители то и дело вскрикивали: «Это же Клео!»

«Танцовщица», скульптор Жан Фальгьер, 1896
Поднялся довольно шумный переполох. Пресса охотно тиражировала историю, и, так и сяк обсасывая подробности, слухи достигли даже заграницы. Лавина писем и газетных статей, постоянные атаки журналистов, которые штурмовали мои двери! Их обескураживавшие вопросы по поводу этой несчастной «Танцовщицы»… Я довольно четко пояснила, что позировала лишь для бюста, но никто мне не верил. Я страшно злилась, но ничего не могла поделать с убеждением, которое уже намертво засело в головах.
Охваченная неясными подозрениями, я долго не решалась пойти на вернисаж. О, как же я была права! Мы лишь однажды появились в Салоне той весной, что очень нас огорчало, потому что мы с Зенси никогда не пропускали этих выставок. Меня часто спрашивают, что стало с той статуей. Ее тут же купили, еще до закрытия Салона, я не знаю, кто это был и в какой коллекции она находится сейчас[77].
* * *
Вернемся в 1896 год. Из-за того что работа становилась все напряженнее, поскольку роли я получала уже серьезные и требовавшие упорных репетиций, улица de la Terrasse стала тоже казаться слишком удаленной от театра. Я всегда так боялась опоздать, что под обычную одежду надевала элементы балетного костюма и начинала раздеваться уже на лестнице. Я мечтала жить рядом с Оперой, чтобы не тратить время на дорогу, и часто говорила об этом желании нашим друзьям Бове. И вот мадам Бове, прогуливаясь, нашла для нас очень милую квартиру на улице Капуцинок. Дом стоял на углу улицы и бульвара, а квартира, понятное дело, находилась очень высоко, на пятом этаже. В доме, очень красивом с виду, была большая дверь с навесом и лестница, как в замке. В нашем распоряжении было множество комнат, некоторые из них выходили в очень красивый круглый внутренний дворик, но окна большой гостиной смотрели на бульвар. Света было много благодаря двум верандам, выходившим на большую террасу, которую мы закрыли тентом из тюля и поставили там много горшков с цветами. Получился прелестный висячий сад, в хорошую погоду мы там обедали. Это было очень приятно и доставляло нам много радости!
Вместо полной тишины и спокойствия на улице de la Terrasse до нас доносился постоянный уличный шум: автобусы, шедшие по маршруту Madeleine-Bastille, бесчисленные повозки, сигналы фиакров, топот и фырканье лошадей, все многоголосье людного бульвара… Этот гомон первое время мешал нам спать по ночам. У нас не было ни центрального отопления, ни горячей воды, но в большой гостиной была огромная фаянсовая печь, совсем недурная с виду. Чтобы помыться, приходилось заказывать горячую воду с улицы Волни, нам привозили два больших резервуара из кожи, полных кипящей воды. Двое мужчин с трудом затаскивали к нам наверх это средневековое приспособление, один из них, водонос, тащил резервуары на коромысле, перекинутом через плечи. Процедура на первый взгляд кажется сложной, но все проходило довольно гладко. Кстати говоря, все это не длилось долго, потому что через несколько лет я сделала в квартире нормальную ванную комнату.
Внизу открылась пивная от пивоварни Туртель, там было очень оживленно, людно, и цыганский оркестр развлекал музыкой разнежившихся от щедрых порций гостей. Кухня там была вкуснейшая, мы попробовали много фирменных блюд, например запеченные телячьи котлеты с соусом бешамель и теплым салатом. Когда там были «котлетные дни», мы посылали горничную взять нам несколько порций.
Улица Капуцинок!.. Сколько воспоминаний о годах, прожитых там! В этой квартире я пережила столько светлых, веселых, ярких, неожиданных, бурных и необыкновенных моментов. Я бы хранила об улице Капуцинок только самые счастливые воспоминания, если бы жизнь там не была прервана самой горестной из утрат.
* * *
После долгих лет семья моей матери, горя желанием вновь увидеть ее и познакомиться со мной, убедила ее приехать в Австрию вместе с дочерью. Тщательно все продумав, мы запланировали путешествие на весну того же 1896 года. Самым сложным делом было получить разрешение директора. В Опере в то время отпуск для танцовщиц вообще не был предусмотрен, а тем более «оплачиваемый». Можно было получить иногда лишь пятнадцать дней в середине лета, и мы готовились к ним очень заранее. Этой милости я удостоилась два или три раза. Но мой туристический размах ограничивался двумя поездками в Дьепп и одной в Лушон. Вот и все, что я знала об огромном мире.
Тогда моя нога еще не ступала за пределы Франции, и от радостной перспективы отправиться в Австрию по телу бежали мурашки. Наконец-то я увижу родину своей матери, познакомлюсь с дядями, от которых она мне столько рассказывала, поеду в разные незнакомые города, где меня ждут интересные неожиданности… Я еле дождалась встречи с Педро Гайяром, чтобы поговорить с ним о наших планах, но сказала об этом как бы между прочим, стараясь прощупать почву. Мне казалось, что он считает такие намерения неприемлемыми, поэтому я не без страха прямо сказала ему, что мы получили от дядей письмо, в котором они торопят нас приехать, маршрут уже расписан, и мы ждем только его позволения.
Добряк улыбнулся: «Договорились, есть у тебя разрешение уехать на три недели. Все-таки речь идет о том, что ты увидишь свою родину! Но это исключение я делаю лишь для тебя!»
И вот, когда мы уже упаковали чемоданы, мне совершенно неожиданно пришло очень интересное письмо от господина Кудера, директора Гранд-Казино в Руайане. Он предлагал мне роль Фрины в одноименном балете на музыку Луи Ганна, а либретто Огюста Жермена. Предоставлялись все костюмы вместе с сотней франков гонорара в день, что мне, тогда получавшей меньше трехсот франков в месяц, показалось громадной суммой. Мне впервые предлагали ангажемент, и предложение было крайне лестным, поскольку речь шла о еще неизданном произведении. Мама с горящими глазами читала и перечитывала письмо господина Кудера и испытывала огромную радость. Конечно, я согласилась, не колеблясь ни минуты. После длительных переговоров между Педро Гайяром, Кудером и мною было достигнуто соглашение, и договор был подписан 15 июня. Гайяр никоим образом не препятствовал моему выступлению в Руайане, он был тем более расположен к этому проекту, что его хорошая подруга Сандрини тоже была ангажирована Кудером: в балете Ганна она играла роль Праксителя.
Но все это требовало нашего скорейшего приезда в Руайан, к концу июля, когда начинались репетиции балета. Премьера планировалась примерно на первое августа. В результате наше пребывание в Австрии могло стать очень коротким.
* * *
Итак, следовало торопиться изо всех сил, и мое первое большое путешествие было похоже на вспышку молнии. Передо мной прошли, как во сне, Мюнхен и его храм пива, «Хофбройхаус»[78], Театр Принца-Регента, где мы аплодировали «Тристану и Изольде», наконец, Пинакотека[79], из-за затянувшегося визита в которую мы пропустили поезд в Зальцбург. Простите, Моцарт, за небольшое опоздание на эту встречу, которую так давно назначил Рейнальдо Ан!
Моя мать многого ждала от подъема на Шатберг, она сохранила самые яркие воспоминания об этом с детства. Фуникулер все еще работал, и в четыре часа утра гонг отеля, расположенного почти на вершине, разбудил нас, чтобы мы отправились в путь с восходом солнца.
Как только мы спустились с гор, сразу же отправились в Вену, где нас ждали дядя Шарль с женой. С дядей мне было тем более приятно познакомиться, что он оказался поразительно похож на Зенси: те же бархатные глаза, светлая кожа, шелковистые темные волосы… Раньше мне мама говорила, что их разница в возрасте совсем не чувствовалась, их часто принимали за близнецов. Шарль, человек очень симпатичный, был полон жизни, бурлил идеями и жил лишь искусством. А тетя Польди, наоборот, показалась мне спокойной, рассудительной, очень привязанной к дому и детям — идеальный управляющий, поглощенный своими обязанностями. Несомненно, разные, они, как ни странно, были очень гармоничной и дружной парой.
В Вене мы прошли по всем знаменитым туристическим маршрутам, но самые яркие мгновения, самые волнующие переживания во время этого возвращения к корням я пережила в Медлинге с его светлыми, тесно стоящими друг к другу домами на фоне восхитительного сельского пейзажа.
«Давай, наконец, посмотрим на мой родной дом!» — сказала мать. Старый фамильный дом нам больше не принадлежал: его продали, когда мать и ее братья делили наследство. Но новые владельцы, добрые понимающие люди, открыли перед нами большие ворота и пустили осматриваться столько, сколько мы захотим. Сколько сложных переживаний, сколько нежности вызвало во мне это путешествие в мир, где Зенси была девочкой, а потом и девушкой и который она мне так любовно описывала!
Смежный дом тоже был частью фамильного имения, и мы пошли посмотреть на него поближе. Это было, несомненно и сейчас есть, здание с термальными бассейнами Медлинга. Оно было построено как лечебное заведение для страдавших ревматизмом.
Мама до этого больше говорила о Медлинге, чем о Вене, рассказывала мне красивую историю об этом термальном источнике. Суровая тетя Катерина, которая ее воспитала, тоже проводила в Медлинге каждое лето, когда была ребенком, и поскольку санаторий принадлежал ее родителям, она свободно там гуляла, где хотела. И вот в Медлинг приехал Бетховен, великий, несравненный Бетховен приехал в санаторий, чтобы облегчить свои страдания! Как-то раз тетя Катерина, тогда семи или восьми лет, играла и баловалась в одном из коридоров рядом с купальнями. Двери купален закрывались при помощи защелки, которая держалась просто на палочке. Девочка увидела, что одна из дверей закрыта неплотно, и из любопытства заглянула в щелку. Ее глазам предстал спектакль, который она с тех пор не могла забыть: полуголый Бетховен отбивал такт при помощи той самой палочки-задвижки. Он, видимо, собирался уже выходить, но тут ему в голову пришел какой-то мотив, и он принялся дирижировать невидимым оркестром, схватив первое, что попалось под руку, и совершенно забыв о термальной воде и купальне!
Но вот пришло время нам уезжать. Мы с сожалением оставляли это красивое место, населенное нежными воспоминаниями и дорогими сердцу тенями прошлого! Нас ждала экскурсия в Верхнюю Австрию. Мы поехали на поезде в Штайр, где жил дядя Фердинанд, старший брат матери. Он тоже был очень похож на нее, но на меня еще больше! Мое лицо почти в точности повторяло его черты: у нас были одинаковые голубые глаза, линия профиля, оттенок каштановых волос, чуть светлее, чем у матери и дяди Шарля.
Брат и сестра были очень растроганы встречей, и дядя раскрыл мне объятия, словно я была его дочерью. Моя тетя Реси, красивая женщина, обладала ангельским характером. Веселая и непосредственная, она сразу завоевала наше доверие прямотой и искренностью, окружила нас обеих заботой и любовью. Мы провели несколько радостных, быстро пролетевших дней в их гостеприимном доме, где все было устроено с изысканным вкусом.
* * *
Обратная дорога подарила мне еще больше чудесных впечатлений и красивых видов: озеро Констанц, Цюрих, Шаффхаузен, Рейнские водопады, однако все это мы осмотрели очень бегло. Мы больше не располагали свободным временем, чтобы совершать долгие прогулки: срок, отпущенный мне на отпуск директором, истекал, я должна была вернуться в Оперу в назначенный день.
Стремительное путешествие, во время которого мы успели столько увидеть и пережить, подошло к концу. Вернувшись в Париж, я чувствовала себя так, словно очнулась от волшебного сна.
* * *
Читатель, вероятно, хотел бы спросить меня: «Во время этой поездки вы же не превратились в невидимку? Наоборот, вы должны были стать сенсацией! На вас, конечно, смотрели восхищенно мужчины? Почему вы не рассказываете о галантных поклонниках, осаждавших вас с разнообразными предложениями, в том числе и замужества? Возможно, некоторые из них удостоились внимания? Мы ждем любовных историй, которые, безусловно, ждали вас на пути!»
Да, были и томные взгляды, и комплименты, и пара записок и банкнот, переданных для меня портье отеля или ресторана. Я не вела этому учета. И да: я кое-кого полюбила, поэтому другие мужчины для меня не существовали. Вот что, несомненно, удивит любителей сплетен обо мне.
Рассуждения о цене репутации не просто пустые слова. Поскольку я была знаменита, благодаря и моим успехам на сцене, и красивой внешности, мне приписывали невообразимое количество невероятных историй, нелепых эпизодов и массу авантюр галантного характера, во главе которых связь с императором Леопольдом II!
Все эти домыслы — отсутствие ушей, «личный шофер-негр», хотя у меня и машины-то не было, постоянные посиделки в Maxim’s, хотя я никогда там не была — не имели к реальности никакого отношения и существовали лишь в изобретательном мозгу распускавших эти истории сплетников.
Я была такой же женщиной, как и все остальные, совершенно обыкновенной, довольно застенчивой, чрезвычайно эмоциональной и в глубине души уязвимой. Очень часто танцовщиц считают существами капризными, взбалмошными, непостоянными, не умеющими жить размеренно. Этот образ совершенно мне не соответствует. В моем представлении, танцовщица — такая же женщина, как другие. Я была чувствительная, привязчивая, любящая, но верная по натуре, и я всегда сохраняла достоинство.
В шестнадцать лет я, как и все остальные девушки, мечтала о будущем возлюбленном, а любовь все время меня окружала. Разве не о любви написаны все оперы, музыка которых наполняла мою жизнь, и все романы и стихи, которые я читала? Разве не о ней велись все разговоры моих подруг? Кроме того, в театре постоянно происходили какие-то любовные интриги, ссоры, примирения и свадьбы. Я дышала воздухом, наполненным любовью, и в растерянности призывала ее. Мои чувства к Рейнальдо были предтечей той любви, что я испытаю однажды, когда появится мужчина моей мечты — этот образ для каждого воплощает беспредметное еще влечение и надежду, отчего сердце беспокойно бьется.
Однажды вечером в Опере мираж обрел форму. Друзья представили мне за кулисами молодого человека. Его звали Шарль де П. Он был графом, но титулом меня было трудно поразить, а вот его манеры, внешность, голос меня очаровали, и, конечно, его взгляд, который будто обволакивал.
С этого вечера его лицо завладело моим воображением. А когда молодая девушка постоянно думает об отсутствующем молодом человеке, это серьезно. Вскоре он снова пришел с теми же друзьями, а потом и один. Он поджидал меня на выходе со сцены, и мы перекидывались парой слов. Через восемь дней он прислал мне в гримерную великолепный букет. Никогда еще цветы не доставляли мне такого удовольствия! После определенного периода, требовавшего сдержанности, Шарль попросил меня принять его с визитом. Мы долго разговаривали, открывая друг другу самые сокровенные мысли. К несчастью, как только он входил в комнату, его мягкость и обходительность, даже просто само его присутствие повергали меня в такой экстаз, что я не могла больше обманывать себя: да, это «он», тот самый долгожданный возлюбленный, о котором я так мечтала.
Шарль был очень красив, но мужчину же любят не за внешность? Нет, но тем не менее глаза — это те двери, куда проникает любовь. А если это не так, как же иначе может рождаться любовь с первого взгляда, что случалось со многими? Шарль был высокий, тонкий, элегантный, с прекрасными светлыми кудрями, точеными чертами греческой статуи, прозрачной кожей, небольшими золотистыми усиками и светло-голубыми глазами, чей оттенок напоминал чистую голубизну июньского неба. Когда они смотрели на меня, то в них появлялось нежное умоляющее выражение, какое бывает у детей, и это безумно меня трогало. В манере держаться, в разговоре Шарля сочетались простота и утонченность. Как описать его очарование, такое личное, этот дар заинтересовать и соблазнить всего легким движением руки или вскользь брошенным словом? Такая непосредственная грация, такое умение быть искренним, веселым и спонтанным, ни на шаг не преступая границы воспитанности! Никакой экзальтированности в речах, а между тем никто не говорил так проникновенно, его слова казались мне особенными, красивыми, выразительными, возможно из-за музыкального тембра его голоса.
Но было еще нечто, самое главное, что было важнее всего остального: от него исходило какое-то свечение, когда мы были вместе, от него ко мне шли тайные вибрации, на которые все мое существо отзывалось, не издавая ни звука. Наши глаза уже все сказали раньше, когда мы наконец признались, что с того самого первого вечера испытываем друг к другу взаимные чувства. Стоит честно признать, что сравнение любви с ударом молнии — не просто измышление романистов.
Шарль любил меня глубоко, его чувство было ни на что не похоже. Никто не говорил со мной и обо мне так восторженно, так пылко. За всю жизнь я не испытала ничего настолько восхитительного и волнующего, как эта первая любовь!
Мы идеально подходили друг другу. Шарль разделял мои вкусы и увлечения. После окончания обучения он хотел посвятить себя истории искусства. Ничто не могло больше соответствовать моим занятиям и вызвать у меня большего одобрения! Шарль занимался спортом и прекрасно ездил верхом, мы любили скакать бок о бок по аллеям Булонского леса. Мы любили друг друга и просто купались в счастье. Казалось, что все сказки о любви написаны о нас.
Но не только я едва достигла возраста Джульетты, мой Ромео тоже был ужасающе юн: он еще даже не прошел воинскую службу. И Зенси, несмотря на то что мой возлюбленный вызывал у нее только симпатию, беспокоилась: «Куда это вас приведет? Вы же еще дети!» Тем не менее она всячески поддерживала наше намерение стать мужем и женой, и Шарль даже надел мне на палец кольцо, обозначив помолвку.
При этом он не скрывал от меня, что нам придется преодолеть множество препятствий. Его родители владели великолепным особняком в Сен-Жерменском предместье, они принадлежали к высокому аристократическому обществу и строго соблюдали традиции своей касты, оберегая ее привилегии. С этой стороны, впрочем, бояться было нечего, я могла легко потягаться с ними в благородстве происхождения. Но они были приверженцами ханжеской морали, принадлежали к обществу людей ограниченных взглядов и никогда бы не допустили, чтобы в их семье появилась женщина, принадлежавшая театру. Поэтому когда они узнали, что их сын влюблен в танцовщицу, то пришли в ужас. Шарль все еще жил в родовом гнезде, в окружении родственников, которые обращались с ним как с ребенком и требовали неукоснительного повиновения. Попытка их убедить не удалась. «Я верю в волшебное действие времени, — говорил он. — Когда я вернусь с армейской службы, тогда и посмотрим».

Клео де Мерод в сценическом костюме
Этот вопрос меня совершенно не беспокоил. Я была слишком юна для замужества. Мы с Шарлем виделись почти каждый день, я жила, окруженная искусством, любовью и заботой двух самых дорогих мне существ, которые меня обожали. Жила радостно и беззаботно.
Но вокруг меня ширились слухи и о моем успехе, и о том, что меня выбрали королевой красоты, и об этой истории с Фальгьером, и все это было моему жениху очень неприятно. Его терзала пробужденная всем этим ревность, и, уезжая на армейскую службу в Сомюр, он был неспокоен.
Дальнейшие события должны были его успокоить, показав, что мое сердце остается верным только ему. Напрасная надежда: каждый раз, когда я уезжала на гастроли, он погружался в мир мрачных навязчивых идей, будто меня похитят, насильно задержат за границей, некий магнат бросит к моим ногам свой дворец, а некий принц — свой трон… и тому подобных химерических размышлений.
Глава вторая
Работа над «Фриной». — Невзгоды Луи Ганна. — Руайан в 1896 году. — Купание звезды. — Король Бельгии в Опере. — Невероятный гость. — Леопольд II в Танцевальном фойе. — Затянувшийся антракт. — На следующий день весь Париж склоняет наши имена. — Героиня новой легенды. — Что считают в Опере: «Он разговаривает здесь только с вами!» — Каковы были мои отношения с Леопольдом II. — Великий король. — Туника Несса[80]. Несмотря на мои возражения, меня считают фавориткой короля.
Когда я в последних числах июля приехала в Руайан, репетиции «Фрины» уже шли полным ходом. Репетировали под фортепьяно на сцене Казино. Сандрини и я привезли с собой пачки для работы у станка. Дирекция, не располагавшая постоянной труппой, но желавшая при этом произвести максимум шума этой постановкой, пригласила балетную труппу Большого театра Бордо, а декорации заказала у Висконти. Что касается костюмов, то здесь прибегли к услугам мадам Леони Моро, специалистки из Парижа, часто работавшей с Сарой Бернар, которая ее очень ценила. Она и ее помощницы приложили все усилия, и костюмы были готовы в кратчайшие сроки. Леони Моро была так же изобретательна, как и талантлива; с самыми простыми тканями она творила маленькие чудеса.
Как можно догадаться, авторы тоже были там и наблюдали за репетициями с большим интересом. Огюст Жермен, совсем еще молодой, но уже добившийся признания критик и автор множества пьес — он был одним из птенцов гнезда Theâtre-Libre («Свободного театра»), — сразу мне очень понравился. Это был полноватый юноша с приятным жизнерадостным лицом, его жена, миниатюрная и тоже очень веселая девушка, не скрывала своей радости, что «Фрину» ставят на сцене.
А вот Луи Ганна, автора знаменитого марша «Лотарингия», нельзя было назвать привлекательным человеком. Маленький, довольно невзрачный человечек с круглым лицом, на котором виднелись жидкие усики, он совершенно ненамеренно прекрасно оттенял красоту своей жены, восхитительной блондинки, похожей на цветок, с большими мерцавшими глазами, тонкой и гибкой фигурой, ее соблазнительные округлости подчеркивались эффектными платьями, тесно облегавшими бюст. Ганны производили впечатление прекрасной пары. Когда они прогуливались под руку вдоль пляжа, красавица госпожа Ганн привлекала всеобщее внимание, а во взглядах мужчин, беззастенчиво сравнивавших супругов, ясно читалось: «Хитрец, а он не промах!» Увы! Через несколько лет эту чересчур красивую женщину увел поэт Жан Ришпен, заставил ее развестись и женился на ней!
Но в то лето 1896-го Ганн, не подозревая о поджидавших его бурях, бесконечно наслаждался своим успехом прославленного автора. Атмосфера на репетициях была благостная, все шло как по маслу. Небезызвестная мадам Стичел, хореограф, руководила нашими совместными и сольными номерами и работала очень дотошно, в греческом стиле, делая все возможное, чтобы добиться цели. Музыка была очень мелодичной, Ганн умело использовал струнные и ударные, чтобы подчеркнуть ритм и оживить танцевальную часть.
В либретто рассказывалась история Фрины, немного приукрашенная, что вполне допустимо, когда речь идет о том, что произошло много веков назад. В последнем акте происходил суд над куртизанкой. Чтобы смягчить судей, она танцевала «священный» танец. В начале пылкого танца гелиасты еще не склонны проявить милосердие, но мы знаем об окончательном приговоре и о том, как обезоруживающая нагота Фрины снискала ей благосклонность судей.
История подразумевала, что я должна была скинуть плащ и появиться в истинном облачении, которым одарила меня Природа. Но в театре тех времен еще не были приняты смелые сценические решения. Чтобы добиться такого впечатления, костюмерша использовала хитрый ход. На суде я была в широкой темной серо-синей тунике. Так я начинала свой танец, и мои движения красиво подчеркивались длинными складками. Под этим балахоном на мне было бледно-розовое трико, поверх которого надевался легкий розовый полупрозрачный хитон, облегавший фигуру. Когда наступал момент соблазнения судей, c меня одним движением срывали объемную накидку и держали ее за моей спиной. На этом фоне я казалась маленькой розовой статуэткой, и издалека, при особом желании, зрители могли принять этот розоватый силуэт за обнаженную фигуру.
Луи Ганн сам встал за дирижерский пульт во время премьеры своего балета. И если в качестве мужа он не пользовался большим авторитетом, то здесь все было наоборот: он направлял музыкантов со всеми возможными пылом и энергией. Потом его даже пригласили дирижировать оркестром Монте-Карло.
Премьера «Фрины» произвела сенсацию. Нам самозабвенно аплодировали и много раз вызывали на бис. Триумф для Руайана! Местные газеты превозносили Ганна и актрису в главной роли. Парижская пресса c восхищением писала о создании этого балета.
* * *
Можно вообразить, как нам с Зенси, так любившим свежий воздух, солнце и природу, понравилось в Руайане! Мы жили в комфортабельном отеле на пляже Гранд-Конш, в нескольких шагах от Казино.
После обеда, небольшого отдыха и прогулки по городу мы отправлялись в Гранд-Конш купаться. Укрывшись в купальнях, мы снимали строгое платье и оставались в одних пеньюарах, ненадолго входя в воду у самого берега. Я довольно активно занималась спортом, ездила верхом, играла в теннис, каталась на коньках и на велосипеде; единственное, что я не любила, — это плавание. Я и сейчас боюсь воды.
Купальные костюмы в ту стыдливую эпоху были ужасно некрасивы. Они шились из ткани джерси темно-синего цвета и украшались белыми плетеными галунами. Состояли из двух частей: панталон, спускавшихся до лодыжек, и широкой длинной туники до колен. На головы купальщицы надевали безобразные шапочки из каучука с рюшами. Мой «ансамбль» для купания подчинялся тем же чудным правилам, но с легкими отклонениями: панталоны достигали колен, а чтобы скрыть ноги, я надевала длинные носки. Кроме того, на руках у меня были длинные перчатки согласно желанию матери, которая хотела во что бы то ни стало защитить мою кожу от любого загара. Если я не хотела купаться, то заменяла каучуковую шапочку соломенной шляпой, похожей на абажур, с очень широкими полями, скрывавшими лицо от солнечных лучей. Это было последним штрихом моего комичного наряда: купальщица на пляже полностью одетая, в перчатках и огромной шляпе!
Мы не только скрывали тело под плотной тканью костюмов для плавания, но, выходя из воды, так боялись, что мокрый купальник нескромно облепит фигуру, что сразу же набрасывали на плечи пеньюары и торопливо скрывались внутри купальных кабин.
Мужчины выглядели еще смехотворнее, облаченные в мешковатые полосатые трико до середины икр и застегнутые под горло, все это делало их похожими на сбежавших из тюрьмы каторжников.
Несмотря на мой малоэстетичный вид, купание звезды балета пользовалось успехом. Как только моя нога ступала на песок, к глазам подносились сотни биноклей и не опускались, пока я не скрывалась в купальне. И все это, конечно, вовсе не для того, чтобы порадоваться моим достижениям в плавании… Вспоминая это, я задаюсь вопросом: что же такого надеялись увидеть любопытные зрители, помимо бесформенных мешков из джерси?

Клео де Мерод, 1896
Но тогда никто «не видел», насколько некрасивы были эти костюмы, поскольку такова была мода. Джентльмены даже находили их слишком откровенными. К тому же русалка в перчатках была знаменитой «королевой красоты», Фриной, которой аплодировали в Гранд-Казино… Поэтому я не могла и трех шагов сделать, неважно в каком наряде, не возбуждая всеобщего внимания.
В Руайане, кстати, наряды я носила очень простые: скромные белые платья из батиста или пике. Вместо шляпки мы с матерью носили широкие чепчики Kiss-not[81], название которых, вероятно, относится ко временам английских завоеваний. Такой чепчик c широкими нависавшими на лицо полями был традиционным головным убором французских крестьянок, но поскольку произношение коверкалось, то в результате получилось «кишанотт», и в конце концов название стали произносить именно так. Все отдыхавшие тут же стали носить такие: чепчик произвел настоящий фурор! Модистки делали его более изящным, используя прозрачные ткани вместо обычных плотных, которые носили селянки. Выходило вполне очаровательно, крылья чепчика из батиста или муслина красиво обрамляли лицо, сохраняя лилейно-белый цвет кожи. Не забывайте, что в то время таитянский загар считался неприличным.
* * *
Успех нового балета не становился меньше в течение всех показов. Мне на сцену бросали букеты, и моя гримерная была полна цветов. «Фрина» подарила мне двойную радость: праздничные выступления по вечерам и прекрасный отпуск с прогулками и купанием днем.
Я получала множество восторженных писем от поклонников, но отвечала только на те, что писал мне жених. Он был обязан сопровождать семью в Нормандию и не мог вырваться ко мне, кроме как однажды и только на сорок восемь часов. Но душой мы все время были вместе, потому что каждый день писали друг другу.
Отношения с коллегами у меня были самые сердечные, исключая лишь Сандрини, которая, несмотря на то что, играя Праксителя, несколько раз на сцене заключала меня в объятия, была со мной холодна как лед. Когда я с ней здоровалась, она лишь слегка наклоняла голову в ответ. Если бы Пракситель ваял Фрину с такой головой, то позировать для статуи Венеры ей бы долго не пришлось.
* * *
Вернувшись в Оперу, я заметила — с некоторым, впрочем, удивлением, — что, кроме Замбелли и Бове, ни одна балерина не сказала мне ни слова по поводу премьеры «Фрины», хотя балет наделал много шума. Но я как-то утешилась и с головой ушла в работу. За мной остались все прежние роли в репертуаре, а кроме того, Педро Гайяр дал мне понять, что перспективы у меня самые радужные, и начиналось все с прекрасной роли в новой постановке.
Одним сентябрьским вечером давали «Аиду». Я появлялась в этом балете в роли молодой египтянки, чей костюм был не совсем подобающим. В антракте я пошла в Фойе, там почти никого не было. Вдруг я вижу, как в Фойе входит высокий человек с очень величественными манерами, он слегка прихрамывал и опирался на трость. К моему удивлению, он подошел прямо ко мне, поклонился и представился: «Леопольд II», а потом прибавил: «Я очень счастлив, что мог вами восхищаться сегодня». Далее следовали комплименты моей скромной персоне и тому, как я танцую. Потом он сказал:
— Вы знаете, мадемуазель, что носите очень уважаемую в Бельгии фамилию.
— Сир, я принадлежу к австрийской ветви де Меродов.
Король, ни капли не удивившись, казалось, что он был в курсе, ответил:
— Мадемуазель, я счастлив, что дитя такого знатного рода так красива и так талантлива. Я вас поздравляю.
Снова рассыпавшись в похвалах, Леопольд II удалился, оставив меня в полном недоумении. Почему этот государь, о котором я ничего или почти ничего не знала, решил вдруг поставить меня в известность, что интересуется мною? И как он мог меня вообще заметить в такой маленькой роли, в которой, честно признаться, я не блистала, изображая так называемую дочь Нила? Я голову сломала в поисках ответов, испытывая легкую тревогу, словно чувствуя надвигавшуюся угрозу… К счастью, никто не обратил внимания на наш разговор и никто не подозревал, что король Бельгии был тем вечером в театре — он пришел инкогнито.
На следующий день, около половины двенадцатого дня, когда вернулась с урока, поскольку продолжала свои занятия под руководством Васкеза, я услышала звонок колокольчика, а потом, что кто-то входит в квартиру. Горничная постучалась ко мне и сказала, что меня ожидают. Как всегда по утрам, я была в спешке и только успела снять жакет и шляпку. Я вышла в гостиную, думая, что речь идет об импресарио, курьере из театра или каком-нибудь стряпчем, поскольку тогда принимала их почти ежедневно. К моему полнейшему удивлению, в гостиной меня ждал Леопольд II!
Король остановился в отеле «Бристоль» и никуда не выходил без двух телохранителей, но в то утро он пришел на улицу Капуцинок пешком, сделав несколько кругов, чтобы избавиться от неусыпного надзора. Смеясь, он сказал: «Мне кажется, я их обманул! Войдя в дом, я спрятался у консьержа, а потом посмотрел из его окошечка на улицу: там никого не было! Тогда я вошел в лифт».
Я одновременно чувствовала очарование простотой и ребячеством этого монарха и раздражение от того, что меня застали врасплох, совсем не готовую, в простой батистовой блузке и домашней юбочке. Король же, очень довольный тем, как обвел вокруг пальца своих придворных и телохранителей, взял меня за руки и, целуя их, принялся говорить о своих впечатлениях от прошлого вечера и «Аиды». Не буду повторять все комплименты и похвалы, которыми он меня осыпал, скажу только, что была не только польщена, но и очень смущена, поскольку он очевидно преувеличивал мои достижения. Наконец, венценосный гость, неожиданно обратившись на «ты», что принято у бельгийцев, объявил мне тоном, не требовавшим возражений: «Через три дня я приду в Оперу, на этот раз официально, и я хочу, чтобы только ты меня приветствовала в Танцевальном фойе. Ты будешь меня ждать у двери, и именно ты мне ее откроешь». После этих слов он удалился.
Я была обескуражена и не могла поверить в реальность происходящего. Король у меня дома, король, который нигде не мог пройти незамеченным, с его-то ростом, осанкой и характерной, квадратной формы, бородой!.. Консьерж его, несомненно, узнал, конечно же уже весь дом знал об этом удивительном визите! Опять поползут слухи!.. Но все это было ничтожно по сравнению с тем, о чем Леопольд II меня попросил.
Я рассказала матери об этом пугавшем меня происшествии и о своих по поводу него чувствах.
— Но зачем же он просит меня встретить его в Танцевальном фойе перед всеми! Какая причудливая идея! Это будет чудовищно неловко! Я бы хотела ничего этого не делать, а просто спрятаться в гримерной в антракте и не выходить.
Мать, которая, конечно, в глубине души была польщена, ответила:
— Но теперь ты уже не можешь отступить. Надо было отказаться, когда король был тут. Ах! Да все может быть гораздо проще, чем тебе кажется. Когда он войдет в Фойе, ты тут же отойдешь к своим подругам, а вокруг него сразу соберется все начальство, так что никто и не поймет, что это именно ты его ввела…
Легко было так теоретически рассуждать, но в реальности все пошло не так, как планировалось.
* * *
В день, выбранный Леопольдом II для второго визита в Оперу, в театре шли «Риголетто» и «Маладетта», балет Педро Гайяра и Поля Видаля. На сцену переносилась пиренейская легенда. Звезды, танцевавшие в этом балете, — Маури и Сюбра. В первом акте я выступала в роли пастушка и была одета в прелестный мужской костюм: рубашка из светлого шелка, жилет и штаны из коричневого бархата, на ногах — нечто вроде облегавших бархатных гамаш. На голову надевался светлый парик, весь в локонах. Одетая таким образом, я танцевала энергичные и жизнерадостные народные танцы.
Пресса уже вовсю трубила о визите Леопольда II. Писали, что он сам составил свою культурную программу и специально попросил, чтобы играли «Маладетту». Любопытная деталь — в тот день, 27 сентября, я праздновала день рождения. Не знаю, стоит ли усматривать в этом нечто судьбоносное… В театре царила торжественная атмосфера, все выкладывались по полной. Короля принимали в ложе президента Республики.
В антракте я, не смея ослушаться королевского приказа, ждала его у входа и проводила в Танцевальное фойе. Там собралась вся балетная труппа и постоянные посетители с абонементами, присутствовавшие в тот вечер в театре. Вся эта толпа, расположившаяся полукругом за спиной Педро Гайяра и высших театральных чинов, ожидала короля. Он вошел вместе со мною, более того, вместо того, чтобы принимать приветствия собравшихся, он, не обращая на них никакого внимания, отвел меня в свободный уголок Фойе и завел какой-то разговор. Я была страшно смущена и растеряна… По натуре совершенно не дерзкая и не отважная, а, наоборот, очень застенчивая, я оказалась в центре всеобщего пристального внимания, на меня смотрело столько любопытных прищуренных глаз!.. К счастью, я успела, как только закончилось первое действие, снять с головы парик, со своей естественной прической я чувствовала себя уверенней.
Педро Гайяр, чтобы как-то разрешить эту странную ситуацию, подошел к королю, поклонился и попросил позволения представить ему балетную труппу. Леопольд II, взмолившись подождать его, оставил меня и направился к собравшимся в сопровождении директора. Последовали приветствия и дежурные комплименты. Затем, решив, что дань приличиям отдана, он повернулся ко всем спиной и быстро ретировался в пресловутый уголок, где продолжил беседовать со мной. С этого момента он уже ни на кого не обращал внимания, заставляя меня в буквальном смысле тонуть в комплиментах и страстных похвалах, которыми не переставая меня одаривал, вовсе не заботясь о том, чтобы я ему отвечала. «Во время всего действия я с тебя глаз не сводил! Я абсолютно никого, кроме тебя, не видел!»
Наш диалог — а скорее, монолог — продолжался около получаса. Остальные, столпившись вокруг, не осмеливались вздохнуть, никто даже не пошевелился. Все ждали окончания нашего разговора, чтобы можно было начать второй акт «Маладетты». Музыканты замерли, публика нервничала, не понимая причины задержки, все остановилось…
Мне хотелось стать невидимой, раствориться в воздухе… Я стояла, красная как мак, под всеми этими взглядами, прикованными к нам: король, высокий и большой, казавшийся еще больше из-за веерообразной бороды, устремленной в мою сторону, и я, скромный маленький пастушок, едва достигавший ему до плеча!.. Наконец, он решил меня покинуть, и я поспешила в свою гримерную переодеться.
Когда гости вернулись из Фойе в зал, то стали рассказывать, что там только что происходило. История с быстротой молнии распространилась среди зрителей, которые, выходя из театра говорили конечно же только об этом. На следующий день в Париже словно разорвалась бомба… Танцовщица Клео де Мерод, та, которая королева красоты, завоевала сердце короля Бельгии!.. «Клео де Мерод — фаворитка Леопольда II». Так меня тотчас же окрестило общественное мнение, и избавиться от этого ярлыка я не могла очень долго!
* * *
Перед отъездом из Франции король посетил меня еще раз, так же неожиданно, как и впервые. Без предисловий, он объявил, что любит меня, и предложил обеспечить мне блестящее будущее: «Я еще не встречал никого, кто вызвал бы у меня такие чувства, как ты… Если ты захочешь стать мадам Леопольд, у тебя будет и особняк в Брюсселе и вилла в Остенде… В любом случае, скоро нужно поехать танцевать в Ла-Монне. Я обещаю тебе там невиданный успех».
Находясь в полной растерянности от этих неуместных предложений, тронутая теми чувствами, которые, сама того не желая, внушила старому королю, я совершенно не представляла, что сказать.
Леопольд II выглядел внушительно. Всегда одетый со строгой элегантностью, он очень выделялся среди других надменной небрежностью манер и величавой походкой, которую не портила даже легкая хромота, результат травмы, полученной при падении с лошади. Кроме бельгийского акцента, все в нем — его речь, его манеры, юмор, идеи о жизни — было очень французское. Между прочим, он и был французом наполовину, сыном Луизы-Марии Орлеанской и внуком Луи-Филиппа. Острый ум, веселость, жизнерадостное обаяние делали его неотразимо привлекательным, неудивительно, что женщины увлекались им. Но ему было уже за шестьдесят, он мог бы быть мне дедушкой. Кроме того, я любила другого, и это оставалось главной причиной, по какой я не могла слушать его речи.
Собрав в кулак все свое мужество, я пробормотала, что очень тронута его лестным отношением, но никак не могу ответить ему взаимностью, поскольку сердце мое уже занято: у меня есть жених, которому я всецело предана. Что же до приглашения танцевать в Ла-Монне, я в целом не отказалась. Через какое-то время посмотрим…
Король прекрасно понимал, что имеет дело с молодой особой, чей характер отличается сдержанностью и замкнутостью и на которую его ошеломляющие предложения произвели эффект громового удара. Он очень расстроился, но сказал, показав себя хорошим игроком, умевшим проигрывать: «В любом случае, я рассчитываю на то, что ты будешь считать меня своим самым лучшим и преданным другом. Я бы хотел, чтобы ты держала меня в курсе о всех своих перемещениях и сообщала новости о своей жизни, где бы ты ни была».
Я искренно дала ему такое обещание, и он отбыл, тем не менее еще раз описав со всем пылом глубину и силу своих чувств. Казалось, что он смирился со своей отеческой ролью по отношению ко мне, но я видела, что в глубине души он лелеял надежду, что наши отношения разовьются в нечто большее.
В тот момент я думала, что ангажемент в Ла-Монне не такая уж и плохая идея, но быстро рассталась с этими мыслями, потому что сплетни в связи с королем Леопольдом распространялись с такой быстротой и обрастали такими подробностями, что путешествие в Брюссель в данных обстоятельствах было бы не только неуместным, но и просто опасным. В самом деле история вызвала такую шумиху, что взволновался даже бельгийский парламент. По этому поводу прошло заседание, на котором королю с прискорбием выражалось неудовольствие подданных в том, что он «афиширует» отношения с танцовщицей из Оперы. Правда, мне кажется, это его мало обеспокоило.

Карикатура на Леопольда II — «Новый руль Клеопольда»
Что касается меня, то я как раз была полностью выбита из колеи теми масштабами, до каких разрослось это происшествие. Байка о моих интимных отношениях с Леопольдом распространялась с неимоверной скоростью, охватив Францию, Европу и весь мир. Карикатуры, песенки, картинки в журналах изображали нас, короля и меня, охваченных нежными чувствами: вот мы сидим за столиком в ресторане, пьем шампанское в Maxim’s; вот стоим на палубе круизного лайнера, едем вместе в купе спального вагона, я не знаю что еще! Меня, танцовщицу, жившую лишь искусством, не желавшую себе иной жизни, находившуюся в постоянных трудах на репетициях и у станка, окрестили любовницей короля! Выносить эту скандальную известность было выше моих сил. И мне было очень больно, что эта незаслуженная репутация вызывала гнев бельгийцев. Ни за что на свете я не поехала бы в Бельгию, боясь, что примут меня там плохо.
Шарль, так же как и я, очень расстроился. Он не упрекал меня. В чем я была виновата? Но это происшествие усилило его беспокойство и подозрительность. Конечно, я в подробностях рассказала ему о своем разговоре с Леопольдом II. Несмотря на это, он тревожился, опасаясь, что дело не окончено и я в конце концов уступлю настояниям короля. Я смеялась над этими нелепыми мыслями, но мой жених постоянно возвращался к этому сценарию, и я сказала ему: «Послушай. Вся эта трескотня уже доставила мне много неприятностей. Не заставляй меня страдать еще больше, повторяя странные предположения, которых ничто не подтверждает». Моя мать, несмотря на то что все же была польщена этой историей, осознавала, что последствия чересчур жестоки и переходят всякие границы: «Кто бы мог подумать, что по этому поводу будет столько шума!»
За время, прошедшее с того памятного представления «Маладетты», балерины ни разу со мной не обсуждали невероятное происшествие в Танцевальном фойе. Я немного удивлялась этому молчанию, но была, можно сказать, довольна: если мои коллеги не делились со мной своими впечатлениями от увиденного, может быть, эта сцена их не так уж и поразила? Однако в один из вечеров Хансен, проходя мимо меня за кулисами, сказал, бросив многозначительный взгляд: «А здесь ведь только о вас все и говорят!», тем самым дав мне понять, что я оставалась объектом разнообразных обсуждений.
* * *
Держа слово, данное Леопольду II, я не забывала держать его в курсе своих ангажементов и путешествий. Он писал мне длинные, полные нежности письма и посылал восхитительные подарки. Вы решите, что я должна была их отвергать, но отсылать их обратно значило бы обидеть его, а на это мне не хватало смелости. Он писал, что живет лишь надеждой вновь увидеть меня. Но никакой новой встречи не случилось. Каждый раз, когда он после приезжал в Париж, меня по случайности никогда там не бывало. Наш второй разговор тет-а-тет на улице Капуцинок оказался последним.
Через несколько лет пыл его немного остыл, а буря чувств успокоилась. Чары баронессы де Вон утешили его в безответной любви, и я была очень счастлива за него, потому что он всегда был со мной добр и галантен.
* * *
Но фальшивый ярлык королевской фаворитки еще очень долго, уже и после 1900 года, навешивали на мое имя. Настоящая туника Несса! Намеки, инсинуации, вездесущие анекдоты, истории, выдуманные по этому случаю, ничего этого мне избежать не удалось. Появилась даже пьеска с куплетами под названием «Гуляки», ее показывали в дешевых театриках, в которой была сцена, где я танцую с Леопольдом II. Что поделать! Каждый день возникали какие-то неприятные ситуации! Я постоянно писала опровержения. Если поднять прессу того времени, то можно увидеть, что я писала огромное количество писем в журналы с разоблачениями той или иной очередной выдумки о приключениях Клео де Мерод и Леопольда II. В большинстве случаев журналисты принимали мои протесты во внимание, многие в конце концов признавали правду, и довольно часто я с удовлетворением читала такие строки: «Совершенно точно, что эта авантюра, приписанная королю, — совершеннейшая выдумка, ограничивается всего несколькими словами, которыми король и знаменитая балерина обменялись во время посещения монархом Танцевального фойе в Опере»[82]. И все равно! Находятся люди, которые, услышав, что между мною и Леопольдом II ничего не было, понимающе кивают и многозначительно улыбаются: «Ну, ну! Мы-то знаем…»
Глава третья
Сатир у меня в гримерной. — «Вы узнаете эту малышку?» — Я становлюсь grand sujet. — «Сильвия», «Коппелия» и «Два голубя». — В Булонский лес на велосипеде. — Тото, волшебная собака. — Концерты по воскресеньям. — Как я танцевала павану. — Андре Вюрмсер[83] и «Блудный сын». — Балет «Звезда». — Репетиция прервана: «Благотворительный базар в огне!» — Роль юной новобрачной. — Предложение Гюстава Шарпантье[84]. Коронование музы. — Пьеро и Красота. — Ангажемент в Америке.
Если новоприобретенный титул мне самой и казался тягостным, то зрителей он совершенно не смущал, напротив, мне аплодировали вдвойне — и как танцовщице, и как королевской фаворитке. Публика всегда довольна, когда ее кумиры получают признание у сильных мира сего. Но такой успех мне самой не очень-то нравился. С другой стороны, ведь и правда: нет ничего недостойного в том, чтобы вызывать любовь у короля и самой испытывать к нему чувства. Во время моего бельгийского приключения известнейшая актриса совершенно не скрывала своих близких дружеских отношений с Эдуардом VII. Но поскольку моя связь с Леопольдом II существовала лишь в воображении сплетников, а не в реальности, мне было не очень лестно чувствовать, что этот несуществующий факт придавал мне бóльшую ценность в глазах окружающих.
Например, Хансен, который никогда не обращал на меня особенного внимания, изменил отношение, как только начал думать, что я государева муза. Он стал смотреть на меня с интересом и вел себя довольно странно: например, столкнувшись со мной за кулисами, смущенно крутился вокруг, почти задевая меня локтями. Я весьма выразительно хмурила в ответ брови, но, кажется, он не понимал, что досаждает мне.
«Младшие солистки» занимали гримерную на двоих. Я делила комнату с Жоржеттой Куа, милой девушкой, которая танцевала очень хорошо. Однажды после репетиции Куа очень спешила, поэтому оделась и ушла до того, как я успела переодеться в городской костюм. Я только-только надела платье, как внезапно дверь резко открылась и передо мной возник Хансен. Шокированная тем, что он вошел без стука, я уже хотела было поставить ему это на вид, как тут он порывисто меня обнял и привлек к себе. На лице у него застыло забавное выражение, точь-в-точь сатир! Я боролась изо всех сил, колотя его кулаками и стараясь вырваться. Сообразив, что я сейчас закричу, он отпустил меня, и я смогла выставить его вон, обойдясь без скандала.
Отказа он мне не простил. С тех пор на всех репетициях и уроках пантомимы он был со мною невыносим, постоянно делал замечания и отпускал на мой счет едкие колкости. Когда я спускалась со сцены за кулисы, он злобно смотрел на меня. Я боялась, как бы ему в голову не пришла еще какая-нибудь безумная идея, и старалась поменьше оставаться одна в гримерной. Но его враждебность все возрастала, я не могла уже и вздохнуть, чтобы он не сказал мне какую-нибудь гадость. Все это становилось настолько неприятным, что я решила поговорить с матерью. Я никогда не рассказывала ей об эпизоде в гримерной, боясь расстроить, но в тот момент мне очень нужен был ее совет, потому что совершенно не представляла, как выбраться из сложившейся омерзительной ситуации. Возмущенная поведением балетмейстера, Зенси сказала: «Не стоит беспокоить Гайяра этой историей. Тебе остается лишь одно — жаловаться Бертрану».
На следующий день, придя в Оперу, я сразу пошла в кабинет Бертрана. Наш административный директор всегда напоминал мне доброго дядюшку: это был довольно тучный человек, с гладко выбритым полным лицом, добродушное выражение которого располагало к доверительным беседам. Мне не пришлось ничего долго объяснять: с первых же слов он понял все и бодро сказал: «Не мучайте себя! Я поговорю с Хансеном так, что все это прекратится».

Клео де Мерод в балетной пачке, конец 1890-х годов
С того дня все пошло обычным порядком. Если Хансен и таил на меня злобу, то показывать этого больше себе не позволял.
* * *
Через некоторое время я сдала экзамен на grand sujet. Мне давали роли во всех значительных балетах. Сначала я танцевала в группе других балерин, а потом меня вывели в «звезды». Например, в «Двух голубях», восхитительную музыку к которому написал Мессаже и по сюжету которого действие происходит в Богемии, я выходила на сцену в национальном костюме с энергичным венгерским танцем, а уже в финале танцевала вариации в пачке. Славный Плюк выступал в роли короля Богемии, придавая всем жестам величественную выразительность.
Мне также приходилось очень много работать в пленительных балетах Лео Делиба «Сильвия» и «Коппелия». Либретто «Сильвии» по мотивам пасторальной поэмы Торкватто Тассо[85] «Аминта» написал Шарль Нюиттер. Я играла вторую охотницу, сопровождавшую Сильвию, и была одета в греческую тунику, с луком за плечами и серебряным ободком вокруг головы с блестящим полумесяцем надо лбом.

Клео де Мерод в сценическом костюме
Балет «Коппелия», для либретто которого Жюль Барбье[86] адаптировал самую фантастическую повесть Гофмана «Песочный человек», все знают. Его музыка владела сердцами многих поколений зрителей. В этом балете я почти все время была на сцене, на виду, мое выступление и в этот раз публика высоко оценила. Сюбра играла роль прекрасной автоматической куклы, которую затем очень быстро получила Замбелли, сделав эту партию по-новому блистательной.
Меня хвалили также и за выступление в «Корригане», живописном балете Видора[87] по мотивам арморикской легенды, в котором весьма удачно использовались старые предания этого региона. В младших классах я выходила на сцену вместе с соученицами в образе бесенка, но этот этап был давно пройден. Теперь я танцевала соло — бретонский народный танец «с ведрами» в крестьянской юбочке, надетой поверх пачки. Этот номер всегда пользовался огромным успехом.
* * *
В ту зиму я взяла к себе Тото.
Это была маленькая собачка, которая как-то вечером пошла за мной от Оперы до улицы Капуцинок: бродячий песик, совершенно беспородный, c жесткой лохматой шерстью, как у маленького кабанчика. Бедный зверек в таком печальном состоянии вызвал у меня жалость, возможно, собачка попала под повозку, потому что лапки у нее были все пораненные. Дойдя до двери, собачка не хотела меня отпускать и так проникновенно смотрела, что, охваченная жалостью, я пустила ее домой… и она осталась. Мы о ней заботились, холили и лечили, так что она в конце концов стала очень красивой, с тех пор мы везде брали ее с собой. Она носила на шее большой бант и отзывалась на имя Тото.

Клео де Мерод на велосипеде, конец 1890-х годов
Эта бродяжка, дворовая сиротинка вскоре показала нам свое хитроумие и много других удивительных способностей. На следующий день после ее воцарения у нас дома мы собирались на велосипедную прогулку и решили взять песика с собой. Нам очень нравился этот новый вид спорта, тогда только-только вошедший в моду.
Ритуал такой прогулки был довольно сложный: сначала мы садились в фиакр и ехали до Porte Maillot. Там, в конце авеню Grande-Armée, продавец велосипедов хранил у себя наши машины. В этом магазинчике у нас был свой небольшой арендованный уголок, где мы хранили велосипеды и переодевались в подходящую одежду. Я не носила широкие брюки в стиле костюма зуавов, которые тогда обожали женщины, взгромоздавшиеся на мужской велосипед и в таком виде ездившие по Булонскому лесу. Они были основной радостью прогуливавшихся там зевак с лорнетами, которые на них глазели. Я же носила плиссированную, довольно короткую по тем временам юбку, облегавшее болеро и высокие ботинки на шнуровке. На голову я обычно надевала кепочку, иногда носила поло из драпа в сине-белую полоску. Костюм матери был в том же стиле, и мы ездили только на велосипедах для дам. Переодевшись, мы направлялись ко входу в Булонский лес с велосипедами под мышкой, где садились на них и пускались по аллеям на всей скорости!
Но в тот день в фиакре с нами ехал Тото, мы с ним пошли в магазинчик велосипедов, а потом и в лес. Когда мы поехали, он затрусил за нами. Погода стояла прекрасная, и мы припустили вперед со скоростью, безусловно, слишком большой для собаки, потому что через какое-то время обнаружили, что Тото за нами уже не бежит. Мы тщетно звали его, искали и прошли назад по той же дороге, осматривали кусты, собаки не было… Тото пропал! Мы вернулись домой очень расстроенные, потому что уже успели привязаться к этому зверьку. Мы поспешно пообедали, чтобы вернуться в Булонский лес и попытаться его найти. Едва поев, мы надели шляпки и торопливо стали спускаться по лестнице. И кого же мы видим в вестибюле перед дверью? Тото, с опущенной головой, еле дышавший от усталости, растянулся без сил на половом коврике… Как, побывав здесь всего один раз, он смог найти дорогу назад из Булонского леса?! Как он смог преодолеть такое расстояние за довольно короткое время, если отстал даже от велосипедов?! Мы не могли этого понять.
Он еще не раз доказывал нам свой ум и чутье. Каждое утро Тото, сидя в коридоре, ждал, когда я соберусь, и потом сопровождал меня в Оперу, чинно семеня рядом. Завершив маршрут, он спокойно возвращался сам на улицу Капуцинок. Если я запаздывала, он спускался вниз к входной двери и шел меня встречать. Все шоферы автомобилей, припаркованных вдоль улицы Scribe, уже знали его, бесконечно бегавшего мимо них. Часто, когда я проходила мимо, кто-нибудь из них мне говорил: «Ну вот, и сегодня утром я видел вашу собачку, ходит туда-сюда…»
Тото сопровождал меня и в поездке в Америку, и в большинстве моих путешествий. Он у меня славно поездил по стране.
* * *
В начале 1897 года Гайяр осуществил проект, который уже давно обдумывал: концерты классической музыки по воскресеньям. На них выступали соло самые известные исполнители Оперы. Например, Роза Каро божественно спела на одном из них арию «О! Стикса божества!..»[88], а также исполнялись старинные танцы.
Танцы XVII–XVIII веков танцевали две пары: Маури и Сюбра, Леонтина Бове и Паулина Ренье. Переодетые в маркиз и маркизов, с белыми напудренными париками на головах, они с удивительной грацией танцевали ригодоны, менуэты, гавоты и чаконы Генделя, Люлли и Рамо. Гайяр поручил танцы времен Людовика XIII двум другим парам: Пьоди и Карре, Ван Гетен и мне. Наш номер под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов был гвоздем программы. Мы танцевали сарабанды и паваны. Мой костюм был из зеленого шелка с широким кружевным воротником и рукавами, стянутыми лентами с аксельбантами, юбка спереди была из серебряного драпа. Парик был светлый, с буклями на висках. Все эти танцы былых времен в хореографии Хансена удивительно точно воспроизводили ушедшие времена, вызывая удивление и восторг зрителей.

Клео де Мерод в сценическом костюме, конец 1890-х годов
Успех у воскресных концертов был немалый, зал всегда полностью заполнялся, и нас без устали вызывали на бис. Пресса осыпала балерин похвалами, выделяя мой вклад в общий успех. Мои фотографии в костюме для паваны стали очень популярны.
* * *
Красивая роль, которую мне обещал Гайяр, оказалась партией «невесты» в «Звезде». Либретто этого балета-пантомимы в двух актах стало плодом совместного творчества Адольфа Адерера, Камиля де Роддаза и Андре Вюрмсера.
Мы начали репетировать весной и работали без остановки. Постановка этого произведения требовала больших стараний, поскольку ролей там было очень много и были задействованы все танцовщицы театра.
Идея сыграть роль в произведении Вюрмсера мне нравилась, поскольку с его именем у меня было связано самое глубокое переживание детства. Еще в те времена, когда я училась в младших классах и пользовалась благосклонностью «Господина Лео», который меня нещадно баловал. Однажды вечером он повел нас с матерью в театр «Буфф» на пантомиму, которая тогда произвела фурор в Париже: «Блудного сына» Андре Вюрмсера, где блистала великая артистка Фелиция Малле. Она играла роль Пьеро, молодого, стройного, дерзкого Пьеро, и просто разрывала публику на части. Вся пьеса была совершенна, там была маленькая роль ученицы белошвейки, ее репутации угрожал один разбитной гуляка, эту роль играла прелестная дебютантка по имени Биана Дюамель[89], которая и не подозревала тогда, что несколько лет спустя ее будут превозносить до небес за роль мисс Хельетт[90]. Мы провели очаровательный вечер и искренне восхищались исполнительским талантом автора, самостоятельно аккомпанировавшего своей пантомиме на фортепьяно.
Воспоминание было очень живо у меня в памяти, и когда я познакомилась с Андре Вюрмсером, то рассказала ему об этом, что, без сомнения, порадовало его авторское самолюбие. Это был высокий человек лет сорока, с очень темными волосами, с улыбавшимся симпатичным лицом. Он был в восторге от того, что его сочинение идет в Опере, и вел себя со всеми очень любезно и дружелюбно, восторгался исполнительницами и никогда ни в чем их не критиковал.
Сюжет «Звезды» нельзя назвать интеллектуально глубоким. Но там была одна особенная сцена: во втором акте показывали танцевальный конкурс в самой Опере. Эта идея, удачно придуманная, чтобы соблазнить нашего директора на постановку, давала возможность представить зрителям почти всю балетную труппу как бы «изнутри», включая учениц младших классов, к общей радости и танцовщиц, и зрителей, всегда желавших посмотреть вблизи на жизнь балерин, хотя ее во многом идеализируют.
Жюри, экзамены, соперничество конкуренток, радость победительниц конкурса, досада тех, кто не прошел, — все было показано как в реальности… но авторы перенесли действие во времена прошлой Дирекции, поэтому могли себе позволить разные несуразности.
В то время к либретто балетов еще не были столь пристрастны, как потом, требование было довольно простое — действие должно соответствовать музыкальному настрою и позволяло показывать много разнообразных танцевальных номеров.
Этому положению вещей положили конец «Русские сезоны»: их сложные и утонченные балеты заставляли публику прилагать интеллектуальные и душевные усилия и приучили зрителей ожидать от либретто оригинальных идей и замысловатого сюжета, который иногда был закручен не хуже, чем в театральной пьесе. И получилось наоборот: не либретто стало писаться для оформления танца, а танцевальные выступления иллюстрировали коллизии сюжета. Но это не мешало танцовщикам классической балетной школы адаптироваться к правилам современного балета. Классическая балетная подготовка делала ваше тело способным станцевать что угодно и выполнить в искусстве любую сложную или даже фантастическую задачу.
* * *
Действие первого акта «Звезды» проходило на улице в день «моей» свадьбы. Перед зрителями проезжал свадебный кортеж, в котором ехали Леокадия, звезда Республиканского театра искусств — Оперы того времени, — и знаменитый танцовщик Вестрис. После благословения новобрачных кортеж возвращался на праздничный бал на открытом воздухе. Все танцевали со мною во главе «Кадриль новобрачных». На мне было длинное белое платье с высокой талией, короткими рукавчиками-фонариками, почти полностью обнажавшими руки, а вокруг головы, поверх моего ободка, вился венок из флердоранжа. Сначала я танцевала одна, слегка придерживая полы платья двумя руками, а потом вместе с моим «супругом», мимом Ренье.
Маури играла резвую Зинаиду, маленькую девочку, которая станет звездой Оперы благодаря Вестрису. Хотя она была немного опытнее, чем требовалось для роли девочки семнадцати лет, но ее нервная гибкость, живость и пылкость прекрасно это восполняли. Хансен играл Вестриса. Если бы мне не мешала упомянутая некрасивая история, я бы искренне восхищалась им не только как танцовщиком, но и как актером. Все солистки, младшие и старшие, прекрасно себя показали и во время исполнения кадрили, и в пантомиме.

Клео де Мерод в сценическом костюме, конец 1890-х годов
Среди молоденьких учениц, появлявшихся во втором акте, было и два мальчика, их звали Кино и Авлин. В тот момент никто не подозревал, что в будущем они станут великими танцовщиками и балетмейстерами.
Однажды, когда мы репетировали «Звезду» (все немного нервничали, потому что эта огромная постановка требовала большой точности, чтобы все было как надо, а день премьеры приближался), трагические новости распространились по театру, достигнув актеров на сцене: «Благотворительный базар[91] охвачен огнем!» Все замерли в ужасе. Гайяр, которому только что принесли вечернюю газету, сделал знак оркестру умолкнуть. Директор прочел рассказ о катастрофе и увидел в первом же списке погибших много имен держателей абонементов Оперы. Потрясенный, он в знак траура покинул репетицию. Это было 4 мая.
На следующий день остатки Благотворительного базара еще горели, и был опубликован новый список погибших. Все газеты печатали мрачные обзоры этого трагического дня с ужасающими подробностями. Все чувствовали себя ужасно от мысли, что у такого благого начинания такой страшный конец. Все в Опере несколько дней не могли оправиться от чудовищных новостей, которые так контрастировали с веселой, полной жизни постановкой, над чем мы работали.
Премьера «Звезды» прошла 31 мая. Успех был полным, отличная критика, обозреватели расхваливали меня, приравнивая к Маури, хотя моя роль была гораздо скромнее, чем у нее… что навлекло на меня несколько ее мрачных взглядов. Букеты заполняли мою гримерную, письма с поздравлениями устилали стол. Авторы были в полном восторге и подарили мне партитуру балета с таким посвящением: «Нашей восхитительной юной новобрачной Клео де Мерод, чтобы она сохранила наилучшие воспоминания о балете „Звезда“. Анде Вюрмсер, Адольф Адерер».
С каждым показом успех балета возрастал, а спектаклей прошло довольно много. «Звезду» показывали в одно время с короткими операми, то с одной, то с другой. Я регулярно играла юную невесту, пока работала в Опере. Потом балет шел уже без меня до 1910 года. Эта эпизодическая роль оставила глубокий след в сердцах тех, кто интересовался моей карьерой. Годы спустя, когда балет уже почти стерся из моей памяти, находились люди, говорившие: «О! „Звезда“! Как вы танцевали, до сих пор вспоминаю ту кадриль и вас в белом платье с обнаженными руками… Как оно вам шло! Какой образ!..» и так далее. Но я предпочитаю не вспоминать об этих комплиментах по поводу далекой роли маленькой невесты в забытом балете. Хотя мне было приятно.
* * *
Во время репетиций «Звезды» я получила лестное предложение от Гюстава Шарпантье. Он уже много раз приходил в Оперу посмотреть, как я танцую, искал артистку на роль Красоты для «Коронования Музы». Он решил, что я подхожу для этой роли, и попросил меня подумать об этом. Всегда немного тяжело браться за новую большую работу после удивительно успешной премьеры, к тому же у меня уже было много дел. Но я не могла отказать Шарпантье, человеку очень симпатичному, для кого, казалось, это много значило.
* * *
Шарпантье был человеком богемным, любимцем всех enfant terrible с Монмартра. Большие мечтательные и очень добрые глаза музыканта мягко мерцали из-под широких полей фетровой шляпы, водруженной на шевелюру, как «с премьеры Эрнани», а остроконечная борода спускалась на свободно завязанный галстук-«лавальер»[92].
Гюстав Шарпантье любил дух улицы, любил толпу, он мечтал возвеличить жизнь народа, освободить его при помощи искусства, принести ему счастье вместе с музыкой, которая бы помогала людям выражать свои горести и надежды. Эти идеи носились в воздухе. Разве в конце века не начали создаваться открытые университеты, где великие писатели и мыслители своего времени читали лекции и проводили большие образовательные конференции для рабочих?
Шарпантье же для начала написал музыкальный спектакль «Школа Муз», в котором короновалась Муза из самых достойных работниц квартала или города. Он возил свой спектакль по рабочим предместьям и промышленным городам, набирая в свой хор девушек из народа. Каждый раз его принимали с восторгом и благодарили от всего сердца. Потом он основал «Школу Мими Пансон», «Консерваторию для продавщиц» и показал себя великолепным артистом на больших народных праздниках.
Первое представление «Коронования Музы» прошло в Париже, в Новом театре на бульваре Clichy 5 июня 1897 года. В тот раз «Музой Монмартра» выбрали очаровательную мадемуазель Маргариту Стамп, портниху. Что до меня, то я изображала «Красоту».
Виллетт играл роль Пьеро, одетый в тот самый черный балахон своего любимого героя, который появлялся множество раз в его монмартрских рисунках. Он очень убедительно играл пантомиму, где выступал вместе с Красотой, и этот кульминационный момент пьесы вызывал у публики наибольшее воодушевление.
Музыка звучала попеременно то громоподобно, то юмористично, то горестно, то благостно. Она очень нравилась публике, успех был сногсшибательным. «Коронование Музы» начало свое путешествие. Вслед за этим последовало еще более сотни представлений, на которых дирижером выступал лично автор, во всех уголках Франции.
С момента премьеры «Фрины» я получила огромное количество предложений от разных импресарио, одно заманчивее другого. Один из них, господин Форбе, даже специально приехал в Руайан, чтобы предложить мне ангажемент в Америке. Я медлила с ответом. После моего возвращения в Париж господин Форбе много раз приходил за ответом, но впустую. Однако он не сдавался и оставил мне копию контракта: «Подумайте, мадемуазель! Ни один артист не отказался бы от золотых гор, которые я вам предлагаю». Но перспектива уехать, полностью поменять страну проживания пугала меня. Я не могла представить, как я отправлюсь в такое далекое путешествие, в полную неизвестность… Читатель уже понимает, что я не принадлежу к людям авантюристического склада. Моя мать, которая ничего на свете не боялась и которую привлекало все новое, советовала мне согласиться. Она считала этот ангажемент настоящим прорывом в моей карьере и, кроме того, возможностью получить невероятные материальные блага. Действительно, в контракте мне предлагалась невообразимая сумма в 45 000 франков ежемесячно. Даже по сегодняшним меркам это неплохо, а можно себе представить, что это значило в эпоху, когда порция бифштекса стоила пятьдесят сантимов!
Наконец, я дала себя уговорить и пошла к Гайяру показать ему контракт. Увидев, какие там прописаны условия и что мне предлагается, он, ни секунды не колеблясь, позволил мне уехать, и я подписала контракт.
Глава четвертая
Я уезжаю с некоторыми сожалениями. — Приезд в Нью-Йорк: атака журналистов. — Koster and Bial's Music Hall — Бродвей. — Вечно стремительный и шумный город. — Отель «Империал» и циферблат со стрелками. — На яхте Херста. — Ностальгия. — Спокойное возвращение. — Тото не принимают в Англии. — Прогулка влюбленных в Лондоне. — Наконец, Париж!
Нежелание расставаться с возлюбленным, страхи и подозрения, которые его охватят при мысли о расставании, были главной причиной моих долгих колебаний. Шарль и так постоянно раздувал из мухи слона по всяким смешным поводам и создал целый мир опасных фантомов, сопровождавший его размышления о моей поездке в Нью-Йорк, где он никак не мог меня сопровождать, о чем страшно сокрушался. Он уже заранее горевал по поводу того, что за мной начнет охотиться какой-нибудь сомнительный янки, вроде короля тушенки или жвачки, который кинет к моим ногам все могущество своих долларов. Конечно же, за океаном меня ждали невероятные авантюры, и вполне возможно, что я не вернусь… Его воображение не уставало рисовать подобные картины, и бедный малыш таял на глазах, а я постоянно умоляла его оставить эти ревнивые страхи: «Даже если я и решилась на это путешествие, ты можешь быть уверен, что я как уеду, так и вернусь! И кто сможет меня соблазнить, если я люблю только тебя? Ты знаешь, что моя натура неизменчива, у тебя было тому довольно доказательств, и ты не должен сомневаться во мне! А что до мысли, что я могу там остаться, то это просто абсурд! Я люблю свою страну и ни за что на свете не соглашусь переехать в Америку! Давай не будем говорить о фантастических идеях, а останемся в нашей реальности!»
Реальность же постоянно давала о себе знать во всех наших разговорах. В конце концов я должна была признаться Шарлю в истинных причинах своего отъезда. Я долго думала, изучая контракт… Моя мать, обеспечивая мою учебу и наше проживание в Париже, уже истратила бóльшую часть своих денег и продала почти всю свою собственность в Австрии. Мой жених должен был понять, что поскольку наша свадьба еще откладывается, у меня остается лишь работа, чтобы поддерживать достойное существование моей матери и свое собственное. При таких условиях было бы безумием отказываться от такого контракта, который позволял мне обеспечить жизнь Зенси так, как она того заслуживала, хоть немного восполнить все, чем она пожертвовала ради меня, и гарантировать нам благополучное будущее. Шарль был слишком совестлив, чтобы не согласиться с моими доводами, и слишком благороден, чтобы настаивать на приоритете собственных чувств, тем более что он видел, как нелегко дается мне отъезд.
Когда все, наконец, было готово, мы решили, что мой возлюбленный будет сопровождать нас до Шербура.
* * *
Вот и все кончено. Последние поцелуи, мои слезы, конечно, впрочем, я не уверена, что и он не прятал тайных слез, и мы простились на набережной в порту. Мама, я и верный Тото — все вместе поднялись на палубу маленького парохода, который отвезет нас на трансатлантический лайнер «Шпрея» компании Norddeutscher Lloyd, прибывающий из Бремена.
* * *
Путешествие проходило мучительно, почти все время штормило, но на восьмой день после обеда мы прибыли в порт в ясную погоду. Мы были уже готовы, и когда корабль вошел в гавань, над которой возвышалась статуя Свободы с факелом в руке, нам показалось, что нас приглашают войти. Гавань была огромная, в ней могли бы поместиться все порты Франции!.. Два гигантских речных устья, пароходы, пересекавшие их взад-вперед, яхты, лодки, лес мачт, на ними развевались флаги со звездами — все это внезапно предстало у нас перед глазами… Позади всего этого открывался вид на побережье с многоэтажными зданиями, белыми виллами, набережными и опять же мачтами. Нам хотелось любоваться всем этим подольше, полностью погрузиться в созерцание соблазнительной картины…
Но якорь брошен, и тут же, к моему огромному удивлению, трап «Шпреи» наводнили журналисты, сражаясь за право первыми приветствовать Клео де Мерод. Я вдруг осознала, что знаменита… и стою окруженная полусотней любопытных молодых людей с объективами, направленными на меня. Хорошо, что я решила приодеться: на мне было белое кружевное платье, белое мохеровое пальто, большая шляпа, украшенная, как мне казалось, очень эффектно, муаровой лентой. Большинство репортеров говорили по-французски, к тому же моя мать выступала переводчицей. На меня посыпались вопросы: «В каком возрасте вы начали учиться балету?», «Кто были ваши учителя?», «В каких балетах вы танцевали в Опере?», «Вы рады оказаться в Нью-Йорке?» и так далее. Наконец, мы спустились вниз по трапу, но на набережной нас поджидала еще одна группа журналистов!
Внизу нас уже ждал директор театра мистер Уильям Смит, который очень быстро отогнал от меня алчных вопрошателей. Он сразу повез нас в театр — театр Koster and Bial на Бродвее. Там мы поднялись на террасу, где в мою честь был организован прием, и там меня тоже ожидала добрая сотня журналистов. Они тут же обступили меня и начали допрашивать… Требовалось показать им уши и в подробностях рассказать историю со статуей Фальгьера. Затем мне стали задавать вопросы про отношения с Леопольдом II. Я рассказала им о его визите в Оперу, о знаменитой сцене в Танцевальном фойе и о том, что она за собой повлекла. Они быстро записывали, горя нетерпением побыстрее убежать в свои редакции сдавать репортаж для специального выпуска. Когда они, наконец, оставили меня в покое, господин Смит представил меня английскому балетмейстеру господину Оливеру, который только что прилетел из Лондона для постановки моих выступлений. Шампанское лилось рекой, и нам предлагали на подносах сэндвичи и пирожные таких размеров, каких я в жизни не видела.

Клео де Мерод, конец 1890-х годов
* * *
Еще из Парижа, по совету Форбе, я заказала в Нью-Йорке номер во французском отеле Martin. Это была большая, светлая, комфортабельная гостиница. Когда я вошла в номер, совсем не прочь отдохнуть после путешествия, приема и журналистов, меня ждал очаровательный сюрприз: на столе стоял огромный букет цветов, наполнявший благоуханием и оживлявший цветом всю комнату. Между двумя прекрасными белыми розами я обнаружила карточку с именем моего жениха. Он оказался настолько изобретательным, что смог связаться с флористом в Нью-Йорке и договориться о том, чтобы к моему приезду в номер доставили этот букет. Такая забота и влюбленность тронули меня и остановили поток неприятных и немного тревожных мыслей, связанных с атаками журналистов. Я сразу успокоилась и даже подумала, что в этой ситуации много веселого: я чувствовала себя под защитой нежной любви Шарля, его письма помогут мне выдерживать неизвестные, непредвиденные и, возможно, неприятные происшествия, поджидавшие меня на чужбине.
Мы репетировали около двух недель в Koster and Bial. Этот театр, декор которого, на мой вкус, был немного отягощен избытком позолоты, во всем остальном был прекрасно оснащен, но у американцев не было почти ничего, что требуется для постановок: ни танцевальной труппы, ни оркестра. Господин Смит хотел поставить спектакль века, пригласил императорский балет и оркестр из Лондона. Выбранное произведение было адаптацией «Фауста», превращенной для такого случая в балет-пантомиму. Артисты играли пантомиму в главных оперных сценах, а потом вступал балет. Я танцевала все соло в очень легкой полупрозрачной пачке. В общей сложности я находилась на сцене больше двух часов, включая паузы, когда на сцену выходили другие балерины танцевать вариации.

Клео де Мерод в сценическом костюме, конец 1890-х годов
Долгожданная премьера прошла с триумфом. В многочисленных нью-йоркских газетах, огромного формата и состоявших из шестнадцати или двадцати с лишним страниц, печатались мои интервью и огромное количество статей с анонсами наших представлений, так что интерес зрителей был подогрет. В городе везде висели огромные плакаты с моим изображением и с такими вот подписями: «The most beautiful woman in the world»[93].
Зал был полон до самых верхних рядов галерки. Публика довольно шикарная, но вечерние фраки у них явно были не в приоритете, и ничего подобного тому роскошному стилю, который я потом увидела в театре в Лондоне, и в помине не было: никаких роскошных вечерних платьев и безупречных фраков с манишками. Но такая, какая была, американская публика мне очень понравилась оживленностью, энтузиазмом и искренностью, чуть ли не доходившей до наивности. Они хлопали и кричали, надрывая легкие.
Обзоры писались потом очень теплые. Спектакль называли «ошеломляющим», а звезду — «пленительной», писали, что в солистке сочетались грация, очарование и талант…
Я выступала шесть раз в неделю по вечерам и два раза утром. Таким образом, в моем распоряжении оставался почти целый день. Вставала я всегда поздно, после завтрака отвечала на ежедневные письма Шарля, и поскольку подробно рассказывала ему обо всем, что происходило со мною, это занимало достаточно времени. Потом мы отправлялись гулять по Нью-Йорку вместе с Тото, который ничему не удивлялся и быстро ко всему привык.
* * *
Нашим первым чувством было веселое любопытство, смешанное с испугом. Милый сердцу бульвар Капуцинок, который казался нам шумным, невозможно было сравнить с местными оживленными улицами. Париж стал казаться тихим и спокойным по сравнению с этим огромным, жившим в постоянном движении и шуме городом, где каждый, казалось, торопился по неотложным делам…
Прохожие на улицах Нью-Йорка в конце прошлого века выглядели странно! Они почти не разговаривали, не жестикулировали, не фланировали по улицам без дела, быстро шли, почти бежали, глядя прямо перед собой. Мужчины все выглядели так, будто принадлежали к одному социальному классу: аккуратные, хорошо одетые, спина выпрямлена, голова высоко поднята, но выражение лиц у всех отсутствующее, вид озабоченный. Шли делать «бизнес», и это было единственное, что их занимало. Разве их девизом не была фраза «Business first»[94]? Elevated Railroad[95] — воздушное метро, охватывало весь город своими железными щупальцами, которые содрогались и грохотали под тяжестью двигавшихся вагонов. Оно казалось нам довольно некрасивым, и мы спрашивали себя не без тревоги, не будет ли строившееся тогда парижское метро похоже на эти безобразные конструкции. Cable-cars — кабинки канатной дороги, завоевывавшей тогда мир, тоже издавали ужасавший грохот, проносясь вдоль улиц со всей скоростью. Мы смотрели на мальчишек-разносчиков, часто босоногих, которые бегали по улицам с огромными пачками газет в руках, крича во все горло: «Morning paper! Morning paper!»[96]
Сколько же было и другого транспорта, помимо общественного: грузовики, такси, повозки с впряженными лошадьми, не считая легиона велосипедистов! Столько людей, столько колес, столько движения! На улицах царило такое оживление, что казалось: население Нью-Йорка гораздо многочисленнее, чем в Париже, а между тем в Нью-Йорке в то время жило не больше двух миллионов человек. И это было слишком для его размеров, было ощущение, что задыхаешься в переполненной комнате. Каждый день прибывал новый корабль с новой партией переселенцев на борту, привлеченных надеждами на новую, благополучную жизнь, и любопытствовавших европейцев, которые хотели посмотреть «как оно там, в Америке».
Архитектура города показалась нам подавлявшей, жесткой и скучной, нам, привыкшим к затейливым поворотам, живописным уголкам и замысловатым перекресткам парижских улиц, к их скромным и красивым пропорциям. С одной стороны, здания фантастических форм кошмарными рядами вставали вдоль горизонта, например эти небоскребы на Манхэттене, с другой — геометрическая правильность улиц, бесконечные ряды прямых бульваров с перекрестками под прямым углом, разделявшие город на правильные отрезки и длинные прямые авеню, вдоль которых стояли дома с красными или белыми фасадами, покрытые афишами с кричавшими рисунками, но это, в основном, на Бродвее.
Бродвей, который сейчас кажется вполне скромных размеров, тогда показался нам бесконечным. Людный, шумный… Там все было заполонено рекламой, анонсами, яркими афишами и коммерческими объявлениями. По сторонам улицы, довольно неровной, стояли в ряд одинаковые кирпичные дома, некоторые просто гиганты из камня — так называемые the blocks[97], где находились офисы или торговые склады. Их гигантские фасады были покрыты железными пожарными лестницами, как и все высокие дома в Нью-Йорке, чтобы люди могли спастись из горевшего дома.
На нижних этажах таких домов располагались обычно магазинчики, где продавалось все что угодно. С наступлением сумерек по обеим сторонам улиц зажигались гирлянды огней, электрических вывесок и ослеплявших реклам кричащих ярких оттенков красного, желтого, зеленого и голубого. В толпе прохожих можно было заметить представителей разных народов, немцев в клетчатых костюмах и больших очках, черноглазых итальянцев, чернокожих, метисов и даже китайцев с длинными косами сзади.
Женщины казались спокойнее и неторопливее мужчин, тем не менее они все много работали, потому что тогда в Америке большинство профессий были уже доступны женщинам. Несмотря на это, можно было увидеть дам, неспешно прогуливавшихся по Бродвею и разглядывавших витрины. Высокие, стройные, дамы чаще попадались очень красивые, со светлыми или золотисто-русыми густыми волосами, убранными в высокие узлы на затылке. Глаза у них были серо-зеленые или светло-голубые, а кожа очень светлая, лица тщательно скрывали от солнца под широкими полями шляп, украшенных кружевами или цветами. По сравнению с парижанками, они казались более экстравагантными, носили большие объемные сверху рукава и юбки, обильно украшенные бантами и рюшами. Чтобы еще лучше защитить свою белую кожу от солнечных лучей, они вдобавок к шляпам носили широкие вычурные кружевные зонтики. Дети, одетые очень кокетливо, смотрелись очаровательно — розовые щечки и длинные завитые светлые кудри…
* * *
Посчитав, что отель Martin расположен слишком далеко от центра, мы переехали, несмотря на все его удобство, на Бродвей, в отель Impériale, рядом с Koster and Bial. Великолепное здание роскошного отеля в пятнадцать этажей, оснащенное быстрым лифтом, было красивым, комфортабельным и гарантировало постояльцам номера «Absolutely Fire Proof»[98]. В белом, ярко освещенном холле стояли глубокие кресла, роскошные зеркала и цветы на каждом столике. Мой номер на четырнадцатом этаже мне несказанно нравился: светлые стены и занавеси, толстый ковер и глубокие ниши с полочками… На стене была установлена система, восхитившая меня: это был циферблат со стрелками, которые поворачивались при помощи специальной ручки. В зависимости от того, какое положение стрелок вы выбирали, служащие гостиницы незамедлительно приносили чай, холодную воду, писчую бумагу, чернила, газеты или карту Нью-Йорка… все что хотите. Гарсоны в белых галстуках, горничные в чепчиках и фартучках из муслина были очень вежливы и предупредительны, еда подавалась такая же отменная, как и в Martin. Все большие отели нанимали французских или бельгийских поваров, так что их постояльцы отлично питались. Сами американцы ели, как нам казалось, блюда одновременно простоватые и странные: овсяные супы, ростбиф, вареные овощи и всевозможные консервы, которые потреблялись в невероятных количествах. Они также злоупотребляли кондитерскими изделиями и разными candies — сахарными конфетами неестественных цветов, и пили напитки со льдом до и после обжигающе горячих чая или кофе.
Кстати, о напитках, меня удивляло, что везде — в аптеках, кафе и барах — можно было купить огромные стаканы содовой разных видов, очень газированной, с фруктовыми вкусами. Нам это питье показалось довольно приятным. А сейчас, кажется, в американских аптеках можно купить и другие продукты, даже целый обед.
* * *
Мне часто приходилось ходить на разные приемы, поскольку они устраивались в основном в мою честь. Например, господин Херст[99], медиамагнат, устроил для меня роскошный обед на своей яхте. Там я встретила, помимо вечных журналистов, несколько супружеских пар, принадлежавших к светскому и деловому миру Нью-Йорка, свою соотечественницу Анну Хелд[100] и английскую актрису Мэри Стадхольм, которая работала в театре, где играла в пьесе Шекспира — по-моему, это была «Как вам это понравится».
Херст — человек внушительного телосложения, с широким плоским лицом и очень светлыми глазами, посадил меня справа от себя и окружил всяческой заботой. Обед, приготовленный французским поваром, был таким же изысканным, как в Cafe de Paris. На мне было нежно-голубое муслиновое платье с вышивкой и вечерняя накидка из горностая. После приветственных тостов мои друзья-репортеры, не меняя пластинки, принялись опять меня «поджаривать». Они желали знать имена моего портного, скорняка, модистки… и имя моего шофера! Они очень удивились, узнав, что такового не существует по той простой причине, что у меня не было автомобиля. Но я им сказала, что все шоферы с улицы Scribe, чьи автомобили припаркованы буквально у моих дверей, сражаются за возможность подвезти меня. Это их очень позабавило. «Конечно, — уверяла я их, — в Париже многое легко решается. Все посемейному». Вид у них был ошарашенный. На следующий день во всех газетах напечатали мое новое интервью, в котором все слова были сильно преувеличены.
В другой раз гранд-отель WaldorfAstoria пригласил лондонскую балетную труппу и меня на почетный прием с шампанским. Восхитительно! Я не рассказываю об этом знаменитом заведении, поскольку о нем все слышали[101].
Потом в Нью-Йорк приехал Форбе, чтобы посмотреть, как идет наш season[102]. Когда он организовывал ангажементы в Америке, директора европейских театров торопили его с отчетами о результатах, чтобы составлять программы будущих сезонов. Это был маленький, совершенно круглый человечек, очень энергичный, предприимчивый, всегда бегущий с поезда на поезд или с парохода на пароход. Хотя по происхождению он был американцем, но постоянно жил в Париже, там же находилась и его контора. Он работал с Англией, Германией, Францией и Америкой. Когда он увидел размер прибыли Koster and Bial, то просто расцвел. По случаю своего приезда он устроил несколько обедов и ужинов, куда приглашал нашего директора, английского балетмейстера и меня.
Не шло даже речи о том, чтобы выезжать из Нью-Йорка. Расстояния в Америке были слишком огромными, чтобы хватило времени на интересную экскурсию. Даже чтобы посмотреть Ниагарский водопад, необходимо было ехать туда сорок восемь часов, а потом обратно. Работа в театре не позволяла мне путешествовать, о чем я очень сожалела.
* * *
Несмотря на то что наша жизнь била ключом, а график был напряженным, хотелось обратно в Париж, вернуться к прежней знакомой и привольной жизни. Про Нью-Йорк я бы не могла сказать, что там «все по-семейному». Жизнь американцев проходила в основном не дома, а на улице или на работе, и все постоянно спешили. Для отдыха или беседы они ходили в клубы — мужские и клубы для дам.
Этот молодой народ, сильный и работоспособный, временами производил впечатление истощенности, люди казались охваченными постоянной усталостью — это был результат того, что они постоянно действовали одновременно в разных направлениях, в лихорадочном стремлении «делать деньги». Еще молодые лица часто обрамляли рано поседевшие волосы; сильные и энергичные люди в очках и с слишком большим количеством золотых зубов. Нам рассказывали, что болезни нервов в Америке не редкость. Кстати, в смысле здоровья, очень познавательны были многочисленные рекламные объявления в газетах. Моя мать бегло читала по-английски и все мне переводила, средства от нервов рекламировались больше всего: переутомление, эмоциональное выгорание, а также пудра для восстановления цвета лица и разные другие чудо-пилюли.
Головы наши гудели от постоянного шума Бродвея. Даже мама, большая любительница всего нового, стала тосковать по мирным парижским пейзажам, чистым линиям площади Согласия и Лувру, сине-серым водам Сены и кружащим над ними чайкам… Это не было скукой, мы никогда не скучали, нет — это была ностальгия, тоска по родине.
* * *
И вот настал день отъезда. До самого парохода меня сопровождала большая компания провожающих, среди которых конечно же были и неизбежные репортеры. Цветы, добрые пожелания, взволнованные слова прощания… Вот и доки, портовые грузчики несут грузы на борт судов, отплывающих в Старый Свет: тюки хлопка, бочки консервированных говядины и рыбы, мешки пшеницы и риса, ящики с фруктами. Свистки, звон колокольчиков, крики: «Quick! Go ahead!»[103]. Вот и наше судно, на этот раз немецкий транслатлантический лайнер «Ла Трава». Якорь поднят, и мы покидаем большой порт. Нью-Йорк уменьшается, его небеса бледнеют, громадная статуя Свободы растворяется вдалеке, вскоре вокруг нас лишь океан.
«Ла Трава» делал заход в Саутгемптон. По хитроумному плану, который мы заранее придумали, там нас ждал Шарль, с которым мы хотели прогуляться по Лондону, однако присутствие ни в чем не повинного Тото опрокинуло все наши расчеты: в Англию не пускали собак из других стран! Мама великодушно осталась на борту с Тото, а Лондон, Шарль и я провели вместе несколько восхитительных часов. Но, охваченные радостью от долгожданной встречи, боюсь, мы не уделили подобающего внимания ни Тауэрскому мосту, ни Вестминстеру. Тем не менее Лондон в общем и целом показался мне симпатичнее Нью-Йорка.
Когда мы вернулись, то обнаружили, что корабль уже уплыл. Перебравшись через Ла Манш на плохонькой лодчонке, мы оказались утром в Гавре, где сразу сели на поезд до Сен-Лазара.
* * *
Париж. Я снова «у себя дома». Каким мне все казалось прекрасным и сияющим, а дышалось так легко! Я снова стала выступать в Опере в начале октября. Отголоски новостей о моих нью-йоркских успехах достигли парижских газет, которые печатали по этому поводу многочисленные статьи с лестными комментариями в мой адрес. Гайяр сердечно встретил меня, ближайшие подруги тоже. Что до остальных, то выражение их лиц дало мне понять, что и в этот раз «только и говорили, что обо мне»…
Глава пятая
Прекрасная эпоха? Эпоха захватывающая. — Экипажи в Булонском лесу. — Князь Трубецкой и его зонтик. — «Вошь и Паук». — Клара Солнце. — Битвы цветов. — Вечеринки в клубе Des Épatants. — Мои портные и модистки. — Больдини[104] рисует мой портрет. — Театр в конце века. — Дузе[105]. — Иветта Гильбер[106]. — Сара Бернар. — Лои Фуллер[107]. — Радости и неудобства жизни звезды. — Махараджа Капурталы делает мне предложение руки и сердца. — Влюбленные в затруднительном положении. — Нелепая дуэль и неудавшееся самоубийство.
Я с бесконечной радостью вернулась в свою квартиру на улице Капуцинок и продолжила приятную жизнь между работой в театре и другими удовольствиями. Форбе, очень довольный моим успехом в Нью-Йорке, уже рассуждал о новых ангажементах. «Посмотрим, посмотрим, — отвечала я ему. — Чуть попозже». Шарль и мысли не допускал о моем новом отъезде, а я была совершенно не против вновь окунуться в парижскую жизнь, немного нервозную, но такую яркую и богатую сюрпризами и соблазнами.
Интенсивность жизни в годы расцвета завершавшегося века была необыкновенной. Вы разрывались между сотней привлекательных мест, среди которых все время появлялись новые. Блистательные иностранные приемы, великолепные праздники, выставки нового искусства, вообще было очень много нового во всех областях жизни. Теперь это время называют Прекрасной эпохой. Да, это время воистину было прекрасной эпохой! Невероятной эпохой! Никогда еще, как в конце XIX века, мир не видел такого бурления идей, такого творческого подъема! Новые открытия появлялись каждый день не только в науке, стремительно развивавшейся во всех областях, но и в философии, искусстве, где происходили слияния стилей и возникали содружества талантов и умов, так что ни один пытливый разум не мог остаться равнодушным. Возникали новые школы с оригинальными интересными программами, которые выходили в виде пламенных манифестов. Поэты порывали с классическими ритмами и стихотворными размерами, искали новые формы выражения и обретали неслыханные до этого интонации. В театре глубокое влияние оказывали пьесы Ибсена и Бьернсона, он неудержимо развивался силами молодых талантов, которые открывали независимые театральные площадки, где показывали спектакли нового типа, где главное место отводилось социальным проблемам и психологическим конфликтам повседневной жизни. Людям хотелось, чтобы театр не просто развлекал, но заставлял размышлять. Декоративные искусства тоже были охвачены лихорадкой перемен. Привычка копировать древних мастеров отошла в прошлое. В интерьерах появилось больше света и открытого пространства, возник стиль art nouveau. Сейчас нам кажутся смешными эти замысловатые линии и обилие цветочных виньеток. Но если декораторы и грешили злоупотреблением в деталях нового стиля, который быстро вышел из моды, то в живописи и скульптуре происходила настоящая революция, подарившая нам великие шедевры, живущие в веках. Свет заполнял не только новые интерьеры, он пронизывал живописные полотна, и импрессионисты громко заявляли о себе, несмотря на сопротивление приверженцев старого стиля. В своих реалистических рисунках Стейнлен[108] показывал жизнь бедноты, как Шарпантье — в музыке. Бурдель и Роден, новые мастера скульптуры, поражали зрителей своими мощными творениями, вызывая долгие и пылкие дискуссии среди знатоков и любителей. Я помню, какие противоречивые отзывы получил «Мыслитель». Годы развития, годы усилий, годы борьбы против устаревших воззрений на жизнь и искусство, рождение новых формулировок… конечно же, это были годы прекрасной и увлекательной эпохи!
К тому же тогда в обществе не было неуверенности в будущем, горизонт не был омрачен тучами угрожавшей неизвестности, в воздухе не витал страх перед будущими катастрофами, которые никто не мог себе и представить. Тогда мы могли строить планы и осуществлять новые проекты, думать с улыбкой о завтрашнем дне. Мы могли позволить себе просто наслаждаться жизнью.
Конечно, заработки были небольшие, и даже нам, артистам, платили довольно мало, именно поэтому я должна была покинуть Оперу, согласившись на предложения, сулившие гораздо больше возможностей сделать жизнь роскошнее. Условия работы тогда мало отличались от нынешних: платили мало и при этом не предоставляли ни оплачиваемого отпуска, ни пенсии. Было очень много бедных, это много раз говорилось и повторялось теми, кто высмеивает название «Прекрасная эпоха». Это правда, но аренда жилья стоила копейки, поесть в ресторане можно было за полтора франка или дешевле, хлеб стоил четыре су, сахар — тринадцать су за кило, литр молока — пять су, поездка на омнибусе — шесть. Билеты в театр могли себе позволить все: в Оперу продавались места и за пять франков, и за три… лучшие — за шестнадцать. Можно было даже позволить себе сладости, особенно не обременяя бюджет. В некоторых больших магазинах были постоянно открыты большие буфеты, и метрдотели в белых перчатках бесплатно раздавали всем желающим печенье и сиропы.
И был ли народ так уж несчастен? Я помню, что в магазинах продавцы были добродушными, изысканно вежливыми и всегда улыбались; сотрудники всегда были аккуратно и хорошо одеты; прохожие на бульварах шли неспешным шагом, с улыбкой на лице; ремесленники тщательно выполняли свою работу, до мельчайших деталей прорабатывая свои изделия и не считая каждую лишнюю минуту на работе; рабочие, ремонтируя дома, распевали песни. Общее ощущение было такое, что жизнь протекала в достатке и веселье. Возможно, моя память приукрашивает прошлое, но то, что число самоубийств тогда было ничтожно малым и все мелкие рантье жили счастливо, это точно. О нашем времени такого уже не скажешь.
Нищета в конце века не кажется мне такой ужасной, как сейчас. Такого чудовищного контраста между богатыми и бедными, какой сейчас заметен повсеместно, тогда не было. Я знала бедняков, они составляли значительную часть моей «клиентуры», как и у всех других популярных артистов. Каждый день кто-нибудь приходил ко мне домой, каждый день я получала более или менее правдивые письма с просьбой о помощи от людей, оказавшихся в тех или иных печальных обстоятельствах, которые очень волновали мою мать. Я много помогала. Но если ты давал денег один раз, просивший скоро вновь оказывался у твоей двери и приходили новые письма с рассказами о новых несчастьях. Иногда, устав от этого, я говорила: «Ах, нет! Он опять преувеличивает, на этот раз я ничего ему не дам!» Но Зенси упрашивала меня: «Нет, Лулу, я тебя умоляю, пошли ему еще денег! Если он врет, тем хуже для него. Но лучше дать лишнего, чем оставить умирать от голода».
У нас работали кухарка и горничная, мы также нанимали по необходимости штопальщицу и мастера по дому. Их труд по нынешним меркам был очень дешев, но они, казалось, были довольны своей судьбой и выполняли работу с усердием и радостью.
* * *
Мы были все время чем-то заняты, причем самыми разнообразными делами. Тогда не было автомобилей, не было метро, но сколько всего мы успевали за день, поверить невозможно! Я спрашиваю себя, как физически у меня получалось столько всего делать, иногда идти на другой конец Парижа и возвращаться, и это при очень напряженном графике.
Утром, после занятий, если мы не ехали кататься на велосипедах, то занимались верховой ездой. Я научилась ездить на лошади в манеже на улице Suresnes и довольно неплохо держалась в седле. Я носила облегавшую амазонку и лихо заломленную треуголку. Все это неплохо на мне смотрелось. Конюх из манежа сопровождал меня до леса, а там меня уже ждал Шарль. Несколько раз мы попадали туда после обеда, в то время, когда высшее общество выезжало верхом, и можно было встретить самых блестящих в городе амазонок верхом на великолепных гнедых конях и самых высококлассных наездников. Зимой по четвергам и воскресеньям мы катались на коньках в Pôle Nord[109] на улице Clichy или в Булонском лесу на озере Суперьер. Этот спорт я обожала, на каток надевала бархатный костюм с короткой юбкой, отороченной норкой, с капором и муфтой из того же меха. Когда наступала теплая погода, то нашим любимым развлечением по средам и пятницам с пяти до семи было любоваться парадом экипажей в Булонском лесу. Там собиралась невероятная толпа, вдоль всей Аллеи акаций стояли раскладные стульчики для жаждавших увидеть бесплатно очень красивый и занимательный спектакль, потому что и сами экипажи, и их пассажиры были очень разнообразны. Коляски двигались в шесть рядов. Управлявшие роскошными фаэтонами с запряженными в них великолепными лошадьми шикарные господа были очень довольны тем, что на них смотрят. Самым лорнируемым из проезжавших был князь Трубецкой c неизменно раскрытым над головой зонтом. Он раскрывал его, как только на горизонте появлялось хоть одно легкое облачко, и держал над собой в левой руке, в то время как правой управлял коляской… к радости всех присутствовавших. Были и другие персонажи, вызывавшие восторг у собравшихся, например пожилые супруги, тщательно и дорого одетые, но со сморщенными помятыми лицами и морщинистыми лбами, вальяжно восседали в коляске, обитой изнутри синим шелком. Завсегдатаи Аллеи акаций прозвали этих оригиналов «Вошь и Паук»… В роскошных «викториях», внутри похожих на шикарные комнаты, с запряженными в них резвыми лошадями, которыми управляли надменного вида возницы в помпезных ливреях, великолепно одетые популярные красавицы, каждая в своем стиле, подчеркивавшим их оригинальность и уникальность, притягивали восхищенные взгляды. Все любовались ослепительной Кларой Уорд[110], княгиней Шиме, которую из-за сиявшей кожи и блестящих золотых волос прозвали «Клара Солнце». Она потом влюбится в цыганского скрипача и бросит своего князя, сбежав с этим неотразимым мастером смычка. Проехав ресторан Le Tir Aux Pigeons, процессия разворачивалась и ехала обратно, а публика терпеливо ждала их возвращения, чтобы еще раз насладиться видом прекрасных пассажиров.
Одним из самых популярных мест в Париже был модный клуб Des Épatants на улице Boissy d’Anglas, «Кружок Союза художников», очень закрытый, куда допускались только сливки общества. У них был зал для игры в баккара с джекпотом. Ежегодно клуб устраивал праздник, где показывали скетч, написанный маркизом де Масса, в котором принимали участие участники кружка. Все при этом играли так искусно, словно были великими актерами: эти любители могли бы легко зарабатывать на жизнь преподаванием сценической речи и мимики. Они приглашали и известных артистов участвовать в своем конкурсе; например, в программе Des Épatants я слушала Леони Яне[111] и Симон-Жирар[112]. Педро Гайяр соглашался, чтобы в этих вечерах принимали участие и балерины нашей труппы, в частности я. Мы должны были выступать с небольшими комедийными ролями и конечно же балетными номерами.
Для одной из таких ролей «Кружок…» заказал мне у Дусе[113] прелестное платье, которое очень изящно было мне подарено. Мой первый роскошный туалет: платье фасона «принцесса», приталенное, c юбкой-«колокольчиком» из вышитого муслина цвета шампанского c подложкой из тафты того же цвета и широким золотистым поясом из шелка. Длинные бархатные перчатки цвета шампанского и широченная шляпа из соломки завершали туалет. Я часто надевала его на прогулки по Булонскому лесу, и оно производило впечатление, когда я проезжала по аллеям на коляске с впряженной в нее хорошей лошадью.
Из-за этого платья мне делали столько комплиментов, что я сама пошла к Дусе, и с тех пор он стал моим кутюрье на долгие годы. У него работали очень умелые портнихи, но корсажами занимался только мастер-специалист, Ла Пэна. Затем я еще посещала Дом моды Калло[114], который, в частности, шил мне все костюмы для «Первого шага» Жоржа Менье. Туфли я заказывала у Ferri — двадцать пять франков за пару, мне делали ботинки, туфли, маленькие полусапожки для верховой езды; обувь шили из кожи козлят, и она получалась такой мягкой, будто была сделана из крепдешина. Что касается шляп, то я предпочитала Lewis. Несколько раз заказывала у Карли. Но тут все было проще, потому что сами модистки сражались за право предоставить мне шляпку для прогулок в Булонском лесу или для приемов, о чем потом писали в газетах. Присланные картонки со шляпами в большом количестве скапливались у меня дома. И это доставляло им столько удовольствия! Я не могла отказать, так что всегда располагала большим выбором красивых головных уборов.

Клео де Мерод, Париж, 1898
* * *
Владелец абонемента, граф де Бирон, большой любитель живописи, пригласил меня как-то на обед вечером 1895 или 1896 года. За соседним столиком сидел господин Барда, знаменитый коллекционер живописи. Приятной наружности, элегантный, с проницательным умным взглядом, он был прекрасным собеседником, речи его всегда были остроумны и полны смешных историй про известных на тот момент в обществе персонажей. Он делал мне деликатные комплименты, избегая при этом банальностей, а потом, как бы между прочим, спросил, не хочу ли я позировать для его друга Больдини. Этот итальянский художник был тогда очень в моде. Женщины со всего мира хотели ему позировать, в Салоне к его полотнам стояли очереди. Господин Барда, казалось, испытывал большое желание, чтобы я стала моделью Больдини, и поскольку мне было трудно ему отказать, я согласилась. Через день я получила письмо от самого художника, в котором он благодарил меня и предлагал время встречи. В назначенный день я отправилась на бульвар Berthier, где находилась его мастерская. Больдини, очень низкорослый коренастый человек, c некрасивым лицом, напоминал скорее карликов Веласкеса, чем прекрасных принцев от искусства. Его известность стала причиной для всяких шутников сделать его невысокий рост объектом насмешек, и по городу ходили стишки, главный смысл которых заключался в том, что «малыш месье Больдини так и не вырос». Я снова рассчитывала, что он будет рисовать лишь голову, и оделась очень просто: в костюм и чесучовую блузку. Но художник рисовал меня почти в полный рост: я сидела в кресле, голова опиралась на одну руку, а другая лежала на коленях. Я пожалела, что не оделась поэлегантнее, но кисть Больдини придала такие оттенки корсажу, что ткань казалась блестящей, словно дорогой шелк.
Я позировала многим живописцам: Ренуару, Жоржу Каэну, Дега, Форену, Каульбаху, Шулеру, Ленбаху и другим, но никогда не видела художника, который работал как Больдини. Он смотрел на меня секунду, затем поворачивался к мольберту, делал мазок, секундный взгляд — быстрый взмах кисти. Не прерываясь на разговоры, художник рисовал и рисовал, с невероятной скоростью и точностью, и картина продвигалась очень быстро. Никогда ничего не переделывал и не изменял!.. При таких темпах картина была вскоре закончена, и результат этой работы, проделанной со скоростью паровоза, оказался довольно приятным. Портрет получился живым, поза непринужденной, а не постановочной, это была моя характерная поза, словно меня застали врасплох в момент отдыха. Цвета светлой гаммы были радостными, а лицо и руки освещались красивой игрой света.
Как только работа закончилась, картину тут же купил господин Барда, он решительно хотел поддержать талант Больдини… если только не был тайно влюблен в меня. Мой портрет он повесил на видное место в своей галерее и всю жизнь хранил его. После его смерти портрет купил Морис де Ротшильд[115], и картину выставляли несколько лет назад в Галерее Шарпантье во время ретроспективной выставки Больдини. Мне говорили, что теперь она хранится в частной коллекции в Нью-Йорке.
* * *
Меня вместе с Замбелли и Бланш Мант часто просили выступить в Елисейском дворце, и мы там, в частности, исполнили очаровательный балет-пантомиму в хореографии Хансена. Мы не получали за это денег, но каждой подарили красивую белую вазу из Севрской мануфактуры. Во время больших светских приемов, которые организовывал Андре де Фукьер — казалось, без него не могли устроить ни одного праздника в городе, — меня ангажировали выступать перед балом с номером старинных танцев времен Людовика XV вместе с моей коллегой Артуа. Я постоянно получала разные предложения, но не всегда могла их принять. Кокленмладший[116] попросил меня сыграть с ним в его пантомиме, а Фелисия Малле[117], c триумфом выступавшая в Arnbigu-Comique в спектакле «Жиголетта», предложила стать ее партнершей в нескольких пантомимах. Но эти два проекта так и не осуществились: я была не свободна по необходимым для выступлений дням.

Клео де Мерод
Поскольку были страстными любительницами театра, мы с матерью старались не пропускать ни одной театральной постановки в городе. Не могу как-то упорядочить свои впечатления, сейчас, спустя столько лет, они мне кажутся одинаково сильными. Я видела Люсьена Гитри[118] в «Капкане», Сюзанну Депре[119] в «Кукольном доме», Муне-Сюлли[120] в «Царе Эдипе», Коклена в «Сирано», Жанну Гранье[121] и Люсьена Гитри в «Любовниках». Артисты невероятной актерской мощи, полные искренности и жизни! Я также очень ценила интеллигентную игру Марты Брандес, актрисы с невероятным личным обаянием, и чувствительную Берту Бади, чей голос напоминал пение скрипки. Художественные вершины, которых достигала Рейан в «Мадам Сан-Жен»[122] потрясали, но я предпочитала видеть эту великую актрису в ролях простых людей, где без восклицаний и патетических жестов, игрой, жестами и особенной манерой речи она могла глубоко взволновать целый зал. В Comédie-Française я часто аплодировала пикантной Мари Леконт, величественной Барте; Фероди[123], обладавшему потрясавшим реализмом в игре; Сесиль Сорель, великолепно исполнявшей декоративные роли Клоринд, Целимен и баронесс д’Анж, но всегда немного помпезной. Она была прекрасной подругой. Я всегда восхищалась ее элегантностью. После 1900 года, когда я должна была играть в «Первом шаге», то написала ей, хотя совсем не знала ее лично, с просьбой рассказать, у кого она шьет свои прекрасные наряды. Она ответила мне без промедления и с такой сердечностью, словно мы были близкими подругами, и посоветовала пойти к сестрам Калло, и с тех пор этот модный дом создал для меня много прекраснейших вещей.
Одно из самых ярких моих воспоминаний о театре — это Элеонора Дузе, актриса, достигавшая на сцене невероятной убедительности, а в актерской игре для меня главное — убедительность. Я видела ее в театре Porte Saint Martin в одном утреннем представлении. Она играла один акт из трех пьес: «Жена Клода»[124], «Сельская честь» и «Дама с камелиями»[125]. Двигалась она мало, никаких трюков с голосом, размашистых жестов, но внутренний огонь, выразительная мимика, глубина чувств вызывали слезы у зрителей. Дузе была не просто модной актрисой своего времени, она была актрисой на все времена. Кто имел счастье увидеть ее хоть однажды, больше никогда не забывал это прекрасное горестное лицо.
Другой уникальной актрисой, выступавшей в своем оригинальном жанре, была Иветта Гильбер. В ней ярко выражался характер и запоминался ее особенный стиль: ярко-зеленое платье и черные длинные перчатки. Острый взгляд, курносый нос, волосы, похожие на охапку золотой стружки, — все было чертовски парижское! Все c предвкушением ждали новых смешных песен, с удовольствием детально разбирая самые смелые, спетые с озорной интонацией и при этом с безупречной дикцией.
Но особое место на парижской театральной сцене занимала, конечно, Сара Бернар. Она была вне сравнений. Мы ходили смотреть все роли этой королевы театра. Неподражаемое очарование, исходившее от нее, певучие звуки ее голоса, то нежного, то властного, то язвительного, то плачущего, завораживали меня. Сара Бернар в «Федре»[126]… Это одно из самых потрясающих воспоминаний. Теплый свет, струившийся из ее глаз, которые справедливо называли глазами львицы; чистые линии обнаженных рук и изящных кистей с белыми длинными пальцами; невероятные драпировки; все ее тело, так умело передававшее любой порыв, любой вздох, любое переживание; ее лицо, само по себе удивительное, могло выразить любое чувство… Больше ничего подобного я не видела.
Сару Бернар часто упрекали, что она уделяла внимание посредственным пьесам, ролям, созданным, чтобы вызвать дешевую сенсацию. Но можно сказать и так, что она, обладая уникальным талантом, помогала театру открывать новых молодых авторов. К тому же такие упреки не совсем справедливы: никто особенно не задумывался о финансовых трудностях, с какими она сталкивалась и должна была преодолевать, играя в спектаклях, всегда обещавших полный зал. Зато она достигла вершин искусства, играя «Федру», «Лорензаччо»[127], «Аталию»[128], и в этих пьесах она была божественна! К тому же она возвышала посредственные пьесы до вершин своего гения и украшала их. Ее способность создавать на сцене полную иллюзию действия была просто волшебной. В одной сцене в «Орленке» она делала вид, что раздает воображаемые покрывала: «Покрывала! Покрывала!» — и все в зале их видели, эти покрывала, словно наяву…[129]
И даже если «Дама с камелиями», в которой она играла с триумфом, не была шедевром, то после Сары Бернар многие не просто хорошие, но лучшие актрисы стремились сыграть в этой пьесе «для широкого зрителя», к великому счастью тех, кто обожал поплакать в театре… А в общем-то, что может быть лучшей наградой для спектакля, чем слезы зрителей…
Я была страстно увлечена Сарой Бернар, но никогда лично не разговаривала с ней. Дальше я расскажу, как между нами завязались отношения и как я обрела возможность сотрудничать с нею, к своему великому счастью.
* * *
Я видела, как начинала карьеру Лои Фуллер в Folies Bergère. Эта артистка нового жанра, уже прославленная в Англии и Америке, произвела своего рода революцию в Париже.
Спектакль в Folies Bergère мне очень понравился. Совершенная истина то, что она как бы и не танцевала по-настоящему, двигались в основном только руки. Но это была артистка яркая, лучезарная, и ее волшебное исполнение полностью изменяло ваше восприятие всего, что вы до этого видели. Она несла нечто доселе невиданное в танце, опережая свое время и вдохновляя хореографов долгие годы спустя. Покинув сцену, она стала преподавательницей ритмического движения и в этой области тоже продолжала развивать свой новый жанр, последователей которого становилось все больше, а школы, где обучали такому танцу, множились и процветали еще более тридцати лет.
* * *
В те вечера, когда выступления в Опере не было, мы иногда ходили ужинать в шикарные рестораны, Drouant или Paillard, куда ходила избранная публика и где играли самые лучшие цыганские оркестры. В дни вернисажей в Салоне мы обедали в Ledoyen, очень приятно расположенном среди зелени. Еще мы очень любили после велосипедных прогулок ходить в Prunier и объедаться там устрицами. При хорошей погоде наступало время маленького гриль-бара на улице Mogador и пивной Pilsner, где можно было очень душевно поесть всего за два с половиной франка! Я перечисляю любимые места, от самых роскошных до самых простых, и могу сказать, что еда в дешевых заведениях часто оставляла воспоминания не менее яркие, чем в дорогих.
Выходя из Оперы, мы часто разворачивались и шли не домой, а к Феррари, в магазин Cocagne, и покупали пармскую ветчину, икру, салями, мортаделлу, фаршированные оливки, анчоусы, кремонскую нугу — все, что я так любила, и устраивали дома пир с Asti или Chianti, которые так хорошо дополняли эти лакомства.
Жизнь дома была очень веселой. Наши близкие друзья всегда могли подняться к нам, когда хотели. Большая столовая позволяла принимать даже поздних гостей. В хорошую погоду мы сидели на террасе, и друзья всегда с восторгом относились к идее пообедать над шумным бульваром, среди кадок с цветами и зеленью. На Масленицу и Микарем[130] я приглашала своих лучших подруг из Оперы во главе с Леонтиной Бове посмотреть на шествие студентов. Мы без устали бросали вниз с балкона серпантин и конфетти.
Восхитительные часы, проведенные на улице Капуцинок! Туда приходил и Шарль, он весело проводил с нами время, был полон озорства и остроумия! У него был замечательный характер, исключая только приступы ревности… Он сопровождал меня почти везде, приходил встречать в Оперу каждый раз, когда я выступала. Что за счастливое время!
Ах! У меня не было времени спокойно наслаждаться этим счастьем, проникнуться им, так я была захвачена бурным потоком жизни тех лет: вокруг было столько интересного, столько соблазнов и приманок… Я была похожа на юную принцессу, которую балуют, холят и лелеют, осыпают привилегиями, окружают воздыхателями и обожателями, о которых и мечтать нельзя! Я спокойно принимала свой постоянный успех в театре, без удивления и боязни, считая на самом деле все в своей жизни вполне заслуженным, потому что все, кроме, конечно, удачи и того, что меня называли красавицей, произошло главным образом благодаря постоянному упорному труду и беспрерывной работе с семи лет. Так что в глубине души, в основе всех моих чувств и переживаний, была спокойная уверенность, дарующая блаженство, очень приятное. Но иногда плавное течение моей внутренней жизни нарушалось в основном из-за славы и публичности, когда вокруг малейшего моего жеста начинали раздувать истории, что противоречило моему мирному характеру и простым вкусам.
Успех — это благо, и я научилась пользоваться теми радостями, какие он приносил. Когда меня хвалили достойные мастера театральной критики, когда я чувствовала, что «хороша» на сцене, когда аплодисменты и крики «браво» меня в этом убеждали, это приносило глубокое и справедливое удовольствие. Но когда поднимался шум из-за какого-нибудь пустяка, не имевшего никакого отношения к искусству, тогда слава меня тяготила и смущала. Это иногда омрачало счастье, в котором я жила.
Ну и поскольку я была известна, люди постоянно осаждали мои двери, желая увидеть меня, представиться и выступить с разными более или менее нелепыми просьбами: сотни просили автограф, и часто совершеннейшие чудаки делали мне предложения выйти замуж. Одним из самых удивительных происшествий такого рода стало предложение руки от… махараджи Капурталы.
* * *
Махараджа посетил Оперу в 1897 году, в тот вечер шла «Звезда», и он очень мне аплодировал. В антракте он пришел в Танцевальное фойе, желая меня поприветствовать. Мы несколько минут разговаривали, он ушел, и больше я о нем не думала.
Я уже рассказывала, что мы с матерью охотно ходили в Булонский лес по средам и пятницам, чтобы посмотреть на красивые экипажи. Однажды в июньскую пятницу, некоторое время спустя после посещения махараджей Оперы, мы прогуливались вблизи ресторана Pré Catelan и вдруг встретили этого роскошного индийского господина. Он был среднего роста, с достаточно массивной фигурой и вообще не очень красивый: крючковатый нос, толстые губы и глаза испуганного тигра… Но большой шелковый тюрбан придавал ему экзотическую элегантность и делал его чуть выше ростом. Увидев нас, он резко остановился, и его глаза засияли. Он глубоко нам поклонился и заговорил о «неожиданной приятной встрече». По его словам, он не переставал думать обо мне с того вечера, когда я выступала в «Звезде», и очень хотел увидеть меня вновь. Махараджа уговорил нас пойти с ним на полдник в Prе Catelan. Когда мы оказались в его прекрасных стенах, он очень настойчиво стал приглашать меня в Капурталу: «Вы непременно должны приехать, я вам покажу охоту на антилоп». Я рассмеялась, но не отказала, в принципе, мысль о поездке в Индию мне нравилась. Тем не менее осуществление этого величайшего проекта я решила на тот момент не обсуждать… Потом махараджа пригласил нас пройтись с ним еще немного, но мама устала и хотела немного отдохнуть, так что мы отправились вдвоем. Он завел меня в пустынную аллею. Там он вдруг остановился, сорвал с руки массивный золотой перстень с большим бриллиантом и протянул мне со словами:
— В память о той радости, что принесла мне эта встреча, берите, дорогая Клео де Мерод, оно ваше!
— Но Ваше Высочество, я не могу принять такую драгоценность, это слишком.
— Нет, нет, я вас прошу, не отказывайтесь! Для вас не может быть ничего слишком прекрасного.
И вот, неожиданно, он уже делает мне предложение и с большим воодушевлением описывает, как мы въезжаем в Капурталу! Картинка того, как я, одетая в одежды махарани, еду на большом слоне, покрытом белой шелковой попоной, расшитой золотом, показалась мне до невозможности забавной, и я с трудом скрывала улыбку.
Я ответила ему, что страшно польщена, но вынуждена отказаться, так как уже помолвлена. Конечно, я не подала и виду, что не хочу провести жизнь в этой таинственной стране с совершенно отличными от наших обычаев и с мужчиной, у которого уже, несомненно, было несколько жен.
Принц в тюрбане разочарованно принял мой холодный отказ, но нисколько не обижаясь, часто писал мне письма из Индии и посылал очень красивые виды своей страны.
Можно было бы предположить, что этот случай заставил меня неимоверно возгордиться. Вовсе нет, предложение его индийского величества не восхитило меня и не потрясло. Успехи такого рода меня скорее смущали и не доставляли удовольствия.
Другие претенденты были не столь блистательными, да и не столь деликатными. Двоих даже стала разыскивать впоследствии полиция, что вызвало большой скандал в обществе.
Примерно в то же время, как я познакомилась с махараджей, друзья представили мне молодого армянина Жана А. Кроме огромных черных глаз, в нем не было ничего примечательного. Он занимался финансами и казался очень уверенным в себе. Познакомившись с нами, он так живо и пылко выражал свой восторг по поводу нашей дружбы, что мы пригласили его в гости на улицу Капуцинок. Он казался очарованным, пришел один раз, потом второй, а потом и третий. Его деликатность и тонкость нравились нам, ничего не подозревая, мы с ним держались по-дружески. Затем Жан взял в привычку приходить без приглашения и в конце концов стал заявляться к нам домой почти каждый день и как-то потихоньку начал за мной ухаживать. Чтобы стать незаменимым, он постоянно предлагал свои услуги — отправить письма, что-нибудь принести, сходить быстренько за покупками… Я считала его очень предупредительным, любезным и всегда относилась с большим доверием. В результате он незаметно превратился в моего телохранителя, в цербера, который следил, куда я хожу, когда прихожу домой и кого приглашаю в гости. Поведение было очень навязчивое, и я пожалела о своей неосторожности, когда позволила этому юноше помогать нам. Я больше не была хозяйкой в собственном доме и попыталась мягко объяснить этому услужливому, но надоедливому влюбленному, что он злоупотребляет оказанным доверием. Но он, казалось, не понял, а мне не хотелось взваливать на своего жениха неприятную обязанность выставить его за дверь. Шарль и так уже злился, постоянно встречая у нас Жана А., так что я боялась стычки между ними.
У меня был еще один воздыхатель, на этот раз из Польши — Рафаэль Б, очень богатый землевладелец. У него была приятная внешность, красивое лицо, длинные белые пальцы, но он был человек нервического склада, постоянно нездорово оживленный, и его визиты меня не развлекали. Он всегда посылал мне огромные великолепные букеты цветов, что вызывало ревность у Жана А. Каждый раз, когда при нем приносили букет от поляка, он погружался в неуместную задумчивость. Однажды эти двое столкнулись нос к носу у меня в гостиной. Произошла ссора, довольно жестко спровоцированная поляком. Галантные господа обменялись визитными карточками, затем последовала дуэль, и Жан А. получил удар шпагой.
Я была очень недовольна этим нелепым происшествием, мотивы которого, к счастью, остались обществу неизвестными. Необыкновенное везение, а то бы снова мои двери штурмовали репортеры, и вокруг моего имени поднялась шумиха. Я строго отчитала Жана А. за его поведение, а он между тем не перестал навязывать свое общество почти ежедневно. Он страшно действовал мне на нервы, но я все медлила поговорить с ним прямо. Однажды, оставшись надолго один в гостиной, он совершил бестактный поступок, что я заметила лишь на следующий день. Когда он осмелился заявиться к нам, я выставила его за дверь. Через несколько дней упрямец вновь пришел. Когда горничная доложила мне о нем, я сказала: «Да какой же он нахальный! Скажи ему, что я ушла!» Через минуту она принесла записку, в которой Жан написал: «Если вы не выйдете сию же минуту и не скажете, что простили меня, я покончу с собой прямо у вас в гостиной». Я пожала плечами, сочтя эту угрозу дешевой бравадой. И в самом деле, Жан А. ушел, больше ни на чем не настаивая.
На следующий день Леонтина Бове и я получили от него одинаковые письма. В них были лишь такие слова: «Я себя убью». На этот раз шутки не было, Жан А. взял револьвер и отправился в Булонский лес, где выстрелил в себя. Его нашли без сознания на одной из тропинок. К счастью, он промахнулся, и дело кончилось царапиной под правым глазом. Он очень быстро оправился, а я постепенно все же избавилась от этого полоумного влюбленного. Поляк тоже был не совсем нормальным. Я откровенно сказала ему, что думаю по поводу его талантов скандалиста и дуэлянта, а также дала понять, что надеяться не на что и пора избавить меня от букетов.

Клео де Мерод
Часть III
Вокруг света на пуантах
Глава первая
Успех в Гамбурге. — Я получаю ангажемент в варьете Wintergarten в Берлине. — Лавровый венок и сумка с золотыми монетами. — Как я ушла из Оперы. — Болезнь матери. — И цыгане поют… — Я потеряла свет моей жизни. — Друзья обеспокоены моей дальнейшей судьбой. — Мари Брио, хорошая компаньонка. — Жанна Гранье и принц Уэльский. — Я играю в театре Капуцинов. — Всемирная Парижская выставка 1900 года. — Камбоджийские танцы в «Азиатском театре». — Двойник Леопольда II.
Однажды, когда мы с друзьями обедали на террасе, вошла горничная и сообщила, что меня спрашивает Форбе. Я пошла в гостиную, и он после витиеватых приветствий сразу перешел к делу:
— Мадемуазель, некоторое время тому назад я вам писал насчет настойчивых предложений от директоров немецких театров, но вы мне не ответили. Вы разве не читали моего письма?
— Видите ли, да. Я его прочла… и отложила в сторону. Я ждала разговора со своим директором, чтобы понимать, что я могу вам ответить. Но я еще не поговорила с ним. Я не так давно вернулась, и мне кажется немного преждевременным поднимать вопрос о новых гастролях. Я же не могу в самом деле отсутствовать в Опере шесть месяцев в году!
— Значит, пришло время решать. Эти директора уже планируют осенний сезон и хотят все точно знать. А какие директора! Каких театров! Hansa-Theater в Гамбурге, где ставят самые прекрасные спектакли; Wintergarten в Берлине, огромнейший театр-варьете, с большим оркестром прямо на сцене, его можно сравнить с лондонским Coliseum! Самые известные европейские артисты начинали там. Вы не можете отказываться от подобных предложений. Их просто так не делают, уж поверьте мне!
— Послушайте, мой дорогой месье, я обещаю, что отвечу вам через три или четыре дня. Мне необходимо поговорить с господином Гайяром.
Форбе вытащил из кармана бумаги:
— И покажите ему варианты контрактов.
Встреча прошла хорошо, ничего ужасного не случилось. Прочитав контракты, Гайяр сказал, хитро подмигнув мне: «Ну что, теперь крылышки у тебя растут уже на ногах? Что вы хотите, конечно, я не могу предложить такие суммы и остановить тебя не могу. После Германии будет Австрия, Россия, а потом, кто знает, и Китай… Надеюсь только, что время от времени ты будешь приезжать танцевать и в Оперу».
Господин Поль Грелл, директор Hansa-Theater, и я подписали договор в июле 1898 года. Он нанимал меня на сентябрь. Путешествие для двоих первым классом туда и обратно оплачивалось, и я получала двадцать одну тысячу франков. По нынешним деньгам это получилось бы около трех миллионов.
После нескольких дней отдыха в Ульгате в конце августа мы начали свой путь в сторону Гамбурга. Мне дали карт-бланш в отношении программы, и я придумала очень разнообразный номер, включавший и пиццикато из «Сильвии»[131], и танец мастерицы из «Корригана»[132], паваны, танцы эпохи Людовика XV и один греческий танец из «Фрины»[133]. Для всех этих ролей я везла костюмы в огромных чемоданах, партитуры для оркестра занимали отдельный большой ящик. Но тогда сами пассажиры багаж не возили…
Прибыв на место, мы обнаружили, что весь город обклеен афишами с анонсами моих выступлений. Мы заселились в гостиницу Hamburgherhofна берегу озера Альстер, по берегам которого располагались частные особняки, окруженные красивыми садами. Это было очень приятное место.
Город произвел на меня сильное впечатление своей оживленностью и деловитой атмосферой. Наш отель находился довольно далеко от порта, чтобы добраться до него, приходилось проделывать большой путь, и мы много раз совершали такие прогулки.
В конце поездки к нам приехал Шарль и был очень впечатлен тем горячим приемом, который мне оказывала местная публика. Из Парижа тоже следили за моей немецкой вылазкой, и газеты печатали благостные комментарии о моих выступлениях и успехе.
* * *
Недолгое возвращение в Париж, и вот я уже снова уезжаю, на этот раз в в Берлин, где буду работать месяц у господ Дорна и Барона, директоров Wintergarten, на тех же условиях, что и в Гамбурге.
Этот отъезд был не таким веселым, как предыдущий. Моя мать, всегда такая бодрая, энергичная, на удивление здоровая женщина — я никогда не видела, чтобы она болела хоть один день, — уже некоторое время жаловалась на боли в боку. Поскольку после возвращения мы очень часто и подолгу катались на велосипедах, я объясняла это перенапряжением мышц, и мы сократили количество велосипедных прогулок. Но Зенси не стало легче, к тому же она стала раздражительной и нервной. Обеспокоенная этими болями и общим состоянием, совершенно для нее нехарактерным, я уже решила было отменить контракт. Мать была против и очень хотела поехать: «Я не позволю каким-то мышечным спазмам остановить нас. Все это пройдет во время путешествия, вот увидишь». Несмотря на ее оптимизм, я очень беспокоилась, садясь на поезд до Берлина. Но она оказалась права: по приезде все боли прошли, она вновь обрела привычные жизнерадостность и спокойствие и всю поездку чувствовала себя как обычно. Совершенно успокоенная, я могла полностью погрузиться в работу и отдаться радостям новых открытий.
Мы жили в гостинице Bristol, одном из красивых отелей, стоявших на улице Unter den Linden. Эта авеню претендовала на шик наших Елисейских Полей и вела на Парижскую площадь, где находилось французское посольство, недалеко от горделивых Бранденбургских ворот.

Клео де Мерод в сценическом костюме, 1899
Театр-варьете Wintergarten был колоссальным… и вульгарным одновременно, со всеми этими завитушками и чрезмерной позолотой. Зато несколько тысяч зрителей чувствовали себя там прекрасно, и оркестр был великолепен. Я выступала с той же программой, что и в Гамбурге, а успех был, пожалуй, даже больше. Берлинцы обожали французских артистов, все сразу бежали в тот театр, который анонсировал французские выступления. Какие высокопарные эпитеты, какие восхваления в обзорах критиков! Меня сравнивали с разными мифологическими божествами с тем же лирическим надрывом, что отличал и многочисленные письма от воздыхателей, которые приносили мне в Bristol или Wintergarten. Мать переводила их мне, умирая от смеха, и я их поскорее выбросила, чтобы они не попались на глаза Шарлю, он должен был приехать на несколько дней.
* * *
Ноябрь приближался к концу. Поток зрителей увеличивался, и господа Дорн и Барон предложили мне продлить договор до конца декабря. Я телеграфировала Гайяру, который согласился на такие условия.
Вечер за вечером количество зрителей, приходивших посмотреть мое выступление, не уменьшалось. В Берлине оказалось огромное число любителей балета, они заполняли зал тридцать вечеров подряд и принимали меня так же восторженно, как и в предыдущем месяце.
Когда занавес опустился в последний раз, директора с большой помпой водрузили мне на голову лавровый венок, вокруг которого вилась трехцветная лента с золотой надписью: «Wintergarten выражает благодарность прекрасной звезде Клео де Мерод». А гонорар я получила в виде золотых монет по двадцать марок. Сорок тысяч франков в золотых монетах — нелегкая ноша… Мне выдали большую сумку, чтобы перевезти это небольшое состояние… в шесть миллионов нынешних денег.
* * *
Когда я появилась в Опере, Гайяр сказал мне: «Вот, наконец, и ты! Ну, теперь-то я надеюсь, ты ненадолго успокоишься?» Я видела, что он не очень доволен из-за моего долгого отсутствия. Я прекрасно понимала — так продолжаться не может и мне не удастся совмещать работу в Опере и постоянные ангажементы на стороне. Пришло время выбирать.
Форбе, разумеется, в отличие от Гайяра, был в прекрасном расположении духа. Он прибежал ко мне, сиявший и болтавший без умолку:
— Вы знаете, Дорн и Барон снова предлагают вам выступить в Wintergarten… Они очарованы, очарованы… Есть и другие предложения. Вас хотят видеть в Вене, в Лондоне… Мы сейчас составим план на будущий год.
Я остановила его:
— Не так быстро, дорогой месье! Вы, кажется, забыли, что я состою в труппе Оперы? Прежде всего, мне нужно серьезно поговорить с директорами.
— Хорошо, хорошо! Но торопитесь. Вот список всех предложений, которые нам поступили.
Эти предложения были такими интересными! Однако я все равно не решалась, потому что любила Оперу. От мысли, что я покину этот в буквальном смысле дом, мне становилось нехорошо. Прекрасный журнал Le théâtre как раз выпустил специальный номер, посвященный балетной труппе Оперы, там было очень много моих фотографий, например одна большая, раскрашенная, изображала меня в роли охотницы из «Сильвии». В нижней части портрета было написано: «Клео де Мерод, красивейшая из королев, королева красивейших, любимица богов, скульпторов и королей». Такой напыщенный стиль вызвал у меня смех, но я снова и снова мечтательно листала страницы красивого издания. Неужели я и правда решусь покинуть эту прекрасную труппу, восхищавшую весь мир, эту знаменитую великолепную сцену, которая принесла мне столько удачи? И где мне платили всего триста франков в месяц!
У меня был долгий разговор с Гайяром и Бертраном, прошедший доверительно и с большой взаимной симпатией. Я откровенно рассказала о своих сомнениях: «В Нью-Йорке я зарабатывала пятнадцать сотен франков в день, в Берлине — семь сотен. Смотрите, а теперь мне предлагают то-то и то-то…» Гайяр изучил список, который я ему принесла:
— Понимаю, что для тебя это соблазнительно, но я привязан к тебе и будет очень тяжело тебя отпустить. Мы могли бы пересмотреть твои условия и дать восемьсот франков в месяц.
— Но мы не можем предложить больше! Если мы будем платить тебе тысячу франков, то нам придется поднять зарплату и всем остальным старшим солисткам. Это невозможно… Опера не так богата.
— Мне будет очень грустно расстаться с Оперой, но, кажется, это единственно возможное решение.
— Мы не можем мешать твоей звездной карьере. Будь уверена, мы очень радуемся твоим успехам, хотя и сожалеем, что тебя здесь больше не будет.
Так я и покинула Оперу… с тяжелым сердцем. Но я стремилась к новым высотам и ни разу не пожалела о принятом решении, благодаря чему передо мною открылся новый мир путешествий, блистательной карьеры и успеха, который ждал меня во всех странах Европы. Наконец, благодаря этому у меня огромное количество бесценных воспоминаний.
* * *
Но в разгар приготовлений к новому сезону 1899 года все вдруг трагическим образом изменилось. Нет больше речи ни о каких контрактах, ни о каких путешествиях, все мои планы были отложены sine die[134]. Надо мной, как черная туча, застилавшая горизонт, внезапно нависла мрачнейшая угроза.
Некоторое время спустя после переговоров с Гайяром здоровье мамы вновь ухудшилось. Боли в боку не только возобновились, но и усилились. Ей стало трудно ходить. После двух месяцев сопротивления она, совсем не неженка, все-таки слегла и почти не вставала с постели. Когда она снова стала жаловаться на боли, я вызвала врача, хорошего специалиста, очень знающего. Он особенно ничем не обеспокоился и выписал разные лекарства, которые не принесли никакого облегчения. Тогда он прописал компрессы с лауданумом[135]. Вместо того чтобы убрать неприятные симптомы, они вызывали у нее чувство чудовищного жжения, так что она с криками их срывала. Потеряв голову от страха, я попросила консультации у профессоров Люка Шампьоньера, Лемаршана и Жиля де ла Туретта, возглавлявших три главные больницы Парижа. Они давали сдержанные прогнозы, и по их строгим речам я поняла, что состояние матери очень тяжелое. Но я не отчаивалась, принять все как должное было слишком ужасно. Я обратилась еще и к доктору Жоржу Бергеру, одному из самых известных врачей того времени. После долгого осмотра больной он сказал мне наедине в кабинете: «Никакое хирургическое вмешательство невозможно!»
Я передала этот вердикт нашему доктору, который продолжал приходить ежедневно. Очень осторожно он сказал, что болезнь матери «неизлечима». Ужасные слова! Она, сама доброта, щедрость и благородство, она — неизлечима? Все во мне восставало против такой несправедливости, я не желала смиряться с приговором. Мысль, что моя мать, полная жизни и красоты, в сорок девять лет оставит меня, казалась такой абсурдной, что я отказывалась ее принять и заставляла себя надеяться, что ее сильная натура победит загадочную болезнь. Я хотела надеяться вопреки очевидному. Лицо ее стало бледным, щеки ввалились, она теряла силы и с каждым днем становилась все слабее. Страдания ее становились все невыносимее, и врач выписал успокоительные, но они не очень помогали. «Мы подождем, сколько сможем, прежде чем начать давать морфий…» Морфий… это слово меня ужасало.
Тем не менее пришлось прибегнуть к этому средству. Моя бедная дорогая мама, не встававшая с постели с марта, начиная с апреля уже совсем не спала. Поскольку ужасные боли не давали ей передышки, мы начали делать уколы. Доктор научил меня как. Я спала в комнате матери на маленькой кушетке и, когда она начинала стонать среди ночи, вставала и делала укол. У меня была дневная сиделка, но ночью я решила делать все сама. Нас двоих едва хватало, чтобы следить за больной, которая, несмотря на жестокие боли, постоянно стремилась отбросить покрывала и встать с постели.
Доктор рекомендовал мне каждый день гулять, боясь, что у меня разовьется малокровие. Однажды после обеда я пошла в Тюильри подышать воздухом. Когда я вернулась, сиделка сказала: «Мадемуазель, ваша мама, пока я кипятила шприц, встала, дошла до столовой и хотела выброситься в окно». С этого дня я боялась выйти из дома даже на пятнадцать минут. Я почти не отходила от изголовья ее горестного ложа, мучаясь от бессилия. Смотреть, как любимое существо тщетно сражается с загадочным врагом, который грызет ее изнутри, было невыносимо. В конце уже и морфин больше не действовал, не приносил даже временного облегчения. Когда страдания ее были особенно мучительными, она слезно просила: «Ты знаешь, что я люблю тебя, Лулу, но я тебя умоляю, молись, молись, чтобы смерть забрала меня сию же минуту!» В ее присутствии я сдерживала слезы, иногда выходила в столовую, чтобы поплакать вдоволь наедине с собой. По вечерам цыганская музыка из ресторана Tourtel проникала в наш двор, наполняя комнату звуками веселого чардаша. Эти жизнерадостные звуки разрывали мне сердце, и я затыкала уши, чтобы не слышать их.
Когда все это началось, я написала в Вену. Дядя Шарль, отягощенный делами, не мог их оставить. Но дядя Фердинанд и тетя Реси с тех пор приезжали уже несколько раз. После того как все стало совсем плохо, они приехали уже надолго и поселились у меня. Их присутствие очень поддерживало меня и дало силы выдержать самые черные часы последнего месяца.
Мама прекрасно понимала, что происходит, и эта ясность сознания прибавляла к физическим страданиям еще и страдания душевные. Иногда она смотрела на меня с беспокойством, и я понимала, что она боится оставить меня совсем одну. Однажды, когда прошел приступ и боль ненадолго отступила, она взяла меня за руку и с бесконечной нежностью в глазах прошептала такие слова, которые, видимо, отражали ее самые глубинные страхи: «Нет, они не смогут ничего сделать тебе, с таким личиком и головкой ангела».
Она не теряла сознания до самого конца. Это случилось 29 июня 1899 года. Мы стояли вокруг ее изголовья, дядя Фердинанд, Реси и я, горестно наблюдая последние минуты той борьбы, какую ее стойкий организм вел против жестокой болезни, победа которой была близка. Но мать стояла до последнего. Когда битва была окончена, нас окружила тишина, глубокая тишина.
Мы были раздавлены, стояли не в силах пошевелиться. Неожиданно я почувствовала что-то у своей лодыжки. Опустив глаза, я увидела нашего песика, который сидел у моих ног, положив голову на кровать. Он тихонько вошел, никем не замеченный, и, понимая, что происходит что-то экстраординарное, вел себя смирно, не смея вздохнуть. Я его отослала, он спрятался в уголке и грустно лежал там, за долгое время даже ни разу не тявкнул.
* * *
Мать отпевали в церкви Madeleine. Все друзья и приятели послали мне сердечные соболезнования. Целая толпа — мои друзья, много артистов — сопровождала нас до кладбища Père Lachaise, последнее место отдохновения той, кого мне будет всегда не хватать.
Нельзя передать, что я чувствовала, вернувшись в опустевший дом, какая пустота разверзлась в моей душе, не позволяя думать ни о чем, кроме моей утраты. Я потеряла свет всей жизни, ту, что учила меня, защищала и направляла, друга, советчицу, само Провидение. Мне казалось, что теперь я не смогу больше пошевелиться, связать воедино две мысли, принять решение. После возвращения Фердинанда и Реси в Австрию пустота стала еще ощутимее. Что со мной теперь станет? Шарль, который приходил каждый день в то ужасное время, окружал меня нежностью, был внимателен и заботлив, но возлюбленный не может заменить мать. Ничто не может заменить мать, особенно такую, как моя. Как жить без нее?
— Оставь театр, — просил меня Шарль. — Тогда не останется никаких препятствий для нашей свадьбы.
Но на самом деле единственное, что как-то смягчало мою боль и отвлекало меня от горя, был танец.
— Ты забываешь, — отвечала я, — что я люблю, я обожаю свое искусство. Если я оставлю балет, то существование мое станет пресным и потеряет смысл. Лишь во всем остальном я не знаю, что делать дальше… Нет, если ты меня любишь, то не должен требовать такой жертвы.
Он умолял меня хотя бы поменять обстановку и поехать куда-нибудь отдохнуть. За эти месяцы я потеряла сон и потом почти год страдала бессонницей. Шарль отвез меня в Парамме, где мы провели лето в полном спокойствии. Нервы мои пришли в норму, и после отдыха я чувствовала себя гораздо лучше.
Когда я вернулась, мною решили заняться подруги Г., которых очень взволновало случившееся несчастье. Они считали, что нельзя оставлять меня один на один с бытовыми проблемами, чем обычно занималась мать. Они намеревались поручить это сестре Робера де Флёра, своего близкого друга. Робер де Флёр[136] в то время был в очень близких отношениях с Джейн Анрио, красивой актрисой Comédie-Française, которая впоследствии умерла от удушья в своей гримерной во время пожара, случившегося в театре в 1901 году. Узнав о моей ситуации от сестры, Робер де Флёр сам поговорил с Джейн Анрио, и та сразу подумала о некой Мари Брио, кто, по ее мнению, идеально подходил на эту роль. Джейн Анрио знала ее, потому что она была до этого компаньонкой ее крестницы. При посредничестве очаровательной актрисы сестры Г. связались с Мари Брио и, сочтя ее очень подходящей, послали ко мне.
Мари Брио провела на подмостках почти всю свою жизнь, с самого детства. Когда ей исполнилось пятьдесят, ангажементы стали слишком редкими, так что она задумалась о другом заработке. Мысль зарабатывать на хлеб в качестве компаньонки показалась ей недурной. Довольно высокая, хорошо сложенная, с красивыми светло-голубыми глазами и каштановыми, чуть тронутыми сединой волосами, очень ухоженная… Наша первая встреча прошла весьма сердечно, но поскольку я не говорила ничего определенного, в конце мы уже не знали, о чем говорить, и расстались немного неловко. Хотя первое впечатление было отличным, мне было трудно нанять кого-то в дом, не зная его привычек, вкусов, характера — вообще ничего не зная… Брио приходила ко мне несколько раз, наши разговоры длились все дольше. Раскрывая ее прямую и открытую натуру, и я убедилась, что обрету в ней не только хорошую помощницу, но и подругу. И мы пришли к соглашению.
Случай или судьба, что в конечном итоге одно и то же, были ко мне благосклонны: Брио провела со мной все оставшиеся годы своей жизни… то есть очень много лет, поскольку отличалась отменным здоровьем. Она была самой полезной и понимающей из компаньонок, а также и самой веселой. Брио — подходящая фамилия, поскольку энергия у нее была сумасшедшая![137] Веселая и до невозможности остроумная, одаренная великолепной памятью, она знала множество смешных и ярких историй, которые с удовольствием рассказывала. Она родилась в Seine-et-Marne, в городке Gurcy-le-Châtel, недалеко от владений графов Осонвильских, потом очень молоденькой приехала в Париж и познакомилась там с актрисой Деклоза, жившей напротив и игрвшей на сцене театра Châtelet. Звезде нравилась юная соседка, она считала ее милой и забавной. Услышав, как звонко и чисто девушка поет, актриса заинтересовалась еще больше, дала ей несколько уроков и привела на прослушивание в Châtelet. Девочку взяли на маленькие роли, но потом она стала играть персонажей более значительных. Деклоза привязалась к своей протеже и взяла ее с собой в путешествие по Америке, чтобы вместе петь в опереттах. Труппа была очень популярна за океаном. Во время американских гастролей Брио познакомилась со многими известными французскими актерами, в числе прочих с Капулем[138], идолом американской публики. Мари Брио так и осталась очень увлеченной им, и восхваления его чудесного голоса и обольстительности никогда не иссякали. Вернувшись в Париж, она была востребована на сцене. Жанна Гранье, тоже артистка оперетты, заметила ее и пригласила с собой в турне. Гранье часто давала выступления в Лондоне, и будущий Эдуард VII, тогда еще принц Уэльский, не пропускал ни одного спектакля. Брио мне рассказывала: «Гранье без конца поворачивалась к ложе принца. Было очевидно, что играла она исключительно для него».
В начале октября Брио начала у меня работать. Она приходила в девять утра и оставалась со мной до позднего вечера, а потом возвращалась в свою маленькую квартирку на улице Échiquier. Она выполняла обязанности костюмерши, секретаря, курьера и вообще заправляла всем в доме. Никто еще не пользовался у меня таким доверием и так хорошо его не оправдывал! Она была живой, энергичной, собранной, практичной, мои интересы блюла с бо€льшим рвением, чем я сама, и даже больше: она любила меня и всегда была рядом, чтобы выслушать и помочь сердечным советом.
Мне поступало огромное количество предложений, но уезжать еще не хотелось. Тем не менее надо было работать: я не выступала уже больше полугода, а деньги, привезенные из Америки и Германии, сильно поубавились во время болезни матери. Из ее собственного наследства не осталось уже почти ничего. Пришла пора повернуться к жизни лицом.
Для начала я решила станцевать у «Капуцинов», чей директор, Октав Прадель[139], попросил придумать для них программу — что-нибудь простенькое, но чтобы показать все достоинства балерины. Предполагалось, что танцую в этом номере только я одна, поэтому тщательно продумала программу. К тому, что я танцевала в Wintergarten — пиццикато из «Сильвии», гавотам, пассепье и греческим танцам, — я прибавила яванский танец. В одном художественном альбоме, который мне принес Шарль, я увидела гравюру, изображавшую маленьких яванок в очень красивых танцевальных позах. Я попыталась их повторить и в результате придумала небольшую экзотическую интермедию, довольно удачную. Я показала гравюры Паско, и они вдохновили его на создание вполне яванского костюма для меня: длинная юбка с цветными рисунками с широкой золотой каймой, высокая прическа с диадемой из перьев…

Клео де Мерод в сценическом костюме, 1899
Среди актрис, ответивших мне, была начинающая артистка по имени Левек, которая в будущем сделала блестящую карьеру комической актрисы. Выступление имело заоблачный успех, зал театра Капуцинов, самый парижский из залов, не пустовал всю зиму. Этот успех немного рассеял мои мрачные мысли, к тому же я была все время очень занята.
Октав Прадель, человек очень известный в театральных кругах, автор многочисленных монологов и постановок, сотрудничавший со множеством газет, служил утехой для карикатуристов — абсолютно круглый со всех сторон, с головой сверху лысой, а вокруг затылка украшенной длинными жидкими волосами. Со мною он вел себя очень почтительно и любезно. Я получила внушительный гонорар, и повсюду были развешаны яркие афиши с изображением «знаменитейшей» звезды.
Среди парижан, приходивших посмотреть мое новое выступление, был господин Шарль Лемир. В то время шла лихорадочная подготовка к Всемирной Парижской выставке 1900 года, которая должна была открыться весной. Господин Лемир, раньше живший в Индокитае, очень знающий человек касательно всего в искусстве кхмеров, предложил устроить на выставке Азиатский театр. Он увидел мой яванский танец, пришел ко мне в гримерную и во время беседы предложил: «А вы не хотите станцевать камбоджийские танцы на выставке?» — и рассказал о своих планах. Они показались мне очень заманчивыми, и я согласилась. Но поскольку я не была знатоком Камбоджи, нужно было все придумать с нуля. Я тут же взялась за поиски всего необходимого для постановки такого номера, искала гравюры и статуэтки, изображавшие камбоджийских танцовщиц, изучала их позы. Кино, только-только появившееся тогда в Париже, неожиданно помогло мне: в одном кинотеатре афиша приглашала на вечер камбоджийского танца. Я пошла и внимательно запоминала все жесты танцовщиц, которые, возможно, и не приехали из Юго-Восточной Азии, но очень напоминали странных маленьких балерин на барельефах дворца в Ангкоре.
Когда я собрала всю необходимую информацию, то придумала хореографию танца и показала его господину Лемиру, которому он очень понравился. Он предложил мне хороший договор, и я выступала в Азиатском театре с его открытия и до самого конца выставки.
Я заказала костюм у Ландольфа. У него получился шедевр. Этот камбоджийский костюм был сделан из таких материалов и так великолепно сшит, что цел до сих пор! Он такой же прочный и так же сверкает, как и в тот солнечный весенний день 1900 года, когда я впервые его надела. Но он многое повидал… На самом деле, эти камбоджийские танцы так прославились, что о них говорили много лет спустя после выставки, а директора варьете-театров объявляли меня так: «Мадемуазель де Мерод со своими камбоджийскими танцами…» Я везде возила с собой костюм Ландольфа — в Австрию, Россию, Англию, Швецию… Он занимал особое место в багаже, а для головного убора, тяжелого и хрупкого, требовалась особая коробка. Комплект пережил без особых историй множество длительных путешествий. Этот костюм из тяжелой золотой парчи и пурпурного бархата был целиком покрыт пайетками, сверкавшими при свете. Пирамидальный шлем, украшенный сложным орнаментом, было довольно сложно закрепить на голове и держать в равновесии. Тем не менее мне это всегда удавалось… и даже не было никаких головных болей! Большой нагрудник, отделанный золотым бисером, с которого свисали десять очень острых иглоподобных конусов, и остроконечные восточные туфли завершали мой азиатский наряд.

Клео де Мерод в камбоджийском костюме, 1900
Поскольку я заговорила о кинематографе, интересно рассказать одну забавную историю. Незадолго до открытия выставки Общество Phono-Cinéma-Théâtre, только что тогда основанное, настоятельно предлагало мне подписать контракт, по нему им отдавалось эксклюзивное право снимать меня для так называемых кинопоз. Имелось в виду, что я буду позировать в фотоателье этого общества в позах и костюмах из своих известных танцев. Склеивая кадр за кадром, монтажер получал в итоге маленькие фильмы, которые показывались почти на всех существовавших в Париже киноэкранах. Результат получился не очень красивый: в этих примитивных фильмах я напоминала механическую куклу. Все знают, что на первых кинолентах 1900-х годов жесты актеров казались механическими. Тогда кино еще было далеко от того, чтобы называться седьмым искусством!
Выставка открывалась в марте, это был настоящий водопад развлечений, праздников и удовольствий, не прекращавшийся до октября! Какие чудесные воспоминания! Выставка раскинулась от площади Согласия до Военной школы, охватывая Елисейские Поля, сады Трокадеро, Эспланаду и Марсово поле. На площади Согласия возвышались монументальные ворота, украшенные знаменитой статуей «Парижанки» — олицетворение стиля аrt nouveau: развевающееся волнами платье, широкие рукава в стиле Мухи[140], пышная витиеватая прическа, похожая на торт «Сент Оноре»[141]. Она была весьма простовата, эта бедная Парижанка, вызывавшая такой восторг толпы! Но в остальном реконструкция Pre-aux-Clercs и Vieux Paris на берегу Сены; Дворец Танца и шедшие там восхитительные спектакли; праздники на воде с мерцавшей иллюминацией; павильоны провинций и вся прелесть фольклорных традиций; иностранные павильоны, соревновавшиеся в роскоши и изяществе своих промышленных и художественных достижений… — настоящее чудо! Двигавшийся тротуар, сенсационное новшество, позволял осмотреть, не особенно утомившись, весь нескончаемый спектакль этой феноменальной выставки. Развлечениям не было конца! Люди съезжались в Париж из всех стран, чтобы посмотреть выставку, где всегда находилось место для шансонье и художников. Еще никогда в городе столько не выступали и не читали стихов со всех возможных сцен и во всех вообразимых жанрах. Оживление и веселье в Париже царили неслыханные! Открытие метро в июле лишь добавило размаха празднику. Первая линия, Mayo-Vincennes, каждый день наполнялась пассажирами, удивленными и счастливыми от комфорта и быстроты поездки.
Танец занимал на выставке важное место, и эти танцевальные выступления подготавливали будущий расцвет искусства в ХХ веке.
Phono-Cinéma-Théâtre начал свои показы на выставке, и они были довольно популярными. Публика впервые увидела и услышала синхронизированные «записанный звук» и «движущиеся картинки», зародыши будущего звукового кино. На экранах новых маленьких кинотеатров можно было посмотреть, как танцуют гавот Замбелли, Росита Маури и я. Еще был очень популярен театр Лои Фуллер. Там в течение нескольких месяцев выступала великая японская актриса Садаякко[142], привлекая толпы зрителей.
Эта потрясающая трагическая актриса была еще мимом и первоклассной танцовщицей. Для меня, как и для многих других, ее искусство стало откровением.
Дворец Танца находился недалеко, на Парижской улице, самой веселой и многолюдной артерии Выставки. Там без остановки шли разные спектакли в исполнении самых знаменитых артистов. Звездами были Кристина Керф и итальянки Аида Бони и Мария Гиури. Марикита, хореограф дворца, поставила там, среди прочего, красивый балет Луи Ганна «Час пастуха», либретто которого написали Робер де Флёр и Арман де Кайаве. Это был своего рода обзор французских народных танцев. Успех был ошеломительным.
На выставке выступало столько танцевальных трупп, что перечислить всех просто невозможно.
Азиатский театр находился в садах Трокадеро. В окружении густой зелени располагались разные павильоны: Индийский, Китайский, Японский и Египетский. В каждом работала своя труппа танцоров соответствующего происхождения и показывала удивительно красивые балеты. Совсем близко от нашего театра находилось обширное огороженное пространство под названием «Андалусия во времена Маури». Там была представлена реконструкция старинных испанских поселений с изумительными коврами, дамасскими клинками, восхитительными фаянсом и мозаиками, а в театре под открытым небом исполнялись танцы Мадрида, Севильи, Валенсии, Саламанки и так далее.
В нашем театре азиатами были только музыканты. Привезти камбоджийских танцовщиц не удалось, и несколько балерин, окружавших меня, были француженками и итальянками. Я же изображала «Священную танцовщицу». Никто не бездельничал: три представления после полудня и два вечером, каждое примерно по часу. Я постоянно была, что называется, «на передовой», но зато получала невероятную для 1900 года плату — пятнадцать сотен франков в день. Театр был полон на каждом представлении и зарабатывал максимально.
Еще несколько слов о работе на выставке. Среди тысячи историй, которые родились в умах пустомель по поводу моего выступления в Азиатском театре, есть одна о мнимом визите туда Леопольда II. Якобы король приехал специально для того, чтобы посмотреть мои камбоджийские танцы, и яростно мне аплодировал. Чистая выдумка! Но вот что дало пищу для этой байки: знаменитый бельгиец, господин Валер Мабиль, присутствовал на одном моем выступлении и на самом деле довольно воодушевленно мне аплодировал. Внешне он был совершенным двойником Леопольда II. Отсюда и новый всплеск историй о моих королевских возлюбленных… Когда судьба с вами так шутит, не остается ничего другого, как посмеяться!
Глава вторая
Парижские радости: театры, мюзик-холлы, концерты. — Я танцую в Orpheum, Вена. — Мое первое турне по Франции, Бельгии и Голландии. — Постановка «Лоренцы» в Folies-Bergere. — Шере[143] рисует эскизы моих костюмов. — Марикита, дитя сцены. — Суровый преподаватель. — Лорнет и веер. — Рождественская елка: «В этом доме меня балуют!» — Братья Марино. — Меня приглашают в Рим и Неаполь. — Прелестные дни на вилле Éternelle. — Увидеть Неаполь… и не умереть! — Шумная публика в салоне «Маргарита». — Поездка в Помпеи. — Мечты в Венеции. — Двое влюбленных в гондоле.
После окончания выставки праздничная лихорадка не только не прекратилась, но совсем даже наоборот. Парижане еще никогда не были так охочи до праздников и развлечений, как в эти первые годы начинавшегося века. Настоящее театральное помешательство, безумное увлечение мюзик-холлами и шансоном. Сцены на бульварах — Жимназ, Водевиль, Варьете, Ренессанс, Порт-Сен-Мартен — привлекали многочисленную публику. Это было время, когда вовсю ставились произведения Батая[144], Бернштейна[145], Франсуа де Кюреля[146], Порто-Риша[147], Доннэ[148], Капю[149], Эрвьё[150], Флёра и Кайаве. Их пьесы, иногда вызывавшие горячие споры, чаще всего обласканные критиками, шли в театрах очень часто. На труппу Варьете — Еву Лавальер[151], Жанну Гранье, Мари Манье, Макса Дерли, Гастона Дюбоска — публика молилась.
Если у меня получалось ненадолго задержаться в Париже, я сразу бежала смотреть новые модные пьесы. Я всегда с большим чувством вспоминаю первые пьесы Бернстайна и то, как в них играли Люсьен Гитри, мой любимый актер, и Симон. Внешность юной девочки и мастерство великой актрисы, живой ум, сквозивший в каждом взгляде и интонации глубокого со многими оттенками голоса, иногда напоминавшего голос Сары Бернар.
Наряду с серьезным театром, мюзик-холлы тоже радовали разнообразием. В Париже их было огромное количество: Pepiniere, La Scala, Eldorado, Parisian, L’Olympia, Folies Bergère, Moulin Rouge, Ambassadeurs — все не вспомнить. Там процветали короткие постановки и песенные выступления, а балет, так воодушевлявший всех во время выставки, танцевали везде. Каждый мюзик-холл включал в свои спектакли хотя бы один балетный номер, чаще всего сольные выступления известных иностранных танцовщиков. Новшества, введенные Лои Фуллер, вызвали поток подражаний: «танцы в цвете», «феерические видения», «танцы света» и так далее… В 1900 году вальс переживал настоящий пик популярности, такие как «Очарование», «Голубой вальс», «Когда умирает любовь» и сотня других томных мелодий, как нельзя лучше выражавших пленительную печаль. Но «американизмы» завоевывали мир, контакты между континентами становились все теснее, и произведения в американском духе, например «Доверие» Пола Адама и репортажи Жюля Юре[152] и Шарля Уорда, приводили к тому, что парижане постепенно перенимали американские привычки и моду, начинали танцевать бостон, лаба, уан степ, регтайм, фокстрот. Эти танцы составляли сильную конкуренцию вальсу и вскоре почти совсем его вытеснили. В мюзик-холлах чернокожие танцоры показывали кейк-уок[153], вызывая сумасшедший восторг у публики. Появлялось все больше выступлений американских певцов и танцоров «эксцентрического жанра», как их называли. Среди них — мисс Сахаре, работавшая в акробатическо-развлекательном жанре, очень красивая, я видела, как она танцует в Нью-Йорке, и в Париже тоже ее ждал потрясающий успех. Также мисс Кэмптон[154] и ее girls, новости о них быстро заполонили первые полосы всех газет.
Имена Луизы Болти, Мансюэль, Дранем, Фрегсон, Майоль, Гирье украшали все афиши мюзик-холлов, бесспорной королевой которых очень быстро стала Мистангет.
Когда я выступала в Азиатском театре, ко мне пришел с визитом молодой импресарио по имени Жюльен Преве. Он произнес такую речь: «Мадемуазель, сейчас Париж и его гости имеют счастье наслаждаться вашим талантом и новым искусством, которое вы дарите зрителям, исполняя эти восхитительные камбоджийские танцы. Но необходимо, чтобы те, кто не смог посетить выставку, тоже это увидели. Я мечтаю познакомить с вами французскую провинцию. Я уже сделал так, что все наши департаменты уже аплодировали таким великим актерам, как Муне-Сюлли, Коклен, Райхенберг[155]. Если вы согласны, то позвольте после закрытия Азиатского театра устроить вам турне по большим французским городам». Идея показалась мне очень удачной, я согласилась, и Жюльен Преве стал работать над программой моих танцев. Было решено, что я буду танцевать вальс, гавот, пицикатто из «Сильвии», «Мастерицу», танец из «Фрины» и, разумеется, камбоджийские танцы. В конце предполагалось что-то оживленное, и я выбрала арагонскую хоту. Ландольфу было поручено создание костюма ad hoc[156]. Он сшил черный наряд с желтым орнаментом и маленькое болеро с пайетками. Получилось очень красиво.
Перед французским турне мне надо было выступить в Вене согласно контракту, который я подписала у Форбе в июне с господином Штейнером, директором Orpheum. Там был прекрасный большой зал, строго украшенный, и хорошая публика, очень воодушевленная. Но театр был не такой большой и роскошный, как Apollo, именно там я стану потом постоянно давать концерты в Вене.
Эта поездка на родину матери в конце 1900 года прошла не без грусти. Я вернулась туда впервые после 1896 года, и меня охватила тяжелая тоска, когда я смотрела на прекрасные виды, которые впервые мне показала Зенси и которые она сама теперь уже никогда не увидит.
Дядя Шарль и тетя Польди старались, как могли, своей любовью и заботой отвлечь меня от горестных раздумий. Мы виделись каждый день, если они не приходили на вечерний спектакль, то я сама навещала их или ходила с ними вместе в гости к их милым друзьям. Но мне хотелось отправиться одной в Медлинг, лишь в компании Брио. Я столько рассказывала о матери своей новой подруге, что и она смотрела на окружающий пейзаж моими глазами, полными любви и печали.
Вся Вена спешила попасть в Orpheum, меня принимали очень душевно, почти с нежностью, и я чувствовала, что стала для венцев любимой артисткой.
Вернувшись в Париж, я тут же принялась за подготовку к турне Преве, которое начиналось в декабре и должно было проходить в довольно быстром темпе: 8 декабря — Труа, 9 — Метц, 10 — Нанси, 11 — Страсбург, 12 — Кольмар, 13 — Тьонвиль, 14 — Люневиль, 15 — Безансон, 17 — Дижон, 18 — Гренобль, 19 — Авиньон, 21 — Ницца, 22 — Тараскон, 28 — Сет, 29 — Перпиньян, 30 — Нарбонн, 31 — Каркассон, 2 января — Ажан, 3 — Монтобан, 5 — Рошфор, 6 — Сомюр и 7 — Париж.
Можете себе представить, сколько работы было у Брио со всеми этими чемоданами: собрать, разобрать, снова быстро собрать… и не только быстро, но и очень осторожно, потому что, кроме костюмов и партитур для оркестра, я везла хрупкие инструменты для аннамитской музыки, необходимые при исполнении камбоджийских танцев и сделанные в Париже специально для меня. Чтобы справляться со всем этим хозяйством, моей доброй компаньонке требовался зоркий глаз и решительность командующего армией…
Нашу программу везде ждал полный успех, Жюльен Преве был на седьмом небе от счастья и по возвращении в Париж предложил мне подписать контракт на выступление в Бельгии и Голландии. В феврале мы начинали новое турне, в ходе которого должны были посетить Вервье, Льеж, Анвер, Брюссель, Гаагу, Амстердам и Роттердам.
Я с некоторой боязнью думала о Брюсселе, опасаясь какого-нибудь неприятного инцидента из-за резкого отношения бельгийцев к истории с их королем. Но ничего не произошло… кроме невероятно теплого приема и огромного успеха моего выступления, и даже в газетах не проскользнуло ни одного словечка об этой старой истории.
* * *
В Париже у меня на столе уже лежало письмо от господина Маршана, директора Folies Bergère, он просил о встрече. Я была заинтригована: что такого он мог спросить меня при личной встрече? Не думал же он, что я выступлю с эксцентричным номером в его мюзик-холле?
Разговор был долгий. Господин Маршан был опытным человеком. Он управлял в общей сложности тремя сценами: La Scala, Eldorado и Folies Bergère, который он только что кардинально обновил. Зал роскошно украсили, устроили зимний сад с беседками в мавританском стиле, фонтанами и цветущим кустарником. После выставки восточный стиль вошел в моду, и зрители каждый вечер могли насладиться отдыхом в «саду султана».
Мы с господином Маршаном обсуждали нечто большее, чем просто «номер», речь шла о серьезном выступлении — о главной роли в балете-пантомиме в трех актах Родольфа Дарзенса и Франко Альфано, итальянского композитора, очень молодого, недавно возобновившего постановку оперы «Воскресение» в зале Favart.
Маршан рассказал мне сценарий «Лоренцы», сказал, что я стану величайшей звездой, что костюмы мне надо заказать за свой счет у Ландольфа и что хореографией будет заниматься Марикита, балетмейстер Folies Bergère.
Однако я не давала ответа, пока Маршан не познакомил меня с авторами. Я до этого видела Дарзенса, это был человек, знакомый почти всем людям театра. Авангардный писатель, интеллектуал, c прекрасным сценическим чутьем, он стоял у истоков «Свободного театра»: именно он принес Антуану[157] перевод «Привидений»[158]. Верный богемным привычкам, Родольф всегда прогуливался в кулуарах театра во время генеральных репетиций, в помятом пиджаке и с выражением лица, как у слабоумного разбойника.
Альфано, низенький брюнет с блестящими глазами, выказывал истинно итальянскую пылкость. Он убеждал меня согласиться, с воодушевлением восклицая: «Герцогиня Лоренца де Медичи! Эта роль создана для вас! Кто еще может ее сыграть? Соглашайтесь!» и так далее. Столько энтузиазма, темперамента и пылких слов, что он выиграл партию… «Договорились, я сыграю Лоренцу», — сказала я к радости авторов и подписала договор с Маршаном на очень хороших условиях.
Создание костюмов потребовало долгих и частых переговоров между Ландольфом, Шере и мною. Знаменитый рисовальщик предложил удивительное разнообразие решений, богатых всеми искусными техническими уловками того времени. Он был одним из создателей современной афиши, как мы ее теперь знаем: на огромное поле плаката он помещал замысловатые попурри из загадочных персонажей, масок и цветов, которые напоминали о галантных венецианских праздниках и карнавалах. Афиши Шере мерцали на стенах парижских зданий, как легкие крылья бабочек, радостные и яркие. Этот волшебник нарисовал мой персонаж камбоджийской танцовщицы, эскизы костюмов для гавотов, комплект в стиле рококо, платье с гирляндами и корзиночкой, как у Ла Камарго[159], предложил три восхитительных варианта костюма для роли Лоренцы.

Клео де Мерод в сценическом костюме, 1900
А вот изготовить их по этим эскизам предстояло госпоже Ландольф. Она занималась женскими костюмами, а ее муж создавал костюмы для мужчин. Она была очень красивой брюнеткой, с точным глазом, безошибочным вкусом и быстротой решений, сразу выдававшей талантливого и опытного мастера. Чтобы лучше понимать, как будут смотреться ее творения, у себя в мастерской госпожа Ландольф соорудила небольшую сцену с декорациями и рампой. На последней примерке я поднялась на подмостки этого театра в миниатюре. Она включила рампу и позвала своего супруга.
Словно манекен, я то приседала, то наклонялась, то отходила, подходила и поворачивалась во все стороны, а супруги, стоя в глубине мастерской, внимательно изучали, как смотрится костюм в свете рампы, готовые тут же исправить малейшую погрешность.
Я довольно часто обращалась к Ландольфам, они были для меня настоящими друзьями, не только добрыми и благожелательными приятелями, но и искуснейшими мастерами в своем очень тонком искусстве.
* * *
Тогда я познакомилась и с Марикитой. Ее личность занимает отдельное место во всей галерее моих портретов-воспоминаний! Эта низенькая женщина, вопреки своему росту, сразу производила внушительное впечатление. Она держалась очень прямо, и красивые черты лица, обрамленного густыми седыми локонами, хранили такую серьезность, что это пугало. Я не могу сказать, что сразу почувствовала себя непринужденно в обществе этой выдающейся постановщицы хореографии, но затем я ее полюбила, и она вполне отвечала мне тем же.
Ее историю нельзя назвать банальной. Она родилась в Алжире. Марикита была дитя сцены: сироту воспитали «бродячие артисты». Она приехала в Париж в возрасте шести лет, тогда еще на бульварах вовсю работали забавные маленькие театры с узкими фасадами и плоскими крышами: Ptite Lasari, Folies-Dramatiques. Снедаемая безумным желанием поговорить с Дебюро[160], она однажды пробралась в Funambules. Знаменитый мим обнаружил ее в уголке за кулисами:
— Ты что здесь делаешь, малышка?
— Месье, я бы хотела танцевать…
— Танцевать? А ты умеешь?
— Да!
— Ну, хорошо, тогда покажи!
Девчушка начала танцевать с такой легкостью и грацией, что Дебюро воскликнул: «Да ты станешь звездой!»
Марикита танцевала детские партии в Funambules, потом поступила в Châtelet, где играла роль негритянки в спектакле «Вокруг света за восемьдесят дней»[161], где поражала всех изяществом и юмором. Этот первый успех принес ей новые ангажементы и поклонение зрителей. Потом она вышла замуж за господина Фурнье, директора театра Porte Saint-Martin, и с тех пор уже никогда не расставалась со сценой. После блестящей карьеры танцовщицы она стала хореографом в Folies Bergère, наконец, поступила в Opéra Comique, где возглавляла балетную труппу почти двадцать лет, то есть практически до конца жизни. Марикита работала всю свою жизнь. Если бы она написала мемуары, у нас бы появился очень любопытный документ по истории театральной жизни на протяжении добрых семидесяти лет.
Она никогда не расставалась с двумя вещами — веером и лорнетом, последний крепился лентой к ее корсажу, а веер был постоянно в правой руке. Это была ее командирская палочка, по положению веера в руке было понятно, довольна она или нет. Марикита требовала строгой дисциплины, и все танцовщицы, словно школьницы, трепетали перед этой миниатюрной, но властной преподавательницей. Но она была лучшей на свете! Какая была радость сидеть с ней после урока и слушать бесчисленные забавные истории, которые хранила ее память.
Когда костюмы были готовы, я уехала на несколько дней отдохнуть в Вийер. В сентябре начинались репетиции. Мы упорно работали два месяца, в постановке было задействовано около сорока танцовщиц, а сложная хореография требовала очень внимательного отношения. В спектакле, помимо главной героини Лоренцы, было еще три важных персонажа первого плана: Бенвенуто Челлини[162], Козимо II де Медичи[163] и Асканио. Челлини играла переодетая Марта Бризо, муза Альфано, высокая брюнетка, с волосами и глазами как у андалузок, c надменным профилем — ее Челлини получился утонченным и изысканным. Герцога Медичи и Асканио тоже играли женщины, а вот дуэнью, помогавшую влюбленным Челлини и Лоренце, изображал актер по имени Тито.
В музыке Альфано переливались изящные мелодические линии, нежно оттеняя живость аллегро и аллегретто, ритмически оформлявшие наш танец.
Премьера «Лоренцы» в начале ноября 1901 года стала событием в Париже. Пресса пела дифирамбы авторам, исполнителям, Мариките и Ландольфам. Мне достались самые прекрасные цветы из этого сада похвал. Публика знаменитейшего мюзик-холла была самой прекрасной в моей жизни. Зрители аплодировали все время. Каждый раз, выходя на сцену, я должна была несколько минут стоять неподвижно, дожидаясь, пока стихнут крики «браво». Балет шел три месяца — максимально долго для Folies Bergère.
* * *
Вскоре после премьеры Маршан заболел и был вынужден оставить свой пост. На его место пришли братья Изола[164], директора L’Olympia, которые взяли под свое руководство еще и Folies Bergère. Я подписала новый договор, уже с ними, на все время, пока идет «Лоренца». Это положило начало очень теплому сотрудничеству. Несколько лет спустя я работала под началом Изола в L’Olympia, а потом в Opéra Comique.
Два удивительных человека. Они не знали ни одной ноты и вообще не имели образования. Это были фокусники, но зато гениальные! Благодаря своей предприимчивости, деликатности, виртуозности, мастерству, они блестяще вели к процветанию два великих театра и два великих мюзик-холла. У них была удивительная способность делать вид, что они что-то понимают в музыке, и не моргнув глазом участвовать во всех обсуждениях с дирижерами и руководителями оркестров. Веселые, общительные, предприимчивые… Их любили все подчиненные. Эти два юноши, приехавшие из Алжира без единого су попробовать счастья в Париже, выступавшие в маленьких кабачках предместья со своими фокусами, преуспели так, что стали людьми, перед которыми снимали шляпу в низком поклоне и чьего расположения добивались. Их облик был известен всему Парижу: эта пара немного напоминала Дон Кихота и Санчо Пансу. Винсент — низенький, круглый, близоруко щурился за стеклами очков; Эмиль — высокий, прямой, как столб, красавец с длинными черными усами. Он был не только декоративным элементом тандема, но и его спикером, говорил непрестанно, но иногда казалось, что он все время ждет знака одобрения от своего хитроумного брата.
Известные гурманы и любители роскоши, они после спектаклей допоздна сидели в модных ресторанах, всегда одетые с иголочки, в компании многочисленных друзей. Жены всегда сопровождали их: супруга Винсента всегда была сдержанна и почти незаметна, супруга Эмиля — элегантная рыжеволосая дама, довольно полнотелая. Они очень заботились о здоровье мужей и каждое лето заставляли их ездить на лечение в Виттель, откуда они возвращались в хорошей форме, бодрыми и готовыми вновь взяться за управление своими владениями.
Когда братья Изола только пришли в Folies Bergère, однажды вечером в первых рядах появились исключительные посетители. Это были великий князь Владимир, брат русского царя, великая княгиня, его супруга, и их сын, князь Кирилл. Великий князь, величавый и высокий, великая княгиня, красивая улыбчивая блондинка, и молодой князь, очаровательный юноша, разумеется, произвели фурор в зале.
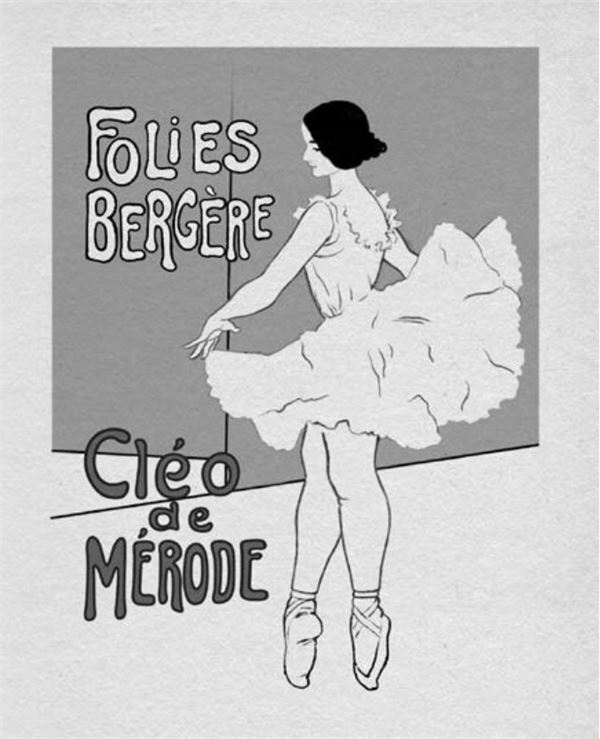
Афиша о выступлениях Клео де Мерод в Folies Berge`re, 1901
В антракте они подошли меня поприветствовать, и я представила им наших директоров. Славные братья, безумно польщенные, не знали, как выразить радость. На следующий день появление высокородных гостей в Folies Bergère повсюду обсуждалось, и честь, которую они оказали балету «Лоренца», немало способствовала успеху спектакля.
* * *
Балет, гвоздь программы, начинался довольно поздно, и мне не надо было появляться в театре до десяти часов. Это время выступлений в Folies Bergère вообще кажется мне почти спокойным по сравнению с предыдущей зимой. Я могла немного видеться с друзьями, совсем мною забытыми, и даже возобновить традицию рождественской елки у себя дома. Я приглашала близких: Бове, Огюста Жермена[165] с супругой, Ловиков с тремя детьми и их маленькими друзьями, один из них, совершенно очаровательный мальчуган, был сыном адмирала Буассьера и внуком адмирала де Жонкьера. Среди самых юных было и несколько учениц из младших классов школы Operá, с которыми я занималась, когда позволяло время. Накануне Рождества, когда мы с Брио готовили кролика, «мамаша Леду», моя домработница, с восторгом следившая за нашими приготовлениями, воскликнула:
— Ах, какое чудесное будет Рождество у елки! Знаю я одного мальчишечку, который и слыхать-то не слыхивал о рождественской елке! Вот бы ему посмотреть на это все, как бы ему понравилось!
— Так приводи его! — сразу ответила я.
На следующий день славная женщина пришла, держа за руку мальчика шести или семи лет, бледного и на вид очень плохо питавшегося. Это был сынишка ее соседки, работавшей на дому и получавшей ничтожно мало. Бедный малыш не смел войти в комнату, где было так много людей. Я взяла его на руки и поднесла к елке, сверкавшей огнями, украшенной всевозможными игрушками и сладостями. Пораженный, он так и остался стоять там, не сводя глаз с прекрасного видения. Тогда все приглашенные встали вокруг него в круг, гладили его по голове, задавали вопросы, рассказывали ему смешные истории. Адмирал де Жонкьер взял его на руки, посадил на плечи и стал скакать. Ребенок засмеялся, щеки его зарумянились. Наконец, его накормили кроликом и засыпали пакетами с подарками. Крепко прижимая их к сердцу, он отошел в уголок, сел на пол и стал разбирать цветные пакетики и коробки, шурша лентами, потом разложил все сладости и игрушки вокруг себя, любуясь ими. Было слышно, как он сказал: «Меня так балуют в этом доме!» Это одно из самых приятных рождественских воспоминаний, когда я с таким удовольствием собирала у себя всех своих друзей, больших и маленьких.
* * *
Спектакль «Лоренца» прошел бы, вероятно, больше двух сотен раз, если бы мне не пришлось прервать работу, чтобы выполнить давно подписанный контракт с театром Монте-Карло. Там я должна была танцевать партию из «Фрины», а также партию Маргариты из балета «Маленький Фауст». Я торопилась выучить эту роль, подготовку к ней провела со мною Марикита. В марте я оказалась в Монте-Карло. Ганн уже был там. Он присутствовал на репетициях своей «Фрины», которая и на Лазурном Берегу прошла с таким же успехом, что и в Руайане. Мне было приятно танцевать в балете «Маленький Фауст», пародии на большого. Для меня это было возможностью освоить комические па и жесты, чтобы создать юмористический образ персонажа из оперетты Эрве[166], и эта игра, так непохожая на все, что я делала до этого, меня очень забавляла. Весенние выступления прошли с неимоверным успехом, а стильная публика Лазурного Берега напомнила мне прекрасные вечера в Casino.
На мои выступления в этих двух балетах пришел посмотреть господин Марино из Рима и, едва познакомившись со мною, тут же предложил выступить в театрах, которыми они с братом управляли в Италии. Один — в Риме, другой — в Неаполе, два театра-варьете под одним названием Salone Margherita. Я совсем не знала Италии, бредила мечтами о ней и сразу же согласилась.
Славная Брио отправилась в Париж, чтобы подготовить все необходимые костюмы для выступления, которое братья Марино назвали в договоре «танцем трансформаций». В начале мая мы приехали в Рим, где я провела два месяца, совершенно очарованная.
Братья Марино, невысокие и бойкие, очень предприимчивые и деловитые, жили только своими театрами и не жалели ничего, чтобы показывать там те спектакли, которые им хотелось. В театре поменьше, который находился в Риме, все получилось отлично: огромные афиши, реклама во всех газетах и журналах. Премьера прошла сенсационно: римская публика, элегантная и утонченная, приходила в восторг от каждого моего танца. Повторные выступления тоже имели не меньший успех. Salone Margherita был полон каждый вечер, и меня вызывали на бис чаще всего после камбоджийских танцев и хоты. Отзывы в прессе были превосходными, французскую звезду называли феей, звездой и божеством. Теплые звуки итальянского языка согревали и радовали сердце. Меня восхищало, что люди сохранили душевный пыл и умение восторгаться прекрасным, потому что, мне кажется, постоянно живя в окружении такой красоты, легко пресытиться… Рим! Я бесконечно бродила по этому уникальному городу, хранителю истории и легенд. Я испытывала невообразимую радость перед таким величием и красотой, но не посмела повторить «Прогулки по Риму»[167].
Марино-старший, который два или три раза приезжал в Рим посмотреть, как я танцую у брата, с нетерпением ждал своей очереди. Я уехала из Рима в конце июня и в июле начала выступать в неапольском Salone Margherita.
Первый же вечер прошел совершенно особенно. Надевая костюм для первого выхода, а это был греческий танец, я из-за кулис могла хорошо видеть, что происходит на сцене и в зале. Артисты, выступавшие один за другим, несмотря на свой талант, казалось, совсем не вызывали интереса у публики. Зрители были очень оживлены, постоянно вставали с мест, громко переговаривались и оглядывались по сторонам. Никому не хлопали. Каждый раз, когда артист возвращался за кулисы, люди, перекрывая оркестр и голос конферансье, говорили все громче. Я никогда еще не слышала, чтобы в зале было так шумно. Они что-то восклицали, смеялись, болтали, совершенно не стесняясь. Балкон окликал партер, из лож что-то кричали тем, кто сидел на галереях, а при особенностях звучания их акцентированной яркой речи все это производило впечатление неимоверного хаоса. Я чувствовала себя крайне неуверенно и говорила себе, что при таком шуме не услышу оркестр, собьюсь с ритма, короче говоря, меня ждет провал.
Сердце было готово выскочить из груди, а ладони, казалось, заледенели, когда я вышла на сцену. Занавес поднялся, зазвучала музыка, и зал неожиданно умолк. Очень взволнованная, я начала танцевать и танцевала в полной тишине, словно в церкви. Едва я закончила, как зал взорвался безумными, неистовыми аплодисментами и криками «браво». Каждый раз, как я появлялась на сцене, это повторялось: полная тишина в зале, а потом буря рукоплесканий.
Этот невероятный успех с лихвой окупил все мои страхи. Часть зрителей ждали меня на выходе после спектакля, чтобы проводить до отеля. Милейшие неаполитанцы, так меня испугавшие вначале, потом вели себя точно так же каждый вечер. Я совершила маленькое чудо, сумев привлечь внимание этих пылких и совершенно недисциплинированных людей.
Атмосфера Неаполя — цвет, веселье, суматоха, танцы посреди улицы, серенады и романтические песни, которые можно было услышать в любой момент из любого уголка в исполнении естественных сильных и гармоничных голосов… Я уже не говорю о волшебной гавани, великолепных садах с благоухавшими миртами и апельсиновыми деревьями, Везувий вдалеке, Посиллипо… Я все это увидела… но не умерла! Я видела Бари, Прочиду, Искью, но больше всего меня поразили Помпеи. Люди, которых вдруг настигла смерть, лежат перед вами во всей своей античной грации, покрытые саваном из пепла, разве это не потрясающе?!
Марино из Неаполя, человек со сверкавшими глазами и завитыми черными волосами, выражал радость по поводу моего успеха всяческими восклицаниями и экспрессивными жестами. Очень обходительный, очень галантный, слишком даже, он всегда подходил ко мне прижимая руки к сердцу. Через полтора месяца я, наконец, покинула буйных неаполитанцев и уехала в Венецию. Выступлений у меня там не было, и я выкроила себе небольшой перерыв, желая увидеть своими глазами этот город мечты.
Мы договорились встретиться там с Шарлем. Вместе мы погрузились в волшебство этого города. Союз неба и воды. Святой Марк, Дворец дожей, мост Риальто… Вечный незабываемый праздник! Гондолы… Ночные прогулки по каналам… Здесь стоит поставить многоточие. Двое влюбленных в Венеции: эту мелодию мурлычут наедине с собой, а не распевают во весь голос.
Глава третья
Я танцую в лондонском театре Alhambra. — Радости Лондона. — Белки в Кенсингтонском саду. — Отпуск в Сибодене. — Забавный костюм для гребли. — Первые выступления в Мюнхене. — Портреты Каульбаха[168] и эскизы Ленбаха[169]. — Знакомство в Гамбурге с Сарой Бернар. — Полер[170] в Wintergarten. — В Копенгагене я танцую перед Эдуардом VII и его двором. — Богатое событиями путешествие из Мюнхена в Стокгольм. — Эжен, сумка с драгоценностями. — Воодушевление скандинавов. — Жестокое доказательство. — Горестное возвращение. — Номер Figaro…
Нежный сон длился недолго. Мне в жизни вообще не удавалось долго отдыхать. Меня всегда ждали здесь и там, ангажементы были расписаны на несколько месяцев, а в некоторых случаях и на несколько лет вперед.
Но, покидая Венецию, я с Италией не прощалась. Братья Марино жаждали моего возвращения. Через некоторое время после прекращения договора самый нетерпеливый, из Неаполя, стал настойчиво писать мне, сетуя, что же это я у него не танцую. Именно благодаря неугомонности этих двух импресарио я объездила почти весь полуостров во всех направлениях. Я не жалуюсь: меня на пути ждали невиданные удовольствия в городах, породивших самое прекрасное искусство на свете.
А на тот момент меня призывало Монте-Карло, вновь требуя возобновления партии из «Фрины», чей успех был еще в самом зените. Казалось, трудно будет завоевать космополитичную публику Casino, привыкшую к первоклассным спектаклям и самым знаменитым артистам, но зрители рукоплескали мне каждый вечер, так же как и неаполитанцы, и много раз вызывали на бис.
Вдобавок к вечерним показам «Фрины» меня попросили несколько раз выступить со своими «Старинными танцами» на утренних спектаклях в Théâtre des arts, недалеко от Casino. На утренние спектакли приходило очень много людей, и это удвоило мой успех в Монте-Карло.
Затем цикл повторился: в 1903 году меня позвали в Гамбург, Берлин, Вену, и я первый раз танцевала в Лондоне.
Со времени успешных гастролей в Нью-Йорке меня неоднократно приглашали выступить на лондонских сценах. Поездки в Гамбург и Берлин, а потом болезнь матери не оставили мне тогда возможности. Потом была довольно интенсивная работа на выставке, турне по Франции, Голландии и Италии. Кроме того, после того, как началась Трансваальская война[171], мне было в некоторой степени неловко танцевать в Лондоне. У нас все с беспокойством следили за развитием этого прискорбного конфликта. Французы во всем были на стороне буров, и Крюгер[172] вызывал всеобщую симпатию. Я конечно же разделяла эти настроения, и мне казалось совершенно неуместным в такое время ехать развлекать английскую публику.
Но в 1903 году война была закончена, и, если даже аннексированный Трансвааль в наших глазах сохранил все свое мужество и гордость, оставалось лишь признать свершившийся факт.
Вскоре, после «сердечного согласия», наши шансонье уже посвящали столько же добродушных куплетов Эдуарду VII, сколько когда-то было спето саркастических песенок в адрес королевы, его матери…
В этот благословенный 1903 год меня ангажировали в лондонский театр Alhambra, рядом с площадью Leicester Square. В этом районе находились почти все известные театры-варьете столицы, располагаясь по соседству друг с другом: Alhambra, Empire, Hippodrome и Covent Garden. Я танцевала во всех по очереди, в некоторые сезоны многие из них приглашали меня одновременно.
Как и соседние театры, Alhambra отличался обширной площадью и красивым внешним видом: просторный комфортабельный зал, оформление строгое и сделанное с отменным вкусом. Публика самая шикарная, — в Лондоне зрители всегда элегантны — все мужчины во фраках, дамы в вечерних туалетах: муслин и шелк, прекрасные колье, в волосах жемчуг или перья белой цапли. При этом они были очень внимательными зрителями, заинтересованными и очень доброжелательными. Никаких выкриков и жестикуляций, зато громкие долгие аплодисменты. Меня постоянно вызывали станцевать на бис «Мастерицу», пиццикато и хоту. Видя такое благоприятное положение дел, директор много раз возобновлял мой ангажемент. В результате, приехав в Лондон на несколько дней, я осталась там на долгие месяцы. Благодаря этим длинным гастролям, я хорошо изучила город, где была лишь кратко в 1896 году. Брио, хорошо знавшая Лондон, была моим проводником на всех прогулках.
* * *
Лето 1903 года подарило мне одно светлое и доброе воспоминание. Дядя Фердинанд и тетя Реси окончательно переехали из Штайра в Каринтию, в Зебоден, где они построили очаровательный особняк почти на самом берегу озера Милльштеттер, который назвали «Зенси». Изящный поступок, я была очень тронута. Они пригласили меня пожить в новом доме. Отложив выступления, я поехала в Зебоден, куда потом приехал за мной и Шарль. Он хорошо знал дядю с тетей, потому что познакомился с ними еще тогда, на улице Капуцинок, при тяжелых для всех нас обстоятельствах. Они его очень ценили.
Каждый день был наполнен лазурным светом в этом чудном краю среди гор и воды. В «Зенси» я вновь с радостью встретилась с дочерью дяди Шарля, Хенси. Я познакомилась с ней в 1896-м, когда она была еще девочкой, теперь она превратилась в красивую девушку восемнадцати лет, со стройной фигурой, открытой улыбкой и большими глазами, нежными и веселыми. Две кузины пришли в восторг от встречи и тут же очень полюбили друг друга. Еще один родственник, с кем я не была до этого знакома, граф Лодрон-Латерано, тоже жил в тех краях, он владел там двумя замками с охотничьими угодьями. В одном из замков, в часовне, был склеп, где находились могилы моих предков со стороны матери. Граф часто принимал нас у себя или сам приезжал к нам в «Зенси», и тогда мы становились героями романтических баллад об озере: садились в лодку, Шарль был на веслах. Кузен Лодрон, человек c благородными внешностью и манерами, был умен и всегда в отличном настроении. Он хорошо говорил по-французски, очень изысканно, и прозвал нас с Шарлем «Дафнис и Хлоя». Прозвище привело в восторг всю семью: Шарль давно покорил их остроумием, умом, прекрасными манерами и очаровательной внешностью.
Как-то он сфотографировал нас солнечным днем, в августе, после обеда, всех вместе в лодке на озере, и это фото — довольно сочный образ той эпохи. Я стою в белоснежном туалете из шелкового муслина, вся в оборках и рюшах, вокруг шеи боа из лебяжьего пуха, а на голове — большая белая соломенная шляпа, украшенная страусиным пером и стилизованным птичьим крылом сбоку. Безусловно, все это выглядит не очень спортивно… Как удерживать на ветру это сложное сооружение? История умалчивает об этом. Возможно, это крыло чайки было призвано заменить отсутствующий парус, чтобы заставить лодку плыть по волнам.
Во время отдыха в Зебодене я получила письмо от кузена Шарля, с кем поддерживала превосходные отношения. Это был единственный член семьи, кого Шарль мне представил: кузен Жак был его ровесником, и с ним Шарль дружил ближе, чем с родными братьями. Хороший мальчик, очень сердечный и простой, я всегда с удовольствием виделась с ним в Париже. Я прочла письмо своим, и оно сильно позабавило их. В письме говорилось, что родные Шарля получили от него очень приятные известия, что их сын в восторге от страны, по которой сейчас путешествует, чувствует себя так, будто попал в рай, и что никогда еще никакая поездка не доставляла ему такого удовольствия.
Тем не менее пришло время расстаться с этим раем, но на обратном пути мы не устояли перед искушением на несколько дней остановиться в Швейцарии: Интерлакен, Юнгфрау, Женева, Монблан… Все это тоже осталось в прекрасных воспоминаниях о годах, когда мы с Шарлем проводили вместе лето… И я даже не подозревала, что это лето было последним…
* * *
Однако я должна была торопиться назад, собирать чемоданы вместе с Брио: меня ждали в Мюнхене, а потом в Гамбурге и Берлине.
Мои первые выступления в Мюнхене вызвали некоторое оживление в баварской столице, все афиши, расклеенные по городу, объявляли меня «звездой мирового масштаба». Я выступала в Deutsche Theater, очень хороший театр, с репутацией, потом я несколько раз приезжала выступать там.
В первый вечер, задолго до того, как подняли занавес, зрители уже заняли свои места. Во время всего моего пребывания в Мюнхене все места распродавались заранее и очень быстро. Не буду особенно рассказывать, как меня принимала мюнхенская публика — так же, как и в других немецких городах, то есть превосходно: никогда спектакль не заканчивался без оваций и самых лестных чествований.

Клео де Мерод, 1901
Очень известный мюнхенский художник Каульбах попросил меня позировать. Еще молодой человек, с приятным лицом, хорошо говорил по-французски. Он очень обрадовался, что будет писать мой портрет… и написал их два! На одном я изображена стоя, в профиль, с непокрытой головой; на другом — сидя, анфас, в широкополой черной шляпе. Оба портрета были очень красивыми, с прекрасной композицией и превосходным цветовым решением. Но я недолго любовалась ими, потому что Каульбах, едва положив последний мазок краски, тут же выставил картины в Салоне, и их сразу купили. В виде некоторого утешения художник подарил мне красивые фотографии портретов.
Еще один мюнхенский художник, даже более известный, чем Каульбах, тоже попросил меня о сеансах позирования. Речь идет о Франце фон Ленбахе, которого считают величайшим представителем немецкой школы живописи. Я видела его работы во время выставки, где его выставляли в немецком павильоне с большой помпой. Для него соорудили настоящую маленькую часовню, где были собраны все его самые знаменитые портреты: Вагнера, Мольтке, Бисмарка, которые очень ценились у него на родине. Ленбах был хорошим художником, вполне академического толка, но с некоторой дерзостью в манере и превосходной техникой. Его портрет Моммзена поражал реалистичностью.
Художник принимал меня в своем роскошном особняке с великолепной мебелью, картинами, статуями и редкими безделушками. Это был настоящий музей славы его блистательной карьеры. Но сам Ленбах, дряхлый, убеленный сединами, согбенный старик, произвел на меня впечатление человека, которому недолго осталось. Я не ошиблась: едва начав рисовать эскизы к портрету, он заболел, и вскоре я узнала, что он умер. Судьбе не было угодно, чтобы меня запечатлел Ленбах. Жаль. Было бы любопытно увидеть, как портретист Бисмарка изобразил бы мой типаж, настолько далекий от образа ужасного канцлера.
Перед отъездом директор Deutsche Theater, очень довольный сборами на моих выступлениях, предложил мне тут же, без промедления, заключить новый договор на апрель 1904 года. Но я могла ему обещать лишь пятнадцать дней, потому что была ангажирована выступать в начале апреля в Копенгагене.
После Мюнхена я поехала в Гамбург, где выступила в Hansa-Theater с тем же успехом, что и в 1897 году. Та гамбургская осень была для меня замечательна редкой удачей, кроме работы и танца: Сара Бернар, которая в то время тоже была на гастролях в Гамбурге в другом театре и жила в том же отеле, что и я, — Hamburger Hof. Узнав о моем приезде, она пригласила меня на чай. Робея, я пришла к ней в огромный номер, он занимал почти целый этаж, где она размещалась со всеми своими слугами, во главе с мажордомом, знаменитым Эмилем, отвечавшим за все костюмы, аксессуары и вообще за тысячи мелочей, необходимых хозяйке в путешествии. При этом он всегда спокойно выносил яростные скачки настроения звезды.
Каким счастьем было вживую увидеть ту, кем я всегда так восхищалась! Она приняла меня с тем очарованием и нежностью, какие так хорошо умела показывать, когда хотела! Я точно не помню, что я ей говорила, но наверняка нечто нелепое, так я была взволнована… Я изо всех сил пыталась выразить, какое восхищение, радость и душевный подъем вызывало у меня ее несравненное искусство, и поблагодарить за этот спонтанный жест симпатии, которым она меня осчастливила. Я говорила дрожащим от волнения голосом, и мои слова вызвали у Сары одну из тех обворожительных улыбок, что, казалось, освещали все ее лицо. Она тоже, в свою очередь, хвалила меня, не буду повторять ее слова. Сара Бернар лучше всех знала, как следует восхвалять собратьев по цеху, и говорила именно то, что затрагивало самые чувствительные струны вашей души.
Потом мы увлеченно беседовали, и тот час, что я провела рядом с ней, оставил след в моей памяти, похожий на тот тонкий аромат, какой оставляет изысканный парфюм после того, как его хозяйка уже покинула вас. Это было начало драгоценных для меня дружеских отношений, которые продлились долго, окончившись лишь после смерти моей великой подруги.
Рождество и Новый год я провела в Париже и смогла, наконец, немного отдохнуть. Но не бездельничать: мне нужно было провести ревизию своих костюмов и некоторые из них переделать, а также изучить возможные движения для постановки новых танцев. Я не повторяла вечно один и тот же номер, а все время вносила в хореографию небольшие изменения, придумывала новые па и позы. Много раз я полностью обновляла программу, принимая во внимание изменившуюся моду и предпочтения публики.
Мне не хотелось застывать в неизменной рутине одних и тех же движений, утомляя себя и зрителей.
1904 год я провела в Берлине, и это время стало особым периодом моей жизни, одновременно счастливым и горестным: с одной стороны, этот год принес мне невиданную творческую радость, а с другой — я пережила трагический конец моих любовных отношений.
* * *
Новый ангажемент в Wintergarten в качестве звезды принес мне новый блистательный успех. Берлинская публика принимала меня лучше, чем в первый раз, и впечатленный таким сердечным приемом директор продлил контракт до марта.
В Wintergarten я познакомилась с Полéр, которая оказалась совершенной чудачкой и фантазеркой. Мы часто разговаривали за кулисами. Нельзя сказать, что она была красива, но ее необычное лицо завораживало, одновременно притягивало и отталкивало: большой яркий рот, длинный нос, бархатные задумчивые глаза… Несколько лет спустя в Нью-Йорке ее будут представлять как «самую уродливую женщину в мире» — реклама в цирке Barnum, максимально раскручивавшая образ Полер. Но она заслуживала большего, чем этот эпатаж, потому что обладала талантом, и недюжинным. После 1906 года я аплодировала ей в Vaudeville, когда она играла в пьесе, кажется, Пьера Фронде[173]. Полер доказала, что обладает большим драматическим дарованием, глубоко взволновав зрителей. Это была очень хорошая девушка, в наших беседах оказалась такой открытой и простой, вызвав у меня самые дружеские чувства. Наши пути разошлись, помешав мне выказать их ей так, как хотелось. Но такова жизнь артиста: знакомишься, испытываешь симпатию и расходишься… навсегда.
В Берлине я вновь встретилась с импресарио, с кем мы с матерью познакомились в Нью-Йорке, Ике Роузом, мужем госпожи Сахаре. Он был намного старше своей жены, совсем не красив, и его лицо, напоминавшее морду доброй собаки, очень контрастировало с чистыми чертами несравненного существа, чья чувственная грация и красота прославили ее на двух континентах. За ней ухаживали буквально все, это его ранило, и они разошлись, их дочь, Кари Роуз, осталась с отцом. Она воспитывалась в монастыре, вышла оттуда очень набожной и скромной, но, попав в свет, полностью изменилась и решила играть в комедиях. Разочаровала ли ее эта стезя? Возможно. В любом случае, произошла новая решительная метаморфоза — после еще одного разочарования Кари, в конце концов, стала монахиней-кармелиткой.
Ике Роуз все время был в пути: контора у него находилась в Берлине, но он часто и подолгу жил во Франции. После 1996 года он не забыл нас и, когда возвращался в Париж, всегда писал нам и приглашал на ужин, всегда предлагая одно и то же меню: «Устрицы, улитки и свиные ножки». Каждый раз, бывая в Берлине, я виделась с Ике Роузом, человеком жизнерадостным, энергичным и очень бойким, в качестве импресарио он много занимался устройством моих турне по Германии.
* * *
Господин Расмуссен, директор Circus Variety в Копенгагене, приехал в Мюнхен посмотреть мою программу, пришел в восторг и пригласил выступать у него в апреле.
Приезд в Копенгаген нельзя назвать обычным. На вокзале собралась толпа, чтобы меня увидеть, всю дорогу от вокзала до гостиницы меня приветствовали с такой помпой, что я была совершенно смущена. Очень растроганная таким теплым приемом, я пришла в еще большее волнение вечером, в театре: в зале находились самые высокопоставленные члены датского общества, среди них были наследный принц Фредерик и принцесса Мария, сестра английской королевы. В антракте принцесса подошла меня поприветствовать и предложила участвовать в конкурсе для благотворительного праздника, который она устраивала в Королевском дворце. Праздник проходил в частном театре королевского двора, восхитительно красивом. Там собралась вся датская знать и множество иностранных принцев, а в самой красивой ложе сидел старый король Кристиан с Эдуардом VII в адмиральской форме, сверкавшей бриллиантовыми эмблемами и вензелями.
Эта исключительная публика аплодировала так же, как и обычная. После танцев принцесса Мария поблагодарила меня и попросила сделать денежный сбор в пользу ее протеже, по-моему, речь шла о семьях погибших моряков. Я собирала деньги в черно-желтом костюме для хоты. Когда я подошла к королевской ложе, Эдуард VII поднялся, чтобы положить на поднос довольно значительную сумму, а потом осыпал меня комплиментами: испанский костюм мне очень к лицу, уверял он, а танцы его совершенно очаровали, особенный восторг вызвал гавот.
Успех в Копенгагене имел неожиданные последствия. Приехав в октябре в Мюнхен, где с большим размахом рекламировались мои выступления, я получила письмо от госпожи Анны ХофманУддгрен[174], директрисы Kungliga Dramatiska Teatern. Воодушевленная разговорами о моем концерте в Дании, она предложила мне ангажемент на май. Возможность посмотреть Швецию меня прельщала, и я согласилась.
Последнее выступление в Deutsche Theater прошло 30 апреля, и я тут же отправилась в Стокгольм. Мне нужно было преодолеть огромное расстояние от Мюнхена, пересечь почти всю Германию, чтобы в Киле сесть на корабль, который плыл в Копенгаген через пролив Grand Belt. Из Копенгагена на другом корабле следовало было добраться до Мальмё, а оттуда, теперь уже на поезде, доехать, наконец, до Стокгольма. Путешествие получалось длинное.
Судно в Киле оказалось паромом огромных размеров, и я не успела оглянуться, как путешествие закончилось. Я приехала в Копенгаген свежей, как цветок. Затем пересела на корабль гораздо меньших размеров. Зато смерть от голода вам там не грозила! В столовой стоял огромный, постоянно накрытый стол, уставленный тарелками с разными закусками и великолепными сэндвичами из черного хлеба, и все это входило в стоимость билета. Путь был коротким, и мы вскоре очутились в Мальмё. Но я чувствовала себя усталой, страшилась оставшегося, довольно значительного, отрезка пути до Стокгольма, и мне хотелось немного отдохнуть в Мальмё: «Мы остановимся здесь на денек», — сказала я Брио. Мы взяли две комнаты в гостинице рядом с вокзалом и упали в мягкие глубокие кресла, прошел час — у меня даже затекли ноги. Тогда я разбудила Брио, которая задремала: «И все же нужно прогуляться по городу, пока не стемнело. Возможно, больше такой возможности не представится. Скажи хозяину, пусть найдет какой-нибудь экипаж». Погода стояла хорошая, хозяин предложил небольшую коляску. Я попросила кучера везти нас помедленнее, чтобы все рассмотреть. И вот мы, откинувшись на подушки, отправились осматривать дома, магазины и улицы этого оживленного торгового города. Мы уже проехали довольно много, когда Брио вдруг воскликнула:
— А как же Эжен!
— Что? Разве он не у вас?
— Нет, я только что подумала, что чего-то не хватает. Я забыла Эжена!.. Это ужасно!
«Эжен» — это сумочка с украшениями, которую шутница Брио так окрестила. Она занимала главное место во всех наших передвижениях. С этим кожаным мешочком, довольно большим, с разными отделениями, Брио не расставалась и носила его на себе, привязав шарфом. Брио дорожила Эженом, как собственной жизнью, все время проверяла, на месте ли он, а ключ от замочка носила на шее. Ночью она клала Эжена под подушку. Ах! Совершенно невозможно допустить, чтобы с Эженом что-то случилось. Там хранилось настоящее сокровище! Все красивые украшения матери, которые она подарила мне на двадцатилетие, ценные броши и браслеты, подарки тетушек и авторов балетов, где я танцевала, драгоценные перстни, например великолепный бриллиант махараджи, жемчужное колье, подаренное Шарлем, и другие украшения, купленные мною в порыве увлеченности. Каждая из этих вещиц имела точное место в моих сценических костюмах. Вечером, когда мы прибыли в гостиницу, Брио открыла Эжена, выложила на туалетный столик разные вещички, заранее приколола мне на корсажи броши, чтобы сэкономить время после. Затем она снова разложила все по местам и аккуратно его закрыла.
Моя осторожная компаньонка в первый раз забыла взять его с собой!.. Я не бранила ее, она и так была в совершенном отчаянии, бедная Брио!
— А куда вы его положили?
— Рядом с дверью, у себя в комнате, я думала, мы никуда не выйдем до обеда, и положила его на столик! А потом мы отправились гулять так неожиданно, что я о нем и не подумала. Непостижимо! Я, наверное, совсем ума лишилась.
— И вы не закрыли дверь на ключ?
— Нет, так же, как и вы! Ужасно! Какой соблазн для вора!
— Немедленно возвращаемся обратно в отель.
Я сказала кучеру поворачивать, подкрепляя слова выразительными жестами, потому что он очень плохо понимал по-французски. Но он знать ничего не желал! Для него действовал только договор: провезти гостей вокруг города, и он не собирался нарушать его ни при каких обстоятельствах. Мы с ума сходили от нетерпения, а он неспешно продолжал путь, пока не объездил все маршруты, заслуживавшие внимания.
Но люди в Мальмё оказались очень честными, и мы зря теряли голову от беспокойства. Никому даже и в голову не пришло войти к нам в комнату: Эжен лежал на том самом столике, где его оставила Брио.

Портрет Клео де Мерод работы Ф. А. Каульбаха, 1901
* * *
Через десять минут после знакомства мы с Анной Уддгрен уже понимали друг друга с полуслова. Эта красивая молодая женщина, светлокожая и русоволосая, очень изящная, одаренная невероятными организаторскими способностями, управляла театром умело и энергично. Говорили, что она кровная дочь короля Оскара. Это возможно, Анна обладала властными манерами и умела повелевать. Очень интересуясь мною, она часто приглашала меня в ресторан, и я сохранила очень приятные воспоминания об этих обедах, о невероятном количестве закусок и вкуснейшем соусе из масла и взбитых сливок, который подавали к спарже.
Предприимчивая Уддгрен, увидев, что концерты проходят с большим успехом, незамедлительно организовала череду турне, чтобы показать меня в главных городах Швеции и Норвегии. Она решала все вопросы, мне оставалось лишь следовать ее указаниям. Таким образом, я танцевала в Фалуне, Уппсале, Линчёпинге, Йёнчёпинге, Гетеборге, Карлштадте, Лунде, в Мальмё и Христиании, которую тогда еще не называли Осло.
В Стокгольме король Оскар и его сын, будущий король Густав V, несколько раз приходили на мое выступление в Kungliga Dramatiska Teatern. Но король не удовлетворился выступлениями в Стокгольме и посещал мои концерты в других городах. Потомки Бернадота[175], эти принцы, в чьих жилах текла половина французской крови, обожали все, что исходило из Франции.

Клео де Мерод в диадеме, 1901
* * *
Прощаясь с Шарлем в Париже, я как всегда обещала держать его в курсе всех происходивших со мною событий, что я и делала. Когда он узнал об ангажементе в Стокгольме, то написал, что приедет в Швецию, как только представится возможность. Но по мере того как я получала от него новые письма, я стала понимать, что эта поездка вряд ли состоится. Шарль упоминал какое-то недомогание, небольшое, ничего серьезного, как писал он. Потом письма начали беспокоить меня все больше.
Недомогание вовсе не было легким: проблемы с желудком при постоянной высокой температуре. Эти новости хотя и обеспокоили меня, но не удивили. Дело в том, что уже в Париже Шарль не мог похвалиться цветущим видом: не было того свежего цвета лица и живости, что радовали нас прошлым летом, глаза потускнели, аппетит пропал. Меня это очень встревожило: «Это правда, я чувствую себя немного усталым, не знаю почему. Но это все пройдет за городом». Он собирался навестить своих родителей в одном из имений.
Когда мы расставались, я сказала: «Поклянись, что пойдешь к врачу перед отъездом из Парижа, или я не уеду спокойно». Он обещал, сдержал слово и привез в поместье медицинское предписание. Но лекарства не помогали, и Шарль все время чувствовал такую слабость, что семья вернулась в Париж. Но и там коварная болезнь не прошла и даже усилилась, так что Шарль вообще перестал выходить из дома. Миссия ходить на почту отправлять мне письма была возложена на Жака. Несмотря ни на что, Шарль не жаловался и даже извинялся, бедняжка, что вообще вынужден упоминать о болезни и омрачать такое успешное турне.
И вот однажды настало невыразимо ужасное время, когда я перестала получать письма от Шарля!.. Можете себе представить мое волнение, когда день за днем в пачке, принесенной курьером, я не находила от него ни листочка… Страшное беспокойство не отпускало меня, и я не знаю, как мне удавалось каждый день делать необходимое — появляться на сцене, улыбаться и кланяться с таким грузом на сердце. В конце недели курьер принес письмо, я узнала почерк Жака.
Брио не надо было читать это письмо, чтобы понять. Она сразу же догадалась обо всем по выражению моих глаз. Это была страшная новость. Жак старался быть очень осторожным, но его деликатность не смогла смягчить боль от ужасной правды: я больше никогда не увижу того, кого любила!
Когда состояние Шарля снова ухудшилось, семья перевела его в больницу, но все усилия врачей были тщетны, и Шарля вернули в родительский дом. Через несколько часов после этого он умер. Жак написал, что его кузен умер от брюшного тифа, в те времена очень опасной болезни, так как медики не располагали еще теми лекарствами, которые сейчас позволяют довольно быстро победить этот недуг.
Я читала и перечитывала горестные строки. Довольно долго я не могла ни заплакать, ни произнести хоть какие-нибудь слова. Брио, полная сочувствия, с отчаянием смотрела на меня, не зная, что сказать или сделать. Наконец, первое, что я выкрикнула, выйдя из оцепенения:
— Брио, скажи мне, что сегодня вечером есть выступление!
— К счастью! — ответила Брио.
Она думала, что для меня работа была единственным спасением, и была права. Не помню точно, кто из мудрецов сказал: «От всех нравственных страданий работа — лучшее лекарство». Как же я оценила правдивость этих слов в тот момент! Я была сломлена, и если смогла продолжать жить, постоянно храня в сердце такую боль, то это лишь благодаря моему искусству. Если бы не та помощь, если бы не то утешение, которое я находила в балете, я бы наверняка умерла. Мое сердце успокоилось, окутавшись образом нашей любви и счастья, но мне казалось, что огонь в нем угас навсегда.
В первый же день в Париже я пошла на могилу возлюбленного друга, ушедшего во цвете молодости и красоты, который так любил меня. Жак сразу же пришел ко мне и рассказал обстоятельства смерти Шарля со всеми подробностями, о чем не писал ранее. Он был сокрушен горем. С детства они были неразлучны и любили друг друга как братья. Что может быть ужаснее такой безвременной и неожиданной утраты?
Многие годы, каждый раз приезжая в Париж, я виделась с Жаком, и мы говорили о том, чей образ всегда хранили в сердце.
* * *
Слухи о моем скандинавском турне наделали такого шума в Париже, что Figaro послала ко мне своего знаменитейшего журналиста Жюля Юре поговорить о моих впечатлениях. Я всегда с удовольствием встречалась с ним, человеком умным и талантливым, с открытым лицом и ясными глазами, в которых светились радость жизни и любопытство к миру. Казалось, его очень заинтересовали мои истории. Когда я рассказала о письмах молодых поклонников, привезенных мною в чемодане, он попросил позволения взглянуть на них. Я принесла несколько пакетов писем, и он прочел наугад не меньше сотни. Они показались ему такими трогательными, увлекательными, иногда странными, порою страстными, что многие отрывки из них он вставил в свою статью, опубликованную на следующий день в Figaro под названием «Почта для балерины». Я приведу лишь короткую выдержку из этого огромного интервью, занимавшего четыре полосы:
«Восхищение, страсть, любовь, энтузиазм, отчаяние, смирение, даже безумие сквозят в этих письмах, написанных мужчинами, женщинами и детьми из самого холодного края на земле. Самое невероятное в этом то, что артистка не была знакома ни с одним из поклонников, им достаточно было просто написать ей проникновенное письмо, и ни одно слово не оскорбляло строгой чистоты их платонической страсти».
В том же номере Figaro была напечатана статья «Похвала боксу», написанная Морисом Метерлинком[176], и колонка Эмиля Бера[177] «Парижская жизнь», посвященная смерти великой драматической актрисы Мари Лоран, которая создала знаменитые образы в таких пьесах, как «Франсуа ле Шампи»[178], «Эринии»[179], «Нельская башня»[180], «Жерминаль»[181] и сотни других. В конце карьеры эта добросердечная женщина создала «Приют искусств» и до последних дней своей жизни поддерживала это богоугодное заведение.
Глава четвертая
Маринелли и его прожектор. — Уединение в Коррезе. — Ливорно: кьянти и гроза. — Сын д’Аннунцио[182]. — «Фрина» в Olimpia. — Пятнадцать тысяч франков братьев Изола. — Мода на пантомиму. — Посвящение Колетт[183]. — Поль Франк и «Танагра». — Эклектическое зрелище. — Тур по Европе 1905 года. — Как я узнала своего отца. — Букет роз из Зальцбурга. — Дочерние чувства, отцовские советы. — Бухарестская Опера и воодушевление румын. — Путешествие в Испанию. — Влюбленный маркиз-скульптор. — Двойная страсть. — Романтическая медовая луна в Сарлабо. — Новое жилище и новая кожа. — «Эндимион» и «Феба». — Я танцую в Санкт-Петербурге и Москве. — Радости Парижа 1909 года. — «Первый шаг» в Théâtre Michel. — Последние выступления в Вене. — Объявление войны застает меня в Лондоне. — Поспешное и тревожное возвращение. — Луис вынуждает меня покинуть Париж.
Как только стало известно, что я в Париже, начался поток писем и визитов. Везде обо мне говорили. Первое письмо, которое я распечатала, было от Марино. Я обещала ему несколько дней в августе, больше ничего не могла предложить из-за «Фрины», где была занята до конца октября. В остальном я колебалась, какому из многочисленных предложений отдать предпочтение, но визит Поля Франка с просьбой участвовать в его пьесе в ноябре положил конец моим сомнениям.
Я хорошо знала Франка, мы много раз встречались при разных обстоятельствах. Молодой еще человек, одаренный художник и хороший постановщик, он с ума сходил по театру. Карьеру он начал в качестве секретаря Катюля Мендеса[184]; и это не вина его патрона, что он не захотел стать актером, потому что тот был страстным любителем театра и мечтал быть драматургом и автором постановок, но успеха у публики не имел. Поль Франк специализировался на пантомиме. Посмотрев, как я играю в «Лоренце», он предложил мне стать его партнершей.
Речь шла о лирической пантомиме «Танагра», автором которой он был вместе с Эдуаром Мате[185]. Он хотел, чтобы я играла главную роль. Произведение принял в репертуар Жюль Берни, директор театра Mathurins. Я с удовольствием согласилась на эту роль, поскольку она абсолютно отвечала моим желаниям и интересам, в ней было столько же танца, сколько и пантомимы.
Новый импресарио Маринелли тоже поспешил ко мне со списком возможных ангажементов.
— Но у меня нет ни одного свободного «окошка», — воскликнула я, разводя руками. — Все расписано до конца года.
— Что ж, — не сдавался он, — я это предвидел.
И он вытащил несколько контрактов на весну 1905 года, в Дрезден, Гамбург и Бреслау. Я все подписала, разве можно было противостоять такому решительному и ловкому человеку, как Маринелли?! Я точно не знаю, был ли он на самом деле итальянцем или просто придумал себе псевдоним по рабочей необходимости. Небольшого роста, светловолосый, всегда прилично и даже с иголочки одетый… это был тип делового, всегда спешившего человека. Он все время куда-то бежал, внезапно появлялся перед вами и был очень напорист в делах: «Такой-то город, такая-то дата, такая-то цена. Вы согласны? Да? Очень хорошо!» Он исчезал так же стремительно, как и появлялся, и вел дела «глобально», представлялся как «импресарио по всему миру». Его контора на площади Boieldieu напоминала завод: толпа сотрудников, сновавших туда-сюда, и постоянный стук пишущих машинок. На его фирменной бумаге для писем красовался такой логотип: маяк, от него по всей ширине листа шел луч света, в котором было написано увеличивающимися буквами «The world’s аgency. Marinelli»[186]. У него была контора в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке, да к тому же в самых центральных районах: Charing Cross Road, Charlottenburg и Broadway. Три его телеграфных адреса особенно меня радовали. В Париже это был Up-to-date; в Лондоне — Bravissimo, а в Берлине — Sensation[187].
Импресарио часто занимался моими ангажементами и был во мне очень заинтересован, впрочем, как и все представители его профессии: эти господа меня уважали и ценили, поскольку я приносила им огромные деньги.
Я чувствовала себя немного измотанной, мне нужен был отдых перед тем, как начать снова работать, но на сердце было слишком тяжело, чтобы показаться на каком-нибудь светском курорте. Брио рассказала мне об одном тихом уголке в окрестностях Тюля, где она однажды отдыхала. Именно там я и собиралась провести дней двадцать в почти полном одиночестве.
Местечко было дикое и очень красивое, на скалах росли деревья, наставив в небо острые кроны, склоны холмов были покрыты зеленью, а шум водопадов — единственное, что нарушало тишину, царившую там. Я привела в порядок мысли и разобралась в делах, детальнее рассмотрев свое очень насыщенное расписание. Мне нужно было подготовить очень плотный и точный график передвижений, не перепутать даты выступлений, строго рассчитать время приездов и отъездов.
Сентябрь и октябрь были отданы братьям Изола. Они написали мне в мае в Стокгольм, предложив участвовать в постановке «Фрины» в театре Olimpia. Договор был подписан в июле. Эти ловкие господа, во владение которых уже перешел и театр Gaîte-Lyrique, решили, что эскизы костюма для меня закажут Гербо[188] — модному художнику, чьи яркие картинки с изображением пышных дамочек украшали страницы всех иллюстрированных журналов столицы, а шить их будут сестры Паско, их с руками отрывали все театры. Для повторной постановки «Фрины» Изола устроили грандиозную рекламную кампанию, напечатали великолепные афиши и предложили мне пятнадцать тысяч франков в месяц, что для них было максимально возможной суммой. Они добились от Ганна одобрения меня на роль из-за «уникальности моего образа».
* * *
Покинув Коррез, я направилась в Неаполь, а потом в Рим, там меня ждал такой же пылкий прием, как и в Salone Margherita. Потом был Ливорно, где я выступала в театре Eden, где главенствовали Марино. Восемь дней в Ливорно… и невообразимое смешение разных любопытных впечатлений. Путешествие было напряженным. Поезд все время ехал в бесконечных туннелях с редкими просветами, в купе стояла невыносимая жара и духота, вагоны окутывал черный дым, такой густой, что в какой-то момент среди пассажиров началась паника. Мы приехали в Ливорно, едва не задохнувшись насмерть, усталые и измученные. Комнаты нам были заказаны в красивом отеле, рядом с пляжем, окруженным прелестными садами и с огромной террасой, с которой открывался дивный вид на море. «Ах, как же здесь хорошо!» Мы устроились на террасе в шезлонгах, и я заказала кьянти: «Для куража!» — сказала я Брио. Ну, конечно! Кьянти в сочетании с жарой подействовало на меня очень расслабляюще. Я с трудом поела и могла думать лишь о постели, быстро легла спать, тут же заснула и спала очень крепко под легкой москитной сеткой, а ведь сон мой всегда был очень хрупок.
На следующий день, принеся мне завтрак, Брио спросила:
— Ну и что вы думаете об этой ужасной грозе? Я боялась, что вы глаз не сомкнете сегодня ночью!
— Какой грозе?
— Как? Вы не слышали?
— Совсем ничегошеньки. Я спала на удивление крепко. Этого не случалось уже очень давно.
— Вот это да! А я всю ночь вышагивала по комнате, вздрагивая от каждого громового раската, каждой вспышки молнии! Я никогда еще не видела такой ужасной грозы… мне казалось, что обрушится весь город.
Город все еще остался на месте… но ураган наполовину снес Eden, который, без сомнения, был построен из каких-то легких материалов. Крыша была повреждена, в зале валялся всякий мусор, остатки разрушенной сцены, штукатурка, листы железа. Катастрофа! Марино, потеряв голову, поспешно бросился обустраивать другой зал Casino, поврежденный не так сильно, и я смогла выступить в тот вечер — успех был огромный, как в Неаполе и Риме.
Забыв о грозе, мы отправились осматривать город. Благодаря тому, что бóльшая его часть была построена вдоль каналов, он напоминал маленькую Венецию. Многолюдные улицы Ливорно, шумная жизнь порта, великолепный пляж со множеством купальщиков оставляли у любопытного путешественника массу впечатлений. С Монтенеро, зеленой вершины, чьи склоны были застроены красивыми виллами, мы насладились великолепной панорамой города, раскинувшегося на берегу Средиземного моря и тонувшего в солнечных лучах.
В гостинице за соседним столиком сидела элегантная изящная дама, графиня Г., и ее мальчик, ребенок семи или восьми лет, чье лицо меня заинтересовало: красивый овал, нос с горбинкой, горделивый взгляд. Все знали, что это сын д’Аннунцио, владевшего угодьями неподалеку. Но если писатель и графиня и поддерживали отношения, то, очевидно, весьма прохладные. Мы часто по-дружески беседовали с ней, а ее сын, жизнерадостный, резвый, даже можно сказать, непоседливый ребенок, меня полюбил. После обеда мы все выходили гулять в сад, маленький Габриель тащил меня за руку играть в мяч до потери сознания. Он так увлекался игрой, что однажды запустил мне мяч прямо в правый глаз. Я потеряла равновесие, а веко тотчас же распухло. Я страшно испугалась, хотя боль прошла довольно быстро. Однако лицо было в ужасном состоянии, и мысль, что я не смогу появиться вечером на сцене, меня ужасно тревожила. Брио сразу же бегом отвела меня в комнату и занялась глазом. Она так хорошо его промыла и поставила такие отличные компрессы, что спустя два часа на лице оставались лишь малозаметные следы, по крайней мере со сцены. Это происшествие не помешало мне на следующий день возобновить партии в мяч с моим маленьким другом, я только посоветовала ему быть более собранным и спокойным. Юный Габриель меня не забыл, он писал мне потом милые письма многие годы, а когда ему исполнилось восемнадцать, прислал книгу своих стихов. Безусловно, он хотел идти дорогой своего прославленного отца, но у меня ощущение, что он так и остался в ее начале.
* * *
Марино получил такую прибыль, что заставил меня пообещать вернуться в 1905 году в Рим, в Salone Margherita. Я также получила предложение от директора Театра Верди в Генуе. Он подписался говорящим именем «Карло Аморе». Сколько поэзии в итальянских именах! Я согласилась на несколько выступлений в феврале.
Я покинула Италию несколько поспешно, как Золушка, убегавшая с бала, чтобы успеть в Париж к 15 августа, к началу репетиций «Фрины». Они проходили весело и доброжелательно, все ожидали большого успеха. Милая Марикита, занимавшаяся хореографией постановки, поставила мне все движения в своем классе, в Opéra Comique. Настроение Ганна и Жермена было спокойным. С 1896 года Ганн не переставая писал балеты и оперетты:
«Принцесса на шабаше», «Паяцы», «Цитера» и другие. Огюст Жермен, тоже очень плодовитый автор, вел театральную колонку в Echo de Paris и одновременно был прозаиком и драматургом. Его пьесы ставили в театрах Odéon, Gymnase, Athénée, кроме того, он был автором многочисленных романов, живописавших парижские нравы: «Колокола Парижа», «Под гримом», «Первая премия Консерватории», выходившие хорошими тиражами. Я оказалась в дружеской компании, потому что меня и двух авторов связывали прекрасные воспоминания о Руайане.
Братья Изола уже не платили мне с прежней щедростью — пятнадцать тысяч франков! Они никогда не платили такой суммы ни одной из своих звезд. Но я им тактично сказала:
— Я же зарабатывала гораздо больше в Нью-Йорке, Гамбурге и даже в Folies Bergere у Маршана!
— Это возможно, — отвечали они, — но мы возрождаем Olimpia, и это нам обходится очень дорого. Мы не можем сейчас отдавать последние деньги и должны быть очень бережливы. Пятнадцать тысяч франков для Парижа — это неплохой куш!
Чтобы понимать, что такое пятнадцать тысяч франков в то время, стоит вспомнить депутатов, которые получали пятнадцать тысяч франков в год, и в народе их окрестили жадными сатрапами, их даже не называли «депутатами», а просто — «пятнадцать тысяч». Поэтому такая сумма в месяц была просто гигантской, фантастической.
Отношение Изола ко мне было соответствующим моим королевским условиям ангажемента. Когда я сталкивалась с ними в театре, они останавливались, оглядывали меня с невыразимо почтительным выражением, потом многозначительно переглядывались и, качая головами, говорили друг другу: «А-а-а, Клео де Мерод! Пятнадцать тысяч франков!» Жаль, что я не могу изобразить их комически-почтительный тон… Они так уморительно выглядели, значительно кивая головами и перемигиваясь, что я не могла удержаться от смеха, а славные Изола тут же принимались хохотать вместе со мною.
Ганн воодушевленно дирижировал, и мы повторили наш грандиозный успех 1896 года. Эти аплодисменты стали для «Фрины» блистательным посвящением. Ее новая сценическая жизнь могла бы продолжаться, как мне казалось, до конца года, если бы не мой договор с Берни и Франком, который призывал меня в Mathurins.
Какой сюжет был у «Танагры»? По правде сказать, такового и не было… Это был просто предлог, весьма расплывчатый к тому же, показать многочисленные танцевальные соло. Сюжет пантомимы тоже не был плодом глубоких раздумий — набор довольно произвольных ситуаций, чтобы показать в выгодном свете исполнителей.
Примерно в то же время на одном благотворительном утреннике в театре Renaissance я увидела, как Колетт, Кристина Керф и Жорж Ваг исполняли «Ночную птицу», пантомиму на музыку Шантрие. Колетт была обворожительна: она прекрасно усвоила все уроки моей подруги Бове, которая неплохо ее обучала. Я видела перед собой совершенно особенную красоту: острый подбородок, серые миндалевидные умные глаза, кудри, похожие на огромное пушистое птичье гнездо… Она выглядела очень гармонично: великолепная грудь, очень стройные ноги, маленькие изящные ступни. В тот день я разговаривала с ней впервые. Нас друг другу представила Кристина Керф. В последующие несколько раз, что мы виделись, Колетт всегда была очаровательна и говорила мне разные приятные и любезные слова. В 1930 году она подарила мне свой роман «Кошечка» с таким восхитительным посвящением: «Клео де Мерод, покорившей время, подтверждая слова, что душа делает тело похожим на себя. С самыми дружескими воспоминаниями…»
Возвращаюсь к сюжету «Танагры», немного притянутому за уши. Речь шла о скульпторе — роль Поля Франка, который, изваяв статую в танагрском стиле, влюбился в нее. Этот новоявленный Пигмалион так боготворил статую, что она ожила, спустилась со своего пьедестала и стала танцевать, греческие танцы разумеется. Далее все усложнялось. Сняв греческий хитон, я облачалась в кимоно и танцевала японский танец. Потом наступал черед «камбоджийки», со знаменитым костюмом Ландольфа. Наконец, сняв головной убор и закутавшись в широкую белую шаль, я должна была станцевать… танго! Все это перед глазами влюбленного скульптора, который каждый раз пантомимой показывал непрестанное ошеломление, восхищение и обожание. Но женщина вновь превращалась в камень: я возвращалась на пьедестал и застывала в неподвижности, а Поль Франк в недоумении подносил ладони ко лбу, словно пробуждаясь ото сна.
Этот довольно эклектичный спектакль сопровождался приятной мелодичной музыкой Эдуарда Мате. Музыкант-виртуоз, профессор и композитор, Мате сочинил для театра много легких произведений, имевших успех. В свое время много говорили о его оперетте «Коноплянки» по тексту Куртелина[189]. Во время постановки «Танагры» Мате был в расцвете молодости: энергичное лицо, завитые волосы, всегда воодушевлен и весел… Он не знал, как выразить нам Франком свою радость от спектакля. Я выкладывалась по полной, без всякого неудовольствия: меня забавляла эта роль, не очень глубокая, конечно, но позволявшая мне использовать самые разные па и ритмические рисунки. А какие прекрасные костюмы! Когда занавес поднимался, я стояла на постаменте, задрапированная как настоящая танагрская статуэтка.
Думаю, что наш спектакль все-таки обладал неким шармом, потому что открытая генеральная репетиция имела огромный успех. Крики «браво» заглушали всё. Мари Леконт, которая была в зале, подошла поздороваться в антракте со своей подругой Марикитой и сказала ей: «Это незабываемое зрелище».
Весь Париж побежал в Mathurins, дела у спектакля шли превосходно довольно долго, пока я окончательно не оставила свой пьедестал и не уехала в январе в Италию. Но слава «Танагры» вышла далеко за пределы Парижа. Когда я приехала в феврале в Геную, то получила письмо из Монте-Карло: мне предлагали приехать вместе с Полем Франком и дать несколько представлений «Танагры» в Palais beaux-arts. А в 1906 году нас вместе с Мате в качестве руководителя оркестра попросили сыграть эту пантомиму в Гамбурге, Ганновере и на другом конце Европы — в Москве!
* * *
Ритм моей истории все ускорялся: ангажементы и путешествия безостановочно сменяли друг друга, вечное «турне по Европе», в котором долгие годы зрители из разных стран и разных социальных классов пели в унисон «Gloria in excelsis Cleo!», как сказал один критик, мастер игры слов[190]. Это давало мне уникальную возможность постоянно быть занятой своим искусством, в чем и состояла моя жизнь, и путешествиями в уже знакомые города, где я с радостью оказывалась вновь, и в новые непознанные места. Горе мое не угасало, но я постоянно отвлекалась на новые впечатления и планы на будущее. Если бы не работа, боль захватила бы все мое существо, и я бы впала в жесточайшую депрессию. А так у меня просто не было времени думать о своей жизни, и это было лучше.
В начале 1905 года я была в Монте-Карло, Риме, Генуе, а еще в Пизе, Флоренции, Болонье, Дрездене, Гамбурге, Бреслау. И везде успех! А сколько невыразимых чувств дарили мне поездки в итальянские города, где я до этого не была! Но играть в гида я не хочу.
Лето я встретила в театре Apollo в Вене. На этот раз посещение Вены подарило мне великое событие моей жизни — знакомство с отцом. Он написал мне через два месяца после смерти матери. Это было первое письмо от него. Адрес был написан немного странно и звучал так: «Мадемуазель Клео де Мерод, артистке Оперы, Париж». Он даже не знал, что я живу на улице Капуцинок. Я догадалась, что за долгие годы его переписка с матерью прекратилась. Письмо меня очень взволновало, но это было скорее смущение, недоумение и неловкость, чем родственные чувства. Могла ли я любить человека, которого совершенно не знала и который никогда мною не интересовался? Но все же это был мой отец, и его письмо очень растревожило меня. Он писал, что узнал о моем горе из газет и очень сожалеет. Он желал, чтобы я знала, что могу рассчитывать на его привязанность и поддержку, надеялся на скорое знакомство и просил уведомить, когда я приеду на гастроли в Вену.
Конечно, теперь ему было легко! После того как мать положила жизнь на мое воспитание, образование и подготовку будущего, он, не позаботившийся ни о чем, теперь хотел восседать в театральном кресле и горделиво аплодировать успеху своей дочери! Что ответить на такое письмо, особенно в том состоянии духа, в котором я пребывала тогда? Я не знаю, сколько написала черновиков ответа, рвала их один за другим. Наконец, я решила написать очень коротко, сухо, леденяще холодно, чтобы не оставлять никаких иллюзий насчет моих чувств. Уже в самом конце, чтобы добавить хоть немного теплоты, я написала, что была бы счастлива получать от него иногда какие-то весточки.
Отец совершенно не был обескуражен моей холодностью и продолжал писать письма, полные нежности. В 1900 году он послал ко мне своего друга, М. Г., художника, которого австрийское правительство отправило в Париж с неким заданием: он должен был провести там какое-то время на Всемирной выставке. Я приняла его у себя дома и дала билет в Азиатский театр. Он был очарован спектаклем и, возвратившись в Вену, так восторженно обо мне отзывался, что отец написал: «Г. рассказал мне столько хорошего о тебе, что мне очень любопытно убедиться самому, что он не преувеличивает. Я бы хотел знать, не слишком ли льстят тебе фотографии, как это часто бывает. Мои планы посетить Париж провалились, но, когда ты приедешь в Вену, я очень надеюсь иметь счастье тебя увидеть».
Разные обстоятельства мешали нашей встрече до 1905 года, когда мы, наконец, смогли узнать друг друга. Я ехала в Мюнхен и потом собиралась в Вену, отец написал, что будет ждать меня по пути, в Зальцбурге, на вокзале. Я караулила у входа в вагон, он сразу заметил меня и поднялся внутрь. У него в руках был огромный букет роз для меня. Сердце мое билось слишком сильно. Отец обнял меня, и его первыми словами были: «Фотографии не врали. Ты мое самое прекрасное творение». Я смотрела на него во все глаза и осталась весьма довольна: он был очень красив — высокий, хорошо сложенный, на вид очень молодой человек, ему еще не было и пятидесяти лет, с зелеными глазами, с правильными, почти античными чертами лица, небольшими усиками, светлее, чем каштановые волосы, теплым тембром голоса, очень обольстительный… «Я предпочитаю встретиться с тобою вот так, инкогнито, чем на венском вокзале, где ты будешь окружена поклонниками». У него были дела в Зальцбурге, но мы договорились, что он приедет посмотреть мое выступление в Apollo, а потом зайдет ко мне в отель. На самом деле он приходил на многие мои выступления, но не показывался в антракте. Ему больше нравилось встречаться со мною в Бристоле, чтобы побыть наедине. Он звонил мне утром, и мы проводили послеполуденное время вместе. Наши беседы рождали во мне противоречивые чувства. Для начала он мне рассказал, что с моего восьмилетнего возраста писал матери и просил отослать меня к нему. Она резко отказала, и по этому поводу между ними какое-то время велась оживленная переписка. Нам было очень непросто говорить об этих деликатных вещах. Отец смущался, а я, решив при любых обстоятельствах держать сторону матери, не хотела слишком углубляться в эту тему. К тому же он мне сказал, что женился и у него есть ребенок. Это тоже очень смущало и тревожило меня.
Позже я встретилась с его семьей, у него в поместье, во дворце Д., где, впрочем, он подолгу не жил, так как проводил жизнь в путешествиях, разыскивая редкие вещи для своей коллекции. Его жена, женщина из очень хорошей семьи, вела себя со мною корректно и даже приветливо. Высокая блондинка, довольно приятная, однако невзрачная, она не обладала и сотой долей красоты моей матери, и очевидность этого доставила мне особое удовольствие.
Регулярная переписка между отцом и мною продолжалась, и каждый раз, когда я бывала в Вене, мы встречались. Хотя я и не могла полюбить его всем сердцем, его обаяние действовало на меня, и глубокая привязанность, которую он ко мне испытывал, согревала душу. В письмах он давал мне моральные наставления, почти поучения. Мысль, что я могу столкнуться с неудачами и бедствиями, не давала ему покоя: «Не забывай, дорогое дитя, несмотря на твой необыкновенный успех, что выкрики „браво“ и аплодисменты — вещь преходящая, и те же самые люди, что сегодня восхищаются тобою и обожают, завтра могут предать и забыть».
Это было очень мило с его стороны, но настрой был немного пессимистичным, а я никогда в жизни не страдала от изменчивых настроений капризной публики. Я сама решила перестать танцевать и сделала это не из-за сценических неудач, которых я имела счастье никогда не знать. В конце концов, я просто была такой по характеру. Все, что мне говорил отец в тех письмах, я уже давно понимала, потому и не транжирила заработанное. Я слишком любила свободу, чтобы зависеть от кого-то.
* * *
Директора театров варьете сформировали международное содружество и договаривались друг с другом о порядке ангажементов популярных артистов, чтобы они могли поочередно выступать во всех европейских театрах. Это было очень практично: когда я приезжала куда-нибудь на гастроли, содружество заключало со мною договор на выступление в другом городе и так далее.

Клео де Мерод, 1905
В 1905 году из Вены я поехала в Линц, Грац, Цюрих, Штутгарт, Яссы и, наконец, в Бухарест. Всего несколько вечеров в Линце и Граце, где мы были во время того первого путешествия по Австрии. Немного дольше я задержалась в Цюрихе, там прошло одно из самых удачных моих выступлений. Цюрихская публика была само пламя и страсть!
В Штутгарте, в Friedrich-Theater, я встретила почти такой же теплый прием. Здесь тоже с нетерпением предвкушали приезд «парижской заезды», зал ломился несколько вечеров. Мне удалось посвятить немного времени этому интересному городу, осмотреть его лишь бегло, тем не менее я помню статую Шиллера работы Торвальдсена[191], знакомство с которым в Копенгагене я очень ценила. Но в Яссах, городе колледжей и музеев, я увидела еще меньше, с трудом выкроив всего один вечер на выступление. Все желавшие не смогли поместиться в зал, после этого уникального представления, за которое я получила тысячу франков, случилось настоящее столпотворение. Потом меня ждали в Бухаресте, где я провела две недели, наслаждаясь почти таким же восторженным приемом, как в Скандинавии. Как великолепно выглядела бухарестская Опера! Здесь выступали величайшие артисты, здесь аплодировали Рейан и Айно Акте… Перед моим выступлением арии из «Лючии де Ламмермур»[192] и «Богемы»[193] пела Регина Пачини[194], обладательница легкого сопрано, за нее сражались все театры.
В Бухаресте, как и в Швеции, гулять было затруднительно: я не могла и трех шагов сделать, чтобы меня тут же не обступали стайки студентов, кричавших «виват». Неудобно устраивать суматоху в городе, где с вами так милы, и я не осмеливалась почти никуда выходить. Но мое мнение о Бухаресте, хотя и очень приблизительное, сложилось такое, что атмосфера этого очаровательного города похожа на парижскую. Bucuresci — «город радости», хорошее название… для того времени! Город оживленный, веселый, с красивыми просторными улицами, превосходными магазинами, где продавалось много парижских товаров. Румыны, люди восприимчивые, страстно увлеченные искусством и литературой, обожали Францию, и большинство из них бегло говорило на нашем языке. У меня появилось довольно много друзей в Бухаресте, и, уезжая, я пообещала себе туда вернуться, но жизнь мне этого не позволила.
Год закончился для меня в Праге, в Театре Варьете. Каждый вечер в зале, всегда в первом ряду, я видела дочь эрцгерцога Рудольфа.
В 1906 году вновь началось турне по знакомому кругу:
Wintergarten, Varieté в Копенгагене, Hansa-Theater в Гамбурге и Blumenthal в Ганновере, где мы вместе с Франком представляли «Танагру», а Мате дирижировал. Всегда в пути, всегда в вагоне, не чувствуя усталости, поскольку здоровье меня не подводило… Постоянная круговерть мест и событий увлекали меня, притупляя тоску. Я всего лишь артистка и уже больше не могу быть никем иным. Казалось, что возлюбленная женщина уснула во мне и больше никогда не проснется. Никакие мужские ухаживания меня не трогали, признания раздражали, а письма от воздыхателей нераспечатанными летели в мусорную корзину.
Но каким благословением было иметь рядом такую подругу, как Мари Брио! Она не позволяла тьме ни на минуту овладеть моим сердцем. Ее задор, ее оптимизм, ее забавные выходки отгоняли черные мысли, давали силы и веселили. Она окружила меня нежной материнской заботой, продумывала все бытовые детали жизни, предвидела всё или почти всё. Вечные путешествия могли бы стать изнурительной рутиной, но благодаря ей превращались в удовольствие. Ее неисчерпаемая память хранила бесконечное множество забавных басен и историй, которые она, как искусный фокусник из рукава, выхватывала из прошлого, прогоняя любую печаль. Иногда я вообще не замечала, как проходило время в пути, так увлекали ее воспоминания о всяких забавных случаях из ее детства в Гурси-ле-Шателье. Она так смешно рассказывала, что я хохотала до слез.
* * *
Весной 1906 года один из импресарио предложил мне поехать в Испанию, куда приглашали агенты многих мадридских театров. Это была для меня неизведанная земля.
— Да, да, я очень хочу. Я была бы рада увидеть Испанию. Вот только что означает «мадридские театры»? У меня нет о них никакого представления.
— В Мадриде хорошие театры, прекрасные, просто великолепные… Держите, мадемуазель, вот письма от директоров. Ознакомьтесь с их предложениями и решите сами.
Поскольку ничего более конкретного вытащить не получилось, а письма лежали стопкой передо мною, я взяла наугад письмо с предложением выступить в театре Zarzuela, Мадрид. Это был театр, где показывали всего понемножку, короткие лирические драмы, маленькие оперетты, танцевальные сценки. Стиль очень мадридский: зрители приходили посмотреть конкретного исполнителя, пьесу или выступление, а потом уходили.
— Хорошо, я подписываю контракт с театром Zarzuela. Мне это полностью подходит.
Когда я приехала в Мадрид, мне все стали говорить: «Как жаль, что вы подписали договор с Zarzuela! Этот театр в полном упадке!» Меня словно окатили ледяной водой. Перспектива танцевать перед полупустым залом совершенно не радовала… Я прошлась по городу: везде огромные афиши с анонсами моих выступлений. Потом я отправилась на репетицию. Zarzuela оказался очаровательным театром, все было сделано с большим вкусом. Директор сказал, что все билеты на премьеру, которая должна была состояться на следующий день, уже проданы. Тем вечером вереница красивых экипажей заполонила не только улицу, на которой находился театр, но и соседние… В зале собралось сумасшедшее количество народу, самая изысканная публика, суматоха. Ложи располагались прямо на сцене, а в них — цвет испанской аристократии. Ничего себе «театр в упадке»!
Во время всех выступлений повторялось одно и то же: все места были заранее раскуплены, великолепная публика и неописуемый успех. Господин Санчес, директор, пребывал в безумном восторге, я принесла театру популярность, а кроме этого, огромную прибыль. Агент театра Sintra в Лиссабоне предложил мне ангажемент на пятнадцать выступлений, и господин Санчес уже предложил мне подписать новый контракт на выступление в Zarzuela по возвращении из Лиссабона.
Аристократичные зрители, сидевшие в ложах на сцене, демонстративно и громко делились соображениями о происходившем. Каждый вечер в этих ложах я видела молодого человека, его теплый взгляд все время следил за мною, и он постоянно выкрикивал какие-то лестные слова в мой адрес. После пятого выступления этот верный поклонник подошел ко мне в антракте и представился: «Маркиз Луис де П.», — и продолжил: «Я занимаюсь скульптурой и был бы невероятно счастлив и горд, если бы вы согласились позировать мне!» Если его взгляд и был излишне страстным, то манеры были идеальными. Этот юноша меня заинтриговал, и я согласилась на предложенное рандеву.
Он владел особняком с огромным садом, и мастерская находилась как раз там. Но чаще всего он работал у своего учителя, Мариано Бенлиуре[195], знаменитого на тот момент испанского скульптора, автора памятника Гаяру[196] и статуи популярного романиста Труэба[197]. Именно в его мастерской я и позировала, находясь между учеником и учителем, оба лепили с меня бюст, каждый со своей стороны. Должна сказать, что в произведении Бенлиуре было больше живости и артистичности, чем у его ученика, что, впрочем, совершенно понятно.
Высокий, худощавый, c величественной осанкой, Луис де П. был очень приятен на вид. При этом, в отличие от Шарля, он не обладал лицом Адониса: у него были матовая кожа, фактурные черты лица, глаза орехового цвета, оттененные каштановыми волосами, густыми и мягкими. Красивые руки, изысканная речь и изящные жесты… Он всегда обращался ко мне очень осторожно и точно подбирая слова, употребляя эпитеты и сравнения в высшей степени изощренные и деликатные. Идальго, да еще и поэт… и художник. П. рисовал карандашом и маслом, занимался скульптурой, а еще он был очень музыкален. Он прекрасно пел испанские и кубинские песни и исполнял на фортепьяно музыку Гранадоса[198], Альбениса[199] и де Фалья[200], сохраняя всю ее оригинальность. Многие люди, услышав, как он играет, говорили, что никто лучше него не понимал стиль этих композиторов.
Во время сеансов, под предлогом того, что ему надо получше изучить позу, он постоянно подходил ко мне вплотную, брал мое лицо в руки и поворачивал то в одну, то в другую сторону, в это время шептал мне всякие нежности, восхищенно ахал и что-то восторженно вздыхал по-испански и пожирал меня глазами. Я достаточно уже слышала, как говорят на этом языке, чтобы все понимать: «Ах, как она прекрасна! Как изящна!.. Какие восхитительные черты!.. Утонченный овал… Ангельский лоб… Как же она красива!.. Самая красивая из всех!..»

Клео де Мерод, 1906
Вечером я отправилась спать, мечтая о его нежных руках и страстных словах и не понимая, что со мною происходит. Я не могла точно определить, что за тайное чувство мной владело. Конечно, П. мне нравился, но была ли это любовь? Я ничего не могла ответить, но чувствовала, что стою на пороге манящего мира, чьи ароматы и соблазнительные голоса увлекали меня за собой и вызывали головокружение. Не думаю, что я переживала когда-нибудь такие незабываемые часы, как те, когда Луис повел меня в Прадо. Он знал этот музей как свои пять пальцев, знал все картины и их истории, и было незабываемым удовольствием слушать его рассуждения о красоте каждого из полотен и рассказы о жизни Веласкеса, Гойи и Эль Греко.
Вечером, провожая меня в гостиницу, которая находилась недалеко от музея, Луис рассказал, что работает в испанском посольстве в Париже и живет на улице Serisol. Ему никогда не доводилось видеть моих выступлений в Париже, и мое появление на сцене театра Zarzuela привело его в состояние шока. «Меня словно ударило молнией дважды: поразила и балерина, и женщина. Я сразу почувствовал, что моя жизнь больше не принадлежит мне, она — ваша».
Что я могла ответить на эти пылкие речи, если сама была не уверена в том, что чувствую? И чем больше была моя неуверенность, тем сильнее Луис распалялся. Я была очень взволнована и тронута, но колебалась, ни на что не решаясь… В таком состоянии духа я и уехала в Лиссабон. В первый же вечер со сцены я сразу заметила П., сидевшего в первом ряду… Он не смог ждать меня в Мадриде!.. Ему необходимо было сорваться за мною в Лиссабон! Все внезапно прояснилось. Сердце мое раскрылось, словно под теплыми солнечными лучами. И Лиссабон стал свидетелем безграничного счастья двух молодых, полностью погруженных друг в друга любовников.
Португальская столица произвела на меня схожее с Мадридом впечатление. По вечерам, когда я выходила из гостиницы, студенты, ожидавшие меня, бросали шапки мне под ноги на всем пути до театра. Королева Амелия и герцог де Порту, брат короля, пришли посмотреть, как я танцую. Однажды я столкнулась с ними на улице, они были в открытой коляске, королева меня очаровательно поприветствовала.
Но артистический успех отошел на второй план. Меня захватила любовь, наполнив вытеснявшей все остальное радостью. Я жила новой жизнью. Сомнения, неуверенность, грусть, горькие сожаления — все улетучилось. Как я могла думать, что любви для меня больше не существует и что, имея меньше тридцати лет от роду, я удовлетворюсь в жизни лишь светом рампы и звуками аплодисментов?! Полнейшая иллюзия. Я очень хорошо теперь видела, что моему сердцу необходимо было тепло и нежность, чтобы не увянуть окончательно. Пришлось признать, что молодая женщина не может отказаться от любви, если только она не становится монахиней, но это был не мой путь, несмотря на глубокую веру.
Я рассказала Луису всю свою жизнь: о годах обучения, успехах, радостях и испытаниях. Он умел глубоко сопереживать, мои рассказы очень его тронули: «Ну вот, все беды теперь позади. Я послан тебе, чтобы навсегда прогнать темные времена и защищать тебя».
* * *
Семейство П. владело в Эстремадуре поместьем под названием Эстена — огромное владение, раскинувшееся на три региона: Бадахоз, Риофрио и Эррера дель Дюке. Там были зеленые рощи, цветники, которые пересекала красивая река, и совсем дикие места, с кустистыми деревьями и красноватыми скалами, окруженными густым кустарником, где бегали ящерицы необыкновенных размеров, как маленькие крокодилы. В тихих лесах Эстены вы оказывались в совершенном раю. Целое войско охранников несло стражу в этих владениях, куда входило несколько ферм и ранчо с быками. Луис, чтобы жить там, построил для себя жилище, которое называл «замок», но вообще-то это был обыкновенный дом без особых претензий, но хорошо обставленный и со всеми удобствами. Луис любил Эстену и с особой радостью отвез меня туда весной.
Он хотел придать нашей поездке некоторую таинственность: я должна была представляться его кузиной. Коляска неслась со страшной скоростью и на въезде в какую-то деревню сломалась. Не было никакой возможности ее починить, и мы вынуждены были заночевать в этом уголке, где даже не существовало гостиницы, и нам пришлось просить ночлега у местного жителя… но кузену и кузине предоставили комнаты, весьма удаленные друг от друга. На следующий день Луис оставил коляску на попечение своего камердинера, а мы наняли повозку, запряженную мулами. Но через несколько километров послышался скрежет — сломалась ось! Луис побежал в ближайшую деревушку, схватил там какого-то крестьянина и оставил ему повозку, а мы пешком отправились до перекрестка, где ждали сменные лошади. Караулившие их слуги уже почти все спали, перед этим проведя несколько часов в страшном беспокойстве за хозяина. Для путешествия инкогнито это было приключение что надо! Такое богатое событиями путешествие мы потом долго вспоминали!
В Эстене мы вставали с рассветом, потом ездили верхом до десяти часов, а вернувшись домой, ожидали вечера в тени прохладного дома, потому что жара в это время стояла такая невыносимая, что раньше выходить было просто невозможно. Зато в сумерки на улице было восхитительно: поднимался легкий свежий бриз, слышно было трепетание листьев, а закаты поражали необыкновенной красотой. Мы провели тот апрель в объятиях друг друга в секретном месте, которое мне казалось самым краем света, в окружении необычной природы и величественных видов. Это время — одно из самых дорогих мне воспоминаний.
Но вернемся к 1905 году. Я вернулась в Мадрид, чтобы дать пятнадцать представлений, обещанных театру Zarzuela. Они прошли, к величайшему удовольствию господина Санчеса, превосходно. Однажды я прогуливалась с Луисом и увидела, как из Королевского дворца выходят Альфонсо XIII и его мать, королева Мария Кристина. Они узнали меня и улыбнулись в знак приветствия. Из группы их приближенных отошел высокий человек и подошел ко мне поздороваться. Это был принц Рупрехт Баварский. Я познакомилась с ним в Мюнхене, он много раз бывал на моих выступлениях, и мы были в приятельских отношениях, поскольку он был окулистом и лечил моего дядю Фердинанда.
Луис совсем уже не отходил от меня в конце моего испанского путешествия, и путь назад мы тоже проделали вместе. Он умолял меня не соглашаться ни на какие предложения летом, потому то мечтал провести его наедине со мною, но я уже подписала договор, по которому отправлялась в конце августа в Москву.
У нас оставалось почти два свободных месяца, и Луис превратил их в сказку. Он арендовал замок Сарлабо недалеко от Див-сюр-Мер, его лучшим украшением была самая романтичная медовая луна, освещавшая стены замка над морем, окруженного прекрасным парком, где росли невиданной величины старые деревья, благоухали прекрасные цветочные клумбы, а прелестные беседки укрывали в своей тени двух влюбленных…
В Сарлабо работал очень деликатный персонал: у меня — семья слуг, которыми управляла Брио; у Луиса — его личный шофер и камердинер Рауль, юноша необыкновенно преданный и привязанный к своему хозяину.
Брио отреагировала на зарождении нашей страсти с некоторым удивлением. Она, всегда придерживавшаяся широких взглядов, оказалась изумленной и немного шокированной, словно произошло крушение идола, которому она поклонялась… Бедняжка Брио! Она, верно, считала меня слишком одухотворенной? Подруга ничего не говорила, но однажды в Мадриде, когда Луис вышел из моей гримерной, обняв на прощание, она посмотрела на меня с таким выражением, что я прямо сказала ей, глядя в глаза: «Ну, что ж, да, Брио, я люблю его, и это счастье! Вы считаете, что я совершаю ошибку?» Я сказала это так вдохновенно, что ее нахмуренное лицо осветилось доброй улыбкой: «Нет, дорогое дитя, вы правы! И пусть это счастье длится как можно дольше!»
В Сарлабо мы вели царскую жизнь! В машине Луиса мы ездили на долгие прогулки по побережью. Дивное лето, наполненное зноем и светом… Вечером, после обеда, мы пропадали в парке. Луис вел меня к усыпанному песком выходу из ротонды, усаживал на скамейку, и мы любовались, как море переливалось в лунном свете. Он вставал на колено и принимался воздавать мне хвалы, словно богине. Чего только он не говорил мне этими светлыми вечерами! Красноречивый, словно переполненный чувствами Сирано, Луис рассказывал о своей страсти, поэтические выражения лились потоком, убаюкивая и унося далеко, далеко… Часы бежали незаметно. Мы возвращались в замок очень поздно, и Брио говорила мне: «Я уже начала волноваться. Что же такого он мог вам рассказывать столько времени?»
* * *
Месяц я танцевала «Танагру» в саду Эрмитаж в Москве вместе с Полем Франком и Эдуардом Мате за дирижерским пультом. Москва была полна сюрпризов. Она была не похожа ни на что, до сих пор виденное мною, этот город напоминал таинственную восточную легенду: на соборах в солнечных лучах сверкали гроздья золотых или раскрашенных во все цвета радуги куполов, похожих на луковицы… Внутри эти храмы были украшены наивными образами и статуями, богатой позолотой и красными светильниками — и все это вместе выглядело невероятно торжественно.
В Париже меня ждала неожиданность — письмо от Альберта Карре[201] с предложением выступить в Opéra Comique, в балете Франсиса Томе «Эндимион и Феба»[202]. Еще я узнала, что мой дом сносят из-за строительства банка на этом месте. Последняя новость меня особенно не взволновала. Уже нужно было, после всех перипетий, найти себе другое жилье. Куда бы податься? Подумав, я вспомнила про улицу Messine, по которой я когда-то ходила в школу на улицу Monceau, мне там нравился двойной ряд деревьев. Я походила по обеим сторонам улицы, ничего не нашла и, поднимаясь все выше в гору, вышла на улицу Tehran, где мне на глаза попался строившийся дом, еще не жилой — не было еще даже лестничной клетки, но его расположение мне очень понравилось. Поблизости были только работавшие там каменщики: «К кому мне обратиться, чтобы узнать об аренде?» Меня послали к архитектору, носившему вергилиевское имя Бокаж[203], который без всяких затруднений сдал мне весь пятый этаж нового дома… по очень средней цене, за какую сейчас можно месяц жить в гостиничном номере. О, счастливые времена!
Луис был очарован и кварталом, и домом. Он был построен из красивых каменных блоков, очень белых, воздух Парижа еще не сделал их тусклыми и серыми. Тяжелая кованая решетка при входе в стиле строгого art nouveau придавала дому солидности. В моей квартире было много разных комнат, большие балконы, мастерская и даже центральное отопление!
Мы обставляли эту квартиру с упоением молодоженов. Но не могу сказать, что я покидала улицу Капуцинок с радостью и легким сердцем, меня связывало слишком многое с этим местом. Возможно, если бы не неожиданный форс-мажор, я никогда бы не переехала. Мне было жаль покидать этот квартал, бурлившую на его улицах жизнь, его изменчивость, вечное движение и цветочный рынок около Madeleine, где я часто покупала пармские фиалки. Сколько раз проходила я мимо этой церкви, возвращаясь из Оперы, с огромным букетом этих благоухавших лиловых цветов для мамы. Но жизнь — это череда расставаний, не стоит оглядываться назад, когда стоишь на освещенном солнцем пороге перед открытой дверью.
Это была квартира со свежеокрашенными белыми стенами, с высокими потолками и широкими дверями на балконы, куда прилетали ворковать голуби; комната из клена — сейчас она показалась бы мне старомодной, но тогда обстановка была по последнему писку моды; вестибюль в виде ротонды, со старинными креслами; огромная столовая с низким буфетом и большим столом, чтобы принимать много гостей; везде растения и цветы, много света и воздуха; и внутри этого пространства — любовь, искренняя и горячая. Такова была картина моего счастья, все еще не верившего в свое существование.
В мастерской Луис разместил все свои художественные принадлежности для живописи и скульптуры, а для музыкальных радостей — фортепьяно Pleyel. До этого у меня не было другого пианино, кроме того, что было у матери, с прекрасным звуком, которое было дорого мне до последней досочки. Из одной большой комнаты с балконом Луис сделал бильярдную. Он очень любил эту игру и часто приглашал играть своих друзей из посольства. Моя квартира стала настоящим филиалом посольства Испании. Каждый день Луис приводил коллег на обед, это были веселые застолья молодых дипломатов. Верный Рауль прислуживал нам, превратившись в умелого метрдотеля. После кофе эти господа удалялись играть в бильярд, а я спешила на примерки или репетиции.
Луис, страстный любовник, был не менее страстным верующим и умел как-то совмещать эти две страсти. Он был очень нежен, окружал меня заботой и заполнял мою жизнь очарованием и радостями. Мы почти во всем придерживались одних взглядов. Если бы я хотела выйти замуж, он бы женился, но я и так была очень счастлива!.. Луис обожал смотреть, как я танцую, но, впрочем, не переживал бы, если бы я бросила сцену. Поскольку ситуация уже была таковой, никаких жертв он от меня не требовал, но и расставаться со мною не любил. Если он мог, то сопровождал меня в турне. Когда обстоятельства требовали его присутствия в Париже или в Испании в мое отсутствие там, тяжело это переживал: он подозрительно относился к славословиям в мою честь, если не был рядом. Однажды ему на глаза попалось письмо из Вены от какого-то неизвестного поклонника, которое я забросила вместе с другими бумагами в угол чемодана. Он безумствовал, хотел обязательно знать, ответила ли я. Он так сильно переживал, что у него на глаза навернулись слезы. Я успокаивала его и утешала, слегка даже посмеиваясь над его тревогой: «Да я даже не знаю этого юнца и никогда его не видела». В конце концов Луис стал смеяться вместе со мною, и инцидент закончился поцелуями.
На следующий день я рассказала об этом Раулю, который не мог поверить, что его хозяин, такой «большой сеньор», плакал, и упрямо твердил: «Он плакал?! Он, маркиз де П.?! Это невозможно! Ни в коем случае!»
* * *
Хореографией «Эндимиона» полностью занималась Марикита, и это стало одним из ее самых прекрасных творений. Именно Мариките приписывают отказ от пачек: в балетах, которые она ставила, танцоры носили костюмы в греческом стиле, балерины — хитоны, а я для роли Фебы попросила у Ландольфа скопировать тунику на скульптуре «Диана и лань». Он сделал ее белой, с чуть заметным розовым оттенком, за спиной был колчан, полумесяц на лбу, а в руке я держала лук. Эндимион был одет в такую же легкую тунику, как у меня. Его роль исполняла Регина Баде. У этой молодой танцовщицы, вчерашней ученицы балетной школы, очень быстро прославившейся, было одухотворенное лицо, очаровательная улыбка, обнажавшая белоснежные зубы, и большие, излучавшие свет глаза, а черные кудри идеально подходили к образу греческого пастушка. Ее фигура восхищала точеными изящными линиями, силой, гибкостью и выразительностью движений. Это была идеальная партнерша, она поднимала меня, как перышко, и в ее руках я чувствовала себя совершенно эластичной. Мы производили очень приятное впечатление, и критика была самая лестная. Публика выказывала явное одобрение, балет шел в репертуаре с комическими операми всю осень и часть зимы и пользовался успехом. Так продолжалось до моего отъезда в Санкт-Петербург по договору, заключенному через Маринелли с госпожой Рассохиной[204], директрисой русского театрального агентства.

Клео де Мерод в сценическом костюме, 1906
Я выступала там в двух театрах, в Большом и театре Мишель. Не перед царской ложей, но перед великими князьями. Фраки, военная форма, великолепные туалеты, еще более роскошные украшения. Русские оказались довольно красивыми: аккуратные черты лица, иногда тяжеловатые, глаза цвета бирюзы или берилла, немного загадочные. Почти все мужчины носили бороды и усы, и если они были блондинами, то это смягчало черты. Залы были всегда полными, а аплодисменты — ошеломляющими: известно, что русские — страстные любители музыки и балета, обладают артистической натурой и всегда превозносят артистов. Тут же стало приходить много писем от высокопоставленных семейств с приглашениями посетить приемы и балы в их дворцах.

Клео де Мерод в меховом манто, 1906
Но высший свет, о котором я не имела ни малейшего представления, пугал меня, поэтому почти никуда не выходила из отеля, кроме театра и нескольких прогулок, оставаясь в своем укрытии, словно дикий зверь в норе. Тем более что холод и совершенно незнакомый антураж этому способствовали.
Ни один из виденных мною доселе городов, даже из самых непохожих на французские, не производил на меня такого впечатления, как Москва и Санкт-Петербург. В Берлине, Лондоне, Амстердаме, даже в Стокгольме находилось что-то напоминавшее Париж, ты чувствовал себя в похожей стране, в любом случае в Европе. Эти огромные русские метрополии совершенно лишали вас ориентиров.
Казалось, по крайней мере мне, что это другая планета, особенно Петербург, так далеко на севере, где зима особенно жестока!.. Нева начинала замерзать. Холод уже был такой, что я не могла спокойно осмотреть эту красивую столицу, чьи пропорции, величина и строгость прямых проспектов пугали больше, чем московские улицы. Сотни зеленых или золотых куполов и шпилей, соборов и церквей возвышались над городом, сверкая при любом, даже слабом лучике солнца. Из-за толстого слоя снега улицы были пустынны и тихи, они вообще выглядели довольно грустно из-за отсутствия витрин, магазины находились или внизу, в полуподвальных помещениях, или на этажах, так что об ассортименте можно было лишь догадываться. Массивные здания, громадный Зимний дворец, перспектива Невского проспекта, как бесконечная линия с торжественными статуями; красный Исаакиевский собор с сотней колонн, сделанных из цельного куска мрамора; а недалеко от него — удивительное произведение — памятник Петру Великому, летящий медный всадник на массивном куске гранита. Снег в Петербурге был совсем не такой, как в Париже, на вас падали снежинки величиной с яйцо, часто-часто. Можно было ездить только на тройках, санях с тремя лошадьми, увешанных звеневшими в тишине колокольчиками. Несмотря на манто, шапку и муфту, холод пробирал меня до костей. Возвращаясь в хорошо протопленный отель, я чувствовала, что рождаюсь заново.
За несколько дней до моего отъезда дворяне и офицеры из аристократических семей, которые до этого тщетно приглашали меня к себе на приемы, обратились с просьбой: желая, чтобы у меня остались незабываемые впечатления о России, они собирались устроить в мою честь большой прием в самом знаменитом ресторане Петербурга «Куба». Это предложение было исполнено такого дружелюбия, что я посчитала дурным тоном отказать. Все проходило в огромном зале, роскошно убранном и уставленном цветами. Было приглашено человек двести, в том числе великие танцовщицы Императорского театра, во главе с ярчайшей русской звездой — Матильдой Кшесинской.
Во время великолепного обеда в «Кубе» танцевальный ансамбль, состоявший из мужчин и женщин в народных костюмах, показывал фольклорные танцы, и даже был приглашен небольшой хор, который пел старинные народные песни. Невозможно вообразить, что это было за зрелище: энергичные, нервные, темпераментные танцовщики прыгали в расшитых ярких костюмах, казалось сотканных из цветов! Цокали каблуки, светловолосые косы и красные юбки колыхались в такт веселой или ностальгической мелодии, исполняемой прекрасными глубокими голосами. Я была бесконечно благодарна своим гостеприимным хозяевам за такой удивительный пир для глаз и слуха! Это искусство было для меня неизвестным и невиданным, похожую красоту привезут потом в Париж дягилевские «Русские сезоны».
Из Петербурга я поехала в Будапешт, где танцевала в Orfeum; затем Вена, там меня как всегда великолепно встречал Apollo — прекрасное общество, включая эрцгерцогов… По обыкновению, я остановилась в Bristol и каждый день виделась с отцом.
Бесконечный круг продолжал вращаться: Берлин, где публика в Wintergarten, казалось, видела меня каждый раз как в первый, судя по возгласам и рукоплесканиям; Мюнхен, Гамбург, Базель, Женева, наконец, Брюссель. Меня нагнало письмо от преданного Марино: «Я слышал, что вы исполняете новую серию танцев. Надеюсь, что вскоре вы приедете показать их у меня. Сделайте мне такое одолжение! Я был бы очень счастлив!» Он прилагал контракт на… 1909 год, уточнив: «Мадемуазель де Мерод будет встречена как величайшая звезда и также анонсирована на афишах. Ей будет предоставлена отапливаемая гримерная с коврами и хрусталем». Превосходный человек!
Я вернулась домой к Рождеству, и почти сразу же пришло письмо из Арагона, от одного из импресарио: «Мадемуазель, меня спрашивают из Берлина, не согласитесь ли Вы дать эксклюзивное выступление перед императорской семьей и двором. Дата — 4 января 1908 года. Цена — 1000 марок за концерт. Я был бы крайне признателен, если бы Вы ответили мне в ближайшее время».
Совершенно ошарашенная, я показала письмо Луису: «Нужно ли соглашаться?» Не даст ли это пищу каким-нибудь сплетням? Луис считал, что в этом предложении нет ничего необыкновенного. «Ты бесчисленное количество раз выступала с необыкновенным успехом в Wintergarten, Вильгельм тоже желает на тебя посмотреть, это даже лестно, и тебе самой будет любопытно. Я советую поехать». Я только что подписала договор со Стокгольмом, и мне было легко по пути заехать в Берлин. Признаюсь, оказавшись в роскошном зале императорского дворца, на сцене с красным бархатным занавесом, я почувствовала ужасный страх. Передо мною, в первом ряду сидел Вильгельм II с усами под прямым углом, рядом — императрица, красивая женщина с пышными формами, кронпринц и трое остальных детей, а за ними весь двор: многочисленные дамы и офицеры, все в галунах и нашивках. Руки у меня оледенели, мне казалось, что я не смогу пошевелиться. Я начала танцевать, ни о чем больше не думала и ничего не видела. Мне аккомпанировал превосходный пианист, с кем я репетировала накануне. По сигналу кайзера раздались довольно громкие аплодисменты. После последнего танца раззолоченный камергер принес мне множество букетов, к каждому была приложена карточка: от кайзера и императрицы, от кронпринца и принцессы Сесилии. Никто из этих высокопоставленных зрителей не подошел ко мне лично. Возможно, этого не позволяло положение. Датские принцы и шведский король были не столь чопорны, но зато в импровизированную гримерную мне принесли шампанского.
В начале 1908 года я была Стокгольме, выступала в театре Variété, и снова встретилась с прекрасной Анной Уддгрен и благоволением скандинавской публики. Затем мой друг Ике Роуз устроил мне ангажемент в Кенигсберге, Варшаве и Кракове.
* * *
Уф! Я вернулась в Париж и пыталась уделить немного времени П., который все время жаловался, что я совсем перестала для него позировать. Он обожал проводить время за ваянием моих статуй, но у меня редко находилось столько свободного времени, чтобы я могла неподвижно стоять в мастерской. Луис уже сделал с меня множество бюстов, два в мраморе и один в бронзе, который выставил в Салоне. Теперь он хотел сделать эскизные восковые статуэтки, изображавшие меня в балетах «Танагра» и «Феба». Когда фигурки были готовы, он принялся за статую в полный рост, которую намеревался установить у могилы моей матери. Луис не притворялся художником, совершавшим революцию в искусстве. Он создавал красоту и в этом преуспел. В его произведениях было мечтательное изящество, и первым же взмахом кисти он находил верный внутренний ритм своих бюстов или портретов, легкий и естественный. Но, отдавая себя множеству занятий, он не мог полностью сосредоточиться на скульптуре, этом очень требовательном искусстве. Если бы П. работал больше, то, я уверена, сотворил бы прекрасные произведения.
Голова будущей статуи уже была почти готова, но все остальное даже не начато, а мне уже надо было садиться на поезд. Меня ждали в Alhambra, в Брюсселе, где я вновь получила ангажемент; затем снова Берлин, а в марте 1909 года я в первый раз танцевала во Франкфурте. Во время моего выступления у берегов Бретани случилась ужасная буря, в которой погибло множество рыбаков. Эта новость меня ужаснула, и я решила устроить утренний благотворительный концерт в пользу их семей. Меня с самой живой симпатией поддержал директор театра. Концерт, объявленный по всему Франкфурту на огромных плакатах, прошел с большим успехом, и я отправила выручку вдовам бретонских рыбаков. Макс Шулер, очень известный франкфуртский художник, пришел на этот концерт и захотел нарисовать мой портрет. Приветствия, просьба… Я немного колебалась: что скажет Луис? Я побывала в мастерской Шулера и увидела там такие прелестные рисунки, что согласилась позировать. Художник сделал карандашный набросок моего профиля на коричневом фоне, легкими, почти прозрачными линиями. Шулер остался им так доволен, что хотел сохранить на память и попросил поставить на нем автограф. Потом, видя, как мне самой нравится этот рисунок, он сделал благородный жест и подарил его мне, потому у меня есть портрет с двойной подписью — модели и художника.
По возвращении домой я поставила портрет на декоративный мольберт. П. объявил, что абсолютно очарован рисунком, и обрушил на меня лавину вопросов о Шулере. Я уверила его, что художник некрасив и стар, что почти соответствовало действительности, и Луис успокоился.
Однажды карандашный портрет Шулера покинул свой мольберт, чтобы предстать перед всем Парижем на выставке в галерее Hessel, на улице Balzac. Это была выставка театральных портретов в честь пожилых актеров. Меня попросили участвовать, и я послала франкфуртский портрет, который считала лучшим из всех. Его оценили по достоинству. Многие актрисы Парижа представили один или несколько своих портретов. Среди самых замечательных я отметила портреты Сюзан Депре работы Вюйяра, Сары Бернар — Каррьера и Рейан — Больдини. После этой выставки в мае 1914 года, когда собрались все любители театра, мой профиль вновь занял свое место на мольберте, откуда уже никуда больше не уезжал.
Я покинула Франкфурт и отправилась в Италию, где должна была дать пятнадцать концертов в Риме и один в Неаполе, все уже было закреплено контрактом. Думаю, именно в это время Марино-младший вдруг решил просить моей руки. Я испытала лишь легкое недоумение: этот восторженный мальчик постоянно закатывал глаза и вздыхал, как кузнечные меха, когда меня видел. Что я могла ему сказать, кроме того что несвободна и живу как в браке с мужчиной, которого люблю? «Кроме того, — уверила я его, — из меня получилась бы очень плохая директриса вашего Salone Margherita, потому что я все время то тут, то там». Шутя и дурачась, я поставила ему голову на место, и он оставил меня в покое.
* * *
Я вернулась в Париж… и обнаружила, что превратилась в актрису! Уникальное приключение! В апреле Мишель Карре попросил меня сыграть в оперетте, к которой написал текст, а Жорж Менье — музыку. Сюжет ее был не особенно нравственным и совершенно не оригинальным. Это была история звезды балета, теперь преподавательницы, чьих уроков все добиваются. Под предлогом уроков она устраивает свидания своей юной ученицы с отважным воздыхателем, который изображает танцовщика, и все это прямо под носом мужа молодой дамы. Во время хореографических упражнений влюбленные вовсю целуются под хитрым взглядом своей сообщницы-учительницы по имени Вирджиния. В этом водевиле с куплетами было много танцевальных номеров для меня, но еще роль предполагала и разговоры в большом количестве. Сначала я сказала: «Нет, я никогда не играла в комедиях. Я не смогу», но Карре настаивал, убеждая, что у меня все великолепно получится и что вообще никто, кроме меня, не сможет сыграть Вирджинию, много других комплиментов, и я сдалась. Я выучила роль и репетировала одна, без всякой помощи режиссера. Они меня оставили вариться в собственном соку. Théâtre Michel, где я старалась овладеть ролью, был небольшой, и передо мною сразу находились зрительские ряды. Когда поднимали занавес, я стояла на сцене одна. Во время генеральной репетиции мной овладел несказанный страх. Тем не менее все прошло хорошо, если верить прессе: писали, что «идея выбрать Клео де Мерод для роли в Théâtre Michel — просто гениальна» и что я была «восхитительна в „Первом шаге“, где показала себя такой же великолепной актрисой, как и танцовщицей», и так далее. Генеральная прошла с триумфом. Перед опереттой показывали несколько маленьких пьесок, среди которых были «Оптический эффект» Ромена Колюса в исполнении Ле Галло и Гарри Бора[205] и драматическая пантомима с Кристин Керф и Жоржем Вагом[206].
Жорж Менье был сыном владельца шоколадных фабрик Гастона Менье. Сочинение музыки было его маленьким грешком, развлечением большого сеньора… но талант у него был. Музыка балета «Первый шаг» была написана живо, с фантазией и увлекала ритмом и мелодиями. Жорж Менье написал и другие произведения в том же живом и пикантном жанре. Его балет «Пируэт», либретто к которому написала Марикита, оказался его последним творением, а милая «Кита» создала множество балетов и стала членом «Общества авторов».
Жорж Менье приходил на репетиции с женой и тремя детьми, и они от всей души развлекались. Мадам Менье, «прекрасная мадам Менье», роскошная блондинка, похожая на богиню, была всегда одета с необыкновенной элегантностью: она одевалась у Калло. Они жили в величественном особняке, и их сад соприкасался с парком Monceau, где они устраивали большие приемы. Я часто бывала у них, поскольку долгое время поддерживала дружеские отношения с этой милой парой. С момента постановки «Первого шага» они выказывали мне всяческое расположение и благодарность. В память о роли Вирджинии Жорж Менье подарил мне изумительное украшение.
Директор театра Michel, Мишель Мортье, старый парижанин, очень уважаемый в театральных кругах, показал себя как прекрасный ведущий вечеров и… новатор: начиная с 1909 года он установил в своем зале «кондиционирование». У него был племянник, Пьер Мортье, выбравший карьеру журналиста, который под предлогом того, что навещает дядю, постоянно сидел в театре во время наших репетиций. Невысокий молодой человек со светлыми рыжеватыми волосами, улыбчивый, бойкий, немного шепелявивший… Он втерся в доверие к Брио, чтобы сблизиться со мною. Добившись этого, Пьер выказывал мне невероятную преданность, граничившую с поклонением. Он приглашал нас в роскошную кондитерскую Chaussée-d’Antin. Мортье был остроумен, и его речи веселили меня. Я соглашалась на кондитерскую, пока его внимание не стало принимать более пристальный характер, что совсем меня не устраивало, так что пришлось отказаться от эклеров и ромовых баб, которыми потчевал этот говорун.
* * *
Для спектакля легкого жанра балет «Первый шаг» довольно долго не сходил со сцены, и его «карьера» закончилась как раз в такое время, что позволяло мне насладиться ослепительным сезоном в Париже. Никогда еще художественная и артистическая жизнь не была такой многообразной и насыщенной! Никогда еще балет не вызывал такого интереса, как в то время — 1909 год ознаменовался появлением Айседоры Дункан и «Русских сезонов».
Ничего не может быть настолько оригинальным, как выступления американской танцовщицы и балеты Дягилева. Оба эти явления одинаково будоражили публику, открыв новую страницу в истории танца и произведя глубочайшее потрясение в душах артистов. Айседора хотела возродить в танце античное величие. Можно себе представить, как увлекали ее представления меня, станцевавшую столько ролей по мотивам древнегреческих танцев! Марикита, когда ставила для «Эндимиона» парные танцы с Региной Баде, желая добиться античной чистоты линий, ходила в Лувр в греческий зал и часами изучала статуи и этрусские росписи. Пример Айседоры породил множество школ танца нового типа, где ученицы были одеты в греческие туники. А уж балерин, которые в своих выступлениях пытались ее имитировать, не перечесть! Это увлечение длилось многие годы.
«Русские сезоны» — головокружительное исступление, безумство света, красок и движений в сопровождении жгучей музыки Бородина, Римского-Корсакова и Стравинского. Когда занавес поднимался над сценой в Châtelet, зрители попадали в невиданный мир. Говорили, что ковры-самолеты из сказок «Тысячи и одной ночи» прилетели в Париж и привезли нам все чудеса Азии из садов Семирамиды и свиты царицы Савской, все великолепие византийских дворцов…
* * *
В то лето Луис познакомил меня с очарованием юго-запада. Страна Басков меня пленила, и я возвращалась туда каждое лето, вплоть до начала войны. Мы жили там в Гетари, Андае или в Сен-Жан-де-Люз. Луис часто уезжал в Испанию по делам, пока его не было, мы с Брио ездили по всем этим замечательным баскским деревенькам, таким самобытным. Мы смотрели, как там танцуют фанданго[207], видели, как молодые крепкие парни ловко играют в пелоту[208]. Женщины были восхитительными, очень бойкие и разбитные. С корзинами с рыбой на головах, уперев руки в бока, они вели себя как королевы, дерзко расхаживая в легких юбочках и корсетах, плотно облегавших их крепкие тела с соблазнительными изгибами.
В 1910 году возобновилась прежняя круговерть. Контракты на конец года привели меня в Магдебург, Будапешт, Прагу и Лейпциг. Я танцевала в Граце, Вене, Дюссельдорфе, Киле, Бремене и месяц провела в Wintergarten, где меня всегда встречали с радостью. Весной снова была Варшава, где я танцевала в театре с любопытным названием Akwarium, но роль у меня не Нереиды. Потом Остенде и Лондон. В гостинице Queens Hotel меня настигло жалостливое письмо от Марино. Он писал, что я очень давно не приезжала, и хотел обсудить со мною дела. Бедный молодой человек, не хотелось бы его обижать, но он, видно, совсем лишился памяти? Неужели он забыл, что в предыдущем году я танцевала в Риме и Неаполе? Но я с удовольствием подписала присланный им договор на 1911 год.
Новый год начался в лондонском Empire Casino. Я любила танцевать в Лондоне, где меня всегда принимали с изысканной любезностью, довольно забавной. Английская пресса всегда вела себя очень возвышенно-галантно. Когда я приезжала в Лондон, ко мне сразу спешили репортеры, которые флегматично задавали вычурные заумные вопросы и публиковали интервью, полные мягкого юмора и чуть ироничного восхищения. Если в Вене меня называли «избалованным ребенком», в Гамбурге — «самой любимой танцовщицей», то лондонские газеты окрестили меня «сенсацией двух континентов» и «леди c томным взглядом». В тот раз газета Star отправила ко мне своего эмиссара на вокзал Виктория, и на следующий день я обнаружила в этой большой газете очень забавную статью. Репортер описал мой туалет как «само великолепие». На мне была шляпа «высокая, как гора, украшенная черными струящимися перьями». Это было весьма непрактично в путешествии по железной дороге! Далее Star назвала Брио «тетушкой» и уверяла читателей, что она обращается со мной как «с хрупким китайским фарфором».

Клео де Мерод в элегантной шляпе, 1910
Потом снова была Италия, а это всегда счастье, потом Верьвье, Нюрнберг, прекрасный город Дюрера, с улочками по сто поворотов, готическими соборами и поэтическими средневековыми зданиями, глядя на которые вспоминаешь «Нюрнбергских мейстензингеров»[209]. Потом Ганновер, снова Лондон, Вена, где я встретилась с отцом… в последний раз. В декабре я была в Будапеште, а в конце месяца в Амстердаме. Там меня ждал жестокий удар: я получила телеграмму, в которой сообщалось о преждевременной смерти отца в пятьдесят пять лет. Во время похода в горы он простудился, и через некоторое время у него развилась двусторонняя пневмония. Ужас. Невыносимая грусть. И нельзя остановиться, чтобы собраться с мыслями. Без промедления нужно отправляться в Будапешт, чему меня обязывает контракт, а в 1912 году начинался новый цикл ангажементов.
Я колесила по всей Европе от Турина до Кракова, выписывая сложные кренделя, чтобы попасть и в Берлин, и в Лейпциг, и в Вервье, и в Брюссель. Закончила я год в театре Victoria, Дрезден.
* * *
1913 год я встретила в Гамбурге. В театре Hansa сменилось руководство, и новые директора, чтобы ознаменовать начало своей работы, хотели придать моему сезону особый блеск. Они издали прелестный буклет с отрывками из самых лестных статей обо мне и с моим самым удачным фото на обложке. Этот буклет распространяли по всему городу, а самая большая газета Hamburger Nachrichten по этому поводу посвятила мне огромную статью на две страницы. Нет уже смысла повторять, что билеты распродались мгновенно и театр работал почти всегда с закрытой кассой.
Последующие выступления меня тоже не разочаровали, большой успех в Брунсвике, Брюсселе, лондонской Опере, где в день последнего концерта мне предложили договор на это лето… и на лето 1914 года.
Вот я опять в венском Apollo. В этот приезд я не искала прежних радостей, несмотря на нежную внимательность обоих дядей, тети, кузенов и кузин: отсутствие отца вызывало меланхолию. Было грустно узнать, что его прекрасная коллекция разошлась по аукционам. Он оставил дела очень запутанными, и, чтобы поправить ситуацию, его вдова была вынуждена распродавать редкие вещи из его личного музея. Мне отец завещал несколько красивых вещиц и комод времен Директории, эпохи «возвращения из Египта», эти памятные подарки очень много значили для меня. Ничего другого я и не просила, я довольно хорошо зарабатывала, чтобы не думать о наследстве, и отказалась от всех своих прав в пользу второго ребенка отца.
Распродажа проходила в аукционном доме Dorotheum, я на ней присутствовала с тяжелым сердцем, но при этом восхищалась всеми этими сокровищами, свидетельствующими о тонком вкусе и разборчивости отца. С большим изяществом выбранная старинная мебель, китайский фарфор, ценнейшие ковры необыкновенной красоты, фарфоровые саксонские статуэтки изысканных линий… и все это меркло перед полотнами Джованни Тьеполо, Герарда Доу, Давида Тенирса, Адриана Брауэра, Альбрехта де Вриндта, Шарль-Франсуа Добиньи, Констана Тройона, Николя Ланкре и многих других мастеров. На распродажу пришло огромное количество народу, и все быстро раскупалось. Результат оказался впечатляющим — думаю, что это позволило вдове отца уладить все дела.
Перед отъездом директор Apollo заключил со мной новый договор, на два года вперед, на сентябрь 1915 года. Даром предвидения он не обладал. Вене не суждено было увидеть меня в 1915 году… и по серьезной причине.
* * *
Весной 1914 года я поехала танцевать в Casino Риги. В этом северном городе, в полночь, когда я выходила из театра, уже начинало рассветать, небо светлело и озарялось розовыми бликами. Приятный город, там было много зелени и цветов. В окрестностях стояли очаровательные виллы за белыми заборами, позади которых виднелся лес. Рига осталась последним воспоминанием о далекой старой Европе.
Оттуда я переехала в Лондон… всё так рядом! Июль я провела в здешней Опере и там узнала об объявлении войны. С этого момента мои выступления прекратились. Я торопилась вернуться, хотела нагнать Луиса, который, узнав о случившемся в Сараеве, спешно уехал в Париж и оставил меня в Англии.
* * *
Он больше не хотел оставлять свой пост, а я не хотела больше оставлять его. Я была ошеломлена, встревожена… Война — это ужасная вещь, казалось, навсегда оставшаяся в прошлом и противоречившая всем нормам нашего цивилизованного общества. Война стояла у порога! Я всегда инстинктивно ненавидела войны, а мать, когда я еще была маленькой, своими рассказами лишь усилила мое внутреннее неприятие. Она пережила Сáдову[210] в юности и сохранила ужасные воспоминания об этой жестокой битве, где участвовал ее брат, мой дядя Фердинанд, попав потом в плен.
К августу всеобщее беспокойство превратилось во все растущую тревогу. Вторжение в Бельгию, истощенные войска на линии фронта, приближение врага… Луис нервничал, хотел, чтобы я уехала из Парижа. «Нет, мне спокойно там, где ты, я не хочу оставлять тебя одного. И потом, куда ехать?» Но каждый день беспокойство росло. Вокзалы заполонили очереди, везде паника… 28 августа Луис пришел домой с двумя паспортами и билетами: «Вот. 30-го вы с Брио уезжаете, собери чемоданы. Сначала поедете в Бордо, а потом посмотрим». В тот вечер произошла первая атака самолетов «Таубе» на Париж. 29-го Луис мне сказал: «Вы уезжаете не 30-го, а прямо сейчас». Он смог получить от посольства два места в спальном вагоне, отвез нас на вокзал к поезду, отправлявшемуся в полночь. Вокзал был закрыт, вокруг собралась толпа, люди даже сидели или лежали на тротуаре. Двери открыли лишь в последний момент.
Я находилась в полной растерянности. Горло словно сжал плотный железный обруч. Плача, я обняла Луиса:
— Но что мне делать в Бордо?
— На месте увидишь, бедная моя девочка. Ты легко найдешь пристанище. В любом случае, присутствие Брио меня успокаивает. Я знаю, что она позаботится о том, чтобы все сложилось наилучшим образом. Дай мне знать, что и как, когда прибудешь на место. Я к тебе приеду, как только смогу.
Глава пятая
Дурные ночи в Бордо. — Хоссгор, оазис. — Колония литераторов. — Я танцую для раненых. — Каникулы в Люшоне: Педро Гайяр, Анри де Кросс[211] и Жозеф Капуль[212]. — Париж во время войны: новый мир. — Постановка «Юдифи». — Я работаю с Пуаре[213]. — Французский Le Bo Jardin. — Бомбежки и «Берты». — Жизнь в По. — Маленький фаланстер. — Я набираю учениц. — Гала-представления в американском Красном Кресте. — Куранты 11 ноября. — Прощание с юго-западом. — Крушение иллюзий. — Сон кончился. — История моей любовной жизни закончена. — Я ставлю священные танцы в Аталии. — Турне вместе с Бокелем. — Мои партнеры — Серж Перетти[214] и Руперт Доон[215]. — Смерть Сары Бернар. — Возвращение в Empire. — Потеря верной Брио. — Дом Мольера. — Полдник для приятелей. — Эглон и Ю. С. Т. — Лето в Кольвиле. — Театр не желает отпускать меня. — «Ревю 1900» в Alcazar.
Понадобились сутки, чтобы добраться до Бордо. Поезд едва двигался и часто останавливался в пути. Мы проезжали обозы с ранеными и видели, что они останавливаются на вокзалах. Торопливо сновали туда и сюда медсестры, несли еду и теплое питье. Раны, стоны, кровь… Это напомнило мне историю войны 1870 года, о которой я читала в школьном учебнике истории, и вызывало у меня тяжелое чувство, я поскорее переворачивала страницу. Теперь эти ушедшие в прошлое картины ожили перед глазами!
В Бордо мы приехали поздно ночью. Везде темнота. Выйдя из здания вокзала, мы чуть ли не ощупью нашли машину, проехались по большим отелям: мест нет; все забито. В конце концов мы остановились в плохонькой маленькой гостинице низкого пошиба, и там оставалась лишь одна свободная комната… при этом крошечная, кровать была не больше детской. Я бы поместилась, но Брио? Я умоляла портье найти ей какой-нибудь уголок, она же не могла спать на улице. Наконец, на цыпочках, он привел нас к какой-то двери, открыл ее и прошептал: «Здесь гостиная. Эта дама может поспать в одном из кресел. Но комната — смежная со спальней директрисы, поэтому нельзя издавать ни малейшего звука. Услышав шум, хозяйка выскочит из спальни с револьвером в руках». Прелестно! Ну что же, война… На следующий день мы покинули это негостеприимное место и, вновь обретя с восходом солнца присутствие духа, отправились на поиски лучшего пристанища. Не без труда мы все-таки нашли достойный отель, где каждой из нас предоставили комнату. Едва поужинав, мы сразу легли в постели и крепко заснули. Посреди ночи — громкий стук в дверь. Послышался крик: «Отель реквизирован. Прибывают члены правительства». Мы в спешке оделись и ждали наступления дня в общей гостиной. Потом я отправила телеграмму своим друзьям Ловикам, у которых была собственность в Хоссгоре: «Можете ли вы принять нас сейчас?» Брио отнесла телеграмму, и вскоре пришел ответ: «Конечно». Мы тут же отправились в Хоссгор.
Ловики и их дети оказали нам самый теплый прием. Их красивый дом, окруженный прелестным сосновым лесом, стоял совсем близко от озера. Но эти славные люди уже принимали у себя толпу родственников. Несмотря на это, они радушно предоставили мне единственную оставшуюся комнату, извинившись, что второй не нашли. Брио поселилась в семейном пансионе, откуда каждое утро приходила к нам.
В Хоссгоре образовалась колония литераторов: здесь, под соснами, проживали братья Рони[216], Виктор Маргерит[217] с женой, Поль Маргерит с дочерьми, Гастон Шеро[218] с женой, госпожа де Брутель[219], Максим Леруа и Леон Блюм[220], тогда театральный критик в Comédie-Française. Все эти персонажи близко дружили с Ловиками и часто собирались у них дома, болтали, обсуждали ситуацию, очень тревожную, читали новости, аналитику и делились беспокойством. После битвы на Марне[221] вздохнули с облегчением: Париж спасен! Чтобы лучше обмениваться идеями, ставили маленькие импровизированные спектакли. Для одной пьесы все присутствовавшие авторы написали по сцене. Рони-младший имитировал Саша Гитри в комедии-шарже, которую тут же написал. Поль Маргерит вместе с дочерьми придумал пантомиму по испанским мотивам, бурлескную и страшную — El Hombre Desperado[222]. В ней играли все дети Ловиков: Гисси, Эрве и Джеки. У меня тоже была роль, я танцевала некое Encarnacion[223], страстное и темное. Даже Брио участвовала в пьесе: она играла дуэнью. В другой раз Эрве Ловик, слишком молодой для мобилизации, начинающий литератор, написал возвышенный этюд, в котором каждый из нас получил роль. Леон Блюм описал в газете спектакли у моих друзей. Он особенно выделил этюд Эрве, сказав: «Он мне понравился больше, чем все, что я видел за последний год в Париже!»
Когда я жила в Хоссгоре, мне написал Маринелли, чтобы предложить ангажемент в Мадриде. Я не хотела ехать. Нет, у меня не было никакого желания появляться на сцене, тем более за границей, в такой момент.
В конце месяца нужно было подумать об отъезде. Хоссгор опустел, мне следовало решить, где поселиться. По совету Луиса я выбрала своей тихой гаванью Биарриц. Луис без конца мотался между Парижем и Мадридом, так что мог навещать меня чаще. Я нашла приятное жилье, большой и красивый семейный пансион La Maison Carrée, очень близко от отеля Carlton. Огромная его часть была отдана под госпиталь Красного Креста. Директор гостиницы устраивал концерты для раненых и попросил меня участвовать в них. Но меня и просить не надо было, я была счастлива как-то развлечь этих мальчиков, которые нас защищали и большинство из которых снова возвращались на передовую. Первый раз, когда я танцевала перед ними, я была очень взволнована. На первый ряд посадили солдат с ампутированными руками и ногами. Их глаза были молоды, лица свежи, еще дети, перед ними была целая жизнь… будучи калеками! Эта картина меня потрясла. Мне необходимо было достаточно много времени, чтобы к этому привыкнуть.
Репертуар очень понравился новой публике, которая была мне дороже и важнее всех зрителей, для кого я когда-либо танцевала. Я выписала свои костюмы. Костюм камбоджийки Ландольфа вызывал особенно громкие аплодисменты, а еще изящные украшения нормандской крестьянки в «Мастерице».
Когда стало известно, что я в Биаррице, со всех уголков организации Красного Креста присылали мне просьбы станцевать в их госпиталях. Я развлекала раненых в Байонне, где концерт устроили в Grand Théâtre, в Даксе, в Сен-Жан-де-Люз, в Лормоне.
Среди артисток, выступавших на этих концертах, была Луиза Балти. Она играла вместе со мною в Grand Théâtre Байонны. Луиза была высокой худой темноволосой девушкой, не особенно красивой, и карикатуристы довольно точно подмечали в ней что-то лошадиное. Но Балти была соблазнительной и очень кокетливой, наряды всегда восхитительные, и носила она их с непревзойденным шиком. Она когда-то встречала Брио у Деклаза, и они упали в объятия друг друга. У нее был целый хоровод сестер, ее любимицу звали Жюстина. Устроившись в Париже, Балти вызвала туда и ее, и сестра вышла замуж за брата Деклаза. Луиза решила сделать Жюстину наследницей всего своего имущества, но, так как была немного взбалмошна, сестры поссорились и Балти порвала завещание. Жюстина ничего не унаследовала.
Луис был очень занят, его посольство было завалено прошениями семей пленных, пропавших без вести и оставшихся на оккупированных территориях. Все это пересылалось в Мадрид, где организовывались поиски и обмен корреспонденцией. Нейтральная Испания играла важную роль посредника, и многие французские семьи получали оттуда вести о своих близких.
Луис все время находился в пути между двумя странами, поэтому, когда Леонтина Бове пригласила меня провести каникулы вместе с ней в Люшоне, он убедил меня согласиться: «Люшон как раз по пути, мне будет легко туда заехать».
Мы так прекрасно проводили время в Люшоне, что возвращались туда каждое лето четыре года подряд. С Леонтиной и ее другом, господином Реем, мы вместе снимали виллу и жили общими расходами. У Рея была своя машина, шофер и горничная, жена шофера. За персоналом следила Брио, все отлично работало. Рей был кадетом в Гаскони. Он управлял предприятием в Коссаде, Tarn-et-Garonne, владел семейным поместьем, но постоянно приезжал в Париж, и они с Бове были прекрасной парой. Однажды он предложил ей оформить их связь: «Позже мы удалимся на покой в Коссад и будем мирно жить как скромные рантье». Леонтина не сказала «нет», и они уехали в Коссад, потому что Рей хотел играть свадьбу в родных краях. И вот, голубки прибывают на место. Рей показывает поместье своей дорогой Леонтине, а потом они направляются в мэрию, чтобы написать заявление о заключении брака. Бове находит городок прелестным, но когда они проходят по улицам, в домах по пути отодвигаются занавески, и на них молча глазеют их обитатели. Люди выходят на порог и долго провожают взглядом «господина Рея и его парижанку», словно следят за проходящим поездом. Вдруг Леонтина почувствовала леденящий ужас: жить здесь постоянно, каждый день видеть одни и те же лица и дома, маленькие провинциальные магазинчики, слушать одни и те же сплетни и, в конце концов, поддаться общему убожеству!.. Она, которая всю жизни дышала вольным воздухом Парижа, вращалась в кругу артистов, художников, певцов и танцоров, веселых, интересных и свободных духом, — нет, она не могла дышать в этой затхлой мещанской атмосфере. Мужество оставило ее. Она начистоту поговорила с Реем и предлжила: «Зачем вообще жениться? Нам и так прекрасно». Они развернулись и пошли домой, а потом поскорее вернулись в Париж, заинтриговав жителей Коссада и дав им пищу для обсуждений, возможно, на веки вечные. Леонтина и Рей остались в том же положении, в каком и были, то есть очень счастливыми.
Вилла «Ивы», которую мы снимали, принадлежала Анри де Горссу, автору многочисленных ревю и пьес для бульварных театров. Ему принадлежало много недвижимости в Люшоне, откуда была родом его мать, и он жил на другой своей вилле, недалеко от нас. Мы встречали его почти каждый день под руку с женой, красивой блондинкой, и с удовольствием прогуливались вместе с ними. Горсс, мужчина видный, высокий и стройный, был приятным собеседником, очень остроумным.

Клео де Мерод, 1914
В Люшоне я, к своей радости, встретилась с Педро Гайяром. У него тоже была там собственность, красивая вилла «Корнель», где он проводил лето с сестрой и сыном. Иногда к ним приезжала Сандрини. Гайяр покинул Оперу за много лет до начала войны. Этот идеальный директор, любимый всеми в театре, почему-то решил не возобновлять контракт с Розой Карон. Никто толком не понимал, почему настолько прозорливый человек совершил такой промах. У власти тогда был Клемансо[224], а все знали, что Роза Карон была его протеже. И вот вскоре после увольнения певицы Педро Гайяр пал. Все сотрудники страшно сожалели. Гайяр собрал всех артистов в Танцевальном фойе, чтобы попрощаться. «Было совсем не весело», — рассказывала мне Леонтина Бове. Бедный Гайяр так и не утешился после расставания с Оперой. Он был очень привязан к этому театру, как и все, кто когда-либо ему принадлежал.
Приехав в Люшон летом 1916 года, я обнаружила в гостях у Гайяра Капуля. Они были большими друзьями. Капуль работал с администрацией Оперы некоторое время перед уходом Педро. Его отпуск подходил к концу, через день он должен был возвращаться в Париж. Ему было уже лет семьдесят, но держался он прямо, был бодрым и веселым. Встретившись со мной, после всех приветствий и любезностей он воскликнул: «Какая жалость, что мне нужно уезжать! А то я бы за вами приударил!»
* * *
Я вернулась в Париж весной 1915 года, там все напоминало о войне, она казалась нескончаемой, калечила солдат и превращала людей в животных, ее все переживали с отвращением. Возникли военный менталитет и военный лексикон. Везде раненые, ослепшие и покалеченные, да с какими увечьями! Война всегда ужасна, а попытки «приукрасить» убийства в «искусстве» и придать им героичность напрасны.
Все стало по-другому. Кутюрье создавали моду военного положения, юбки становились короче, и с ними носили высокие ботинки на шнуровке, а шляпки напоминали военные фуражки. Женщины выглядели почти как солдаты, да они и заменяли в тылу ушедших на фронт мужчин на их рабочих местах.
Казалось, Прекрасная эпоха закончилась, война ее похоронила. У меня было чувство, что все наше общество, такое легкое, беззаботное и радостное, попало в царство мрачных фантомов… Тем не менее в Париже было оживленно, всего хватало, театры работали: на сценах показывали ревю патриотического содержания и pieces de circonstans[225].
Возник Théâtre pour l’Armée[226] с постоянной труппой. Но все парижские театры посылали своих актеров играть перед солдатами на побывке. Брассер и артисты Théâtre Michel показывали им ревю Рипа «Ваше здоровье», имевшего большой успех из-за своей актуальности. Сама Сара Бернар читала стихи в военных лагерях, где ее восторженно принимали. Она этим доказала свое редкое мужество и силу духа, потому что ей как раз незадолго до этого ампутировали ногу. Актриса многие годы страдала от болей в колене, после какого-то падения у нее образовалась большая гематома, превратившаяся в незаживающий абсцесс. Долгое время Сара с присущей ей твердостью терпела, но потом опухоль стала такой большой, что пришлось пожертвовать ногой. Но она не позволила болезни морально сломить себя и продолжала работать с необыкновенной стойкостью.
Мне все время предлагали роли. Я колебалась не один месяц, прежде чем снова взойти на сцену. Наконец, агенты Режи Гину и Шарля Кювилье[227] убедили меня сыграть в их оперетте для Théâtre Michel — «Куртизанка Юдифь». Пьеса сатирическая, с шитым белыми нитками символизмом. Энергичная музыка Кювилье была полна пикантных находок и смелых ритмов, а текст Гину искрился юмором. Рене Балта, красивая брюнетка, исполняла партию куртизанки с полной отдачей, а Дорвиль создал совершенно карикатурный образ Олоферна. Я же танцевала партию Суламиты. Марикита создала для меня хореографию по египетским мотивам, где па напоминали иероглифы, и все это в черно-золотых декорациях. Получилось впечатляюще, это был единственный серьезный момент в той шуточной пьесе.
Решили, что моим костюмом будет заниматься Пуаре. Я уже была с ним знакома. Когда я хотела ввести в программу японские танцы, сразу же встал вопрос с костюмом. Я восхищалась выступлением Спинелли[228] в одном ревю, где на ней было восхитительное кимоно. Я никогда с ней лично не разговаривала до этого, поэтому заручилась рекомендацией Леонтины Бове, которая с ней работала, и при ее посредничестве спросила у Спинелли, откуда у нее этот красивый японский костюм. Очень любезно она ответила, что это творение Пуаре. Я связалась с ним и попросила не скопировать костюм «Спи», но придумать для меня другой. Он создал розовое платье, расшитое цветами и птицами, с огромным поясом из черного бархата. Настоящее чудо!
Я была совершенно уверена в выборе, обращаясь к Пуаре, ничуть не сомневаясь, что он сотворит мне сенсационный костюм Суламиты. Он жил на Saint-Philippe du Roule в маленьком особняке с очаровательным садом. Именно отсюда вышли все изумительные творения, что он создавал перед войной, и не только в области моды, но и для украшения интерьеров. Не очень высокого роста, довольно полный, с глазами навыкате и черной округлой бородой, Пуаре напоминал какого-то восточного пашу.
Он погрузился в размышления и вышел из них с идеей, которая мне не очень подходила: длинное узкое платье из тяжелого золотого драпа, я с трудом могла в нем двигаться. На примерке я поделилась с кутюрье своими мыслями: платье-чехол из черного бархата с тонкими нитями из бриллиантов, скрепленное на плечах большими сверкавшими бляхами, а под ним туника из легкой золотой ткани. Головной убор — большой золотой шлем в египетском стиле с надетой на него сеткой с бриллиантами. Мое предложение Пуаре очень понравилось, и он сказал: «Я так доволен, что мы с вами сотрудничаем!» Накануне репетиций костюм был готов. Очень любезно Пуаре отменил свой первоначальный вариант и сшил мне тот костюм, который я описала.
Я появлялась на сцене в окружении кордебалета из юных учениц школы Оперы, одетых в египетские костюмы, маленькие балерины подносили мне головной убор, золотистую тунику, потом исчезали, и я начинала танцевать в своем черном бархатном платье с бриллиантами. Олоферн и его военачальники сидели вокруг на подушках. Дорвиль показал себя тут прекрасным товарищем и коллегой. Он был непревзойденным комиком, и ему было легко переключить внимание публики на себя, достаточно одной гримасы, чтобы вызвать смех. Но он полностью замирал: ни одного смешного жеста и позы, пока я танцевала… Это было так деликатно и любезно, меня это так тронуло, что я подарила огромную красивую куклу его дочери на Рождество.
Об авторах «Юдифи» я сохранила самые хорошие воспоминания: Гину, тонкий обозреватель и изящный поэт; его коллега, Андре Бард, человек истинно парижского таланта; Кювилье, симпатичный темноволосый юноша, очень одаренный и остроумный, — все трое были очаровательными людьми.
* * *
Новая роль вызвала шквал интервью, обзоров и нескончаемых комментариев. Говорили, что публика открыла меня вновь, будто я вернулась из забытья. А когда я играла в Théâtre Michel, Opéra Comique попросила меня сыграть в феврале в «драматической и лирической аллегории» Франсуа Казадезюса[229] и Гийо де Се «В прекрасном саду Франции». Произведение было написано в память об артистах, погибших во время войны, и включало в себя пантомиму, балет и пение. Геузи[230] и братья Изола, новые директора, ввели новшества, разместив пятьдесят два хориста на сцене, шестьдесят — в зале, множество певцов — среди музыкантов оркестра и трубачей — в самых верхних ложах. Их очень хвалили за эту оригинальную идею. Они тщательно готовили декорации и хореографию, Марикита еще никогда не проявляла такой изобретательности и фантазии, как при создании этого балета: «Я над ним работаю столько, сколько над пятью обычными балетами», — говорила она. Я изображала Весну и танцевала ее рождение в окружении Зефиров и Граций. Марс, бог войны, своим появлением сеет страх и панику в нашей маленькой нежной группе, украшенной цветами. Он всех разгоняет, а я падаю замертво. Но я возрождаюсь, когда приходит мир вместе с солнечными лучами, и в конце мы изображаем картину Боттичелли «Весна». В мастерских Opéra Comique мне сшили точную копию костюма Весны. Мой товарищ Кино c большим пылом исполнял роль Марса. Ему хлопали особенно горячо, потому что он и вправду едва выжил. Попав в зону распространения газа в траншеях, он чуть не лишился зрения.
Генеральная прошла блестяще. Шик вечернего представления, декольте и фраки. Если бы не множество людей в военной форме, могло показаться, что никакой войны не было. Хотя время еще было тяжелое, зима выдалась суровая. Нехватка топлива, трудности со снабжением, ввели карточки на сахар и на уголь. Перед магазинами очереди… Пугающая картина для тех, кто знал сладость жизни в начале века! В рабочей среде начались волнения, а для «поддержания бодрости духа» в газетах печатали оптимистичные лозунги.
Но все это не влияло на работу театров, потому что людям хотелось отвлечься. И наш «В прекрасном саду Франции» стартовал многообещающе. Музыка Казадезюса была очень красивой, простой, изящной, полной трогательных мелодий и переплетавшихся народных мотивов богатого звучания. Критики назвали ее «благородной, благостной и очень французской». Меня же осыпали похвалами и цветами, писали о моем «великолепном возвращении». Я была «неистощима», обладала «непревзойденными грацией и пластикой» и выглядела «как истинная воплощенная Примавера».
Авторы «В прекрасном саду Франции» преподнесли мне великолепнейшую цветную репродукцию «Весны» Боттичелли с такими хвалебными памятными надписями, что мне неловко их цитировать. Франсуа Казадезюс, очень симпатичный человек, обладал красивой артистической внешностью, матовая кожа, каштановые кудри и темные глаза напоминали о его средиземноморском происхождении. Как и Шарпантье, он остался верен семейному призванию. Старший сын в семье музыкантов, он стал автором множества симфонических поэм и достойных опер и к тому же замечательным руководителем оркестра. Он входил в число основателей американской консерватории Фонтенбло, которая могла похвастаться многими блестящими учениками. Гийо де Се, очень худощавый, с мягкими чертами лица, обрамленного светлыми волосами и бородой в стиле Мюссе[231], и правда немного походил на автора бессмертных «Ночей»[232], так что можно предположить, что он намеренно подчеркивал сходство. Он с легкостью писал восьмисложным и александрийским стихом прелестные произведения и прекрасно читал стихи.
Наш «В прекрасном саду Франции» прошел необыкновенно успешно. Отовсюду приходили одобрительные отзывы, публика валом валила на спектакль… но весной 1918 года начались бомбардировки. Каждую ночь — тревога: воют леденящие кровь сирены, и перехватывает дыхание от страха. В подвале давка: там жильцы со всего дома, а также и из соседних домов. Впрочем, подвал скорее действовал успокоительно, чем действительно мог защитить… А бомбы все взрывались: на улицах Clichy, d’Athènes и Geoffroy-Marie. Луис снова испугался:
— Я не хочу, чтобы ты оставалась в Париже, тебе нужно уехать.
— Ну, нет! А как же «В прекрасном саду Франции»?
— Это очень красивый спектакль, и я счастлив от того, что он пользуется заслуженным успехом, но мне твоя жизнь дороже доходов Opéra Comique. Ты обязательно должна уехать!
— Но это невозможно! Я никогда не осмелюсь объявить об этом Геузи…
— Ах, он же не съест тебя!
Я страшно злилась. Весь спектакль зависел от моей роли. Уехать в разгар показов, на пике успеха было не очень красиво по отношению к моим директорам, но в конце концов пришлось решиться на разговор с Геузи. Не упрекнув меня ни словом, он, наоборот, положил конец моим метаниям: «Мы в любом случае не можем продолжать при таких условиях и собираемся прервать показы. Так что не мучайте себя».

Клео де Мерод
* * *
Мы с Брио уехали в По. Луис хорошо знал этот город и подумал, что мне там понравится, кроме того, он сможет чаще меня навещать: «Ты с легкостью снимешь что-нибудь. Не думаю, что там много народу…» Но мы попали в ужасную ситуацию: тщетно искали хоть какое-нибудь жилье по всему городу, добрались даже до Жюрансона. Ничего! После целого дня походов туда и сюда я попыталась обратиться в агентство по недвижимости:
— Умоляю вас, найдите нам что-нибудь!
— Вам повезло, — ответил агент. — Я как раз получил письмо от клиента, который отказался от жилья.
— Ох, месье, будьте добры, покажите мне это жилье немедленно!
Это была меблированная квартира на бульваре Pyrenees, с террасой, откуда открывался прекрасный вид на горы. Дом назывался Belle Vue и вполне соответствовал названию[233]. В квартире, очень комфортабельной, было много комнат, гораздо больше, чем нам было нужно. Я позвала горничную, и мы стали устраиваться, предполагая, что остаться придется надолго.
Вскоре я получила письмо от подруг из Парижа, совсем потерявших голову: «Происходят ужасные вещи! Двадцать минут назад мы слышали кошмарный взрыв. Со всех сторон падают какие-то непонятные снаряды, неизвестно откуда, но во всех кварталах! Люди гибнут посреди улицы белым днем! Думают, что это атака истребителей-невидимок». Вскоре все узнали, что это были «Берты». Произошла ужасная катастрофа в Сен-Жерве, когда люди собрались в церкви на Великую пятницу. Я послала телеграмму подругам: «Немедленно приезжайте». И мы вчетвером образовали небольшой фаланстер. Мы с этими двумя молодыми женщинами прекрасно ладили. Они были музыкантши: одна из них, Сесиль Гресс, — виртуозная пианистка; другая, Поль Гранпьер, — замечательная виолончелистка. Я познакомилась с Сесиль Гресс самым простым образом. Однажды я пошла к Дюран, на площади Madeleine, с просьбой, чтобы мне нашли пианистку, которая бы играла со мною в четыре руки. Мне дали адрес Сесиль, и мы очень подружились. Поль Гранпьер, бывшая студентка консерватории, играла в концертах и преподавала. К тому же она обладала прекрасным голосом и с большим успехом выступала как певица в Trianon Lyrique. Я ставила ей мимику и обучала сценическому движению, знала ее отца, мастера по люстрам, который занимался освещением для моей квартиры на улице Téhéran. У нее была сестра, арфистка, Жизель, работавшая в консерватории, в классе Марселя Турнье[234] и Хассельманса[235]. Я попросила Жизель Гранпьер давать мне уроки игры на арфе, потому что обожала этот инструмент. У меня довольно легко получилось, и я стала с удовольствием играть, но эти музыкальные радости вкушали лишь мы с Брио. На большее я, как арфистка, никогда не претендовала.
Луис, который все так же занимался поиском пропавших, приезжал при любой возможности. Он пришел в восторг от Belle Vue, жалея, что не может там оставаться столько, сколько хочет.
Но и я не сидела без дела. Как жить без работы? Я танцевала на многочисленных благотворительных концертах, утренних и вечерних, не только в По, но и в друхих городах. С того времени, как в войну вступили американцы, отделения Красного Креста распространились по всему региону, и там устраивались гала-выступления для раненых и беженцев. Именно такой концерт я дала 8 августа 1918 года в Casino в городе Бон.

Клео де Мерод
По этому случаю газета Fantasio напечатала маленькую статью, в которой у меня вызвало недовольство употребление словосочетаний «все еще» и «как и раньше», неприятных любому действующему артисту, поскольку создавалось впечатление, что о вас стали забывать… «Мадемуазель Клео де Мерод сейчас в По. Она, как и раньше, красива, прогуливается в нарядах темных цветов по улице Пирене; на ее лице нет ни следа румян или помады; она держится скромно и отстраненно, но не окутывает себя покровом загадочности, она остается такой, какова есть, то есть выше всяких похвал! Она все еще носит прическу на прямой пробор, закрывающую уши, глаза ее все так же излучают нежный свет. Она, безусловно, является прекрасным примером для всех молодых актрис, которые при любом случае выставляют себя напоказ. Мужчины приветствуют ее просто, словно она их старая знакомая, которая, впрочем, держится лучше некоторых дам из высшего общества, а женщины не удивляются, когда она садится рядом с ними на концертах классической музыки или на воскресной мессе в одиннадцать часов. Все люди моего поколения, смотрящие на Клео, кому сейчас столько же лет, сколько и нам, говорят себе, что еще удивительно молоды!»
Я познакомилась с приятной американкой, госпожой Риджуэй, уже долгое время жившей во Франции. В Париже ей принадлежало одно великолепное здание, а в По она владела особняком, часть которого переделала под госпиталь. Я танцевала для раненых, лежавших там, и она выказывала мне бесконечную благодарность. У нее была дочь Элизабет, прелестная девочка, мечтавшая танцевать. Я предложила дать ей несколько уроков, научила ее упражнениям, очень ее заинтересовавшим. Она попросила позволения привести двух подружек. Так я превратилась в преподавательницу танцев, и у меня образовалась маленькая школа из прелестных учениц. Три мои ученицы делали успехи так быстро, что я смогла поставить с ними серию греческих танцев, где идеально проявлялась их естественная грация.
* * *
Однажды я услышала звон колоколов и увидела, что везде развеваются флаги. Над городом летали самолеты, и авиаторы развлекались тем, что заставляли свои машины выделывать в воздухе разные трюки. Улицы заполнились народом, везде слышались радостные возгласы и пение. Военные действия прекращены. Война закончилась!
7 марта 1919 года на благотворительном вечере в пользу бедных и 20 марта на утреннем концерте для крестьянских сирот я впервые вывела на сцену муниципального театра свое трио юных танцовщиц. Мои маленькие гречанки выступили с большим успехом, местная пресса тепло поздравила талантливых дебютанток и их преподавательницу. Лучшей наградой стало письмо Элизабет Риджуэй: «Как благодарить вас? Вы обладаете редким терпением. Когда я думаю, в какое прекрасное трио вам удалось превратить трех обыкновенных девчушек, которые до знакомства с вами и ходили-то неуклюже, то не нахожу слов, чтобы выразить нашу глубочайшую благодарность».
Я стала готовиться к возвращению домой. Когда дата моего отъезда стала известна, мэр города обратилась ко мне с такими искренними словами благодарности, что я испытала очень нежные чувства: «Во время войны мадемуазель Клео де Мерод, которая столько очарования, прелести и таланта привносила в наши благотворительные концерты, возвращается в Париж, где продолжит театральную карьеру. От имени наших славных раненых солдат, от неимущих, беженцев, кому она несла свет искусства, мы благодарим ее и желаем благополучного возвращения».
* * *
Я вернулась в Париж в апреле. Луис, который был по делам в Сан-Себастьяне, должен был приехать на три дня позже. И мы с Брио занялись обустройством нашего покинутого более чем на год жилища. Брио разбирала шкафы, а я постаралась навести порядок у себя в комнате. Там царил хаос, так как я уезжала в крайней спешке. Я разобрала багаж, развесила платья, потом села заниматься бумагами, а это была целая проблема. Стол был завален программками, статьями еще со времен «Юдифи» и «Французского сада». Среди бумаг я заметила несколько писем на испанском языке на стопке газетных вырезок. Машинально я пробежала глазами две или три строчки, которые меня заинтересовали, потом, поддавшись роковому любопытству, как Психея, подсела ближе к лампе и прочитала их от начала до конца. Я перечитывала их второй раз, третий, пытаясь увериться, что это не сон. Что все это значит? А это означало конец моего счастья. Эти письма были написаны Луису его матерью, маркизой де П. Из них я узнала, что Луис соблазнил молодую мадридскую девушку из хорошей семьи и у нее от него ребенок. Госпожа де П. была очень недовольна этой авантюрой. История уже была всем известна, все осуждали поведение Луиса, и маркиза очень сурово напоминала сыну о его долге.

Клео де Мерод в сценическом костюме
Я закрылась в комнате, проплакала всю ночь и, мне кажется, весь следующий день. Брио, которая периодически стучала ко мне в дверь, я отвечала, что у меня мигрень и хочу спать. Не знаю, что она подумала. Через день я вышла из комнаты и пыталась делать вид, что все как обычно, но она прекрасно видела — дела плохи. Я продолжала возиться за столом, разбирать бумаги и улаживать дела со вновь обретенным спокойствием.
Я приняла решение и послала телеграмму Луису: «Возвращаться бесполезно». Мужество это было или гордость? Не могу сказать. Думаю, что действовала я так из страха быть малодушной. У меня было такое чувство, словно внезапно выключили свет и перед глазами как будто встал черный экран. Я страдала ужасно, но тем не менее хотела разом сжечь все мосты. Удар был слишком жестоким. Я же была во всем искренней, всегда верной, ни о ком другом не мечтала, отвергала все приглашения!.. А когда мы расставались, Луис писал мне каждый день!.. Это все невозможно было понять.
Любопытно, но, получив мою телеграмму, он какое-то время продолжал мне писать, как будто ничего не произошло. Возможно, он надеялся, что я успокоюсь и передумаю? Но я не ответила ему ни слова. То, что эти испанские письма оказались среди моих бумаг, меня поразило. Видимо, Луис как-то вечером рассеянно вытащил их из кармана, не посмотрев, и забыл об этом… Какая небрежность!
В конце концов я рассказала все Брио. Она не могла поверить: «Невероятно! Невероятно! Он же был с вами сама нежность, сама любовь!» Некоторое время она размышляла, а потом сказала: «Послушайте, я вдруг вспомнила странный случай. Однажды в По, в июне, Луис мне сказал: „Старушка, пойдем прогуляемся немного“. Мы вышли из дома и болтали о том, о сем… но он казался чем-то обеспокоенным, нервным, словно хотел что-то мне сказать и не знал, с чего начать… В результате мы болтали о погоде, дожде, солнце… Теперь я думаю, он мне хотел тогда признаться, но не решился».
Через день после ужасного открытия приехал Рауль, как бы предвосхищая появление хозяина. С глазами, полными слез, и комком в горле, я ему сказала: «Рауль, вам нужно забрать вещи месье, его одежду, книги, скульптуры — все». Пораженный, он все же повиновался. Я горестно наблюдала за ним, находя еще в себе силы следить, чтобы он ничего не забыл. К вечеру в моей квартире не осталось ничего, что бы напоминало о Луисе.
Через некоторое время после этого Брио приболела. Небольшие проблемы с сердцем, которые прошли через несколько дней усиленной заботы, которой я окружила свою добрую компаньонку. Она уже потихоньку поправлялась, когда в дверь позвонили. Горничная объявила: «Господин де П.». Уж не знаю как, но он узнал о болезни Брио и пришел ее проведать.
Когда он вышел из ее комнаты, то привлек меня к себе, встал на одно колено и стал покрывать мои руки поцелуями, умоляя о прощении и клянясь в своей любви. Это был парад классических объяснений: «Потерял голову… безумие… глупость… ужасные сожаления… умоляю, забудь…» На весь этот поток слов я ответила лишь одно: «Нет, все кончено». Он понял, что я не изменю решения, поднялся на ноги и спокойно сказал: «Хорошо. Раз так, я женюсь».
* * *
Примерно через пять лет после этих событий у меня зазвонил телефон. Это был Киньонес-де-Леон, который сказал мне: «Дорогая Клео, у меня для вас довольная грустная новость — Луис умер». Я дрожа повесила трубку. Не понимая, что делаю, я открыла дверь и вышла из дома. Довольно долго я бродила по улицам, в полузабытьи. Вдруг почувствовав дуновение свежего ветерка, я посмотрела вокруг… и обнаружила, что стою на берегу Сены, рядом с Трокадеро. Я не понимала, как сюда попала. Мне пришлось возвращаться пешком, так как ничего не взяла с собой. Новость привела меня в сомнамбулическое состояние. Без сомнения, Луис был мне гораздо дороже, чем я воображала.
История моей любовной жизни навсегда закончилась.
Я любила два раза в жизни, познала радости глубокой и страстной любви, и не от меня зависело то, что эта любовь заканчивалась. Судьба вырвала из моих объятий первую любовь, жестокий обман убил вторую, спалив дотла мое сердце, оставив лишь пепел… Очнувшись от любовного сна, я очень рано умерла для нежных чувств. После Луиса я больше никого не любила, ни один мужчина больше не мог тронуть мое сердце, потому что я перестала верить в мужскую искренность.
Мне не хотелось бы подробно рассказывать о своих страданиях, о своем горе. История банальна: после многих лет счастья вдруг узнать, что любимый человек мог обманывать вас. В таких обстоятельствах, если вы не покончили с собой и продолжаете жить, нужно держаться прямо. Я исцелилась от этой раны, оправилась от горя только потому, что никогда не посвящала свою жизнь любви полностью. И если женщина во мне надежно и навсегда укрылась за броней, то артистка осталась жить и творить. С того времени я жила лишь для танца и музыки, искусство заменило мне все, и надо сказать, весьма успешно. Ах, как же я благодарю судьбу, позволившую мне стать балериной и тем самым открывшую передо мной столько возможностей для работы. Как я счастлива, что обладала достаточной волей, чтобы никогда не жертвовать искусством ради любви! Если бы не работа, после разрыва с Луисом у меня не осталось бы ничего в жизни!
* * *
Мои милые ученицы из По, вернувшись в Париж, захотели продолжать занятия. Каждая привела с собой одну или двух новых девочек, подружек или родственниц, в результате у меня получилась целая труппа из учениц, половина которых носила громкие фамилии: демуазели Боннвалль, внучки графа де Оссонвиля[236], мадемуазели де Ванфлер, де Мун[237], де Рошешуар[238], д’Итюрб, де Бройль[239], де Вальднер, мадемуазели Орловска, Малле, Буассьер[240] и моя верная Элизабет Риджуэй. При таком наплыве учениц я стала подумывать об открытии своей школы физической культуры и танца в гораздо более обширном зале, чем моя мастерская. Я нашла такое помещение на бульваре Malherbe. И только газеты начали писать о нем, как я бросила свой новый проект. Я получала много предложений вернуться в театр, и мне стало понятно, что нельзя одновременно вести жизнь артистки и заниматься школой, которая требует полной отдачи и много времени. Поэтому я удовольствовалась тем, что давала уроки своим маленьким балеринам дома, но так и не смогла вести уроки дольше двух лет, поскольку на меня обрушилось много разных дел и к тому же уже не позволяло здоровье.
В 1920 году из Opéra Comique на покой ушла Марикита, ушла совсем без денег, что меня не удивило, потому что она всегда выказывала глубочайшее пренебрежение к материальным ценностям. Театр устроил в ее пользу гала-представление редкого великолепия, с участием самых больших звезд Парижа: Сары Бернар, Маргерит Карре, Мистангет, Маргерит Деваль[241], Синьоре, Жанны Обер, Люсьена Фюжера, Марии Кузнецовой. В конце программы выступали «звезды балета»: Робер Кино, Мона Пайва, Аида Бони и я. Хореография наших номеров, естественно, принадлежала Мариките. Успех этого представления, билеты на которое были сразу заранее раскуплены, позволил Мариките мирно наслаждаться отходом от дел; правда, длилось это недолго, потому что прожила она после этого всего два года. В течение этих двух лет я при каждой возможности ее навещала. До самого конца она помогала мне решать массу проблем, репетировала со мной и обогащала меня своим опытом и знаниями.
* * *
Сразу после войны Сара Бернар поставила пьесу «Гофолия»[242], а в 1920 году возобновила постановку. Два раза она оказала мне честь, доверив работу над движениями молодых актрис в разных сценах и создание хореографии священных танцев. Для меня было истинным счастьем работать с мадам Сарой. Она выказывала необыкновенную любезность, одобряя все, что я предлагала, и можно сказать, что еще ни разу я не работала c большей отдачей и лучшим результатом. Ансамблем молодых актрис было удивительно легко руководить: они быстро схватывали и идеально выполняли все, что я просила. Но какой же удивительный опыт — наблюдать, как репетирует сама Сара Бернар! Более чем когда-либо верная своему девизу «Вопреки всему!», она не обращала внимания на усталость и оставалась на сцене, пока не прорабатывала все до мелочей. Она играла героиню так гениально, что никто не мог оставаться равнодушным.

Портрет Сары Бернар работы Луизы Аббема, 1875
Каждый раз, когда я работала в театре вместе с ней, мадам Сара приглашала меня к себе на бульвар Pereire. Мы обедали в семейной обстановке, за столом сидели ее сын, внучка и внук, кузины и часто ее близкая подруга Луиза Аббема[243], художница, которая, всегда затянутая в неизменный доломан, напоминала старого офицера. Она была умна и забавна. Но я никогда не бывала на бульваре Pereire вместе с Рейнальдо Аном и Маргерит Морено[244], их часто приглашали туда вместе. Я об этом очень жалею, потому что они развлекали гостей своим сногсшибательным остроумием. Я встречала Морено за кулисами, она с присущим ей большим талантом играла Иосавеф[245]. Ее красивый низкий голос всегда вызывал у меня волнение.
Сара Бернар привязалась ко мне, относилась даже по-матерински. По моим рассказам она прониклась симпатией и к Брио: «Я ее уже люблю после всего, что вы рассказали!» Первый раз, когда она встретилась с Брио, взяла ее ладони и, крепко сжав, сказала с чувством: «Если бы вы знали, как я счастлива, что вы рядом с Клео!» У нее самой была камеристка, которую звали Гурней, славная женщина, но она не могла сравниться с Брио остроумием и предприимчивостью.
У мадам Сары была собачка по имени Рикики, довольно безобразная собачка, не похожая ни на какую породу, то ли сеттер, то ли пудель, то ли спаниель, но хозяйка очень любила пса таким, каким он был, а он так просто обожал свою госпожу. Однажды актриса взяла его с собой в театр на репетицию и оставила под присмотром Гурней. Во время большой сцены в «Гофолии» хитрец Рикики сумел ускользнуть и отправился за кулисы в поисках хозяйки. Я заметила его как раз в тот момент, когда он собирался выскочить на сцену и, без сомнения, побежать к Саре, чтобы выразить свою радость. Я еле успела схватить его за ошейник.
Конечно, бедной Гурней досталось бы, если у ног величественной иудейской царицы вдруг запрыгал бы маленький уморительный Рикики! Ведь мадам не всегда бывала любезна. Временами ее охватывали приступы гнева. Эмиль, ее преданный слуга, кое-что знал об этом. Как-то я была на бульваре Pereire, и хозяйка стала искать какой-то пояс, который хотела добавить к костюму Гофолии, но тщетно. Она пришла в страшную ярость, вся покраснела, ужасно кричала на Эмиля, грозилась его задушить и всячески обзывала. Мы все не смели пошевелиться и спрашивали себя, не выльется ли это в нервный срыв. Но потом пояс нашелся, мадам Сара успокоилась и вновь присоединилась к нам, улыбающаяся и полная очарования.

Клео де Мерод
* * *
Я снова получала предложения выступать за границей, но желания отправляться куда-либо у меня не было. Брио старела, ей было уже почти восемьдесят лет, и я не хотела утомлять ее долгими путешествиями. Полю Бокелю, очень активному импресарио, человеку большого вкуса, пришла в голову идея устраивать концерты, где бы я выступала в сопровождении виртуозного пианиста Даниэля Эрикура, получившего первую премию консерватории. Мысль показалась мне соблазнительной. Бокель был необыкновенным импресарио, организованные им турне славились качеством и оригинальностью. Он привозил во Францию величайших артистов и самых известных конферансье, устраивал выступления Сары Бернар, Пабло Казальса[246], Айседоры Дункан… на его концертах можно было послушать Энеску[247], Сен-Санса, Магду Тальяферро[248]. Бокель и сам был превосходным музыкантом и рассказчиком.
Мы тщательно продумали, что именно покажем. Я хотела станцевать что-нибудь еще неизвестное, к тому же твердо решила не повторять прошлых программ. Хоть я и осталась верна своей прическе с пробором, возможно из некоторого суеверия, мне не хотелось возвращаться к «успеху довоенных лет». Я хотела забыть прошлое и начать что-то новое. Но чтобы полностью изменить программу, мне нужен был партнер. Бокель придерживался того же мнения. Он очень высоко оценил виденное в Опере выступление молодого Сержа Перетти, первого танцовщика, о котором сразу же и подумал. Опера дала разрешение Перетти отправиться в турне со мною. Мы вместе с Бокелем составили программу, он был прекрасным советчиком, и решили, что я буду танцевать «Гробницу Куперена» Равеля, «Приглашение на вальс» и «Сюиту» Шопена. Между танцевальными номерами будет играть Даниэль Эрикур. Для фортепьянной паузы он выбрал «Мефисто-Вальс» Листа, «Ноктюрн фа мажор» Шумана и три этюда Шопена. Я сама сочинила композицию своих танцев, Марикита ставила совместные движения с Перетти и за всем следила.
Серж Перетти, гибкий и нервный, был легким, как эльф, и работал, выкладываясь по полной. Но он был еще совсем юным мальчишкой и в те моменты, когда должен был обнимать меня и делать влюбленный вид, вместо того чтобы заключить меня в объятия и изобразить страсть и желание, неуклюже вставал на цыпочки и сюсюкал. Кита ему устраивала встряску: «Проклятие, ну-ка, давай, шевелись! Улыбайся, изображай восхищение, будь галантным. Посмотри, разве она не прелестна, наша мадемуазель Клео?! Ты что, не можешь влюбленно посмотреть на нее?! Ты стоишь там, опустив глаза, как растяпа какой-то! Ты что, никогда не был влюблен?» Покраснев до корней волос, он чуть слышно промямлил: «Нет, мадам», и не понимал, почему мы с Марикитой смеялись до слез!
Несмотря на все это, Перетти танцевал очень хорошо, а Даниэль Эрикур божественно играл. Думаю, что и я со своей стороны показала, что не утратила мастерства и в танцах XVIII века, и в композициях эпохи романтизма, а выбранные с тщанием соответствующие эпохе украшения помогли придать каждому номеру своеобразие. Для «Гробницы Куперена» я выбрала платье на кринолине с серебряным шитьем и большими розами и к нему туфельки из розового шелка. Для «Приглашения» — комплект из светло-голубой тафты: юбка тоже на романтическом кринолине, облегавший, очень декольтированный корсет с маленьким «скромным» шарфом из белого тюля и черные шелковые туфли-котурны. Для «Сюиты» Шопена — тунику со множеством складок из шелкового муслина. Первый костюм был работы Паско, все остальное — Ланвен[249]. Мы ездили с концертами по всем регионам Франции: в первый год это были Невер, Лион, Сент-Этьен, Ним, Тулон, Ницца; потом — Брест, Ренн, Нант, Ангр, Ла-Рошель, Бордо и так далее. Везде на афишах писали: «Танцевальные гала-представления Клео де Мерод». Везде — сумасшедший успех. За это время усердие Даниэля Эрикура принесло ему ангажемент в Америке. Никогда не сдававшийся Бокель нашел другого пианиста — Эмиля Бома, тоже обладателя первой премии консерватории и не менее одаренного. Перетти тоже покинул нас! Опера больше не позволила ему уезжать. Бокель нашел и другого партнера, это был молодой англичанин, Руперт Дон, из лондонского «Театра Его Величества»[250]. Возможно, он и не обладал классической школой и виртуозностью Перетти, но работал искусно и умело. В обычной жизни физически он не производил особенного впечатления, но на сцене выглядел удивительно эффектно, благодаря умелому макияжу и очень откровенному костюму: облегавшее серое трико и черный бархатный жакет, из-под которого виднелись широкий воротник и развевавшиеся рукава белой шелковой сорочки.

Клео де Мерод в сценическом костюме
Я танцевала с Доном под аккомпанемент Бома в течение всего годового турне: зимой — на севере и востоке страны, а летом — во всех курортных пляжных городах: Виши, Урьяж, Виттель, Пломбьер, Люксей, Брид, Люк-сюр-Мер, Дьепп, Берк, Вимрё, Пари-Плаж и так далее. «Могилу» заменили на «18-ю сюиту» с «Венгерским рондо» Гайдна, «Пассепье» Рамо, «Деревенским праздником» Госсека и «Менуэтом» Боккерини.
Часто я знала как свои пять пальцев города, где мы выступали, и, не желая уже гулять, перечитывала любимых поэтов. Я всегда возила с собой книги любимых авторов: Гюго, Верлена, Верхарна, Деборд-Вальмор, госпожи де Ноай, иногда Рембо или Франсиса Жамма. Выбор приходилось делать очень быстро, бегло пробегая глазами полки в библиотеке перед отъездом. Или же я брала напрокат арфу и развлекалась в гостиничном номере, устраивая маленькие импровизированные концерты для Брио, очень благодарной слушательницы.
Шум аплодисментов достиг Парижа, и Оскар Дюфренн, всегда искавший great attraction[251], попросил меня выступить вместе с Доном в Empire.
В 1922 году умерла Марикита. После службы в Saint-Louis-d’Antin мы вместе с ее мужем, господином Фурнье, поехали на кладбище Saint-Mande. Я очень горевала, с уходом Марикиты я лишилась одной из самых нежных подруг, лучшей советчицы и преподавателя высочайшей квалификации. Но в горе меня утешала мысль о том, какую красивую жизнь она прожила. Марикита, жившая лишь искусством, смогла выразить себя на том языке, который сама же и выбрала, осуществить мечты юности, добиться успеха, аплодисментов, понимания и желания себя выслушать. Да и работала она к тому же до последнего. Правда, великолепная жизнь, одна из самых долгих! Жюль Жанен[252] советовал ей написать мемуары, и это было не вчера… в них не нашлось бы места ни разочарованию, ни упадку. Кита всегда с честью отвечала судьбе: в 1860 году она вдохновляла на самые восторженные стихи, среди которых хвалебные оды Луи Буйе[253], друга Флобера, а в 1918-м так же вызывала всеобщее восхищение невероятным вкладом в работу над спектаклем «В прекрасном саду Франции»! Воображение, талант, чувство вкуса и совершенная пластика — она обладала всем этим и много еще чем. Женщина удивительной души, тонкой и нежной, ее обожали все артисты, имевшие с ней дело… С ее смерти прошло тридцать лет. Ее имя, конечно, уже ничего не говорит молодому поколению. Я же никогда не забуду Киту, и ее племянница, верная Марго, тоже не забывает и хранит подробные воспоминания о ее жизни и работе.
Через год не стало и нашей великой Сары. Я узнала об этом из газеты Midi во время турне. Она тоже была на гастролях со спектаклем «Регина Арман» по пьесе своего внука, Луи Вернея[254]. Она играла и в утренних, и в вечерних представлениях, без явных признаков усталости, несмотря на искусственную ногу и семьдесят пять лет. В ней словно была какая-то пружина, и витальность с годами не убывала. Сара Бернар всегда хотела знать, чем я занималась, какие произведения играла на сцене, интересовалась музыкой и танцем так же, как и драматическим искусством, которому служила.
Я только-только вернулась в Париж, когда узнала о ее болезни и была потрясена до глубины души. Я тут же кинулась разузнавать, как и что, но мне так и не удалось ее вновь увидеть: к ней никого не пускали, надеялись до самого конца. Сара боролась, и казалось, что ей удастся и на этот раз победить болезнь, но как-то вечером она заснула и больше не проснулась. Я побежала на бульвар Pereire. Ее одели в длинное белое платье, лицо было окутано лиловым тюлем, рядом с кроватью горела лампа под розовым абажуром. Она казалась спокойной и красивой и совсем не выглядела мертвой.
На лестнице я столкнулась с Люсьеном Гитри, который спускался. Когда я входила в комнату, туда вносили огромный букет пармских фиалок, присланных Рейнальдо Аном. Саша Гитри и Ивонна Прентан приехали незадолго до меня. Саша низко опустил голову, охваченный печалью, а прелестная маленькая Ивонна плакала, стоя на коленях перед кроватью.
Похороны Сары Бернар проходили невероятно торжественно. Всю дорогу от театра до Пер-Лашез за гробом следовала огромная толпа парижан, весь город вышел на улицу, чтобы проводить похоронный кортеж, в прямом смысле полный представителями гербов и корон. Таких роскошных похорон, вероятно, еще не бывало. Говорили, что по этому случаю все клумбы Франции опустели. Сара Бернар уходила в последний путь, осыпанная цветами, и каждый букет передавал искреннюю скорбь. Пер-Лашез, и вот шестьдесят лет славы, поэзии, мужества и красоты похоронены. Там были все артисты Парижа, глубоко взволнованные, многие плакали.
Когда семья проходила к могиле, охрана хотела помешать пройти верному Эмилю, но он настаивал. Ему сказали:
— Допускаются только члены семьи.
— Ну, тогда мне можно пройти, — ответил верный слуга, — потому что я член этой семьи уже сорок девять лет, — и встал рядом с сыном звезды, Морисом Бернаром.
Когда я, в свою очередь, подошла к открытой могиле, то не нашла рядом с ней кропила. Тогда я наклонилась и послала моей великой подруге воздушный поцелуй. Этот простой жест не ускользнул от внимания репортеров. Они тут же развели вокруг этого шумиху, но я лично не видела в этом ничего особенного.
* * *
«Возвращение в театр знаменитой танцовщицы Клео де Мерод». Вот что кричали театральные курьеры, желая привлечь внимание к будущему выступлению в театре-варьете Empire, в котором показывали «уникальные» представления: «Дьявольские лучи» Албана Роберта, инженера, связанного c английской морской авиацией; индийский маг Линга Сингх, «обладающий секретами факиров»; лошади-акробаты и гениальные клоуны! Грандиозная забава. Мое имя, напечатанное огромными буквами, красовалось на всех программах варьете, которыми были обклеены афишные тумбы и которые печатались в газетах. Все это сопровождалось портретом сомнительного сходства.
Оскар Дюфрен был искушенным мастером всевозможных рекламных трюков. Он устраивал в зале Empire великолепное шоу для любителей сенсационных выступлений. Полное лицо, гладко выбритые щеки — он сам был похож на певца варьете, а может быть, он и в самом деле когда-то им был. Добродушный человек, всегда в хорошем расположении духа, улыбчивый и любезный — один из самых приятных директоров театра, каких я знала. Кто бы мог предположить, что этого жизнерадостного господина ждет такой трагический конец?!
Несколько строчек из Figaro показывают воодушевление, с которым встретили мое возвращение: «Вчера вечером в Empire собралась целая толпа, чтобы поприветствовать мадемуазель Клео де Мерод, которой парижане не любовались уже слишком долго. Знаменитая танцовщица и ее партнер, г-н Руперт Дон, безупречно исполнили „Деревенский танец“ Госсека, „Венгерское рондо“ Гайдна и „Приглашение на вальс“ Шопена. Классическое изящество и гармония движений Клео де Мерод вызвали горячие крики „браво“. Г-н Руперт Дон танцевал с большой легкостью и страстью, при этом сумев подчеркнуть романтические и меланхоличные стороны исполняемых произведений»[255]. Бóльшая часть обзоров была написана в таком же роде. Некоторые злоупотребляли ужасным словечком «еще». Между тем мое шестилетнее отсутствие на парижской сцене никак не чувствовалось! Среди тогдашних звезд было много актрис старше меня, но в Париже всегда так — нужно постоянно быть на виду. Если какое-то время не показываешься, людям кажется, что ты явился с того света! Однако любовь публики очень быстро притупила вызванное статьями легкое раздражение.

Клео де Мерод
Тогда наступила эпоха бегина и чарльстона… но мои танцы, так на них не похожие, нравились парижанам. Каждый вечер — полный зал и громкие рукоплескания.
Во время сезона в Empire Морис Леман, который управлял еще и Porte Saint-Martin, предложил мне «Танец Анитры» в «Пер Гюнте»[256], который он собирался ставить с участием таких звезд, как Депре и Виктор Франсен[257]. Я обожаю музыку Грига и с радостью бы танцевала Анитру, но тогда не очень хорошо себя чувствовала. Выходя разгоряченной со сцены, я как-то попала в струю ледяного сквозняка, результатом чего стал ларингит, который сильно меня мучил. Я хотела немного отдохнуть и подлечиться после окончания сезона, но Леман все настаивал. Мне было это очень приятно, однако я не могла согласиться при всем своем горячем желании.
Мое появление на сцене пробудило интерес иностранных театров. Первые предложения пришли из Берлина через посредничество импресарио Веранда. Многие берлинские театральные агенты просили его уговорить меня подписать контракт. «Они надеются, — говорил он мне, — что получится хорошая сделка. Многие директора театров хотели бы вас пригласить». Я от всего отказалась и больше не хотела ездить за границу, особенно в Германию.
* * *
Брио уже очень долго жила у меня. Однажды вечером, когда она собиралась уходить, очевидно усталая, я сказала: «Послушайте, Брио, почему вы так упрямо возвращаетесь к себе? Поселитесь, наконец, здесь, так всем будет лучше». Она с радостью приняла мое предложение, я поселила ее в комнате по соседству с моей, просторной и приятной. Когда она устраивала большие уборки, носила горы белья, я ей говорила:
— Дорогая моя старушка! Вы слишком нагружаете себя! Не утомляйтесь так, оставьте все как есть…
— Милое дитя, если я остановлюсь, это будет уже навсегда.
Как-то ночью, шел 1925 год, я услышала, как она встает с постели, потом звук падения… и тишина. Встревоженная, я побежала к ней в комнату и обнаружила ее распростертой у кровати — инсульт. Я вызвала врача и медсестру. C бедной Брио все было ясно: полностью парализованная справа, она уже не могла говорить, но оставалась до самого конца добродушной и бодрой, указывала мне левой рукой, где и что лежит в шкафах… Она тихо скончалась, когда ей исполнилось восемьдесят. Я похоронила ее рядом с матерью — самое правильное место: больше двадцати пяти лет она ежедневно окружала меня любовью и истинно материнской заботой.
Чтобы не чувствовать себя совсем одинокой, я пригласила госпожу Гурней, жизнь которой почти развалилась после смерти Сары Бернар. Жанна Гурней, славная и честная женщина, как и Брио, хранила множество любопытных воспоминаний, в первую очередь о годах, проведенных подле ее великой хозяйки. Она также знала всякие истории о Морисе Роллина[258], потому что дружила с его сестрой. Но несмотря на все свое рвение, сравниться с Брио она не могла. Очень вялая из-за упадка сил, несомненно, она только и могла, что выгуливать Мумусса. Добрый Тото уже давно умер от старости, еще на улице Капуцинок, много лет я не хотела заводить другую собаку. Однажды женщина, которую я знала по Opéra Comique, госпожа де ла Шарлоттери, жена побочного сына Александра Дюма, пришла ко мне домой, держа на руках ангельского щеночка: белый пуховый шарик c забавным хвостиком, похожим на трюфель, и черными как лакрица глазами:
— Держите, Клео, это щенок моей прекрасной собаки.
— Нет, нет, не хочу! Я слишком горевала, когда умер Тото.
— Да, да, берите.
Он был такой милый, такой ласковый, что я сдалась, и он прожил со мною восемнадцать лет. А после этого уже все: я никогда больше не заводила собаку, не хотела никем заменять моего маленького Мумусса.
Гурней всегда словно витала в облаках. Тем не менее я оставила ее в память о Саре Бернар, хотя она очень утомляла меня, весь день бесцельно слоняясь рядом. Она это поняла и, зная графиню Греффюль[259], поселилась в доме престарелых, который та основала. Гурней сделала мне подарок, глубоко меня тронувший, — трость, на которую опиралась Сара Бернар в последние годы. Этот сувенир мне дороже любых ценностей.
На освободившееся место претендовали новые кандидаты, но я никого не стала нанимать. Мне больше не нужна была компания так, как раньше, и разве можно было заполнить пустоту, которую оставил уход Брио?! Я стала привыкать жить одна, прибегая лишь к помощи горничной.
* * *
Невозможно перечислить все мои выступления, бенефисы и гала, можно с тем же успехом попытаться пересчитать листья в лесу… Одно из самых ранних воспоминаний о концертах — это выступление в Трокадеро для престарелых артистов из Pont-aux-Dames, на котором пел Энрико Карузо. Первый раз я услышала, как он поет в Châtelet, в опере «Манон» Пуччини, это было потрясающе. В Трокадеро он пел сцену из «Риголетто»[260] и восхитительные неаполитанские серенады, и никто никогда не пел их так, как он. Внешне, быть может, он не производил большого впечатления, но зато какой теплый тембр, какая глубина и чистота голоса! Успех был фантастический! В конце выступления Констан Коклен наградил его орденом Почетного легиона.

Клео де Мерод
Я также очень хорошо помню утренний концерт в Гаэте «Тридцать лет театру», где я исполняла «Пантомиму» в ревю Жака Редельспергера вместе с другими известными артистами: Барте, Замбелли, Гранье, Синьоре, Кокленом-младшим, Черни[261], Тарридом[262], Деваль, Жюдик[263]… Я участвовала в концертах в Сорбонне, в Шансонье, в вечерах Пти Ли Блан, где я танцевала или вела программу, на что соглашалась весьма охотно. Я вообще не знаю, отказывалась ли когда-нибудь от участия в благотворительных представлениях, если бывала в Париже и свободна от работы. Однажды в театре Femina я выступала на литературном гала-концерте, посвященном Пьеру Лоти[264] и устроенном Джейн Катюль Мендес, талантливой поэтессой и восхитительной женщиной. Показывали сцены, символизировавшие разные произведения писателя. Рейнальдо Ан дирижировал музыкальным ансамблем. В нем участвовали артисты Comédie-Française вместе с Муне-Сюлли, Мадлен Рош, Джинн Провост и Рене Александром, очень поэтично изображавшим Рамунчо[265]. Моя сцена иллюстрировала «Исландских рыбаков». Люси Оге, крестница Брио, журналистка, освещала это событие в прессе и была очень любезна. Вот что она написала в Journal de Paris о моем маленьком творении по мотивам произведения Лоти: «Клео де Мерод, еще более восхитительная, чем ее описал поэт, осветила этот памятный концерт своей улыбкой и увлекла всех своим изысканным искусством. Вся поэзия Бретани была в ее глазах, зеленых как водоросли морских глубин, а ее руки порхали с неизъяснимой грацией, выражая бесконечную радость нареченной Яна». Пьер Лоти, очень тронутый, всех поблагодарил в самых трепетных выражениях. Большие темные глаза с очень широкими и густыми восточными бровями занимали почти половину его лица. Взгляд и голос были мягкими, немного грустными. Из кокетства он нанес немного розовой пудры на щеки, а ботинки выбрал на высоких каблуках, чтобы казаться выше, потому что стеснялся своего невысокого роста.
Еще был гала-концерт «Бледные малыши на свежем воздухе», который проходил в оригинальном месте — на Эйфелевой башне, что только способствовало его успеху. В конце все зрители поспешили к артистам за автографами. Я раздала их огромное количество вместе с Виктором Буше[266], Рене Дореном, Ноэль-Ноэлем[267], Лаурой Дианой, Андре Лефором[268], Карлоттой Замбелли, Андре Люге[269]… и Андре де Фукьером, одним из ведущих этого благотворительного праздника.
Насколько я помню, бенефис Евы Лавальер стал предпоследним гала-концертом, на котором я танцевала. На нем собрался целый букет звезд: от Саша Гитри до Иветты Гильбер, от Сержа Лифаря[270] до Мари Дюба[271].
Я также довольно много занималась детским домом «Приют искусств», который возглавляла Рашель Бойер, сменив на этом посту Мари Лоран. Рашель Бойер играла в Comédie-Française, у нее были роли этаких бойких дамочек — руки в боки. Я помню, видела ее в спектакле «Женщина из Табарина»[272]. Потом она занималась финансами, это была гениальная деловая женщина, удачно вкладывала деньги, заработала состояние и благородно им распоряжалась. Казалось, что эта большая полная женщина может двигать горы, но на своем пути помощи артистам и художникам, чему отдавалась вся без остатка, она встретила лишь равнодушие… Бойер отдала свой красивый особняк в Нейи, на бульваре Inkermann, под сиротский приют — «Приют искусств». Более того, она основала Союз Искусств — фонд, занимавшийся распределением средств среди нуждавшихся актеров.
Неугомонная Рашель Бойер организовывала приемы и распродажи в пользу своих коллег и актерских сирот. Я несколько раз вела бухгалтерию распродаж в пользу приюта, которые проходили в фонде Ротшильда, на улице Berruyer.
* * *
Я часто бывала у Молье, очень любопытного и уникального в своем роде персонажа. Так же как Хокусай[273] был помешан на рисовании, Молье с ума сходил по верховой езде. Он возглавлял кружок конного спорта, занимавший видное место в Париже в течение более чем полувека. Сухое лицо с тонкими усиками, худощавое изящное тело, длинные ноги, слегка кривые, — настоящий берейтор[274] из Сомюра. Его особняк на улице Benouville был истинным храмом лошадей. Он перестроил его в виде манежа в 1887 году. Здесь он устраивал светские приемы строго по приглашениям, и круг избранных был очень узок. На вечерах в «Доме Молье» можно было встретить Анри де Пена[275], Карана д’Аша[276], Поля Эрвьё, Жан-Луи Форена[277], Адольфа Виллетта[278] и титулованных особ — принца де Саган, графа де Шиме, герцогиню д’Юзес[279]… Молье представлял гостям в своем манеже учеников, показывал лошадей и других ученых животных, которых сам обучал и дрессировал, а также пантомимы и фантазии своего сочинения.
Когда я посещала цирк Молье, уже после 1900 года, директор был женат на Бланш Алларти, виртуозной наезднице, как и он сам, вызывавшей восхищение зрителей изяществом и стремительностью движений при вольтижировке без седла. Молье показывал себя великолепным преподавателем высшего класса, их племянница, Лизиана, занимавшаяся акробатическим танцем и «эксцентрическими упражнениями», представляла один из самых изысканных аттракционов на этих вечерах, куда попадали лишь избранные. Цирк Молье давал три представления в год. Каждый год после премьеры Молье приглашал всех друзей, где-то человек триста, отужинать в ресторан в квартале Étoile. Ужин проходил в огромном зале, где все сидели за маленькими столиками, меня всегда сажали вместе с Молье. Мы развлекались, после ужина танцевали в соседней зале — дансинге ресторана. Оркестр был хорош, и мы веселились до утра.
Однажды, когда пришла в гости к своей подруге Замбелли, я встретила у нее несколько приятельниц из Оперы. Громкие восклицания и приветствия! Мы сто лет уже не встречались, радостно кинулись друг другу в объятия и принялись болтать как девчонки: обменивались новостями, вспоминали прошлое, забрасывали друг друга вопросами! Вдруг одна из них говорит: «Глупо, что мы не встречаемся время от времени! Давайте устраивать регулярные встречи? И надо об этом сообщить всем, кого сегодня не было». Такое предложение все с радостью поддержали. Начиная с этого дня мы ежемесячно устраивали чаепития у кого-то из нас. За чашкой чая я встретилась со многими приятельницами, которых потеряла из виду: Сиред, Куа, Менье, Бланш, Мант, Келлер, Пьоди, Дельсо, Гиймен, которая стала маркизой, Фелиси Атрель, Ариану Югон, Жанну Бийон и Марселину Рувье, миниатюрную милую блондинку, решительную и задорную, очень хорошую танцовщицу, сделавшую успешную карьеру в Опере. Почти все были в счастливом замужестве. Замбелли всегда присутствовала на всех наших чаепитиях. Леонтина, очень занятая своими уроками, не могла приходить часто, но у себя я видела ее каждое воскресенье.
Прелестные часы, проведенные вместе с бывшими ученицами мадемуазель Теодор! Мы вспоминали папашу Саломона, забавную Крампон, Плюка, строгого и доброго, Маури-андалузку, Гуно с пышной бородой, Гайяра на сцене в смешном цилиндре, и Их Величеств Постоянных Посетителей Танцевального фойе! Вспоминали мелодии балетов… пели их хором, а иногда, встав из-за стола, принимались танцевать свои партии прямо в обычном городском платье! И снова хохотали и дурачились как девчонки! Эти встречи приносили нам сумасшедшую радость и веселье. Думаю, это балет сохранил наши сердца и души юными.
* * *
Однажды мне прислали брошюры Католического союза театров, незадолго до этого основанного под эгидой доминиканского ордена и Комитета по вопросам качества. Очень эффективным его президентом была госпожа Эглон. В свое время я часто видела ее в Опере, но никогда лично не разговаривала. Она больше не пела, посвятив себя полностью работе союза. Когда дьявол стареет, он становится отшельником. Это, возможно, как раз случай госпожи Эглон. Она познала достаточное количество любовных связей, и ее последним романом стали отношения с композитором Ксавьером Леру. Страстная пропагандистка союза, она приглашала известнейших конферансье и больших артистов, встречи проходили в предместье Saint-Honoré, в зале монастыря доминиканцев. Эглон там установила гардеробные c персональными шкафчиками для артистов без ангажементов. Благодаря ей, таким образом, собирали много пожертвований для артистов в стесненных обстоятельствах. Я сотрудничала с Эглон много лет, и мы стали хорошими подругами. Как-то она пригласила меня провести лето в Кольвиле, где у нее был дом. Это одна из точек, где в 1944 году высаживались союзники. Я там прекрасно отдохнула. Дом, построенный на склоне горы, возвышался над морем, на первом этаже находилась огромная студия, отделанная с отменным вкусом, откуда окна выходили в густой сад с готическими статуями, покрытыми мхом. Место для мечтаний и размышлений. По воскресеньям Эглон срезала розы, а я относила букеты в маленькую церковь Кольвиля, в которой колокол висел над самыми морскими волнами. Скромная деревенская церквушка, без особенного стиля, но очаровательная и тихая, стояла среди домиков под синими крышами.
Эглон предавалась, возможно, несколько поздно пришедшей религиозности. Что касается меня, то с годами в моей жизни ничего в этом смысле не изменилось. Вера была всегда со мною с самого детства. Правда, я не так уж регулярно ходила в церковь, поскольку моя жизнь была вечным скитанием из страны в страну, тем более приятно было проводить время в церкви Saint-Vincent-de-Paul, укрывшись в бедной часовне, где не проводилось пышных месс, но чувствовался запах моря и аромат роз, там легко думалось о вечном.

Клео де Мерод в сценическом костюме
В Католическом союзе Эглон создала круг близких соратников, который мы называли «Маленькая овчарня». Мы собирались раз в неделю, и отец Паде, капеллан Союза, проводил с нами небольшие беседы. Там я познакомилась с Гастоном Бати[280] и его женой, с Леони Яне, Эдме Фавар[281] и дочерью Гуно, госпожой де Лассю. Она очень хорошо помнила, что видела меня на репетициях «Фауста», когда я училась в младших классах.
Именно отец Паде открывал первый гала-концерт союза, выступив с речью, полной очарования и ума, в Théâtre de la Madeleine, где председательствовал кардинал Вердье[282], человек тонкой души, полный благости. Отец Паде говорил с большим воодушевлением о присутствии в театре кардинала: «Сегодня произойдет нечто необычайное: через несколько мгновений вы увидите Его Высокопреосвященство собственной персоной!» «Непонятно, как это так?!» — возмущенно зашептали бы сейчас наши современные фарисеи. «Не кажется ли вам неуместным присутствие Церкви в театре? С чего бы ей бежать из дома артистов, если ее дом везде, где живет красота?»
Госпожа Эглон со всем жаром своей натуры занималась организацией этого концерта, на котором выступали самые известные актеры Парижа, чтобы помочь менее удачливым собратьям. Звучали чудесные песни в исполнении Иветты Гильбер, Ивонны Бротье[283], Андре Боге[284] и многих других. Габи Морле[285] и Виктор Буше разыграли очень смешной скетч.
Карлотта Замбелли с некоторыми из своих юных учениц представила очаровательный маленький балет на старинную музыку, который она сама поставила. Андре Брюле, директор театра, неожиданно выступил с фокусами, подражя РоберуУдену[286], а лучезарная нарядная Мари Леконт вдохновленно исполняла роль спикера. Вот что написали в бюллетене союза о моем участии: «Клео де Мерод и г-н Скибин[287] исполнили „Вальс 1900“ с невероятной легкостью и шармом: скользящие плавные движения и едва уловимая ирония. Им пришлось повторить этот номер на бис».
* * *
«Вальс 1900»? Да, он снова вошел в моду! Эту мелодию напевали прохожие на улицах, играли по радио… В мюзик-холлах пары медленно кружились в плавных па, снова везде пели «Когда умирает любовь»[288], «Очарование»[289] и песенки Прекрасной эпохи. Она снова вызывала интерес — Прекрасная эпоха… Обозреватели с удовольствием вспоминали разные истории из прошлого, а мемуаристы посвящали главы своих книг портретам героев того времени, на выставках воссоздавали тот стиль: в 1933 году, в Павильоне Марсан показывали реконструкцию «Интерьеры времен Третьей республики», и посетители не отходили от витрин. Я ходила на эту выставку, где среди множества других фотографий была и моя, вместе с карикатурой, нарисованной на меня Леандром[290]. Один журналист узнал меня и попросил взять интервью, которое потом напечатал в Eclaireur de Nice. Прелестная статья, веселая, живая, где в форме диалога рассказывалось в подробностях о Прекрасной эпохе.

Карикатура на Клео де Мерод и Леопольда II
Это внезапно возникшая мода вызвала у Анри Варна, директора Alcazar, желание поставить спектакль «Ревю 1900». Он тут же подумал обо мне: 1900 год — это же Клео де Мерод! Конечно, моя карьера длилась гораздо дольше этого года, я активно выступала и после 1925-го, но что поделать с навязчивыми убеждениями?
Варна мне написал: «Не хотели бы вы стать звездой моего „Ревю“? Ваше участие гарантирует спектаклю успех, вы снова с блеском вернетесь на сцену». Я ответила, что подумаю, и спросила себя, стоит ли мне снова появляться на театральных подмостках. Я не танцевала уже десять лет, форму не потеряла, продолжала заниматься каждый день и нисколько не уставала при этом. Но я себе говорила, что поработала достаточно и пора отдохнуть. Вновь подняться на сцену? Не растеряюсь ли я, оказавшись в лучах рампы? Могу ли я еще выступать? Варна написал снова, настаивал, умолял. Я сдалась.
Снова появились объявления, реклама, круговорот анонсов, завлекательные предпросмотры: «Спектакль-ревю в Alcazar — взгляд в прошлое», «Клео де Мерод будет выступать в „Ревю 1900“», «Клео де Мерод, уступив просьбам Анри Варна, согласилась вновь появиться перед публикой». Писали даже не совсем точные вещи, например, газета Echo писала, что я «покинула сцену за несколько сезонов до начала военных действий»!
Репетиции проходили бодро. Варна разрывался на части, чтобы наилучшим образом подготовить свой спектакль, к которому сам написал текст вместе с Лео Лельевром[291]. Декорации создали Фост и Дженни Карре. Среди многочисленных сцен были такие: «Мулен Руж 1900», «Загадка парижанки», «Храм в Ангкоре», «Послы в 1880 году», «Трувиль 1900», «Последний кучер фиакра». Жермен Лаборд[292] изображала привлекательную кумушку-сплетницу, Мансюэлль — очень смешной в любой роли, и как всегда неподражаемая Кассив[293]!.. На сцене она казалась воплощением веселья, восторга и живости, а в реальности это была очень мягкая женщина, скромная и почти что застенчивая. У меня же в этом ревю было четыре танца: «Мастерица», которую я исполняла в своем нормандском костюме, «Камбоджийка» и еще маленькая сценка из эпохи Второй империи в костюме из «Приглашения на вальс», где я должна была по всеобщему настоянию петь песню Ракель Мельер[294] «Осторожно, вы помнете мою муслиновую оборку…». И наконец, сам «Вальс 1900». Декорации изображали весьма романтичный парк, сбоку стояла каменная скамейка, на которую упали ветки глицинии. Когда занавес поднимался, я сидела на скамейке, а Скибин, во фраке и невероятно влюбленный, наклонялся надо мной. Я была одета в очень длинное розовое платье c корсетом из китового уса, с рюшами внизу. Мы танцевали пять вальсов подряд, заканчивали, долго кружась, а потом Скибин на руках уносил меня со сцены.
Наступил день генеральной репетиции. Вход и коридоры украсили афишами тридцатичетырехлетней давности: Иветт Гильбер в своих черных перчатках, Майоль[295] с бутоньеркой из ландышей, Полен в первых рядах, Лейяль, Кам-Хилл[296]…

Клео де Мерод в сценическом костюме
Кассив ужасно боялась выступать, да и я не меньше нее, но все прошло хорошо. Когда я появилась на сцене, зрители стали хлопать, топать и размахивать руками. Не меньше кричали «браво» и аплодировали Кассив в роли танцовщицы «Мулен Руж» — Мом Креветт. Все сценки понравились публике, и Варна был сполна вознагражден за свои старания. Потрясающий вечер. Критики не отставали от зрителей: ревю назвали превосходным, авторов и артистов осыпали похвалами, а в отношении меня были бесконечно благосклонны. Случится ли мне еще когда-либо вдыхать аромат столь сладостный, как у тех цветов, что мне подарили тогда? Несколько цитат наугад:
«Успех Клео де Мерод, королевы Парижа 1900 года, и Кассив, создавшей образ Мом Креветт, был грандиозным. Эти две артистки, не забытые публикой, не пожалеют о том, что прервали свой преждевременный уход со сцены»[297].

Клео де Мерод в сценическом костюме
«Клео де Мерод сделала из своего вальса самый целомудренный и романтичный рассказ о любви. Она кружилась, легкая и воздушная, в своем розовом платье… Затем в зале словно грянул гром. К рукоплесканиям хотелось добавить еще что-нибудь, какой-нибудь новый жест, что мог бы полнее выразить всеобщий восторг, который вызвало это волшебное выступление…»[298]
«Кто же эта элегантная дама в розовом? Да, это она, это Клео де Мерод! Прекрасная Клео, о которой ходят легенды, вновь появилась на сцене и самозабвенно кружится в вальсе… Громоподобная овация вознаградила ее за невероятную живость и легкость, за изящество и все еще юную грацию, за удивительную тонкость силуэта. Счастливая эпоха 1900-х годов, без забот, без горестей, без трудностей и страхов встает перед нашими глазами… Спектакль возрождает эту очаровательную эпоху, делая тех, кто жил в то беззаботное время, моложе на тридцать лет и заставляет молодых жалеть, что они ничего этого уже не увидят»[299].
Другие строчки из разных статей: «Колетт, сидя на авансцене, смотрела, как танцует Клео де Мерод. „Совсем не изменилась, — сказала она. — Все так же мила, изящна и невинна“».
После успеха первого вечера я поняла, что вновь обрела прежний кураж на сцене. Мой успех вызвал во мне глубокую радость… и неожиданную. Начав свою карьеру с очень заметных дебютных выступлений в 1895 году, срывать овации и возгласы восхищения в 1934-м! Мне не на что жаловаться.
Стоя под сотней взглядов, восхищенных и радостных, как и прежде, слушая крики «браво» и сумасшедшие аплодисменты, которые знаменовали конец моей танцевальной карьеры, я думала о словах отца: «Не забывай, что рукоплескания толпы преходящи и что те же люди, которые сегодня тебя обожают, рано или поздно забудут тебя и предадут». Нет, моя публика никогда меня не предавала, никогда. Несмотря на смену эпох, моды, смену всего и вся, каждый раз, когда я выходила к ней, она всегда встречала меня с любовью.
Вместо послесловия
Как-то летним днем 1942 года я прогуливалась по берегу Крёза. Стоял прекрасный жаркий день, вокруг все зеленело и цвело, по синему небу бежали легкие мерцающе-белые облака. Я шла, погрузившись в спокойствие окружавшего меня пейзажа, так отличавшегося от тех ужасных событий, что происходили вокруг. Как и в 1914 году, я вынуждена была покинуть свой дом, опасаясь вражеского нашествия, которое на этот раз, увы, удалось: Париж был захвачен. Друзья посоветовали мне уехать и нашли прелестную деревушку, где я и поселилась в мире и спокойствии, ожидая окончания мрачных времен.
Какая разница между спокойной жизнью этого тихого городка и той, что я вела в Париже во время сезона в Alcazar! Я была постоянно занята: то меня просили участвовать в жюри какого-нибудь конкурса, то умоляли одолжить некоторые мои костюмы или портреты для показа на выставке, приглашали на встречи, вечера и концерты, ко мне все время приходили родители, желавшие отдать на обучение своих дочерей, чтобы подготовить их к программе младших классов в школу Оперы… До сих пор я в прямом смысле не знала отдыха.
После того выступления в «Ревю 1900» мне приходило много предложений от директоров парижских и иностранных театров, меня даже просили снова отправиться в турне по Америке, но я от всего отказалась. Успех 1934 года показал мне, что я все еще могу, не боясь, выступать перед публикой, этого мне было достаточно, и я предпочла на этом остановиться. Мне не хотелось вновь возвращаться на сцену, я считала, что, познав весь блеск и хмель театральной карьеры, уже могу отказаться от него без усилий. Моя жизнь была наполненной событиями и достаточно интересной, у меня были друзья и маленькие ученицы, дни проходили так насыщенно, что времени для сожалений просто не оставалось.
После того как я приняла это решение, прошло семь лет. В мир снова вернулась война, и вдалеке от дома и друзей, в тишине полей я терпеливо ждала, думая о тех, чья жизнь в это время превратилась в настоящий кошмар.

Клео де Мерод за книгой
* * *
Я шла уже долго, почувствовав небольшую усталость, села на траву, совсем близко к воде, среди кустов тростника. Я следила взглядом за струившейся водой, сверкавшей в солнечных лучах, за отражением небес и облаков, за медленным кружением листьев на глади реки. Вдруг отражения стали двигаться, собираться в картины, и перед моими глазами оживали изменчивые образы, словно перемешанные кадры из фильма, цветные светящиеся сценки из моей жизни, возникшие словно по волшебству.
Вот маленькие ученицы танцевальных классов в коротких белоснежных юбочках бегут изо всех сил вверх по широкой длинной лестнице; потом молодой венецианец в бархатном берете, расшитом жемчугом, разговаривает с красавицей в белом; актриса в костюме времен Людовика XIII кланяется перед восхищенной публикой в ослепительно красивом зале; а вот на палубе большого парохода стоят две француженки, направляющиеся в Америку; вот на террасе большого дома на Бродвее репортеры окружили двадцатилетнюю танцовщицу с золотистым ободком на волосах; …псевдокамбоджийка в пурпурном наряде и высокой диадеме танцует под звуки странной экзотической музыки; герцогиня Медичи открывает бал в саду палаццо Веккьо; а вот в частном театре императорского дворца Эдуард VII, весь в орденах и лентах, перегнувшись через край ложи, разговаривает с балериной в испанском костюме; та же балерина стоит перед Колизеем в Риме; в Неаполе — перед неистовствующей от восторга публикой; в Мадриде — в красном с золотом зале, полной рукоплещущих зрителей; в Бухаресте — окруженная бросающими береты в воздух студентами; в Opéra Comique — на сцене в цветочном наряде Весны; в Биаррице — в наряде жительницы Камарго перед целым отрядом раненых солдат… Речные волны приносили эти картины, они сменяли друг друга бесконечным потоком.
Затем появилась женщина в розовом платье, кружащаяся в вихре вальса, и на этом видения прекратились. Перед моими глазами лишь тихо струились прозрачные воды, отражая небеса и покачивая упавшие с деревьев листья.
В зеркале реки память отразила всю мою жизнь, и, возможно, впервые я так подробно и четко вспомнила все, что мне довелось пережить. Неужели я и правда пережила все это, проехала столько стран, увидела столько городов, столько лиц, столько чудесных произведений искусства, в то время как большинство людей живет тихо на одном месте, не зная и не видя ничего, кроме маленькой деревушки и берегов реки, похожих на эти?
Сколько замечательных людей, сколько великолепных зрелищ, сколько событий было в моей жизни начиная с того дня, как держась за мамину руку, я смотрела на проезжавший под Триумфальной аркой грандиозный катафалк с телом Виктора Гюго, за которым тянулся огромный шлейф из черного крепа!
Жизнь или волшебный сон? Там, среди воды и зелени, я осознала, насколько интересной и захватывающей получилась моя судьба, и даже испытала некоторое смущение из-за того, что этот чудесный шанс достался именно мне!
* * *
Я часто думаю о том видении, посетившем меня в момент одиночества и изоляции, особенно когда после войны все стали призывать меня написать историю моей жизни: «У вас должно быть множество интересных, необычных и трогательных воспоминаний». Я признавала, что так оно и есть, но их так много и они настолько разнообразны, что мне не удастся справиться с этой задачей и изложить все в одной связной истории. Только в начале 1954 года, уступив многим горячим просьбам, я взялась за написание этой книги, начав с того, что описывала вразброс разные случаи из жизни. Недавние воспоминания перемешивались с почти забытыми картинками из прошлого, возникавшими перед глазами, когда я перебирала альбомы со старыми купюрами, афишами и театральными программками… Перед этой кучей свидетельств моего прошлого я двадцать раз теряла терпение, столько их было…

Клео де Мерод в сценическом костюме

Клео де Мерод в сценическом костюме
Эти воспоминания я ни в малейшей степени не претендую называть громким словом «мемуары», они получились очень неполными. Мне пришлось пожертвовать множеством происшествий и деталей, я не рассказала обо всех своих ролях, обо всех благотворительных концертах, в которых участвовала, не описала все города, где выступала, и не процитировала все статьи, что обо мне публиковали, все письма и стихи, какие мне писали. Если бы я взялась описывать все, что я сделала, прожила и прочувствовала, что узнала за многие годы насыщенной жизни, то и десяти томов не хватило бы.
* * *
Я знаю, что некоторые конечно же скажут, как когда-то сказал тот журналист, который сравнил меня с хитро улыбающейся маленькой, но умненькой девочкой: «Клео всегда всем довольна, она считает, что жизнь очаровательна, директора очаровательны, коллеги очаровательны, друзья очаровательны и прелестны. Она хвалит всех и всё». Это правда, я встречала в жизни в основном симпатию, привязанность и восхищение, все были главным образом очень добры и милы со мной. Почему я не могу об этом рассказать? Я жила в атмосфере добра и жизнерадостности, никогда не испытывала зависти, злобы и ненависти и глубоко жалела тех, у кого замечала эти чувства. Я могла быть эгоистичной, в той мере, в какой этого требовал инстинкт самосохранения, но могу сказать, что была очень далека от того всепоглощающего эгоизма, что толкает людей действовать лишь в свою пользу и за счет других. Наоборот, никто больше меня не восхищался и не аплодировал таланту, где бы он мне ни встречался.
Я бесконечно ценю очарование, красоту и радость жизни. У меня счастливый характер, моя природа — видеть во всем лучшее. Лафонтен писал:
Тем не менее он видел все недостатки и пороки общества, страдал от людской злобы, но это не мешало ему наслаждаться жизнью. Я тоже страдала и перенесла тяжкие испытания, но кто может этого избежать? Я думаю, что в общей сложности радости превосходили горести и что великолепие мира с лихвой окупили его тяготы. Я остаюсь оптимисткой и благодарна судьбе за все, чем она меня одарила. Я не забываю оставивших меня любимых, но надеюсь встретиться с ними в другой жизни, в которую верю.
* * *
Благодаря матери, с рождения окружившей меня любовью, я выработала с раннего детства своего рода иммунитет и смогла с успехом следовать тому делу, к которому чувствовала призвание. И конечно, удача, выпавшая на мою долю, как артистке, тоже невероятна. Расположение публики сделало мою жизнь похожей на дорогу, усыпанную цветами и согретую лучами солнца.
Я любила, обожала танец, а разве заниматься тем, что любишь больше всего в жизни, не есть самая большая радость?!

Клео де Мерод — звезда Прекрасной эпохи
Люнье-По[301] в своих «Воспоминаниях» очень трогательно написал: «В двадцать лет я решил, пока жив, облагораживать со сцены все человеческие слова и жесты». Это немного похоже и на мое решение: у меня в жизни царил культ искусства, я была убеждена в благородстве и возвышенности балета и хотела им заниматься с полной отдачей, получая удовольствие от каждой минуты, именно поэтому всегда была так погружена в работу.
* * *
Я знаю, что такое обратная сторона славы, и говорила об этом много раз на страницах этой книги, рассказывала, при каких обстоятельствах мне довелось ее познать. Как большинство известных артистов, я платила высокую цену за успех: меня окружали слухи и легенды, часто неприятные и всегда нелепые. Но крики «браво» из зрительного зала утешали меня, и мои друзья всегда были рядом, чтобы облегчить переживания, которые мне могли доставить всякие досадные происшествия. Правда, конца сплетням не было. Жизнь многих заканчивается в одиночестве, мне досталась привилегия наслаждаться преданной, нерушимой и долговечной дружбой, и не проходило дня, чтобы я не уверилась вновь в своих друзьях.
Каждый раз печалившие меня сплетни давали повод оценить то, как привязаны ко мне друзья. Все они сразу сбегались или писали мне письма, чтобы выразить свое возмущение несправедливыми отзывами обо мне и уверить в своей преданности и уважении. Также меня глубоко трогали письма от незнакомых людей, которые приходили на мои выступления и, увидев мое искусство, именно по нему составляли верное мнение о том, какова моя истинная натура. Не один раз случалось так, что на улице ко мне подходили прохожие, чтобы выразить поддержку и симпатию.

Клео де Мерод за роялем
* * *
Великая путешественница больше никуда не ездит. Она живет очень мирно на улице Teheran, у себя дома. Оказалось, что она домоседка. Возможно, это качество всегда скрывалось в глубине ее души. И никакое путешествие не может сравниться с прогулкой по парижским улицам, которая теперь может продолжаться столько, сколько мне захочется, и которая всегда приносит столько нового! Париж — мой любимый город! Париж — центр мира и самое прекрасное его творение!.. Я никогда не устаю от видов моего Парижа, его восхитительных набережных, великолепного Лувра, площади Согласия, ее уникальной гармонии и того, как небеса все время незаметно меняют над нею цвет, Елисейских Полей, струящихся, как две зеленые реки по направлению к Арке, которую каждый вечер закатное солнце покрывает пурпуром славы и величия!

Клео де Мерод в преклонном возрасте
Я прошла столько дорог, любовалась столькими горизонтами, восхищалась столькими чудесами, что этих сокровищ, хранящихся в моей памяти, хватило бы на века. Если меня охватывает ностальгия, мне стоит лишь закрыть глаза, чтобы увидеть окруженные цветниками дома Медлинга, острова Стокгольма, ясные ночи Христиании, набережную Невы, покрытую снегом, площадь Сеньории, где вокруг одни шедевры, и длинных золотистых ящериц, бегавших под миртовыми деревьями в Эстене.
× × ×

Клео де Мерод — королева красоты, 1896

Клео де Мерод в весенней шляпке, Париж, 1898

Портрет Клео де Мерод работы Джованни Больдини, 1901

Клео де Мерод в камбоджийском костюме, 1900

Клео де Мерод в сценическом костюме, 1900
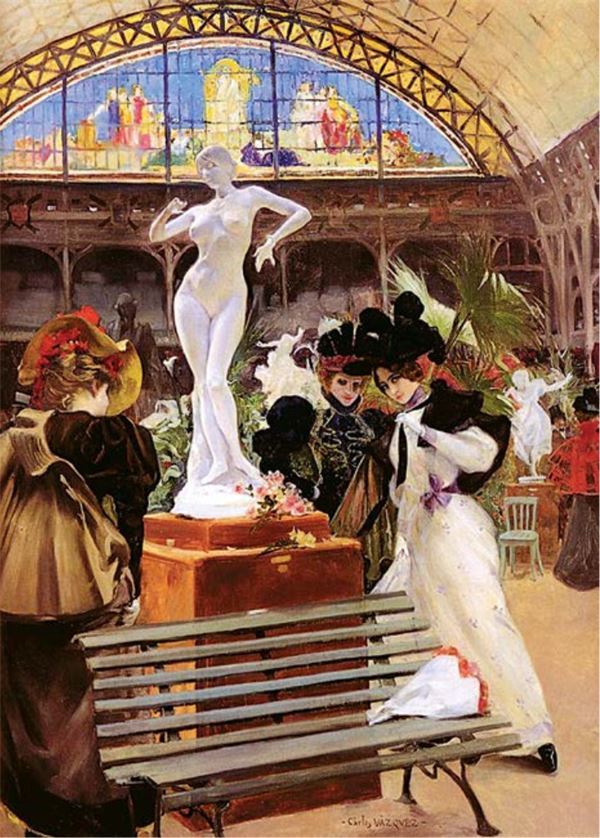
К. В. Обеда. Скульптура Клео де Мерод в Салоне

Портрет Клео де Мерод работы Ф. А. Каульбаха, 1901

Клео де Мерод во время гастролей в Москве, 1906

Портрет Клео де Мерод работы Альфредо Мюллера, 1903

Клео де Мерод, 1908

Портрет Клео де Мерод работы Мануэля Бенедито, 1910

Клео де Мерод, 1911

Портрет Клео де Мерод работы А. де Тулуз-Лотрека

Портрет Клео де Мерод работы Ж. Клерена

Клео де Мерод в преклонном возрасте

Могила Клео де Мерод на кладбище Пер-Лашез
Примечания
1
Помещение, изначально предназначенное для разогрева перед выходом на сцену и репетиций, стало местом встреч артистов и отдельных представителей публики — в первую очередь держателей сезонных абонементов первых трех рядов. — Прим. пер.
(обратно)
2
Женский католический монашеский орден, основанный в 1610 году. Наряду с затворнической жизнью в монастыре сестры должны были посещать бедных и больных, но уже через 8 лет после основания стал чисто затворническим. — Здесь и далее прим. ред.
(обратно)
3
Единственное австрийское учебное заведение по подготовке офицерского состава. Находится в Винер-Нойштадтском замке в Вене.
(обратно)
4
В 451 году, когда жителям города грозило нашествие гуннов во главе с Аттилой, монахиня из Нантера по имени Женевьева сумела остановить начавшуюся панику, убедив горожан, что Париж находится под божественной защитой и останется невредим. Действительно, войско Аттилы повернуло в сторону Орлеана. Женевьева, провозглашенная покровительницей города, после смерти была причислена к лику святых. — Прим. пер.
(обратно)
5
Аббатство XVII века, ныне недействующий монастырский комплекс в V округе Парижа, в здании аббатства располагается одноименный госпиталь.
(обратно)
6
Аббатство, Меч и Дыба (фр.). — Прим. пер.
(обратно)
7
Надар, Каспар-Феликс (наст. фамилия Турнашон) (1856–1931) — легенда еще при жизни, величайший фотограф XIX века, писатель, журналист, художник-карикатурист, путешественник, воздухоплаватель, создатель военной авиационной разведки задолго до появления авиации. Сын его, Поль Надар, унаследовал дело отца, став под его руководством блестящим фотографом-портретистом.
(обратно)
8
В греческой мифологииодна из девяти муз, дочерей Зевса и титаниды Мнемосины, муза лирической поэзии и музыки.
(обратно)
9
Имеется в виду опера Дж. Верди, премьера которой состоялась в 1875 году в «Ла Скала».
(обратно)
10
Ростопчина, Софья Федоровна, в замужестве де Сегюр (1799–1874) — французская детская писательница русского происхождения. «Записки осла», «Приключения Сонечки», «Сонины рассказы», «Примерные девочки».
(обратно)
11
Иллюстрированные листки печатника Жана-Шарля Пеллерена из городка Эпиналь с познавательными сюжетами для детей и взрослых на самые разные темы, получившие название «эпинальские картинки». — Прим пер.
(обратно)
12
Правый берег реки Сена. — Прим. пер.
(обратно)
13
Патти, Аделина (1843–1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано), одна из наиболее значительных и популярных оперных певиц своего времени.
(обратно)
14
Домовые и духи-хранители подземных богатств в мифологии Северной Европы. Добродушные, однако могли устроить в доме хаос и беспорядок в ответ на пренебрежение. В германской мифологии кобольды — особый вид эльфов.
(обратно)
15
Сандерсон, Сибилла (1864–1903) — американская и французская оперная певица (сопрано) Прекрасной эпохи искусства Франции.
(обратно)
16
Леневё, Жюль Эжен (1819–1898) — французский исторический живописец, представитель неоклассицизма. Расписал плафоны на потолке Парижской оперы (1869–1871, спустя почти сто лет возобновлены Марком Шагалом), театр в Анже (1871). Серия работ, посвященных жизни и деятельности Жанны д’Арк (1886–1890), украшает парижский Пантеон.
(обратно)
17
Однотонная полупрозрачная, как кисея, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с тканым орнаментом в клетку, сорт муслина.
(обратно)
18
Богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. Жриц богини — весталок — подбирали весьма тщательно: исключительно из представительниц знатных семей в 6–10 лет без явных физических недостатков. После обряда посвящения девочка принимала 30-летний обет целомудрия и безбрачия, нарушение которого каралось погребением заживо.
(обратно)
19
Прыжок на обеих ногах или на одной ноге в любую позицию. Если прыжок выполняется на одной ноге, вторая остается в положении, принятом до выполнения упражнения. — Прим. пер.
(обратно)
20
Так называли учениц, перешедших в старшие классы, которым поручались сольные выступления. — Прим. пер.
(обратно)
21
Гайяр, Педро (1848–1918) — французский оперный певец (бас) и театральный режиссер. Директор Парижской оперы в 1884–1891 и 1893–1907 гг.
(обратно)
22
Фигура в балете — это сочетание нескольких танцевальных шагов (па), связанных между собой и расположенных на известное количество тактов музыки. — Прим. пер.
(обратно)
23
Класс первой или второй четверти. — Прим. пер.
(обратно)
24
Опера Дж. Мейербера.
(обратно)
25
Фольклорный чешский танец. — Прим. авт.
(обратно)
26
Лассаль, Жан Луи (1847–1909) — французский певец (баритон). В 1872–1897 гг. солист театра «Гранд-опера», с 1903 г. профессор консерватории в Париже. Гастролировал в России.
(обратно)
27
Решке, Ян Мечислав (также Жан де Решке) (1850–1925) — польский оперный певец (баритон, позднее тенор, лирико-драматический тенор), крупнейшая звезда оперы конца XIX в.
(обратно)
28
Дельма, Жан Франсуа (1861–1910) — французский выдающийся оперный певец, с 1886 г. пел в «Гранд-опера».
(обратно)
29
Ан, Рейнальдо (1874–1947) — французский композитор, пианист, музыкальный критик, дирижер и руководитель оркестра, один из наиболее известных музыкантов Прекрасной эпохи..
(обратно)
30
Ваг, Жорж (наст. имя Жорж Мари Валентин Вааг) (1874–1965) — французский мим, педагог и актер немого кино.
(обратно)
31
Мистангет (наст. имя Жанна-Флорентина Буржуа) (1875–1956) — знаменитая французская певица, актриса кино, клоунесса-конферансье.
(обратно)
32
Шевалье, Морис Огюст (1888–1972) — французский эстрадный певец, киноактер.
(обратно)
33
Фавар, Эдме (1879–1941) — французская певица, сопрано, работала в Оpéra comique.
(обратно)
34
Прентан, Ивонна (1894–1977) — французская певица, лирическое сопрано, и драматическая актриса межвоенного периода.
(обратно)
35
Сrampons — шипы для бутс (фр.). — Прим. пер.
(обратно)
36
Общая спальня для воспитанников в закрытых учебных заведениях.
(обратно)
37
Мейссонье, Жан-Луи-Эрнест (1815–1891) — французский живописец.
(обратно)
38
Рейер, Эрнест (1823–1909) — французский оперный композитор и музыкальный критик.
(обратно)
39
Графиня Гвиччиоли (наст. имя Тереза Франсуаза Олимпия Гамба) (1800–1873) — итальянская аристократка XIX в., известная своими любовными похождениями. В апреле 1819 г. она познакомилась с лордом Байроном, который в это время жил в Италии, и у них начался бурный роман.
(обратно)
40
Карон, Роза (1857–1930) — французская оперная певица, сопрано.
(обратно)
41
Ришпен, Жан (1849–1926) — французский поэт, писатель и драматург.
(обратно)
42
Маури, Розита (1850–1923) — испанская танцовщица и балетный педагог, прима-балерина с мировым именем, она часто изображалась художниками, скульпторами и фотографами, а также была предметом нескольких поэтических произведений.
(обратно)
43
Замбелли, Карлотта (1875–1968) — балерина, педагог и хореограф итальянского происхождения.
(обратно)
44
Крещендо — в бурном темпе, нарастая (муз.).
(обратно)
45
Награда в области искусства, существовавшая во Франции с 1663 по 1968 г. и присуждавшаяся художникам, граверам, скульпторам и архитекторам (в 1803 г. была добавлена пятая номинация — композиторы). Лауреат Большой римской премии получал возможность отправиться в Рим и жить там от трех до пяти лет за счет патрона премии (первоначально им был король Людовик XIV).
(обратно)
46
Королевский оперный театр в Брюсселе, основанный в 1700 г. Получил свое название от монетного двора, разрушенного войсками французского короля Людовика XV, на месте которого был построен.
(обратно)
47
Арвер, Феликс (1806–1850) — французский поэт, писатель и драматург. Его сонет «Un Secret» («Секрет») (название в оригинале «Sonnet imité de l’italien»), также известный как «Сонет Арвера» («Sonnet d’Arvers»), приобрел такую известность, что Арвера иногда называют «поэтом одного стихотворения». — Прим. пер.
(обратно)
48
Ван Дейк, Эрнест (1861–1923) — бельгийский оперный певец. — Прим. пер.
(обратно)
49
Лемер, Мадлен (1845–1928) — французская художница, специализировавшаяся в изображении цветов и жанровой живописи. Во время Прекрасной эпохи была названа императрицей роз.
(обратно)
50
Пер. с фр. Е. Тараховской и Г. Орловской. — Прим. пер.
(обратно)
51
Тибо, Жак (1880–1953) — известный французский скрипач. — Прим. пер.
(обратно)
52
Традиции Танцевального фойе зародились еще во времена второго театра Пале-Рояль, отстроенного после пожара в 1770 г. Фешенебельным местом встреч и знакомств фойе стало в 1831–1835 гг., при Луи Вероне, который умело использовал пропуск туда в своих личных целях, допуская лишь тех, кто мог быть ему чем-либо полезным. Фойе, ставшее своеобразным салоном для богатых, знаменитых и власть имущих, служило как местом для флирта и подбора «дамы сердца», так и местом, где можно было обсудить серьезные деловые и политические дела в «правильном обществе». Руководство Оперы настолько привыкло к такому положению дел, что Жак Руше, ставший директором в 1914 г. однажды заявил балеринам, потребовавшим повышения заработной платы: «Но дамы, я не понимаю, у вас же есть Танцевальное фойе!» В 1927 г. Руше попытался закрыть допуск туда визитерам и встретил сопротивление со стороны богатых и влиятельных держателей абонементов. В 1935 г. ему все же удалось закрыть проход за кулисы и вход в фойе для посторонних. — Прим. пер.
(обратно)
53
Бодри, Поль Жак Эме (1828–1886) — французский живописец, один из наиболее известных представителей академического направления времен Второй империи.
(обратно)
54
Морни, Шарль Огюст Жозеф Луи де (1811–1865) — французский политический деятель и финансист, брат Наполеона III.
(обратно)
55
Камондо, Исаак де (1851–1911) — французский банкир, композитор-любитель, известный коллекционер, интересовавшийся импрессионизмом и авангардизмом. В 1908 г. он завещал свою коллекцию Лувру.
(обратно)
56
Жирарден, Дельфина де (1804–1855) — французская писательница; дочь писательницы Софи Ге, жена (c 1831 г.) журналиста и издателя Эмиля Жирардена.
(обратно)
57
Известное в Париже кабаре. — Прим. пер.
(обратно)
58
Знаменитая артистка Оперы. — Прим. пер.
(обратно)
59
Нюиттер, Шарль-Луи-Этьен (1828–1899) — французский либреттист, переводчик, писатель и библиотекарь.
(обратно)
60
Пруст, Антонен (1832–1905) — французский журналист, политический деятель и публицист, искусствовед, коллекционер, организатор художественных выставок; первый французский министр культуры.
(обратно)
61
Испанский народный танец, исполняемый в паре под пение в сопровождении гитары и кастаньет.
(обратно)
62
Рекамье, Жюльет, известная просто как мадам Рекамье (1777–1849) — французская светская львица, хозяйка знаменитого литературно-политического салона, который в то время был интеллектуальным центром Парижа. Ее имя стало символом, олицетворявшим хороший вкус и образованность. Она была «звездой» европейского масштаба, о которой говорили в России и Англии, в Италии и Германии.
(обратно)
63
Бреваль, Люсьен (1869–1935) — швейцарская оперная певица, сопрано, имела международную оперную карьеру в 1892–1918 гг. Хотя она выступала по всей Европе и в Соединенных Штатах, она провела бóльшую часть своей карьеры в Парижской опере.
(обратно)
64
Мельба, Нелли (наст. имя Хелен Портер Митчелл) (1861–1931) — австралийская оперная певица, сопрано. Выступала в Европе, США, Австралии. Мировая слава певицы была огромной. Получила звание дамы-командора и дамы Большого креста ордена Британской империи (1918, 1927)
(обратно)
65
Пришел, увидел, победил (лат.).
(обратно)
66
Акте, Айно (1876–1944) — финская оперная певица, сопрано. Стала первой из оперных певиц Финляндии, достигших мировой известности. В 1911 г. вошла в число основателей оперного театра в Хельсинки (с 1956 г. — Финская национальная опера) и в 1938–1939 гг. была его директором. В 1912 г. организовала международный оперный фестиваль в Савонлинне.
(обратно)
67
Морель, Виктор (1848–1923) — французский оперный певец, баритон. С 1879 по 1894 г. — в труппе Парижской оперы. Много выступал в США, пел в «Метрополитен-опере», в Ковент-Гарден. После окончания певческой карьеры преподавал в Нью-Йорке, издал ряд трудов по вокальному мастерству.
(обратно)
68
Таманьо Франческо (1850–1905) — итальянский оперный певец, тенор. Согласно Музыкальной энциклопедии, его признают одним из лучших теноров в истории оперного театра
(обратно)
69
Бойто, Арриго (1842–1918) — итальянский композитор и поэт, прославившийся как автор либретто к операм Джузеппе Верди «Отелло» и «Фальстаф».
(обратно)
70
Нольяк, Пьер Жиро де (1859–1936) — французский историк, искусствовед и поэт.
(обратно)
71
Люлли, Жан-Батист (1632–1687) — французский композитор, скрипач, дирижер итальянского происхождения. Вошел в историю музыки как создатель французской национальной оперы, один из ведущих представителей музыкальной культуры французского барокко.
(обратно)
72
Рамо, Жан-Филипп (1683–1764) — французский композитор и теоретик музыки эпохи барокко.
(обратно)
73
Pierre de Nolhac. Revue des Deux Mondes, 1935.
(обратно)
74
Гарнье, Жан Луи Шарль (1825–1898) — французский архитектор эпохи эклектики и историк искусства. Идеолог и практик стиля боз-ар.
(обратно)
75
Сорель Сесиль (наст. имя. Селин Эмили Серр) (1873–1966) — французская комическая актриса, пользовалась большой популярностью и была известна своими экстравагантными костюмами.
(обратно)
76
Фальгьер, Жан Александр Жозеф (1831–1900) — французский художник и скульптор. В 1896 г. создал статую «Танцовщица». При этом скульптору позировал., что привело к скандалу в обществе. 1 10
(обратно)
77
В настоящее время скульптура находится в Музее д’Орсэ. 1 16
(обратно)
78
«Придворная пивоварня» (нем.) — известный во всем мире большой пивной ресторан с пивным садом, расположенный в Мюнхене.
(обратно)
79
Картинная галерея в Мюнхене, одна из самых известных галерей мира.
(обратно)
80
Персонаж древнегреческой мифологии, кентавр, отличавшийся коварством. Он был убит Гераклом за попытку похитить Деяниру, но смог отравить героя своей кровью. Гибель Несса стала популярным сюжетом в изобразительном искусстве архаической Эллады, а похищение Деяниры запечатлели несколько видных художников Нового времени.
(обратно)
81
Не целуй (англ.).
(обратно)
82
Pierre Daye. Le Figaro Illustre, april, 1933.
(обратно)
83
Вюрмсер, Андре (1899–1984) — французский писатель, журналист, критик.
(обратно)
84
Шарпантье, Гюстав (1860–1956) — французский композитор.
(обратно)
85
Тассо, Торквато (1544–1595) — итальянский поэт XVI в., автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575).
(обратно)
86
Барбье, Поль Жюль (1825–1901) — французский поэт и драматург.
(обратно)
87
Видор, Шарль-Мари (1844–1937) — французский органист, композитор и музыкальный педагог.
(обратно)
88
Ария Альцесты из одноименной оперы Кристофа Виллибальда Глюка, написанной по мотивам трагедии Еврипида «Алкеста».
(обратно)
89
Дюамель, Диана (1870–1910) — французская театральная актриса, оперная певица.
(обратно)
90
Оперетта Эдмона Ордана (1842–1910).
(обратно)
91
С 1885 г. в Париже ежегодно проводился Благотворительный базар. Организаторами мероприятия выступали французские аристократы, за прилавки вставали знатные богатые дамы, торговавшие разнообразными товарами.
(обратно)
92
Галстук в виде банта. — Прим. пер.
(обратно)
93
Самая красивая женщина в мире (англ.).
(обратно)
94
Бизнес на первом месте (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
95
Висячая железная дорога (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
96
Утренняя газета (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
97
Блоки (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
98
Абсолютно пожаростойкие (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
99
Херст, Уильям Рэндольф (1863–1951) — американский медиамагнат, основатель холдинга Hearst Corporation, ведущий газетный издатель. Создал индустрию новостей и придумал делать деньги на сплетнях и скандалах.
(обратно)
100
Хелд, Хелен Анна (1872–1918) — франко-американская актриса польского происхождения.
(обратно)
101
Фешенебельная многоэтажная гостиница на Манхэттене в Нью-Йорке; на момент постройки — самая высокая в мире.
(обратно)
102
Сезон (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
103
Быстро! Вперед! (англ.). — Прим. пер.
(обратно)
104
Больдини, Джованни (1842–1931) — итальянский живописец. Один из лучших портретистов конца XIX — начала XX в.
(обратно)
105
Дузе, Элеонора (1858–1924) — итальянская актриса. Обладательница прозвища Божественная, считается величайшей театральной актрисой своего времени.
(обратно)
106
Гильбер, Иветта (1865–1944) — французская певица и актриса кабаре Прекрасной эпохи, модель.
(обратно)
107
Фуллер, Лои (1862–1928) — американская актриса и танцовщица, ставшая основательницей танца модерн.
(обратно)
108
Стейнлен, Теофиль-Александр (1859–1923) — французский художник, график и иллюстратор швейцарского происхождения, работавший как в реалистическом стиле, так и в стиле модерн, «летописец жизни парижского пролетариата».
(обратно)
109
Кафе и каток «Северный полюс». — Прим. пер.
(обратно)
110
Уорд, Клара (1873–1916) — богатая американская светская львица, вышедшая замуж за бельгийского принца.
(обратно)
111
Яне, Леони (1867–1950) — французская комедийная актриса.
(обратно)
112
Симон-Жирар, Эме (наст. имя Айме Макс Саймон) (1889–1950) — французский певец оперетты и актер кино.
(обратно)
113
Дусе, Жак (1853–1929) — французский модельер, начал свой бизнес с открытия салона женского платья в 1871 г. Это были роскошные наряды для богатых дам. Коллекционер, меценат.
(обратно)
114
Калло, сестры — четыре сестры, дочери антиквара, основавшие в 1895 г. в Париже Дом Высокой моды. Салоном руководила старшая из них, Мари Жербер. Первоначально Дом специализировался на белье с отделкой из кружев и других кружевных изделиях, позже предлагал вечерние платья в стиле модерн. Дом был закрыт в 1937 г.
(обратно)
115
Ротшильд, Морис Эдмон Карл де (1881–1957) — французский коллекционер произведений искусства, владелец виноградников, финансист и политик.
(обратно)
116
Коклен-младший, Эрнест Александр Оноре (1848–1909) — французский драматический актер, дебютировал в парижском театре Odeon, проявив себя сразу как актер жанра яркой острой буффонады, абсурдно-карикатурной комедии. В следующем, 1868 г. перешел на сцену Comédie-Française.
(обратно)
117
Малле, Фелисия (1863–1928) — французская комическая актриса, певица и художница пантомимы.
(обратно)
118
Гитри, Люсьен (1860–1925) — французский актер и драматург. Самый популярныйактер своей эпохи, был партнером по театру Сары Бернар, создатель выдающихся образов, принесших ему ряд международных триумфов.
(обратно)
119
Депре, Сюзанна (наст. имя Шарлотта Буваллe (1875–1951) — французская актриса театра и кинематографа. Играла преимущественно трагические и драматические роли, в том числе Федры на сцене Comédie-Française, Норы в «Кукольном доме» Г. Ибсена.
(обратно)
120
Муне-Сюлли (наст. имя Жан-Сюлли Муне) (1841–1916) — французский актер, играл в Comédie-Française,его отличала величественность и скульптурность драматических поз, мелодичность голоса и склонность к эффектам.
(обратно)
121
Гранье, Жанна (1852–1939) — французская певица (сопрано).
(обратно)
122
Опера итальянского композитора Умберто Джордано. Основана на одноименной пьесе французских драматургов Викторьена Сарду и Эмиля Моро.
(обратно)
123
Фероди, Жак де (1886–1971) — французский актер театра и кино. Он также работал сценаристом и снял три фильма в эпоху немого кино.
(обратно)
124
Пьесы Дюма-сына.
(обратно)
125
Одноактная опера Пьетро Масканьи, созданная в 1890 г. по одноименной новелле Дж. Верги.
(обратно)
126
Трагедия французского драматурга Жана Расина.
(обратно)
127
Романтическая пьеса Альфреда де Мюссе.
(обратно)
128
Трагедия французского драматурга Жана Расина.
(обратно)
129
В 1900 г., когда ей было 56 лет, Сара Бернар сыграла 20-летнего Орленка — герцога Рейхштадтского, несчастного сына Наполеона Бонапарта, в пьесе Э. Ростана «Орленок».
(обратно)
130
От фр. mi-careme — праздник по случаю середины поста. — Прим. пер.
(обратно)
131
Балет Лео Делиба.
(обратно)
132
Балет Ш.-М. Видора.
(обратно)
133
Опера К. Сен-Санса.
(обратно)
134
На неопределенный срок (лат.). — Прим. пер.
(обратно)
135
Опиумная настойка на спирту.
(обратно)
136
Флёр, Робер де (1872–1927) — французский журналист и драматург, дипломат, один из «популярнейших мастеров легкой комедии». С 1921 г. — литературный директор газеты Le Figaro.
(обратно)
137
Brio — энергия, темперамент, воодушевление, пыл (фран.). — Прим. пер.
(обратно)
138
Капуль, Жозеф (1839–1924) — французский певец-тенор. В 1899 г. занял должность художественного руководителя Парижской оперы.
(обратно)
139
Прадель, Октав Фредерик (1842–1930) — французский поэт, прозаик, водевилист, лирик. Директор театра Капуцинов.
(обратно)
140
Муха, Альфонс Мариа (1860–1939) — чешский живописец из Моравии, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист, один из наиболее известных представителей стиля аrt nouveau.
(обратно)
141
Классический французский десерт с профитролями, любимый во всем мире. Печется из двух видов теста, песочного и заварного, и используются два вида крема.
(обратно)
142
Садаякко (1871–1946) — японская гейша, актриса и танцовщица. Ее гастроли активно освещались в тогдашней прессе, и благодаря экзотическим японским танцам, исполняемым, ею Садаякко вскоре обрела невиданную популярность. В 1908 г. открыла первую в Японии школу актерского мастерства для женщин.
(обратно)
143
Ш е р е, Жюль (1836–1932) — французский художник и график. Один из основоположников современного плаката.
(обратно)
144
Батай, Жорж (1897–1962) — французский философ, социолог, теоретик искусства и писатель левых убеждений, который занимался исследованием и осмыслением иррациональных сторон общественной жизни, разрабатывал категорию «священного». Его литературные произведения переполнены «кощунствами, картинами искушения злом, саморазрушительным эротическим опытом».
(обратно)
145
Бернштейн, Герман (1876–1935) — американский журналист, переводчик, писатель и дипломат.
(обратно)
146
Кюрель, Франсуа де (1854–1928) — французский писатель и драматург. Член Французской академии (с 1918). В большинстве своих пьес драматург анализирует природу человека, в котором, по его мнению, борются звериные инстинкты и разум.
(обратно)
147
Порто-Риш, Жорж де (1849–1930) — французский поэт и драматург. В своих пьесах создал страстные и волнующие женские образы и отразил неизбежность продолжающейся дуэли между мужчинами и женщинами в результате их антагонистического взгляда на жизнь.
(обратно)
148
Доннэ, Морис (1860–1945) — французский драматург. Неоднократно останавливался на проблемах, связанных с областью чувства и страсти, определенно высказываясь за свободу любви и против цепей, налагаемых на нее обществом.
(обратно)
149
Капю, Альфред (1857 или 1858–1922) — французский журналист, романист и драматург; главный редактор Le Figaro, член Французской академии.
(обратно)
150
Эрвьё, Поль (1857–1915) — французский романист и драматург, популярный во времена belle époque.
(обратно)
151
Лавальер, Ева (1866–1929) — французская театральная актриса, позже стала набожной католичкой и членом францисканского ордена.
(обратно)
152
Юре, Жюль (1863–1915) — французский журналист, наиболее известный своими интервью с писателями. С 1902 г. он совершал длительные путешествия в чужие страны и публиковал большие отчеты, в частности по Соединенным Штатам Америки, в Le Figaro.
(обратно)
153
Негритянский танец под аккомпанемент банджо, гитары или мандолины с характерными для регтайма ритмическими рисунками: синкопированным ритмом и краткими неожиданными паузами на сильных долях такта.
(обратно)
154
Кэмптон, Эме, или мисс Кэмптон (1882–1930) — французская танцовщица английского происхождения, актриса мюзик-холла, красавица, ее портреты часто печатались на открытках. Приехала на выставку в Париж в танцевальной труппе девушек.
(обратно)
155
Райхенберг, Сюзанна (1853–1924) — французская актриса, ее называли королевой амплуа инженю в 1870–1900-х гг.
(обратно)
156
Специально для этого случая (лат.).
(обратно)
157
Антуан, Андре (1858–1943) — французский режиссер театра и кино, теоретик театра. Крупнейший представитель «театрального натурализма», создатель и руководитель «Свободного театра» и «Театра Антуана», воспитатель плеяды талантливых актеров. — Прим. пер.
(обратно)
158
Пьеса Ибсена. — Прим. пер.
(обратно)
159
Камарго, Мари-Анн де Кюпи, также Ла Камарго (1710–1770) — французская артистка балета, первая танцовщица парижской Королевской академии музыки в 1726–1735 и 1742–1751 гг. Неоднократно рисовалась художником Никола Ланкре.
(обратно)
160
Дебюро, Жан-Батист-Гаспар (1796–1846) — французский актер-мим, создатель знаменитого образа Пьеро.
(обратно)
161
По роману Жюля Верна.
(обратно)
162
Челлини, Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса.
(обратно)
163
Козимо II Медичи (1590–1621) — великий герцог Тосканский с 1609 по 1621 г. Великий герцог всегда проявлял большой интерес к науке. В 1610 г. он пригласил Галилео Галилея вернуться во Флоренцию, предоставив ему почетное и хорошо оплачиваемое место своего советника и личного представителя.
(обратно)
164
Эмиль (1860–1945) и Винсент (1862–1947) Изола.
(обратно)
165
Жермен, Огюст (1862–1915) — французский драматург, писатель и журналист.
(обратно)
166
Эрве, Флоримон (1825–1892) — французский композитор и органист, основатель музыкального театра, автор оперетт, среди которых наиболее известна «Мадемуазель Нитуш». Наряду с Жаком Оффенбахом является основоположником французской оперетты.
(обратно)
167
Произведение Стендаля. — Прим. пер.
(обратно)
168
Каульбах, Фридрих Август фон (1850–1920) — немецкий художник. Сын мастера исторической живописи Вильгельма фон Каульбаха. Писал аллегории и исторические картины, но знаменит в первую очередь своими мечтательными портретами, в основном женскими, написанными во французском стиле XIX в.
(обратно)
169
Ленбах, Франц Сераф фон (1836–1904) — немецкий художник. Вместе с Францем фон Штуком и Фридрихом фон Каульбахом считается представителем мюнхенской школы изобразительного искусства.
(обратно)
170
Полер (наст. имя Эмили Мари Бушо) (1874–1939) — французская эстрадная певица, танцовщица, актриса театра и кино.
(обратно)
171
Вторая Англо-бурская война (1899–1902) — колониальная война Британии против Трансвааля на территории современной ЮАР, закончившаяся победой Англии.
(обратно)
172
Крюгер, Стефанус Йоханнес Паулус (1825–1904) — президент Южно-Африканской Республики в 1883–1900 гг. Участник военных операций буров против африканского населения. Известный по почтительному прозвищу Дядюшка Пауль.
(обратно)
173
Фронде, Пьер (1884–1948) — французский поэт, романист и драматург.
(обратно)
174
Хофман-Уддгрен, Анна (1868–1947) — шведская актриса, певица, театральный и кинорежиссер. До 2016 г. считалась первой женщиной-кинорежиссером Швеции.
(обратно)
175
Бернадот, Жан-Батист Жюль (1763–1844) — французский маршал, участник революционных и наполеоновских войн, впоследствии шведский кронпринц (с 1810 г.) и король Швеции и Норвегии (с 1818 г.), основатель династии Бернадотов.
(обратно)
176
Метерлинк, Морис (1862–1949) — бельгийский писатель, драматург и философ. Писал на французском языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1911 г. Автор философской пьесы-притчи «Синяя птица».
(обратно)
177
Бер, Эмиль (1855–1908) — французский журналист, с 1900 г. заведовал литературным приложением Figaro.
(обратно)
178
По одноименному роману Жорж Санд.
(обратно)
179
Пьеса Леконта де Лиля.
(обратно)
180
Пьеса А. Дюма.
(обратно)
181
По роману Э. Золя.
(обратно)
182
Д’Аннунцио, Габриеле (1863–1938) — граф, итальянский писатель, поэт, драматург, военный и политический деятель.
(обратно)
183
Колетт, Сидони́-Габриэль (1873–1954) — французская писательница, одна из звезд Прекрасной эпохи; член Гонкуровской академии с 1945 г.
(обратно)
184
Мендес, Катюль (1841–1909) — французский поэт, писатель и драматург, представитель парнасской школы.
(обратно)
185
Мате, Эдуард (1886–1934) — французский актер немого кино.
(обратно)
186
Всемирное агентство Маринелли (англ.). — Прим пер.
(обратно)
187
Современный. Брависсимо. Сенсация. — Прим. пер.
(обратно)
188
Гербо, Леон (1850–1907) — бельгийско-французский художник, портретист и жанрист.
(обратно)
189
Куртелин, Жорж (1858–1929) — французский писатель и драматург. Писал сатирические произведения (романы, пьесы-комедии, рассказы и скетчи) на темы быта французской армии и жизни чиновничества.
(обратно)
190
Gloria in excelsis Deo — Слава в вышних Богу (лат.), или Глория — древний христианский богослужебный гимн, доксология, входящая в состав католической мессы латинского обряда и англиканской литургии. Критик заменил слово Deo на схоже звучащее имя балерины — Cleo. — Прим. пер.
(обратно)
191
Торвальдсен, Бертель (1770–1844) — датский художник, скульптор, ярчайший представитель позднего классицизма.
(обратно)
192
Опера Гаэтано Доницетти.
(обратно)
193
Опера Джакомо Пуччини.
(обратно)
194
Пачини, Регина Изабель Луиза Кинтеро (1871–1965) — оперная певица, лирическое сопрано, вышла замуж за аргентинского политика Марсело Торкуато де Альвеар и стала первой леди Аргентины.
(обратно)
195
Бенлиуре-и-Хиль, Мариано (1862–1947) — испанский скульптор и художник, представитель неоклассицизма. Был директором Испанской академии в Риме, директором Музея современного искусства в Мадриде.
(обратно)
196
Гаяр, Хулиан (1844–1890) — испанский оперный певец, в конце XIX в. считался лучшим испанским тенором своего поколения.
(обратно)
197
Труэба-и-ла Кинтана, Антонио де (1819–1889) — испанский поэт и романист, представитель раннего испанского реализма и один из видных представителей «регионалистской» литературы в Испании XIX в..
(обратно)
198
Гранадос-и-Кампинья, Энрик (1867–1916) — испанский композитор и пианист, один из наиболее заметных деятелей испанской музыкальной культуры конца XIX — начала XX в.
(обратно)
199
Альбенис-и-Паскуаль, Исаак (1860–1909) — испанский композитор и пианист, один из основоположников испанской национальной музыкальной школы.
(обратно)
200
Фалья, Мануэль де (1876–1946) — испанский композитор, музыкальный критик.
(обратно)
201
Карре, Альберт (1852–1938) — французский театральный режиссер, оперный режиссер, актер и либреттист. Более 50 лет был центральной фигурой в театральной и музыкальной жизни Парижа.
(обратно)
202
На поэму М. Драйтона (1595).
(обратно)
203
Bocage — пастбища, рощи (франц.). — Прим пер.
(обратно)
204
Рассохина, Елизавета Николаевна (ок. 1860–1920) — русская театральная деятельница и антрепренер. Была организатором и учредительницей «Первого театрального агентства для России и заграницы Е. H. Рассохиной» (1892, Москва), занимавшегося посредничеством между антрепренерами и актерами.
(обратно)
205
Бор, Гарри (1880–1943) — французский актер театра и кино, популярный в предвоенное время. Был очень популярен в то время.
(обратно)
206
Ваг, Жорж (1874–1965) — французский мим, педагог и актер немого кино.
(обратно)
207
Испанский народный танец, исполняемый в паре в сопровождении гитары и кастаньет.
(обратно)
208
Игра с мячом, национальный баскский вид спорта.
(обратно)
209
Опера Р. Вагнера. — Прим. пер.
(обратно)
210
Битва при Са́довепроизошла 3 июля 1866 г. и была самым крупным сражением австро-прусской войны, кардинально повлиявшим на ее течение.
(обратно)
211
Кросс, Анри Эдмон де (1856–1910) — французский художник, один из крупнейших представителей неоимпрессионизма.
(обратно)
212
Капуль, Жозеф (1839–1924) — французский певец-тенор.
(обратно)
213
Пуаре, Поль (1879–1944) — великий французский модельер, создатель прославленного Дома моды (1902–1934), изменивший под влиянием дягилевских балетов эстетику женской одежды в сторону ориентализма и русского стиля. Автор нескольких книг, в том числе автобиографии «Одевая эпоху» (М.: Этерна, 2011). Окончил жизнь в одиночестве и бедности.
(обратно)
214
Перетти, Серж (1905–1997) — французский танцор итальянского происхождения, выделялся своей элегантностью и чистотой техники.
(обратно)
215
Доон, Руперт (1903–1966) — британский танцор, хореограф, театральный режиссер и педагог.
(обратно)
216
Рони-старший, Жозеф Анри (1856–1940) — французский писатель бельгийского происхождения. До 1909 г. писал вместе с младшим братом Серафин-Жюстен-Франсуа, взявшим позднее псевдоним Ж.-А. Рони-младший.
(обратно)
217
Маргерит, Виктор (1866–1942) — французский романист, драматург, поэт, публицист и историк, получивший мировую известность скандальным романом «Холостячка» (1922). Его старший брат и соавтор Поль Маргерит (1860–1918).
(обратно)
218
Шеро, Гастон (1872–1937) — французский писатель и журналист. В 1914 г. был военным репортером газеты L’Illustration в Бельгии и на севере Франции.
(обратно)
219
Супруга Мориса де Брутеля (1862–1936), швейцарского скульптора, живописца и гравера, работавшего в Париже.
(обратно)
220
Блюм, Андре Леон (1872–1950) — французский социалист, политик и трехкратный премьер-министр.
(обратно)
221
Крупное сражение между немецкими и англо-французскими войсками, состоявшееся 5–12 сентября 1914 г. и закончившееся поражением немецкой армии. В результате сражения был сорван стратегический план наступления немецкой армии, ориентированный на быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из мировой войны.
(обратно)
222
Отчаянный человек (исп.).
(обратно)
223
Воплощение, олицетворение (исп.).
(обратно)
224
Клемансо, Жорж Бенжамен (1841–1929) — французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции. Член Французской академии (1918). За жесткий характер и непримиримость к политическим противникам получил прозвище Тигр.
(обратно)
225
Пьесы, написанные по особому случаю, на злободневную тему (фр.). — Прим. пер.
(обратно)
226
Театр для Армии (фр.).
(обратно)
227
Кювилье, Шарль (1877–1955) — французский композитор оперетт. Наибольших успехов добился с опереттами «Непослушная принцесса» (1912) и «Сиреневое домино», ставшей хитом в 1918 г. в Лондоне.
(обратно)
228
Спинелли (наст. имя Элиза Бертело) (1887–1966) — французская актриса театра и кино.
(обратно)
229
Казадезюс, Франсуа Луи (1870–1954) — французский скрипач, дирижер и композитор.
(обратно)
230
Геузи, Пьер-Бартелеми, также известный под псевдонимом Норберт Лредан (1865–1943) — французский театральный режиссер, либреттист, журналист и писатель.
(обратно)
231
Мюссе, Альфред де (1810–1857) — французский поэт, драматург и прозаик, один из крупнейших представителей литературы романтизма.
(обратно)
232
Имеются в виду поэмы А. Мюссе «Декабрьские ночи» и «Майские ночи».
(обратно)
233
Красивый вид (фр.).
(обратно)
234
Турнье, Марсель Люсьен (1879–1951) — французский арфист, композитор, музыкальный педагог.
(обратно)
235
Хассельманс, Альфонс (1845–1912) — французский арфист и композитор бельгийского происхождения.
(обратно)
236
Клерон, Жозеф Отнен Бернар, граф д’Оссонвиль (1809–1884) — французский политик и историк, член Французской академии.
(обратно)
237
М у н, Адриен Альбер Мари де, граф (1841–1914) — французский политический деятель и социальный реформатор.
(обратно)
238
Древний аристократический род.
(обратно)
239
Бройль, Луи де, 7-й герцог Брольи (1892–1987) — французский физик-теоретик, один из основоположников квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1929).
(обратно)
240
Буассьер, Альберт (1866–1939) — французский поэт и прозаи.
(обратно)
241
Деваль, Маргерит (1866–1955) — французская певица и актриса театра и кино.
(обратно)
242
Пьеса Жана Расина.
(обратно)
243
Аббема, Луиза (1853–1927) — французская художница, скульптор и дизайнер Прекрасной эпохи. Считалась «официальным художником Третьей республики». Ее статьи регулярно публиковались в журналах Gazette des Beaux-Arts и L’Art.
(обратно)
244
Морено, Маргерит (1871–1948) — французская актриса театра и кино.
(обратно)
245
Дочь царя Иудеи Иорама в пьесе Ж. Расина «Гофолия».
(обратно)
246
Казальс, Пабло (1876–1973) — каталонский виолончелист, дирижер, композитор, музыкально-общественный деятель.
(обратно)
247
Энеску, Джордже (1881–1955) — румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог, национальный классик, один из крупнейших музыкантов первой половины XX в.
(обратно)
248
Тальяферро, Магда (1893–1986) — франко-бразильская пианистка и музыкальный педагог.
(обратно)
249
Ланвен, Жанна (1867–1946) — одна из самых известных кутюрье Парижа в 1920-е г., ее любовно называли «матушкой моды».
(обратно)
250
Здесь употребляется старое название театра, которое сейчас звучит как «Театр Ее Величества». — Прим. пер.
(обратно)
251
Грандиозное представление (англ.).
(обратно)
252
Жанен, Жюль-Габриель (1804–1874) — французский писатель, критик и журналист, член Французской академии. По легкости и изяществу стиля Сент-Бев ставил его в один ряд с Дени Дидро и Шарлем Нодье.
(обратно)
253
Буйе, Луи Гиацинт (1821–1869) — французский поэт и драматург; друг Гюстава Флобера.
(обратно)
254
Верней, Луи (наст. имя Луи Жак Мари Коллен дю Бокаж) (1893–1952) — французский драматург, сценарист и актер.
(обратно)
255
Jaques Patin, Le Figaro, 27 avril 1924.
(обратно)
256
Балет Э. Грига по пьесе Г. Ибсена (1867).
(обратно)
257
Франсен, Виктор (1888–1977) — бельгийский актер с долгой карьерой во французском кино и в Голливуде.
(обратно)
258
Роллина, Морис (1846–1903) — французский поэт.
(обратно)
259
Греффюль, Элизабет (1860–1952) — франко-бельгийская аристократка, графиня, хозяйка одного из самых модных салонов Прекрасной эпохи.
(обратно)
260
Опера Дж. Верди.
(обратно)
261
Черни, Берта (1868–1940) — французская актриса, известная как элегантная белокурая красавица. Она сделала блестящую карьеру, исполняя как классические, так и современные роли. Работала в Comédie-Française с 1906 г.
(обратно)
262
Таррид, Абель (1865–1951) — французский актер и драматург, наиболее известен своей интерпретацией комиссара Мегрэ в фильме «Желтая собака» в 1932 г.
(обратно)
263
Жюдик, Анна (1850–1911) — французская опереточная певица и шансонетка, первая исполнительница роли Денизы в оперетте «Мадемуазель Нитуш» французского композитора Ф. Эрве.
(обратно)
264
Лоти, Пьер (наст. имя Луи Мари-Жюльен Вио) (1850–1923) — французский офицер флота и писатель, известный колониальными романами из жизни экзотических стран.
(обратно)
265
Главный герой одноименного романа П. Лоти.
(обратно)
266
Буше, Виктор Луи Арман (1877–1942) — французский актер, с 1927 г. директор театра Michodière в Париже, президент Ассоциации драматических артистов.
(обратно)
267
Ноэль-Ноэль (наст. имя Люсьен Эдуар Ноэль) (1897–1989) — французский актер, сценарист и режиссер.
(обратно)
268
Лефор, Андре (1879–1952) — французский актер театра и кино, в частности, несколько раз работал с режиссером Саша€ Гитри.
(обратно)
269
Люге, Андре (1892–1979) — французский актер театра и кино, с 1910 по 1970 г. он снялся в более чем 120 фильмах.
(обратно)
270
Лифарь, Серж (наст. имя Сергей Михайлович Лифарь) (1904–1986) — французский артист балета, балетмейстер, теоретик танца, коллекционер и библиофил украинского происхождения. Эмигрировав в 1923 г., танцевал в «Русских сезонах» Дягилева до 1929 г., после его смерти — премьер Парижской оперы; в 1930–1945 и 1947–1958 гг. руководил балетной труппой театра. Крупный деятель хореографии Франции, Лифарь также читал лекции по истории и теории балета, был основателем Парижского университета хореографии и Университета танца.
(обратно)
271
Дюба, Мари (1894–1972) — французская певица-комедиантка, актриса, одна из первых основательниц жанра французской песни. Выступала в мюзик-холлах.
(обратно)
272
Пьеса Катюля Мендеса (1874).
(обратно)
273
Хокусай, Кацусика (1760–1849) — японский художник укиё-э, иллюстратор, гравер, работал под множеством псевдонимов. Является одним из самых известных на Западе японских граверов, мастер завершающего периода японской ксилографии.
(обратно)
274
Специалист по обучению лошадей и верховой езде.
(обратно)
275
Пен, Анри де (1830–1888) — французский журналист и писатель, работал в Figaro.
(обратно)
276
Аш, Каран де (наст. имя Эммануил Яковлевич Пуаре) (1858–1909) — французский художник-карикатурист, родился в Москве. Эмануэль Пуаре взял себе аристократично звучащий на французский манер псевдоним Caran d’Ache (вариант французской транскрипции русского слова «карандаш»), которым стал подписывать свои работы.
(обратно)
277
Форен, Жан-Луи (1852–1931) — французский художник, график, книжный иллюстратор.
(обратно)
278
Виллетт, Адольф-Леон (1857–1926) — французский художник, иллюстратор, карикатурист и мастер плакатного искусства.
(обратно)
279
Юзес, Анна де (1847–1933) — французская аристократка, герцогиня, политическая деятельница, писатель и скульптор; первая женщина во Франции, получившая права на управление автомобилем (1899). Также была известна своим участием в феминистских и благотворительных организациях.
(обратно)
280
Бати, Гастон (1885–1952) — французский драматург и режиссер, теоретик театра, один из основателей театра Cartel des quatre (1927).
(обратно)
281
Фавар, Эдме (1879–1941) — французская певица (сопрано), сделала разнообразную карьеру и оставила много записей песен из ролей, которые она исполняла на сцене.
(обратно)
282
Вердье, Жан (1864–1940) — французский кардинал, архиепископ Парижа (1929–1940).
(обратно)
283
Бротье, Ивонна (1889–1967) — оперная певица (сопрано), работала в основном в Opéra Comique, Париж.
(обратно)
284
Боге, Андре Гастон 1893–1966) — французский оперный певец (баритон), работал в опере и оперетте, снимался в фильмах в 1930-х гг.
(обратно)
285
Морле, Габи (1893–1964) — французская киноактриса. Снималась в немых кинофильмах, а в начале 1930-х гг. легко перешла к съемкам в звуковых фильмах.
(обратно)
286
Робер-Уден, Жан Эжен (1805–1871) — французский иллюзионист, прозванный отцом современных иллюзионистов.
(обратно)
287
Скибин, Юрий Борисович (1920–1981) — танцовщик, педагог и балетмейстер русского происхождения, работавший во Франции и США.
(обратно)
288
Старинный романс-вальс О. Кремье.
(обратно)
289
Вальс О. Мачетти.
(обратно)
290
Леандр, Шарль Люсьен (1862–1934) — французский художник, наряду с портретной живописью много занимался карикатурой и шаржем, в 1904 г. основал Общество художников-юмористов. Работы Леандра в этом жанре печатались в ведущих французских газетах.
(обратно)
291
Лельевр, Лео (1872–1956) — французский поэт, лирик и шансонье.
(обратно)
292
Лаборд, Жермен (1905–?) — французская актриса, модель, победительница национального конкурса красоты «Мисс Франция–1929».
(обратно)
293
Кассив, Арман (наст. имя Луиз-Армандин Дюваль) (1867–1940) — французская актриса, играла в основном в комиксах и опереттах.
(обратно)
294
Мельер, Ракель (наст. имя Франсиска Марке́с Лопес) (1888–1962) — испанская певица, актриса кино, звезда межвоенной эпохи.
(обратно)
295
Майоль, Феликс (1872–1941) — французский певец и артист.
(обратно)
296
Кам-Хилл (наст. имя Камиль Перье) (1856–1935) — французский артист кабаре и певец в Париж.
(обратно)
297
Andre Leneka. L’Avenir, 20 Juin 1934.
(обратно)
298
Jean Barois. Paris-Midi, 16 Juin 1934.
(обратно)
299
Bernardt Durieu. L’independence Belge, 23 Juin 1934.
(обратно)
300
Цитата по: Жан де Лафонтен. Любовь психеи и Купидона. М.: Наука, 1964. Перевод А. А. Смирнова.
(обратно)
301
Люнье-По, Орельен Франсуа Мари (1869–1940) — французский театральный актер и режиссер, один из реформаторов французского театра конца XIX— начала XX в.
(обратно)