| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Парижский оборотень (fb2)
 - Парижский оборотень (пер. Я. Тошин) 1447K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гай Эндор
- Парижский оборотень (пер. Я. Тошин) 1447K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гай Эндор
Гай Эндор
ПАРИЖСКИЙ ОБОРОТЕНЬ
Эти создания живут без пищи:
Камелеон живет Воздухом,
Потурой, он же Крот, живет Землей,
Сельдь живет Водой,
Саламандра живет Огнем,
К каковым можно прибавить Мушловку,
живущую частью снами,
И Оборотня, чья пища ночь,
зима и смерть.
(Старинное изречение)
Генриетте Португаль


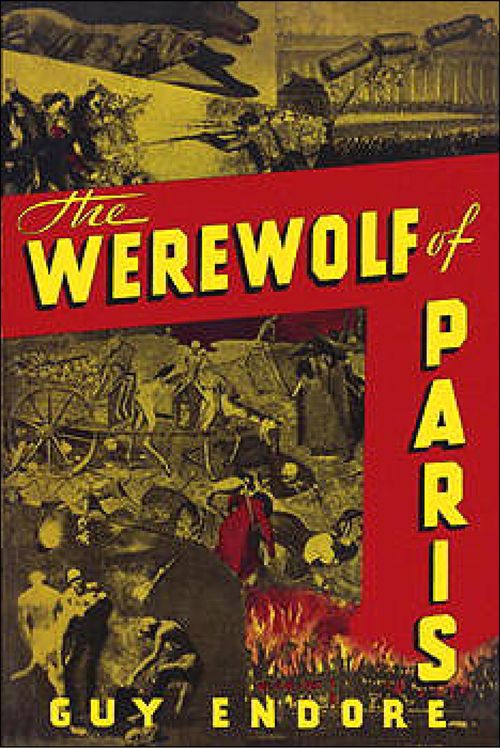
ПРОЛОГ
Как же мне подступиться к этой истории?
Она, не имеющая ни начала, ни конца, подобна невиданному цветку, беспрерывно распускающему лепестки.
Я мог бы, к примеру, начать с Элианы. Запомните, с Элианы, не с Элейны[1]. Но и Элиана не причастна к моему рассказу, разве что волею случая подтолкнула его. Точнее, нечаянно вывела меня на этот путь, ворвавшись как-то в мою комнату. А я-то думал, что она от меня за три тысячи миль, если не больше.
Элиана распахнула дверь и сказала:
— Я туточки!
Милая, бойкая, пышущая здоровьем, без ветра в голове и карманах. Однако ничего сверх этого. Всего в меру. Но для нее в самый раз.
— Добро пожаловать в Париж! — Я, как мог, изобразил радость, хотя, боюсь, не особо преуспел в этом. Дома мы были не такими уж большими друзьями. Но здесь, в знойной атмосфере французской столицы, даже шапочное знакомство быстро перерастает в близость. Во всяком случае, это верно для американцев, недавно приехавших сюда. Себя-то я считал старым парижанином, а Париж — городом тихим, где мне хорошо работалось.
— Хочу в джаз-клуб к Джо Зелли, в «Фоли-Бержер» — и… Ох! Все хочу. И как можно скорее, потому что, понимаешь ли, я здесь только на неделю.
— Да, конечно, — сказал я, не проявив особого интереса, — и не забудь про Лувр.
— А еще хочу пойти в «Ле Дом», в «Селект», поесть в «Динго» и у Фуайо.
— В Musée du Luxembourg[2] заглянуть тоже неплохо, — заметил я. Но она продолжала:
— Я просто обязана попасть в «Мулен-Руж» и в «Мертвую крысу».
— И в Клюни[3], — вставил я.
— Ах, я столько про все это читала, — не унималась Элиана. — Монмартр и Монпарнас. Ты идешь со мной.
— Куда это я иду?
— Со мной идешь. Знаю-знаю, денег у тебя нет. И я, конечно, плачу за нас обоих.
— Денег у меня нет, — сурово сказал я, — и времени тоже нет. Я занят.
— Чем это ты занят? — с невинным видом спросила она.
— Что, девочка моя, ты всех этих книг не видишь?
— Вижу, но разве они все уже не написаны? К чему они тебе? Решил их переписать?
— Думай что хочешь, — ответил я, немного обидевшись на ее равнодушие.
Она взяла со стола книгу.
— De Rerum Natura[4]. «О вещах в природе», — перевела она.
— «О природе вещей», — раздраженно поправил я.
— И в чем разница? Говорю тебе, пошли. Не вредничай. Я в Париже больше никого не знаю. Если ты откажешься меня сопровождать, придется таскаться по экскурсиям вместе со всей группой. А меня от них уже тошнит.
— Но как же работа? — напомнил я ей.
— Подождет, — сказала она. — Кстати, почему ты романы не пишешь? Тогда бы и деньги завелись. На корабле я читала прелестную книжку. «Пламенная юность»[5]. Читал?
— Нет, — отрезал я.
— Прочитай. Она про новое поколение, взращенное свободой. Жалко, маме с папой не покажешь. Но они бы просто ничего не поняли. А ты молод, ты обязан быть с нами. Стань современнее. Не будь ископаемым.
— Сама ты ископаемое! Я вот что тебе покажу.
Я открыл книгу.
— Здесь цитируется древнеегипетский папирус: «Молодые более не слушаются старших. Они попирают законы, которым следовали их отцы. Они думают только о собственных удовольствиях и не чтят религию. Одежда их непристойна, а речи дерзки»[6]. Узнаешь себя в этом описании? Молодежь всегда была и всегда будет. И тот, кто моложе, не перестанет считать себя умнее и показывать нос старикам.
Но моя высокая мудрость пала пред ее упрямством. Мы отправились к Зелли. Шампанское, как всегда, было отличным, дорогим и так далее, но мне разницы нет. Я люблю пиво. Помню, видел я в одном немецком ресторане надпись: «Ein echter Deutscher mag kein Franzen nicht, dock seine Weine trinkt er gern». To есть, настоящий немец лягушатников не жалует, но французское вино пьет с удовольствием. Со многими французами так же. Немцев терпеть не могут, а пиво попивают. Будем честны, в Париже о пиве говорить не положено, хотя качество у него отменное. У Зелли я заказал пиво. Официант наверняка принял меня за сумасшедшего.
Элиана пила шампанское. Не помню, сколько она тогда выпила. Она потанцевала со мной. Потом с каким-то темнокожим малым, кажется, кубинцем. Затем решила отправиться еще куда-нибудь, когда я уже собрался возвращаться домой, ведь еще немного, и таксисты стали бы запрашивать двойной тариф. Элиану это не смущало. Она только-только начала понимать, как богат Париж на развлечения. И это правда, если денег не считаешь и над диссертацией корпеть не надо.
И мы поехали в одно местечко, потом еще в одно — и еще в одно. Позабыл, где мы в ту ночь побывали. По Парижу можно кататься до бесконечности. Чуть ли не кажется, что в Штатах такого нет. Иначе эти заведения не были бы переполнены американцами. Официанты говорят по-английски, играет американский оркестр, все посетители — прямиком из-за океана.
Стоит ли ради такого ехать в Европу? Вот, к примеру, манускрипта за номером F.2839, являющегося темой моей диссертации, в Америке не найти. И мне пришлось работать над ним в Париже. Но кабаки? Кабаков по всему миру полно. И везде они одинаковые. Потому что грех везде одинаков. И всегда одинаков. Голову целую вечность будешь ломать, а нового ничего не придумаешь.
Около трех я объявил Элиане, что с нас хватит. Но ей кто-то рассказал о ресторанчике в Ле-Але, где в любое время ночи можно отведать лукового супа, и она захотела туда. Конечно, мы там и очутились. К этому часу я тоже был не совсем трезв. За нашим столиком сидели еще двое или трое. Не помню, как они к нам присоединились: может быть, они даже с самого начала были там. Один из них оказался милым парнем, и вскоре мы с ним принялись горячо обсуждать мимикрию. Я когда-то о ней что-то читал, но под влиянием алкоголя мои познания были столь свежи, будто я изучал это явление не далее чем вчера.
— Есть на свете мотылек, который притворяется птичьим пометом: выглядит он, будто птица нагадила, — изрек я. — А еще есть насекомое, имитирующее осу. И жук, как две капли воды похожий на опасного муравь я.
— Когда же вы это прекратите? — вмешалась Элиана. — Господи, из чего только вы, мужчины, сделаны? — А сама тем временем встала и закружилась в танце. Мы продолжили разговор. Мой собеседник поделился несколькими любопытными наблюдениями. Я забыл, какими именно. Вдруг я услышал, что Элиана поет во весь голос.
— Мне жарко, — заявила она, расстегнула платье, которое тут же упало к ее ногам, и начала извиваться в одном шелковом нижнем белье. В зал выбежал хозяин заведения, браня ее и всех нас: «Sales américains»[7]. Но Элиану было не так просто остановить. Она кинулась в объятия какого-то незнакомца и произнесла:
— Возьми меня, я твоя. Хочу тебе принадлежать. Одному тебе.
Тот прихватил ее за талию и повел к своему столику. Там она мигом удобно устроилась у него на коленях, крепко обняла незнакомца за шею и слилась с ним в неразрывном поцелуе.
Я подошел к ним с увещеваниями. Элиана, бросив кавалера, сказала:
— Не ревнуй, я буду твоей. Обещаю. Идем же скорей отсюда.
Именно тогда я совершил ошибку.
— Так, Элиана, надевай платье, и я отвезу тебя домой, — выдал я.
Надо было притвориться, что я весь в ее власти. Но вместо этого она услышала призыв к благопристойности. Чего ей хотелось меньше всего.
— Не желаешь меня, достанусь кому-нибудь другому. Кто тут меня хочет? — закричала она. — Кто хочет меня? Хочу мужчину! Я девственна, свободна, белокожа и вообще прекрасна. Сейчас все покажу, — и она принялась стягивать бюстгальтер.
Я попытался остановить ее, но она меня оттолкнула.
— Элиана! — сказал я.
Тут к нам подошел мужчина, на чьих коленях она только что восседала.
— Милая, сама знаешь, ты моя. Идем со мной. Мы с тобой созданы друг для друга. Я всю ночь буду боготворить твое нежное тело. — Он обрушил на нее весь тот вздор, который я сам, признаюсь, не раз нес перед женщинами, но когда такие слова срываются с твоих губ, чепухой они почему-то не кажутся. Со стороны эти речи подслушивать не рекомендуется. Они предназначены для спальни и должны оставаться в ее стенах.
Элиана восприняла незнакомца всерьез и растеклась по его плечу. Буквально растеклась. Вся обмякла и приникла к нему. Он отвел ее в сторонку и уговорил надеть платье. Затем вышел с ней на улицу и остановил такси.
Смутно помню, как я брел за ними и старался образумить ее, беспрестанно твердя про ее родителей. Есть у меня столь же нечеткие воспоминания о том, что за нами увязался мой коллега по обсуждению мимикрии, ни на секунду не прекращая говорить про насекомых.
Я дернулся было сесть в такси вместе с Элианой и ее другом, но он вежливо отодвинул меня, а она — менее вежливо — довершила дело. Ну, таков мир.
— Пока сами насекомых на вкус не попробуете, — продолжал разглагольствовать мой собеседник, — до конца не поймете, как далеко зашла мимикрия: есть одна бабочка из семейства Euphaedra, которая на вкус совсем как другая бабочка из Aletis, а на вид они совершенно разные.
— Вы ничего, случаем, не перепутали? — спросил я. Мы миновали башню Сен-Жак и направлялись к Сене.
Здесь нас остановила девушка и предложила себя.
— Сколько? — сразу спросил мой спутник.
Она ответила.
— Дорого, — сказал он. Она уступила. Он все равно покачал головой.
— Пошли, — наконец произнесла она. На ее бледном лице читалось изнеможение. — Не нужны мне деньги. А вы нужны.
Он достал из кармана часы.
— Время слишком позднее. Прости, как-нибудь в другой раз, если захочешь. — И, подхватив меня под локоть, отвернулся. Девушка тоже вцепилась в меня.
— Бесплатно. Бесплатно, — повторила она с отчаянием в запавших глазах. Ее дыхание стало прерывистым. — Бесплатно. Деньги не нужны. Понимаете, я богата. — Она открыла сумочку, и там была пачка банкнот. Во Франции это ничего не доказывает, однако она могла говорить правду. Я отметил, что платье на ней неплохое. Ничего особенного, но не дешевка. Ее всю лихорадило. От этого ее руки тряслись, и дрожь передавалась мне.
Мой товарищ сумел увести меня от нее. Когда мы отходили, я обернулся и увидел, что она по-прежнему стоит на месте, закрыв лицо руками.
— Зачем вы это сделали? — спросил я. Поведение моего нового приятеля показалось мне отвратительным. Он будто решил просто поиздеваться над ней.
— Занятно было, сколько она сбросит. Мне как-то раз снизили цену до двух франков, но никогда не предлагали бесплатно. Но сегодня не в счет, потому что она не нуждалась в деньгах. Тут явно патология.
— По-моему, довольно жестокое развлечение, — сказал я. И про себя подумал, что пора от этого типа избавиться.
— Настоящая болезнь, — продолжал он. — Ими будто зверь овладевает. Вы слышали, что в психологии появилось новое учение, оживляющее давнюю веру в одержимость?
Он ждал ответа, поэтому я сказал:
— Нет.
Даже если бы я сказал «да», он все равно не перестал бы пичкать меня сведениями.
— Вы, конечно же, слышали про Хислопа?[8] — спросил он. — Думаю, он бы не усомнился, что оба наблюдавшихся нами сегодня ночью примера являют собой случаи одержимости духами животных.
— Неужели вы сами верите в это? — удивился я. Что-то мне подсказывало, что его знание зиждилось на зыбкой основе. Оно кренилось заметнее Пизанской башни.
— Это было подмечено еще в античности. Римляне, например, думали, что ненасытные плотские желания говорят об одержимости волком.
— Всегда считал, что символ сексуальной ненасытности — это козел.
— Вы ошибались. «Волк», wolf, схож с латинским словом «вульва», а латинское lupus, то есть «волк», имеет единый корень с «лупанарием», борделем. Вы же помните римские луперкалии, пастушеский праздник. Он подобен нашим карнавалам, и морали на нем было не место.
— Но не отождествлялся ли бог Луперк с Паном? — спросил я.
— Безусловно, однако само его имя переводится как «защитник от волков». Праздник был некоторым образом связан с волчицей, вскормившей Ромула и Рема[9], хотя его значимость в сексуальном плане станет явственнее, если вспомнить, что во время жертвоприношения животных женщины, мечтавшие о плодовитости, позволяли хлестать себя окровавленными кусками козлиной шкуры.
— Мне кажется, что подобные теории зачастую поверхностны, — возразил я. — Они похожи на построения Фрэзера[10], а я отнюдь не его поклонник. К тому же они из той сферы, что меня совершенно не прельщает, и уже неважно, насколько они хороши.
— Вы неверно меня поняли, — ответил он и принялся осыпать меня многочисленными доводами, суть которых я позабыл. Тема не казалась особенно интересной, а односторонние разговоры всегда меня раздражали. К тому же мне никак не удавалось выкинуть из головы Элиану. Когда мы с ней опять увидимся? Что она мне скажет? Так получилось, что наша следующая встреча произошла лишь через несколько лет, когда она уже успела стать замужней дамой. Если не ошибаюсь, она вышла за того самого кавалера из ресторана. Но об этом я не спросил ни его, ни ее. Не позволили приличия. Хотя их брак был бы романтичным завершением ночного приключения, я не осмелюсь утверждать, что события развивались именно таким образом.
Но кое-что из происшествий этой ночи все же возымело последствия. Начинало светать, и мой спутник, которого я надеялся больше никогда не увидеть, обнаружил, что фонтан его красноречия пересыхает, и засобирался к себе на улицу Эколь-де-Медсин. Не по дороге ли нам? На самом деле, я жил недалеко оттуда, но я ответил отрицательно, и мы наконец расстались.
Я пошел по набережной, потом свернул в сквер у реки и сел там на лавочку. Моя голова была пуста, но в ушах еще звенели мириады отзвуков услышанного за последние часы — так иногда гудят ноги, когда остановишься передохнуть после долгого пути.
Вскоре я заметил двоих оборванцев с мешками за спиной. Они сели на корточки неподалеку и принялись перебирать добычу, найденную во время утреннего обхода городских мусорных баков: разбивали электрические лампочки, отделяя латунные цоколи и вынимая вольфрамовую нить; раскладывали бутылки и сортировали обрывки веревок, лоскуты и пуговицы. Вдруг один из них достал свернутые в трубку листы бумаги, перевязанные лентой. Он развязал ленту и развернул находку. Листы были сшиты вместе и исписаны от руки. Издали я больше ничего не мог разглядеть.
Мне стало любопытно, что там может быть. Наверняка какое-нибудь школьное сочинение — гордый труд юного автора с высокими устремлениями. Или деловой отчет, возможно, недавний, ведь многие французские предприниматели до сих пор не знакомы с пишущей машинкой. Но что, если это по-настоящему ценная рукопись знаменитого писателя, которую можно продать за немалую цену?
Подталкиваемый интересом, я поднялся и подошел к моим неожиданным соседям. Они посмотрели на меня снизу вверх и ответили на приветствие. Я сказал им что-то дежурное про то, как сложно нынче достаются деньги. Не стоит забывать, что франк тогда скакал не хуже дикого жеребца, и это беглое замечание быстро расположило их ко мне. Нет на свете нищего, что не валит свои беды на мировые финансы.
Я поднял рукопись с земли и как бы невзначай спросил:
— А это что за machin-la?[11]
Один из них поспешно заверил меня, что иногда такие вещи кое-чего стоят. Второй, почуяв, куда ветер дует, затараторил, что Жан Такой-то отошел от дел благодаря единственной находке этого рода. Первый сразу вспомнил еще более поразительный случай. Короче, кажется, никто из парочки не сомневался, что разбогатеет этим утром, и был готов отправиться на покой, который им обеспечит будущая продажа обнаруженных бумаг.
Одного лишь взгляда на манускрипт оказалось достаточно, чтобы я загорелся его покупкой. Я случайно прочитал в нем: «Храмы, посвященные Волчице, позже стали публичными домами, или лупанариями. По сей день итальянское слово lupa переводится как волчица и как блудница».
Я предложил им франк. Они пожали плечами и продолжили отделять железки от тряпок, обменявшись несколькими быстрыми фразами на арго, которые я не понял.
Затем я, с громко стучащим от страха сердцем, совершил смелый поступок — бросил рукопись им под ноги со словами «Bonjour, messieurs»[12] и пошел прочь. Я успел сделать десять шагов, усилием воли заставляя себя не оглядываться, когда услышал окрик:
— On vous le vend pour cinq, monsieur[13].
Я вернулся, поднял бумаги, сказал как можно спокойнее: «Va, pour cinq»[14], — и протянул им банкноту.
Вот так, не без помощи Элианы, я стал обладателем заметок Галье — тридцати четырех мелко исписанных по-французски листов с добровольным свидетельством автора в защиту сержанта Бертрана Кайе, представшего в 1871 году перед военным трибуналом.
Поначалу я намеревался опубликовать эту курьезную находку без изменений, лишь сопроводив ее необходимыми читателю пояснениями по поводу дела Кайе. Но по зрелом размышлении решил придать всему тексту более яркую форму, включив в него результаты собственных изысканий. Признаюсь, партикулярное письмо Эмара Галье заинтриговало меня столь сильно, что я на какое-то время отложил диссертацию и сосредоточился на нем.
С самых первых слов рукопись завораживает. Ее содержание столь же необычно, как теории современных пирамидологов, этих странных ученых мужей, подробнейшим образом доказывающих, что древние пирамиды призваны вечно хранить в себе научные познания, превосходящие всё известное нам сегодня.
Галье пишет:
«Обширные успехи нашего поколения в завоевании материального мира не должны ослеплять нас, заставляя думать, что, когда мы сумеем постичь физический универсум до самых его глубин, мы сможем объяснить всё необъясненное.
В былые времена ученые с жаром стремились измерить глубины духовного мира, но едва ли не все их победы и достижения позабыты.
Кто способен сказать, чем мы обязаны отважным священникам далекого прошлого, что шли в запретные леса друидов, вооружившись лишь колокольчиком, Писанием да кадилом[15], и изгоняли лесных духов, уничтожали фамильяров и элементалей, сражались с чудовищами и демонами древней Галлии? Кто сможет оценить наш долг перед ними за то, что они помогли уничтожить всех странных и противоестественных тварей, затаившихся в темных уголках и закутках, под папоротниками и замшелыми камнями, и выжидавших минуты, когда на них, на свою беду, наткнется беспечный, забывший перекреститься путник? Не все те чудовища были одинаково опасны, но все они пагубно влияли на человеческие судьбы.
Неужели сегодня одинокий прохожий может без страха идти в полночных тенях по безмолвным лесам Франции благодаря одной лишь бдительности полицейских? Разве только стараниями ученых мы позабыли веру в призраков и чудовищ? Или все-таки то была Церковь, которой, после тысячи лет сражений, наконец удалось покончить с давящей атмосферой подспудных страхов и таким образом позволить человеческому эго раскрыться во всей своей полноте? Гордыня не должна затмить в нас, воспользовавшихся их наследием, чувство благодарности. Более непредвзятые мыслители будущего обязательно поддержат мое убеждение»[16].
Прежде, чем я углублюсь в содержимое документа, позвольте сказать несколько слов о его авторе. Кем был этот Эмар Галье, отстаивавший столь любопытные взгляды, изложенные выше? Мне не удалось найти ответа на этот вопрос в Национальной библиотеке Франции. Но я случайно заглянул в справочник «Весь Париж» за 1918 год. В нем упоминался некий Эмар Галье, второй лейтенант[17] и т. д., и т. п. Этого для меня оказалось достаточно. Должно быть, они состояли в родстве.
Короче, я написал ему. В ответ меня пригласили с визитом, и я ухватился за возможность приехать. Не так уж часто французы настолько любезны с американцем.
Итак, я познакомился с Эмаром Галье, теперь уже лейтенантом, приятным и щеголеватым малым с черными усами, ямочками на щеках и темными глазами в ореоле длинных ресниц. Он много улыбался, обнажая ровные зубы цвета и фактуры бланшированного миндаля, но его приветливость никак не давала подступиться к делу.
Наконец я не выдержал (довольно резко оборвав энергичное обсуждение боя Карпантье с Демпси)[18]:
— Эмар Галье ведь редкое имя, правда?
Он рассмеялся.
— Не думаю, что на свете найдутся два Эмара Галье одновременно.
— Следовательно, недаром я был уверен, что вы родственник Эмара Галье, жившего в прошлом столетии?
— Полагаю, мы говорим об одном и том же человеке. Мы с ним в родстве. Вряд ли вы подразумеваете кого-то другого. Однако мне было бы интересно узнать, откуда вам известно его имя.
Именно это я рассказывать не хотел. Я замешкался и пробормотал нечто невнятное.
— Вы случайно наткнулись на один из его трудов?
— Его трудов?
— Да, он много писал.
— Нет, — промямлил я, а сам подумал, что все-таки после него что-то осталось. Следующая реплика лейтенанта подтвердила догадку:
— В Национальной библиотеке немало его памфлетов, но в каталоге они все обозначены как анонимные. Моя мать мечтает исправить это упущение и постоянно разыскивает подписанные экземпляры, которые он раздавал друзьям. Но как его имя узнали вы?
— Ну… понимаете, я редактировал кое-какую переписку, и оно там встретилось.
— Ясно.
— А так как в мои обязанности входит комментирование материала, я посчитал необходимым сказать несколько слов и о нем.
— Да, конечно. Значит, так: родился он в тысяча восемьсот двадцать четвертом году, а умер в девяностом. В сорок восьмом[19] он был тяжело ранен в уличном бою и с тех пор, по мнению моей матери, чуть-чуть повредился в уме. Он писал многочисленные политические памфлеты, а потом вдруг решил стать священником. Но священник из него вышел далеко не образцовый. Он посещал спиритические сеансы и занимался столоверчением, а когда терпение церковных властей начало подходить к концу, добровольно отказался от сана. Его приход располагался в Орсьере, где он прожил до конца своих дней. Там же похоронен. Вот и все, что я припоминаю. Моя мать знает гораздо больше.
— Этого вполне достаточно, — сказал я. — Весьма вам признателен.
Я убрал в карман листок, на котором делал заметки.
— Не могу ли я узнать, в какой связи упоминалось его имя? Мать наверняка спросит меня об этом.
— Он свидетельствовал в защиту одного человека. Вы когда-нибудь слышали о некоем сержанте Бертране Кайе?
— Впервые слышу.
— Этот человек попал под трибунал, а ваш родственник, по-видимому, пытался ему помочь.
— За что судили того сержанта Кайе?
— Его судили за… — И я замолчал. У меня язык не повернулся бы сказать такое.
Даже если бы я приложил все усилия, я бы не смог выдавить из себя это слово. Есть на свете вещи, на которые не пойдешь. Кому хватит смелости сделать стойку на руках на углу Пятой авеню и 42-ой улицы? Определенные идеи иногда совершенно неуместны для высказывания в обществе некоторых людей, в остальном вполне очаровательных. И я неловко договорил:
— …судили за преступление.
— Какое?
— За изнасилование, — решительно сказал я. Это прозвучало наиболее подобающе в присутствии столь располагающего к себе, вежливого, щеголеватого лейтенанта. Да, изнасилование и никак иначе. Все лучше, чем…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Поскольку Эмар Галье начинает свое письмо с рассказа о Питавале и Питамоне, я поступлю подобным же образом, впрочем, не лишая себя привилегии несколько преобразить его местами чрезмерно сухое изложение. Происшествие, описанное далее, на первый взгляд покажется не относящимся к делу. Точно так же, решение выкопать колодец под домом вроде бы не имеет ничего общего с тем, что тиф уносит жильцов одного за другим. Истоки моральных болезней тоже зачастую уходят в далекое прошлое.
Питаваль и Питамон[20] — это два французских замка, расположенные на противоположных берегах речки Ле-Пит. Мне, конечно, известно, что в географическом справочнике этих названий не найти. Но правда такова: два замка, от которых и развалин почти не осталось, сейчас смотрят друг на друга через пересохшее русло. Когда земля на холмогорье оскудела из-за вырубки лесов, река иссякла. Однако до сих пор можно проследить ее былое течение по каменным извивам. Местные археологи, если таковые найдутся в этом гористом и бесплодном краю в двадцати пяти милях к юго-западу от Гренобля, в будущем непременно объяснят, почему позабылись названия замков.
Современный турист вряд что разглядит в этой стороне, но один путешественник, безусловно, увидел многое. Я говорю о Виолле-ле-Дюке[21], который пришел в восторг от местности, нарисовал ее подробный план и восстановил в эскизах ее исторический облик. Ими, если я не ошибаюсь, он иллюстрирует словарную статью о барбете[22]. Упоминание замков есть и при толковании «уборной». Не стоит забывать, что Виолле-ле-Дюка всегда интересовали средневековые санитарные сооружения. Возможно, во время его поездки по описываемой местности развалины еще хранили их следы.
С давних времен владельцы Питаваля и Питамона, хотя и являлись ветвями одного и того же родового древа, вели беспрерывную войну друг с другом. Оба семейства исстари делили меж собой обширные и плодоносные земли. Виноградники на холмах давали превосходное вино. В лесах жирели кабаны, росли каштаны, трудились углежоги. Крестьяне, семижильные и неунывающие, исправно и обычно без ропота платили дань феодалу и Церкви.
Но непрекращающиеся стычки между двумя домами постепенно все более тяжкой ношей ложились на плечи простого люда, пусть в истории и нет никого терпеливее жестоко угнетаемых бедняков. Работники покинули свои наделы, благо в то время в Европе имелась свободная земля. Так зачем же жить в постоянной опасности?
Поместья с каждым годом приносили все меньше и меньше прибыли, и Питавали с Питамонами, стесненные в средствах для продолжения войны, стали чаще спускаться в долину, в город Гренобль, где имелся представитель банкиров Датини, и даже наведывались в Авиньон, в головную контору этой обширной финансовой компании. Мало-помалу они заложили все имущество. Задолженность росла. Чтобы выплатить хотя бы ее часть, Питавали начали грабить Питамонов, но те не раз умело перехватывали инициативу, отчего и в их карманах звенела монета.
Как-то ночью нищенствующий монах, застигнутый тьмой среди холмов, нашел приют в замке у Питавалей. Женщины, уставшие от грубости и неотесанности мужской половины семейства, были рады появлению чужого, но излучающего доброту лица. Почтенный член братии развлекал дам рассказами об Италии, откуда он только что прибыл.
— Все там согрето солнцем и залито светом, — сказал он, задумчиво поглаживая длинную бороду.
Слушательницы трепетали, переполненные желаниями. Снаружи бушевал ветер. Очередной его порыв ворвался в щель под дверью, камыши, покрывающие пол, зашуршали. Где-то в лесу завыл пес — или волк? Все перекрестились.
Монах произнес несколько слов на латыни.
Молодой великан, старший сын Питавалей, шлепнул по столу мясистой ладонью и хрипло расхохотался.
— Слыхал я, что мужчины у них — да не только у них, ведь мода распространилась повсюду — пишут песни и поют их дамам, тренькая на лютне. Есть такое? Люди не врут?
— Это отрадный и благородный обычай, — ответил монах и добавил: — Господь наш тоже благодать любил.
Женщины, томимые тоской, смотрели на монаха. Им казалось, что в нем живет частица южного солнца и нежная мелодия любви. А мужчины, раскрасневшиеся от выпитого, уже позабыли о нем, погрузившись в обсуждение предстоящей охоты на кабана.
Огонь в очаге потух. Едва горели дымные свечи. Хозяева разошлись по опочивальням.
Монаху разрешили расположиться на полу и укрыться от холода несколькими овечьими шкурами.
В замке царила тишина. И непроглядная тьма. Монах откинул шкуры и медленно поднялся. Из складок рясы он достал длинный, острый кинжал. Он, Питамон, тайно отрастивший бороду и оставшийся неузнанным, теперь мог свободно перемещаться по замку. Дыхание беззвучно вырывалось через разомкнутые зубы. Приметив заранее, кто куда ушел, он крался к покоям спящих Питавалей.
Он достиг первой комнаты. Луна в узком оконце тускло сияла сквозь облака. Питамон, опустившись на четвереньки, пополз к постели. Полог был раздвинут. Держа кинжал обеими руками, Питамон замахнулся и с силой ударил спящего в кровати человека. Звук получился тихий, будто кто-то наступил ногой на гнилое яблоко.
— Что там, Робер? — сонно прошептала лежащая рядом жена. Но убийца уже занес кинжал и ударил во второй раз.
Тишина.
Питамон покинул комнату с мертвецами и проследовал дальше. Ни один Питаваль не должен дожить до утра. С ними надо было покончить.
Питамон на ощупь крался вдоль стены, но вдруг его нога угодила в щель в полу, и он упал ничком. Кинжал вывалился из руки и с лязгом скатился по невысокой лестнице.
— Holà![23] Гуго! Holà! Жуффруа! Нужен свет!
— Это всего лишь я, — сказал монах. Обнаженный молодой гигант Питаваль подошел к нему и схватил за шиворот.
— Ты что здесь делаешь?
— Ищу, где бы облегчиться, — объяснил монах.
— Чем тебе угли в очаге не угодили?
К этому времени проснулись все обитатели замка — все, кроме тех двоих, уснувших навеки.
Утром во владение замком вступил новый хозяин, великан Питаваль, унаследовавший имение отца.
Питамона, монаха-самозванца, заперли в крошечной камере, где он мог размышлять о злосчастье, разрушившем в последнюю минуту его планы. «Смерти я не боюсь», — сказал он себе и улыбнулся.
В огромном главном зале молодой Питаваль сидел рядом с красавицей-женой и тоже раздумывал.
— Что же нам теперь делать с твоим солнечным итальянцем? — со смехом спросил он. Она отвернулась и заплакала.
Питаваль послал в ближайшую деревню за каменщиком. Они несколько часов совещались, после чего мастер позвал помощников и приступил к работе.
Во внутреннем дворе замка располагался старый колодец. Использовался он редко: новый был и больше, и лучше, и удобнее. Теперь старый колодец расширили сверху до самой воды, чей уровень оставался постоянным, и там, прямо над ней, уложили тяжелую железную решетку. Рядом с колодцем соорудили выгребную яму с двумя трубами: у первой имелся выход к решетке над водой, вторая, предназначенная для подачи воздуха, вела к поверхности земли. В пяти-шести метрах над получившейся площадкой возвели купол. Прежде чем его закончить, самозванца, до потери сознания окуренного дымом, опустили в колодец. Купол замуровали, оставив в центре лишь маленькое вытяжное отверстие. Стенки колодца были выложены гладкими камнями, плотно пригнанными друг к другу. Над землей возвышалась надстройка, тоже каменная, с тяжелой железной дверью на замке. Ступени в ней вели в вентиляционную камеру над куполом. Трижды в неделю слуга, сопровождаемый хозяином, заходил туда и бросал в отверстие увесистый кусок жирного мяса. Он глухо ударялся о решетку над водой. Долгое время это было единственным звуком, доносящимся из колодца.
Придя в себя, Жеан Питамон обнаружил, что находится в темной холодной комнате, голый и дрожащий. Первой мыслью было, что он умер и попал на тот свет, как обещали священники. Но вскоре иллюзия развеялась. Он ощупал стены и понял, что оказался в маленькой круглой камере. Стоя в середине, на железной решетке, он вытянутыми руками с легкостью касался камней по обеим сторонам от себя. Лишь в одном месте круглая стена образовывала маленькую нишу, в полу которой была дыра шириной чуть больше пяди. Жеан сразу догадался о ее предназначении. Единственным предметом обстановки, если можно так выразиться, являлся маленький металлический черпак, прикованный к решетке короткой цепью. Им можно было набрать воды для питья.
Когда Жеан со всей ясностью уразумел, куда был заточен, его прошиб холодный пот. Местом его заключения стал ублиет, иными словами, каменный мешок. Он слышал о подобном, но никогда не видел. И вот сам очутился в одном из них. Но он не отчаивался. Иногда даже со смехом вспоминал, как ловко надул глупых Питавалей. Как убил главу семейства и его жену, забывшихся пьяным сном.
Он знал, что скоро его отсюда вызволят. Отец с братьями ни за что не оставят его здесь. Каждую секунду может прогреметь удар топора о стены его темницы. Это Питамоны разделались с Питавалями и идут освобождать его!
Но ничего не происходило. Не раздавалось ни звука. А он все ждал и ждал. Они обязательно придут. Конечно, сначала им надо подготовиться. Они нападут отрядом, возьмут штурмом замковые стены и убьют проклятых Питавалей, мужей и жен, всех до единого. Будут его искать. И найдут, неважно, как глубоко его упрятали. Но тут в его голову закралось ужасное сомнение: ведь они, сказал он себе, давным-давно пришли бы за ним, если бы атака состоялась. Нет, просто штурм не удался, и они отступили, чтобы собрать войско побольше. Конечно, никто не намерен оставлять его гнить здесь.
Они его не бросят. Но нужно дать им время. Сколько он уже в этом месте? Разве можно вести счет дням в кромешной тьме? Сначала его два дня держали взаперти в замке. Затем одурманили дымом и перенесли сюда. Итак, сколько прошло с той поры? Ему показалось, что несколько суток, но не исключено, что всего несколько часов, ведь его пока не кормили, к тому же он совсем не спал. Ему наверняка раз в день будут скидывать снедь, а раз в сутки его потянет в сон, и по этим признакам станет возможным вычислить срок. Жеан решил вести счет дням, проведенным в заточении.
Время шло. Он спал и просыпался, засыпал опять и пробуждался вновь. Хотелось есть. Они его вообще кормить собираются? Неужели его кинули сюда умирать голодной смертью? Что ж, такова его участь. Так даже лучше. Умереть он не боится.
Время шло. Он ослабел от истощения. Сверху что-то послышалось. Звон ключей. В помещение над ним вошли люди. Раздался тихий шепот. Он едва не выкрикнул: «Потон!» — думая, что там его брат. Но сдержался. Надо подождать и убедиться. Тюремщики поднимут его на смех, если он ошибется. Он подождал. Это был не Потон. Это был молодой Питаваль.
— На, поешь, мой отшельник! Тебе скамеечка для молитв не требуется? На лютне побренчать не хочешь?
Жеан молчал. «Эх! Если б я только мог дотянуться до твоей жирной шеи», — думал он. В его ноздри ударил резкий аромат зажаренной птицы. Что-то упало сверху на решетку над водой.
Шаги удалились. Захлопнулась дверь.
Жеан принялся разыскивать мясо. Нет. Он не съест ни кусочка. Он заморит себя голодом до смерти. Хотелось пить. Горло саднило. Он попьет воды, это не повредит, лишь поможет перетерпеть голодные спазмы. Он нащупал черпак и опустил его между прутьями решетки. Вода была прохладной и приятной.
Мясо соблазнительно пахло. Ах, эта хрустящая корочка на жирной ножке, как часто он впивался в нее зубами. К примеру, совсем недавно, когда сидел в рясе за столом у Питавалей… но тогда он запретил себе излишне наслаждаться угощеньем. Монаху надлежала умеренность. Теперь он жалел, что съел так мало. Разве ему повредил бы лишний кусок? Стол еще ломился от еды, когда все разошлись по постелям. Сколько там осталось жареной дичи! И целое блюдо зелени с холодными креветками в остром соусе. Как же вкусно! У него засосало под ложечкой. Те два дня, что он провел взаперти в замке, его кормили одним хлебом, сухим и жестким.
Почему он так много думает о еде? Еда осталась в прошлом. Он готовится к смерти. С едой он распрощался. Но запах жареной птицы заполнял камеру, вызывая мучительные страдания.
Он убьет себя и покончит с этой пыткой. Если бы только удалось поднять решетку и утопиться в колодце!
Однако прутья слишком крепко держались на месте. Что, если вскарабкаться по стенам и броситься вниз? Но он мог лишь касаться пальцами противоположных стен, чего совершенно не хватало для упора. Неужели они сняли с него мерку, продумав еще одну жестокую кару?
Он принялся биться головой о камни. Потом о решетку, пока не пошла кровь. И потерял сознание. Стоило ему прийти в себя, как ноздри вновь наполнил аромат жареного мяса. Будь оно проклято! Он избавится от этой снеди. Отправит в выгребную яму. Да, так и сделает. Выбросит вместе со всеми мыслями о еде. С глаз долой, из сердца вон.
Птица оказалась немаленькой. Несомненно, это был гусь. Она никак не хотела проходить в дыру. Он разорвал ее на куски, отделив ноги и крылья, и сначала выбросил их. Было слышно, как они падают далеко вниз. Однако самая крупная часть застряла в трубе. Ему пришлось проталкивать ее. Получилось пропихнуть ее довольно глубоко, но вскоре он перестал до нее дотягиваться — и она так и осталась там.
Вот и всё. Господи боже! Что он наделал! Выбросил последнее. Жеан чуть не завопил от отчаяния. Но нет, он не должен издавать ни звука. Позор не для него. Они же только и ждут, когда раздадутся мольбы, чтобы посмеяться над ним, чтобы поиздеваться. Нет, на его губах печать молчания. Он подавил крики, засунув пальцы себе в рот и заглушив любой звук, способный вырваться из его измученного тела.
Вдруг он осознал, что жадно облизывает губы и руки, обсасывает пальцы, просовывает между ними язык в надежде обнаружить еще немножко жира, которым перемазался, пока выбрасывал гуся. Может, получится дотянуться до большого куска, застрявшего в трубе, куда он его так усердно заталкивал ранее. Он засунул руку в дыру. Кончиком среднего пальца почувствовал, что птица еще там. Но напрасно он старался поддеть ее ногтем и втащить обратно. Мясо находилось слишком далеко.
Палка! Палки у него не было. Черпак! Тот прикован цепочкой к решетке. Лучше ногой. Ногу он опустит ниже. Достанет дальше. Увы, неловкие пальцы стопы только протолкнули жаркое глубже в трубу. Его сотрясали рыдания, он скрежетал зубами. Хотелось завыть. Но он помнил, что с его уст не должно сорваться ни звука. Жеан в агонии катался по холодному полу камеры, чересчур узкой для того, чтобы вытянуться в полный рост: это было еще одной уготованной ему изощренной пыткой.
Он совершил тщетную попытку убить себя, вдыхая носом воду. Но не смог закончить начатое. Стремление дышать оказалось слишком сильным. Вот если бы ему удалось обмотать шею цепью черпака… Нет, тоже ничего не вышло.
В следующий раз он услышал звук над собой через несколько дней, недель, месяцев, лет. Никто больше не выкрикивал насмешек. Как сквозь пелену, до ослабевшего от голода Жеана донесся шлепок, с которым что-то тяжелое упало в темницу. Шаги удалились, закрылась дверь. При этом ни единый луч света не проник в камеру.
Стоило двери затвориться, и узник, будто дикарь, набросился на пищу. Это был огромный кусок сырого мяса с прослойками сала. Жеан вонзил в него зубы, а затем долго лежал, мучаясь тошнотой и отрыжкой.
Он старательно пытался не потерять ход времени. Но то и дело проваливался в сон и чересчур сильно хотел есть, отчего ему казалось, что его кормят раз в неделю, хотя это случалось в три раза чаще. Прошло четыре месяца, а он был уверен, что сидит в колодце уже год. Первый год еще не завершился, как Жеан подумал, что миновало четыре. Чуть позже он вовсе потерял счет. И перестал надеяться, что однажды железо ударится о железо в горячей схватке и хриплый голос Потона выкрикнет: «Жеан, брат мой, ты там?». Этого никогда не случится.
Незаметно для себя, капля за каплей, он дошел до состояния, когда вообще перестал думать.
В его подземелье все время держалась одна и та же температура. Снаружи могли завывать метели или грохотать летние грозы, поливая дождем иссушенную землю. Внутри было всегда прохладно, всегда сыро, всегда темно.
Жеан оставался равнодушен ко всему, кроме пищи. Он привык чувствовать голод трижды в неделю в один и тот же час, и если мясо бросали вниз с опозданием, он разражался лаем и рычанием, как пес.
Шли годы. Раз за разом какой-нибудь Питамон попадал в ловушку Питавалей. Затем наступал черед Питамонов осуществлять кровавую месть. И при этом они не забывали повторять: «За брата Жеана», — полагая, что он уже много лет как мертв.
Так текло время: месяцы сливались в года, года превращались в десятилетия. Минуло полвека с той ночи, когда Жеан Питамон, переодевшись монахом, проник в замок Питавалей, но по-прежнему трижды в неделю хозяин замка, чье могучее тело согнулось под бременем возраста, спускался, гремя ключами, во двор в сопровождении мажордома, отпирал дверь в надстройку и проходил к куполу над ублиетом.
— Минутку обождем, — с неизменной улыбкой говорил Питаваль своему спутнику.
— Но, судя по тени, сейчас ровно полдень, — отвечал тот.
— Если чуть помешкаем, он выть начнет. — И Питаваль кивал головой в радостном предвкушении.
Однажды, сидя в авиньонском отделении своей банкирской конторы, старик Датини вытащил из папки пачку бумаг и решил, что пришла пора разобраться с делами Питамонов и Питавалей: «Эти собачьи своры мне ни гроша уже два года не платят. Время поставить точку».
Путешествие в горы было длинным, но Датини ничего против не имел, скрасив его чтением сонетов Петрарки к Лауре. Более того, он пообещал себе остановиться на обратном пути в Воклюзе и посмотреть на знаменитый источник, воспетый в одном из бессмертных стихов итальянца.
Вот так Питавалям выпала честь встречать гостя, тут же выставившего их из дома. Особых усилий это не потребовало. В конюшне много лет назад смолкло ржание, а из семейства в живых остался лишь высохший старик, некогда поражавший статью. Ему прислуживал столь же ветхий мажордом, слишком слабый для поисков счастья на стороне. Они учтиво приняли Датини и его приставов.
— Как мы рады видеть вас здесь, — сказал старик Питаваль. — Как раз намедни мы зарезали нашу последнюю свинью. Если вы к нам с угощением, добро пожаловать.
Датини явился не с пустыми руками. За трапезой обсуждались дела.
— У меня родня в Орании, — проговорил Питаваль. — Думаю, поеду туда.
Вдруг зал наполнил заунывный вой, будто исходящий из глубин самой земли.
— Не пугайтесь, господин Датини. — Питаваль улыбнулся. — Это всего-навсего волк, которого мы держим в яме во дворе. Вот, отнеси ему мяса, — приказал он слуге. — У нас мышьяк есть? Присыпь им его кусок, пора от бесполезного зверя избавиться.
— Волк, — поучительно сказал Датини, — скорее умрет, чем станет жить в неволе.
— Угу, — согласился Питаваль. — Любой другой волк. Но наш малодушен и думает только о мясе. Ладно, я готов убраться отсюда, а ваши помощники пускай приступают. — Он тяжело поднялся. Вой резко оборвался.
— Подобная спешка излишня, — заметил Датини, — у меня еще есть дела с Питамонами, что обитают напротив вас.
— Даже так? И мои друзья разделят выпавшую мне участь? Тогда я покину эти места в приятной компании.
— Как вам не стыдно говорить подобное про двух пожилых дам, — сказал Датини. — Полагаю, я разрешу им остаться в замке до конца их дней. Им обеим за семьдесят.
Несколько часов спустя, когда Питаваль со слугой собирались тронуться в путь и успели закинуть за спины по котомке, как последние бедняки, к ним подошла запыхавшаяся старуха.
— Сир, — зарыдала она, бросившись на землю и обняв ноги старика Питаваля, — неужели вы будете так жестоки и оставите наши края, так и не сказав мне, где похоронен мой несчастный Жеан?
— Как же можно допустить такую жестокость? — запротестовал Питаваль, а сам незаметно ткнул мажордома в бок. — Вот тебе ключ от склепа, где он лежит. Ни у одного короля не было столь достойной могилы. И ни у одного монаха, — прибавил он. — На заднем дворе найдешь дверь, к которой ключ подходит.
Подумать только: в Генуе все еще существует приют для детей бедняков, основанный тем самым Датини, и сопливая итальянская ребятня проживает в нем деньги, заработанные банкиром на Питавалях и Питамонах. Ибо Датини привлек к управлению бывшими поместьями враждующих семейств суровых генуэзских дельцов, решивших, что нет ничего лучше и прибыльнее, чем заготовка и продажа леса. Как следствие, Датини получил свое назад, а край с течением времени все больше страдал от эрозии почвы.
Записей о дальнейшей судьбе рода Питавалей почти нет. Мне удалось найти лишь одного представителя семьи в восемнадцатом веке — Гайо де Питаваля[24], перебравшегося из Лиона в Париж и влачившего существование бедного юриста, не гнушавшегося в свободное время пописывать полные сплетен безделицы. Так бы все и продолжалось, но однажды его посетило озарение и он задумал собрать в единую книгу кровавые россказни о преступлениях и их расследовании, услышанные в суде, после чего фортуна улыбнулась ему и имя его прогремело по всей Европе.
Надо же, из-под его пера вышел первый на Континенте сборник детективов. Вскоре у него появились подражатели, но на волне успеха он успел выпустить еще двенадцать таких томов. Немецкий перевод его компиляции предварялся статьей Шиллера. Хотя сейчас он практически позабыт, армия авторов детективных историй, обогатившихся на его открытии, просто обязана скинуться и поставить ему памятник из золота[25].
Что касается Питамонов, то они не раз встретятся нам на страницах этой книги, и мы узнаем их под любой личиной.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Тот, кто заглядывал в прекрасное исследование Фавра, посвященное истории европейской полиции нравов, безусловно заметил и запомнил особенно вопиющий случай, озаглавленный с мрачным (а по мнению некоторых, низкопробным) юмором «Пустите детей приходить ко мне…»[26].
Речь, вне всякого сомнения, идет о деле, которое Галье упоминает на третьей странице своего свидетельства, хотя, кроме фамилии Питамон, там нет никаких иных фамилий. Рассказ Фавра полон и точен касательно имен, названий и дат. Его я возьму за основу повествования.
В начале тысяча восемьсот пятидесятых годов в Париже жила вдова, мадам Дидье. Они с мужем приехали в столицу из провинции, и он весьма преуспел в ювелирной торговле. Месье Дидье был удачливым и честным предпринимателем, а когда умер, оставил после себя приличное состояние. В то время они только что заселились в прекрасную квартиру в новом доходном доме на бульваре Бомарше, поблизости от Фий-дю-Кальвер.
Название соседнего бульвара упомянуто неспроста, потому как там проживал и служил священник по фамилии Питамон, и был он любимым отцом-исповедником мадам Дидье.
Мадам Дидье вела жизнь одинокую, однако ее нередко посещал племянник, молодой человек, которого опасно ранили в уличном бою в феврале 1848 года, после чего он посвятил себя написанию памфлетов в поддержку Наполеона[27]. Но быстрый поворот кумира в сторону консерватизма и империализма несколько пошатнул убеждения этого господина, по-прежнему пылавшего ненавистью к Церкви и аристократии. Посему в описываемое время он колебался, следовать ли ему за вождем или избрать собственную стезю.
Тогда же мадам Дидье взяла из своей родной деревни в дом девочку-сироту лет тринадцати-четырнадцати. Жозефину порекомендовал сельский староста, сказав, что она добронравна и старательна и будет хорошей помощницей по хозяйству.
Племянник сидел у окна и смотрел на улицу. День выдался необычно теплый для середины марта. Вдруг небо заволокло тучами.
— Кажется, сейчас начнется дождь! — воскликнул он.
— Думаешь? — спросила мадам Дидье.
Стоило ей это сказать, как послышался раскат грома и сверкнула молния.
— Видите? — сказал племянник.
— Господи! — вырвалось у мадам Дидье. — У нас в доме ни капли святой воды.
— Святой воды? — со смехом повторил он. — Да вы, никак, с суевериями не распрощались?!
— Прибереги сарказм для памфлетов, дружок, — спокойно ответила тетушка. — Я всегда перед грозой окропляю дом святой водою. Ты что же, хочешь, чтоб нас молнией убило?
Она отложила вязание.
— Моя матушка делала так же. И дожила до восьмидесяти. Кого мне послать? — внезапно задумалась она. — Франсуазы-то сейчас нет.
Франсуаза была кухаркой, других слуг мадам Дидье не держала.
— Пошлите Жозефину, — предложил племянник. — Если не хотите ждать, пока я туда-сюда хромаю.
— Но Жозефина у нас всего три дня, — возразила мадам Дидье. — Она и дорогу не знает.
— Боже ты мой, не надо знать весь Париж, чтобы просто свернуть за угол.
Итак, позвали Жозефину, деревенскую девчонку, и объяснили ей, как дойти до часовни за углом и разыскать отца Питамона.
— И побыстрее, — добавила мадам Дидье, когда комнату сотряс очередной удар грома. Жозефина выскочила на улицу и попала прямиком под бушующий ливень. Задыхаясь, она повернула за угол, вновь и вновь повторяя про себя наставления мадам Дидье. Таким образом она добежала до часовни и чуть не опрометью кинулась внутрь, в темноту помещения.
Жозефина промокла до нитки. Платье прилипло к телу, обрисовав изящество девичьих форм. Ее грудь недавно начала увеличиваться. Тонкая ткань не скрывала этого. Соски отвердели от ударов холодных капель. В последнее время они стали слишком чувствительными. Девочка помнила слова умудренной опытом Франсуазы: «Ты растешь, оттого и болеешь, все через это проходят».
В золотом мерцании свечей Жозефина очаровывала взгляд, и отец Питамон не преминул это заметить. Он подождал, не отрывая глаз от девочки, особенно от ее вздымающейся от бега и волнения груди. Не успел он опомниться, как его захлестнула волна желания, заглушив голос рассудка.
— Что случилось, дитя мое? — сказал он, выходя из-за колонны, за которой стоял.
Перепугавшись, Жозефина окончательно растерялась и смогла лишь невнятно пробормотать что-то в ответ.
— Да ты вся продрогла, — приветливо продолжал священник. — Пойдем, выпьешь бокал вина и согреешься. — И провел ее в ризницу, где налил две щедрых порции вина для причастия: первая предназначалась девочке, вторую он осушил сам.
От выпитого у Жозефины закружилась голова, и она позволила приласкать себя и прижать к сутане. Ей было тепло и уютно. После она опять испугалась, почувствовав, что священник дотрагивается до нее именно так, как рассказывала вчера Франсуаза, предостерегая ее от чужих прикосновений. Девочка хотела освободиться, но тело не слушалось ее. Она попыталась сопротивляться, однако мужчина оказался сильнее. Все это время он не переставал шептать ей странные, убаюкивающие слова. Она разрешила довести себя до кушетки и сделать с собой все, что он желал.
Жозефина ушла из часовни, так и не сказав, зачем приходила. Она на самом деле позабыла изначальную цель посещения. В ушах продолжал звучать голос священника, настоятельно повторяющий, что она не должна проронить ни слова о случившемся. Он заставил ее поклясться в этом на кресте.
Гроза как раз прекратилась, когда девочка возвратилась домой. Она тихо вошла, озираясь широко распахнутыми глазами и держа палец у нижней губы, словно не понимала, где находится.
— Ох, Жозефина, что с тобой? — спросила мадам Дидье. Она не слишком волновалась в ее отсутствие, разве что укоряла себя, что отпустила служанку под дождь без плаща. Жозефина задержалась, и хозяйка предположила, что, застигнутая ливнем, она где-нибудь укрылась и вернется, когда ненастье закончится. И вот она здесь. Но почему она выглядит так, будто столкнулась с самим дьяволом?
Жозефина, не отвечая на вопрос, лишь покачала головой.
— Перестань, хватит упрямиться. Рассказывай, что с тобой стряслось.
И вновь молчание.
— Она простудилась. Точно! — воскликнула мадам Дидье. — Да у тебя платье сухое. Хотя нет, чуть влажное. Говори, ты попала под дождь? Или успела добежать до часовни и переждала грозу там? Господи, почему этот ребенок молчит?
Жозефина все еще не проронила ни слова. Тогда мадам Дидье потеряла терпение и в гневе приказала девочке отправляться в постель:
— Не показывайся мне на глаза, пока язык не отыщешь.
— Перестаньте, тетушка, — заговорил племянник из кресла у окна. — Не будьте столь строги с малышкой. Ведь вы сами думали, что она за угол без чужой помощи свернуть не способна. Может, она вправду заблудилась. Позвольте мне поговорить с ней.
Но его усилия оказались столь же тщетны. Наконец, будто испытав озарение свыше, мадам Дидье сказала:
— Я поняла, надо нам с ней пойти к отцу Питамону. Ему она, конечно, все расскажет.
Это решение действительно ниспослали небеса, ибо внезапно Жозефина разразилась потоком слов, настолько перемешанных с рыданиями, что разобраться в ее рассказе было невозможно. Наконец девочка, как одержимая, бросилась на пол.
Мадам Дидье растерялась, голова ее пошла кругом. Однако племянник, вскормленный антиклерикальной литературой, решительно и громко спросил:
— Что он с тобой сделал?
— То, что Франсуаза делать запретила, — ответила Жозефина, заплакав еще горше.
Племянник издал сардонический смешок.
— Вот вам и отец Питамон. Хорош пастырь.
— Не понимаю, какое отношение к этому имеет отец Питамон, — посетовала мадам Дидье, пребывающая в полном недоумении.
Племянник вдруг понял, что знает, как быть. Настала пора порвать с Наполеоном, недавно уехавшим с визитом к Папе Римскому, и отдать на растерзание публике пикантное происшествие со служанкой. Его так захватила эта мысль, что он мгновенно позабыл об окружающих и, опершись на трость, поднялся с кресла, намереваясь тотчас отправиться на розыски редактора La Solidarité[28].
Мадам Дидье, тем не менее, никак не хотела отпускать его, не выяснив, куда он собрался. А когда он ей объяснил, то не захотела отпускать без клятвы не говорить никому ни слова о произошедшем. Она считала, что девочка все выдумала и не стоит ей верить, не разобравшись в деле. Соображения племянника были проще: все или почти все его деньги давала ему тетушка, а в будущем он надеялся унаследовать ее состояние. Утрать он ее поддержку, политических памфлетов ему не писать.
Сама мадам Дидье без промедления направилась в часовню и, никого там не увидев, смело постучала в дверь ризницы. Ответа не последовало, но она вошла внутрь. Отец Питамон лежал на кушетке. Спящий, он ничуть не походил на благочестивого человека, коим она его всегда почитала. Он выглядел старым и грубым. Его тяжелые черты, в особенности кустистые брови, сросшиеся на переносице, придавали лицу странное, почти звериное выражение. На какое-то мгновение мадам Дидье усомнилась в его невиновности, но тут же одернула себя, боясь несправедливо обвинить священника.
Почувствовав, что на него смотрят, Питамон открыл глаза.
— Ах, мадам, что вы тут делаете? — воскликнул он, быстро поднявшись.
Оборвав его, мадам Дидье сразу приступила к делу. Он кивал головой, словно она говорила нечто серьезное и интересное, но к нему не относящееся.
— Значит, девочка лет четырнадцати? — спросил он, как будто пытаясь вспомнить, не видел ли он ее где-нибудь.
Вдруг мадам Дидье заметила bénitier, сосуд для драгоценной святой воды, который дала Жозефине. Он валялся на полу рядом с кушеткой. Священник тоже увидел его. Как мог он про него позабыть! Оставив всякое притворство, Питамон пал женщине в ноги. Та поспешно встала и, охваченная ужасом, выбежала прочь.
Она не последовала совету племянника обратиться в полицию, но вместо этого пошла к епископу и изложила дело. Ему и ранее докладывали, что по вечерам отец Питамон меняет сутану на светский костюм и посещает городские притоны, пользующиеся самой дурной славой.
Епископ без колебаний привлек к расследованию полицейских. Но к этому времени отец Питамон успел исчезнуть, прихватив с собой дорогую церковную утварь[29].
«Хвала Господу, мы от него избавились», — думала мадам Дидье. В действительности, избавиться от отца Питамона ей не удалось, хотя больше она его ни разу не встречала.
В скором времени ее племянник, Эмар Галье, отказался от своей квартиры, переехав в апартаменты тети. Это случилось отчасти из-за нужды в деньгах, но также потому, что плохо залеченные раны сказывались на нем и он предпочел переживать приступы меланхолии не в одиночестве, а в компании родственницы.
Как-то днем он сидел у своего любимого окна и что-то черкал в блокноте. Ему очень хотелось проявить себя на литературном поприще, но никак не получалось выбрать форму для будущего шедевра. В последнее время появилось столько прекрасных во всех смыслах произведений! Лишь недавно Дюма-сын потряс Париж «Дамой с камелиями», совершив переворот в беллетристике. Люди понимающие взволнованно обсуждали новую манеру письма. Паролем им служило слово «реализм».
Жозефина, то и дело заходившая в комнату, откровенно раздражала Эмара. «Какого черта эта девчонка постоянно сюда заявляется?» — с досадой думал он. Как все натуры, склонные к меланхолии, он ненавидел чужое присутствие столь же горячо, как и одиночество. Но служанка начинала все больше интересовать его. Чем не тема для остроумной зарисовки: девушка, соблазненная священником, отвергнута женихом. Или даже так: девушка влюбляется в священника, а тот отказывается от сана ради брака с ней. Однако это, пожалуй, старо и описано многократно. Литература плоха тем, что все сюжеты уже давно использованы. Ничего нового из-под пера не выйдет.
Погрузившись в свои мысли, он едва не забыл о Жозефине. Но постепенно начал замечать, что она странно себя ведет. Без сомнения, она пыталась привлечь его внимание. Старательно прибираясь в комнате, она каждые несколько секунд поворачивалась, одаривала его взглядом огромных глаз и вдруг отводила их, будто в смущении. И при этом весьма откровенно и непристойно выгибала стан. Она находилась в постоянном движении, как змея. Грудь вздымалась и опускалась, и девушка громко вздыхала.
Стоило ей заметить, что он наблюдает, как странности прекратились. Но в следующую секунду она подошла к нему, подобрала с пола листок бумаги и спросила:
— Это ваше?
Он поблагодарил, а она продолжала:
— Можно, я приоткрою окно пошире? — И опять: — Вам занавески не мешают?
Все это ужасно досаждало ему. Когда она перегнулась через его столик, чтобы собрать и подвязать шторы, ее юное тело оказалось совсем близко от него. Он вдохнул ее теплый аромат. Сам того не ожидая, Эмар почувствовал сильный прилив желания. Взволнованный этим, он отыскал предлог отослать Жозефину прочь и после еще долго был не в силах сосредоточиться на своих литературных трудах.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Как-то раз, когда Эмар, прихрамывая, проходил мимо кухни, дверь отворилась и раздался шепот Франсуазы:
— Месье Эмар! Тссс!
Он обернулся. Франсуаза с таинственным видом поманила его внутрь, он вошел, она же первым делом закрыла дверь и лишь потом чуть слышно сказала:
— Вы знаете, что за ужас тут творится?
— Какой еще ужас? — без задней мысли спросил он.
— Я о том, что с Жозефиной.
— Что с ней может быть такого? — сказал он, переборов желание вставить слово «опять» и раздумывая, известно ли ли Франсуазе о происшествии с отцом Питамоном: мадам Дидье старательно скрывала его ото всех.
— Она себя ведет… как бы сказать, месье… C'est une dévergondée![30]
— Ты о чем?
— Да о том: о мальчишке из лавки мясника, о сыне консьержки, о зеленщике, да обо всех кругом — она со всеми поваляться успела. А если еще нет, то у них просто совести хватило отказать. Ох, месье, никогда не думала, что такое может произойти в нашем доме. Деревенская девчонка. Вот ведь, когда приехала сюда, выглядела невинной овечкой. Месье, соседи только об этом и говорят!
— Ты уверена? — спросил Эмар, хотя сам ни на миг не усомнился в ее словах. — Откуда тебе знать, что это не просто злые сплетни?
Она рассказала ему, как своими глазами видела, что происходит. Как застукала девчонку с сыном консьержки на чердаке в очень откровенных позах. Как запретила Жозефине выходить из дома, а она все равно удрала. Конечно, будут говорить, что порочный город еще одну простушку развратил, но дело-то ясное. Девица наверняка привезла эти замашки с собой из деревни.
Эмар слушал ее и удивлялся. Неужели недоумение, горе и стыд Жозефины в тот день были лишь игрой? Нет. Не может быть. Она и впрямь потеряла невинность. Это отец Питамон пробудил зверя в ее теле. Староста родной деревни мадам Дидье никогда бы не посоветовал взять в дом девушку сомнительных нравов.
— Вот вы мне, месье, подскажите, как эти новости мадам поведать. Боязно к ней с такою бедою идти. Она, голубушка, и без того настрадалась.
— Предоставь это мне, — успокоил Эмар кухарку. — Я сам обо всем позабочусь.
— Хорошо, только не затягивайте. Ведь кто знает, что может случиться? Вчера ночью просыпаюсь, а ее в постели нет. Я подождала: думаю, вышла, сейчас вернется. Но она все не возвращалась. Я встала и пошла ее искать. Знаете, месье, в доме-то ее не оказалось. Она дверь отперла и упорхнула. Видать, Жанно, сын консьержки, ее на улицу выпустил. Я опять заснула, а когда проснулась, она была в постели, говорит, никуда не уходила. Ну что нам с нею поделать?
— Оставь это мне, — повторил Эмар, не решив еще, как поступить дальше.
В тот вечер Жозефина, как обычно, прислуживала за столом. И, как обычно, досаждала Эмару своими приставаниями. В то же время, на ее девичьем лице не было ничего, кроме чистоты и невинности. А впрочем, разве столь нежные, детские черты могли выражать что-либо еще? Когда она отправилась на кухню, чтобы заняться собственным ужином и помыть посуду, Эмар открылся тетушке.
— Вам не показалось, что Жозефина переменилась с того ужасного дня?
— К счастью, нет. По-моему, она больше не переживает и, надеюсь, вскоре совсем позабудет о случившемся.
— Вы действительно думаете, что она приехала сюда невинной?
— Ну конечно. Откуда такой вопрос?
— Да так.
Мадам Дидье вдруг пришло в голову, что Жозефина сама соблазнила священника, а отец Питамон пал жертвой ее порочности. Но как только эта утешительная мысль явилась к ней, она поняла, что нечто подобное и представить нельзя. То, как Питамон повел себя впоследствии, говорило об ином.
— Так почему ты спросил? — повторила она.
— С недавних пор ее поведение оставляет желать лучшего. — Он несколько смягчил удар, пройдя по краю, прежде чем приступить к сути.
— Что она натворила? — спросила мадам Дидье.
Эмар в нескольких словах описал ей ситуацию, по возможности сократив рассказ и исключив любые подробности, способные слишком взволновать тетю. Мадам Дидье задумалась и приняла мудрое решение запереть Жозефину там, где она будет в безопасности и под присмотром, пока деревенский староста не поможет разрешить дело.
— Позвони-ка в колокольчик, пусть придет Франсуаза: посмотрим, не знает ли она какой-нибудь приличный дом, куда можно поместить девочку.
Вошедшая кухарка выслушала решение хозяйки. Все это время она ерзала, бросая многозначительные взгляды на месье Эмара и словно пытаясь сообщить что-то важное, пока тот не воскликнул:
— Давай, Франсуаза, выкладывай уже!
Кухарка для смелости набрала в грудь воздуха, запрокинула голову в доказательство своего благонравия (она же тут, разумеется, ни при чем) и выдала следующее:
— Жозефина-то ребеночка носит.
Повисла пауза, затем посыпались вопросы. Когда? Франсуаза не знала, но сама Жозефина говорит, что уже два или три месяца.
— Да она здесь всего месяца три! — воскликнула мадам Дидье.
— Oui, madame, — послушно подтвердила Франсуаза.
— Чертов свя… — Тетушка взглядом заставила Эмара умолкнуть на полуслове.
— Франсуаза, веди ее сюда. Поговорю с ней наедине, — сказала мадам Дидье.
Вскоре пришла Жозефина. В простом платье, робкая, с румянцем пасторальной невинности на щеках.
Но стоило ей поднять темные, сверкающие глаза, как вся ее скромность и смирение забывались.
— Несчастное дитя, — сказала мадам Дидье и положила руки на плечи девушки. — Ты знаешь, что у тебя будет ребенок?
— Oui, madame.
— Но ты так молода.
— Oui, madame.
— Бедняжка.
— Франсуаза правду говорит? Это оттого, что я гуляю с парнями?
— Деточка, зачем они тебе?
— Мне с ними хорошо, мадам. Неужто так нельзя? Я старалась с ними не ходить, но не могу. Дома я видала, как это делают все животные, и никто их не останавливал.
— Но, Жозефина, девочка моя, мы не животные. Ты ведь не видела, как это делают люди?
— Нет, мадам. Мы с матушкой жили вдвоем…
— Да, верно, — сказала хозяйка и прикусила губу.
— А мужчины делают такое с женщинами?
— Тсс.
— Но отец Питамон первым сделал это со мной.
— Замолчи! Он правда был первым?
— Да, мадам.
— Ох ты, горемыка! Как же нам с тобой быть?
— Франсуаза говорит, вы меня отошлете, потому что я плохая. Не отсылайте меня!
— Я найду тебе чудесный дом. — Мадам Дидье подумала о герцогине Ангулемской с ее приютом для сбившихся с пути девиц.
Поразмыслив чуть дольше, она решила не пытаться поместить Жозефину в заведение. Ей не хотелось, чтобы люди начали задавать вопросы. Лучше сделать все самой, снять для девушки комнату попристойнее, а там пусть жизнь идет своим чередом. Время залечит раны, а те, что останутся, упокоятся в могиле.
Кажется, Жозефина всё же покорилась судьбе. Ночных эскапад ей недоставало лишь первые несколько дней. Из комнаты, куда ее поместили, было не выйти ни ночью, ни в любое другое время, однако ей понравилось, что при этом ничего не надо требовалось делать, — ведь Жозефина трудилась с рассвета до заката не только на маленькой и очень бедной ферме, принадлежавшей ее овдовевшей матери, но и у мадам Дидье, где строгая Франсуаза целыми днями понукала ее, не позволяя бездельничать.
Эта неожиданная праздность лучиком солнца озарила ее короткое и унылое существование. Теперь она отдыхала и чувствовала себя вполне счастливой. Она часами просиживала у окна, воображая себя месье Галье. Просто сидела и молчала.
Больше всего ей полюбились завтраки, обеды и ужины. Нет, чревоугодницей она не была, но от того, что кто-то прислуживает ей за столом, веяло новизной, и она никак не могла насытиться этим ощущением. К тому же девушка, точнее девочка, приносившая поднос, как делала она сама всего несколько дней назад, называла ее мадам! И Жозефина изо всех сил старалась подражать мадам Дидье.
Вот так, по очереди притворяясь то мадам Дидье, то месье Галье, она чудесно проводила время. А когда через день или около того к ней заглядывала Франсуаза, девушка никак не могла удержаться и задирала нос перед кухаркой, которая все еще оставалась кухаркой, тогда как она стала мадам. Она полностью вошла в роль и была страшно раздосадована, когда однажды Франсуаза заговорила с ней о «нашей хозяйке» прямо в присутствии служанки. Жозефина почувствовала, что ее поставили на место.
Время от времени (но отнюдь не часто из-за внушительного веса) на верхний этаж своего Maison d'Accouchement[31] поднималась мамаша Кардек, чтобы навестить самую необычную пациентку в заведении — девушку, которой до родов оставалось месяцев пять.
Мамаша Кардек не отличалась изяществом черт, словно ее вытесывали долотом, да так и оставили, не закончив работы. Она не задавала вопросов. И нажила состояние благодаря этому отсутствию любопытства. Женщины, попадавшие к ней в дом, были уверены, что о них хорошо позаботятся. Мамаша Кардек неиссякающим потоком отправляла детей к своей родне в Бретань, и матерям, покидавшим ее заведение, больше не приходилось ни о чем думать, кроме положенной платы за услуги. К ней могла приехать известная всей Европе герцогиня, назваться любым именем и произвести на свет близняшек, раз так повелела природа, а улаживала дело с властями и обеспечивала молчание мамаша Кардек. Здесь, внутри неприметного здания, тихо завершались тысячи любовных историй, грозивших скандалом или бедой. Даже у «Готского альманаха»[32] должен иметься сточный колодец, собственная выгребная система.
Входя в комнату к Жозефине, мамаша Кардек чуть смягчала суровую мину и здоровалась, не ожидая ответа. Если с языка Жозефины, как и на этот раз, слетало вежливое приветствие, мамаше Кардек было все равно. Она проводила ладонью по мебели, проверяя, хорошо ли служанки вытерли пыль, ударяла по перине, убеждаясь, что она основательно взбита, и заглядывала под кровать, потому что именно там обычно скапливаются хлопья из волос и прочей грязи.
Удовлетворившись инспекцией, она коротко осведомлялась о качестве еды и, едва выслушав первую фразу ответа, прощалась и уходила.
Холодность ее посещений уравновешивали еженедельные визиты самой мадам Дидье в сопровождении племянника. Эмар сразу усаживался у окна. Иногда он оказывался по-настоящему вымотан тягостным восхождением на верхний этаж, причем не только из-за трудностей подъема по лестнице, но и из-за наполняющих коридоры ужасных стонов рожениц. Он сидел у раскрытого окна и вытирал платком пот со лба.
Жозефина не могла отвести глаз от его бледного худого лица и длинных изящных пальцев, сжимающих влажный шелк.
Однажды он пришел один. Девушка так смутилась, что ему не удалось вытянуть из нее ни слова. Наконец он встал, прощаясь. Но она бросилась к двери, преграждая путь, и схватила его за руку.
— Останьтесь! Не уходите! — попросила она и обвила его руками, крепко прижимаясь. Он положил ладони ей на плечи и тихо проговорил:
— Ну, Жозефина, не надо так.
Она не ответила, но и не отступила. Все еще не убирая рук с ее плеч, Эмар попытался ее отстранить. Но она лишь подняла лицо и заглянула ему в глаза. Не понимая причины своего порыва, он наклонился и целомудренно поцеловал ее в губы.
Ее взгляд молил повторить поцелуй. Он повиновался. Тогда ее язычок выскользнул изо рта и проник меж его губ. Горячий и влажный, он пробудил в нем вспышку желания. Ослабев от внезапной страсти, Эмар опустился с Жозефиной на кровать.
На первом этаже перед дверью конторы, подбоченившись и разъяренно глядя в пустоту, застыла мамаша Кардек, грозная, как сама судьба.
У Эмара внутри все сжалось, когда он ее увидел. Он ждал, что она с ним заговорит, но с ее плотно сомкнутых губ не сорвалось ни звука. Между тем, высказываться она и не собиралась, однако Эмар, сознавая свою вину, заковылял прочь, как побитая дворняга.
По дороге домой он решил, что выход из сложившегося положения только один — никогда больше не видеть Жозефину. Определившись с этим, он почувствовал, как его перестает грызть совесть, а самолюбие оправляется после холодного душа, которым его окатила мамаша Кардек.
Дома, за ужином, мадам Дидье заметила:
— Эмар, бедняжка, ты такой усталый. Не ходи туда больше.
Ничем не выказав переполнявшего сердце страха, племянник заверил ее:
— Вы ошибаетесь, я чувствую себя отлично. А если даже длинная прогулка туда и обратно вымотает меня, то буду крепче спать ночью.
Немного подумав, он добавил:
— Да вы сами, тетушка, выглядите утомленной. Почему бы вам не съездить за город на какое-то время? Не надо было отказываться от поездки в этом году.
Тетя принялась возражать, мол, так сложились обстоятельства, за Жозефиной надо присмотреть, да и в деревню, где она обычно жила летом, она больше не хочет, а потому что толку вспоминать о сельском отдыхе. Но он, будучи опытным памфлетистом, говорил с ней так убедительно, так вдумчиво, что мадам Дидье сдалась.
Двумя днями позже он не без удовольствия усадил тетушку и Франсуазу на поезд, отправлявшийся на юг. Не успел поезд отойти от перрона, как месье Галье остановил фиакр и поспешил к Жозефине.
На сей раз все произошло без прелюдий. Они вцепились друг в друга, как двое утопающих, которых темная вода вот-вот унесет в море.
Эмар не смог подавить в душе радость, когда узнал, что здоровье мадам Дидье подорвано и врач посоветовал ей как можно дольше оставаться на юге. «Что я за чудовище такое?» — подумал он и в ужасе воззрился на себя. Он заперся в комнате и решил писать, работать над своим великим опусом, хотя не прикасался к нему уже много недель. Но посмотрел в окно, на раскаленный августовский бульвар. Там, утопая в солнечных лучах, в обоих направлениях спешили мужчины и женщины, лошади и экипажи.
К чему все это? Его голова была совершенно пуста. Весь мир казался лишенным смысла.
Кругом лишь пыль, режущие глаз цвета, люди, не знающие, куда и зачем идут.
Он передумал сидеть взаперти, и мир сразу обрел порядок и значение. Оказавшись на улице и влившись в торопящуюся толпу, он обнаружил, что снаружи не так жарко, как он опасался. Дул прохладный ветерок. Благоухание дня наводило на мысли о блаженных райских кущах.
«Почему ты никогда ничего не рассказываешь мне про Жозефину? — упрекнула его тетушка в одном из писем. — Ты совсем ее не навещаешь? Ты же знаешь, как мне важно, чтобы ты присматривал за ней».
Эмар понял, что совершил большую ошибку. Тетя не должна ничего заподозрить. К тому же мамаша Кардек могла написать ей, что он бывал у девушки ежедневно, а иногда и не по разу.
«Я не забывал о ваших словах, касающихся Жозефины, — уклончиво ответил он. — Я часто ее навещаю. Я обычно забегаю посмотреть, как она там, когда иду к своему другу Лепеллетье[33] или на собрание в кафе „Палиссо“, ведь мне все равно по дороге. Уверяю, покамест она чувствует себя великолепно».
Написанное не было неправдой. Но за словами стояла хитроумная ложь. И он ненавидел себя за то, что опустился до этого. Он больше не мог вскричать, как раньше: «Чертов отец Питамон, дьявол в сутане!» Он ощущал, что сейчас и сам столь же низок и подл, нет, даже подлее Питамона. В клубе заметили, что его нападки на клир и капиталистов стали менее яростны. Он пришел к утешительной мысли, что «все мы грешны». Это служило единственным оправданием, какое он смог для себя найти.
Что до Жозефины, то теперь, заполучив Эмара, она не желала его отпускать. Девушка совершенно не переносила его отсутствие и, когда ему надо было уходить, заставляла дать обещание вернуться в определенный час, повторяя, что выбросится из окна, если он опоздает хотя бы на минуту.
Дитя в утробе доставляло ей немало беспокойства своей неугомонностью и не давало спать по ночам. Но когда Эмар был рядом, она совершенно забывала об этом. Ее уже не радовало, как поначалу, то, что с ней обращаются почтительно и не заставляют работать. Она ценила одну-единственную усладу в жизни — быть с Эмаром.
В конце октября вернулась мадам Дидье. Эмар тотчас погрузился в меланхолию, и ничто не могло вывести его из этого состояния. Он равнодушно слушал, как тетушка рассказывает о жизни на юге. Дважды он отважился навестить Жозефину, но затем полностью отказался от визитов, поскольку до дрожи боялся, что кому-нибудь станет известно о его порочной связи. После последнего своего посещения он вправду чуть не столкнулся на лестнице с Франсуазой. К счастью, кухарка его не заметила, и он успел спрятаться в темной нише и пропустить ее наверх. Потрясенный этой встречей, Эмар на целый день слег в постель.
Жозефина, поняв, что все кончено, оказалась не в силах долее тешить себя упоительными мыслями о том, как после рождения ребенка вернется к прежней жизни, и будто обезумела, то и дело угрожая самоубийством, после чего мамаша Кардек перевела ее в комнату с зарешеченным окном и для безопасности начала днем и ночью оставлять с ней сиделку.
Ребенок внутри Жозефины теперь беспрестанно ворочался и пинался, не давая ей ни секунды покоя.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Однажды, ближе к концу декабря, двадцать третьего числа, если быть совсем точным, мадам Дидье с Эмаром сидели за обеденным столом и без особого аппетита ели, о чем-то рассеянно разговаривая. Эмар жевал вяло, из смутно понимаемого чувства долга, тогда как мадам Дидье была с детства приучена доедать все в тарелке до крошки — черта, лелеемая во многих семьях Франции и, возможно, опровергающая сложившийся стереотип, что французы — нация гурманов.
Вдруг мадам Дидье заговорила:
— Знаешь, я начинаю волноваться.
— О чем?
— Ну, ты, конечно, подумаешь, что я суеверна.
— Не беспокойтесь, — иронично ответил Эмар. — Вы и суеверия? Да ни за что!
— Эмар, вот не надо твоих шуточек. Я на этом свете побольше тебя повидала.
— А пример приведете?
— Ты в Рождество веришь?
— Безусловно. Все верят, что двадцать пятого числа празднуется Рождество, и ошибки тут быть не может.
— Я продолжу, только если ты перестанешь паясничать.
— Не томите, всегда мечтал узнать о Рождестве.
— Ты веришь, что животные тоже чувствуют приближение Рождества?
Эмар не сумел сдержать улыбку.
— Неужели сейчас вы мне скажете, что в рождественскую ночь скотина преклоняет колена в стойлах своих?
— Это я и собираюсь тебе сказать. Кроме того, я видела такое собственными глазами.
— Конечно, видели. Если ночью зайти в хлев, то именно это и увидишь, а при должном везении, весь скот там будет коленопреклоненным.
— Я ждала от тебя подобных слов. Но ты неправ. А был еще случай, как раз в канун рождения Спасителя, когда я слышала, как в ульях поют пчелы.
— Пчелы всегда гудят в ульях.
— Да что ты, Эмар: в разгар зимы пчелы, разумеется, молчат.
— Но вы утверждаете, что слышали их?
— С одного конца не получается, так ты заходишь с другого. Да, насмешник?
Смущенный упреком, Эмар ненадолго умолк, но затем вернулся к началу разговора:
— И поэтому вы волнуетесь?
— Конечно же, нет. Я беспокоюсь, что Жозефина вот-вот родит: как бы роды не совпали с часом явления нашего Господа.
— Но почему вас это тревожит? Я, напротив, думал, что вы усмотрите здесь повод возрадоваться.
— Все потому, что я, как ты любишь выражаться, суеверна. Но ты послушай. Знавала я человека, который плохо кончил, и люди говорили, что было ему это на роду написано, ведь на свет он появился в самый канун Рождества.
— И те же люди, естественно, не забывали внести свой малый вклад в то, чтобы предсказание сбылось, — с горечью заметил Эмар.
— Полагаешь, я одна из них? — с укором спросила мадам Дидье и тут же продолжила: — В нашей деревне, как и в любых других деревнях, где народ не утерял страх Божий, жены не подпускают к себе мужей едва ли не весь март и первую неделю апреля, опасаясь, как бы ребенок в этот самый день не родился.
— Не объясните ли мне, отчего вам этот обычай кажется столь разумным?
— Я просто рассказала, милый мой Эмар, о суеверии, но если тебе так интересно поговорить о разуме, хотя это скорее твой конек, чем мой, то поясню: когда люди во что-то верят, им хочется показать, как они это уважают. Я заметила, что революционеры первым делом ломают старые памятники, спеша поставить множество новых, а после того, как расправятся с прежними праздниками, новые учреждать тоже не забывают. Тебе такие вещи суевериями не кажутся?
— Вряд ли это относится к делу, — ответил Эмар.
— Ладно, — продолжала мадам Дидье, — а станешь ли ты спорить с утверждением, что люди выказывают уважение тому, во что верят, а те, кто верит в прекрасную и благостную жизнь Иисуса, не отнесутся к Нему иначе. Вот скажи мне, разве есть более благородное проявление уважения, чем отказ от телесных утех в то время, когда Спаситель был беспорочно зачат? Скажи, неужели даже такие, как ты, не восхитятся подобной тонкостью вкуса и деликатностью почитания, не сравнимыми с этой вашей современной крикливой манерой преклоняться то перед одним политиком, то перед другим?
— Красоты обычаю не занимать, — согласился Эмар, — но смысл его в чем?
— Смысла в нем не меньше, чем в ваших символах, флагах и речах, — отрезала мадам Дидье. — Какой тебе нужен смысл? Сколько раз на моей памяти во Франции лили кровь за то, чтобы сделать людей счастливее, чтобы бедных больше не было? Но отчего-то я не вижу, как кого-то осчастливила вся эта борьба.
— Вы говорите, что в политике смысла нет, но по-прежнему молчите про то, почему нужно волноваться о рождении ребенка в канун праздника.
— Эмар, родной мой, неужели одно то, что Жозефина понесла от священника, не является достаточным злом? Разве вина священнослужителя в подобном проступке не оскорбляет Небеса сама по себе? Кому нужно, чтобы рождение этого несчастного ребенка стало насмешкой над рождением Христа?
Эти слова внезапно тронули Эмара.
— Прямо сказки матушки Гусыни, — буркнул он.
— По-моему, — заявила мадам Дидье, — Жозефина была невинной девочкой, а отец Питамон поддался дьявольскому искушению и не пощадил ее. Теперь дьявол сидит в ней, и я чувствую это всякий раз, когда ее навещаю. Она опасна.
— Чепуха, — сказал Эмар, однако ему стало не по себе. Несколько обескураженный и в немалой степени обеспокоенный, он решил прекратить разговор и поднялся из-за стола, сославшись на необходимость вернуться к работе.
Он прошел в свою комнату и зажег кенкет[34]. Но всякое желание писать рассказ, в котором, по задумке, юноша стремится привести мир к всеобщему счастью, а находит лишь погибель, пропало.
Эмар раздраженно отшвырнул бумагу.
— Такой огромный мир в книгу не упрячешь, — вырвалось у него.
Затем он принялся размышлять, отчего ему никогда не удается воплотить задуманное. В конце концов, идея-то неплоха, к тому же никто не ожидает, что одна-единственная книга способна вместить в себя все на свете. К этому дню он успел отвергнуть дюжину сюжетов. Когда на прилавках появлялась новая книга и критики начинали хвалить ее, Эмар обнаруживал, что он сам уже пытался написать нечто подобное, но отказывался от замысла по той или иной незначительной причине.
Он сложил руки на столе и опустил на них голову. Итак, день-два — и Жозефина родит? Как она выглядит сейчас, когда тело ее раздалось к сроку? Он не представлял. Он даже не мог вспомнить ее лица. «Что же я полюбил в ней, — рассеянно подумал он, — если ничего от образа ее не сохранилось в памяти?» Хотя нет, он любил ее мягкость и ласковое тепло, нежность и жизнерадостность. И вот она готовится к родам, и будет стонать, подобно тем другим, кого он слышал, пока карабкался по лестнице на верхний этаж заведения мамаши Кардек. Он вдруг представил себе малыша Жозефины, представил с любовью, жалея, что отец не он. Ему хотелось, чтобы ребенок и Жозефина стали его семьей.
На следующий день, поздно вечером, Франсуаза вернулась от мамаши Кардек.
— Как там? — спросила мадам Дидье.
— Еще не началось, — ответила кухарка.
— Вот и хорошо, а теперь, Франсуаза, поторопись, иначе нам не достанется мест на полуночной мессе. А ты, Эмар, не идешь с нами?
— Пожалуй, нет, тетушка, — пробормотал племянник, а в его голове сложился дерзкий план. Пока женщины будут молиться в переполненной церкви, он тайком ускользнет в заведение мамаши Кардек и успеет прийти обратно до их возвращения.
Как только мадам Дидье в сопровождении кухарки покинула дом, Эмар поспешил в Maison d’Accouchement. Вся тамошняя прислуга прекрасно его знала, и потому он, невзирая на поздний час, беспрепятственно прошел внутрь и заковылял по лестнице вверх настолько быстро, насколько позволяла его хромота.
Он в испуге застыл у комнаты Жозефины: оттуда как раз выскочила женщина с большим ведром отливающей красным воды.
Эмар поначалу подумал, что Жозефина скончалась в муках. Затем женщина вернулась, неся ведро с чистой водой, и он бросился к ней за новостями, однако она лишь улыбнулась и исчезла в комнате, закрыв дверь, прежде чем он смог рассмотреть, что там творится. Но он все же успел заметить внутри мамашу Кардек и человека, похожего на врача: хотя хозяйка заведения слыла опытной акушеркой, без доктора она не обходилась.
Эмар прождал снаружи, как ему показалось, несколько часов. Напрасно он пытался разгадать значение звуков, исходящих из-за двери: возгласов, шума воды и мечущихся по комнате шагов. Вдруг раздался пронзительный крик — истошный, заставляющий кровь стыть в жилах, все более и более громкий, более и более душераздирающий; он оборвался неожиданно, словно глухо захлебнулся, всосался в некую воронку.
Повисла тишина, настолько глубокая, что охваченный дрожью Эмар слышал, как в церкви на той стороне улицы люди повторяли слова вслед за священником. Зазвенел колокольчик, возглашая чудо претворения воды и вина в плоть и кровь Господни. И в этот миг из комнаты донесся новый звук — престранные, диковинные писк и мяуканье. За ними последовала череда приказаний, плеск воды, грохот тазов: Эмар едва разбирал их, будто все происходило во сне.
Из внезапно распахнувшейся двери вышел высокий человек. Эмар вжался в стену, словно желая слиться с ней. Но его уже заметили.
— Так это вы счастливый отец?
— Да, — неуверенно пробормотал Эмар.
— Тогда позвольте мне первым поздравить вас с рождением сына.
У Эмара невольно вырвался вопрос:
— Она умерла?
— Кто? Мать? — Доктор прищелкнул языком с самодовольством профессионала. — Такие гладкие роды еще поискать. Выскочил, как котенок. Если б всегда так легко проходило, мне бы и трудиться не пришлось.
— Но тот крик…
— Конечно, бывает немного больно. Лучше вам пока ее не видеть. Она заснула. Возвращайтесь утром.
Врач дружелюбно похлопал Эмара по плечу, а затем поспешил вниз по лестнице, тут же о нем позабыв.
Эмар неожиданно вспомнил, что до возвращения тетушки с полуночной мессы осталось не так уж много времени, и торопливо захромал вниз вслед за ним.
Едва он уселся в любимое кресло у окна, как у двери раздался шум, после чего в гостиную вошли мадам Дидье и Франсуаза.
— Это было чудесно, — сказала тетушка.
Эмар хотел задать вопрос, пришедший в голову первым, но слова застряли в горле. Он смог выдавить лишь мычание. Мадам Дидье бросила на него подозрительный взгляд. Он собрался с силами и выговорил:
— Вы о чем?
— О мессе, конечно, — ответила она. — Проповедь вышла такая трогательная, такая душевная. Как будто все собственными глазами увидели рождение… Ну, Эмар, сейчас-то с тобой что? Ты бледен как мел!
— Немного утомился, — как можно спокойнее ответил он. — По-моему, мне пора отправляться в постель.
— Ты увиливаешь, — строго сказала мадам Дидье. — Быстро говори, что у тебя болит. Тебе срочно надо выпить травяного чая или принять порошок ревеня.
— Да нет же, — возразил он, — утром мне полегчает.
Тетушка покачала головой.
— Ты совсем о себе не думаешь, — заявила она. — Но я-то за тобой присмотрю.
Эмар вздрогнул.
— Чувствую, тебе самому не помешало бы отдохнуть в деревне, — продолжала она. — Ты больше года не выезжал из Парижа: эти газовые фонари — чистый яд, а их все ставят и ставят. Немудрено, что люди, особенно женщины, то и дело падают в обморок. Когда я была девчушкой, женщин слабыми не считали. Ну вот, опять я детство вспомнила и про тебя позабыла. Точно-точно, становлюсь болтливой, как старуха. Погоди, сейчас я тебе ревень принесу.
Не найдя мужества спорить с ней, Эмар покорно проглотил порошок.
Назавтра он с раннего утра рвался увидеть Жозефину, однако ни Франсуаза, ни мадам Дидье, похоже, не собирались к мамаше Кардек. Их спокойствие выводило его из себя. Как можно в такой день хлопотать по хозяйству? Воистину, женщины — создания бессердечные. Крик Жозефины всю ночь преследовал его и до сих пор звучал в ушах. Всю ночь напролет он прокручивал в голове пережитое. Слышал, как гремят тазы. Слышал приятную хрипотцу врача, прерывающую бас мамаши Кардек. Перед глазами стояла женщина с ужасным ведром розоватой воды, где он, кажется, даже разглядел круговерть алых струек. Эмара трясло. Он никак не мог сладить с собственными фантазиями.
Наконец до него донесся голос мадам Дидье:
— Франсуаза! Франсуаза! Как же мы позабыли-то?
Эмар с облегчением вздохнул. Он намеревался присоединиться к ним, как только они заговорят о посещении Жозефины. Однако тетушка продолжала:
— Все белье давно лежит в сундуке. Значит, и пропавшие простыни там.
Он с раздражением услышал, как обе женщины поспешили к сундуку и открыли его, ахнув от удивления. Потом они долго смеялись над собственной рассеянностью, твердя одно и то же, и Эмару показалось, что он вот-вот задохнется от гнева: «Да как же мы позабыли… Никогда б не подумала… Не знаю, что на меня нашло».
Днем выяснилось, почему женщины были столь равнодушны.
— У меня прямо камень с сердца упал, — сказала мадам Дидье Франсуазе, когда та наливала в тарелку густой суп.
— Oui, madame.
— И что это был за камень? — спросил Эмар.
— Мамаша Кардек никого к нам не прислала.
— А должна была? — проговорил Эмар, внезапно все поняв.
— Ну да, она вчера сказала Франсуазе, что пришлет весточку утром, если ночью что-нибудь случится. Ах, худшее позади. Ребенок на Рождество не появился.
Эмар поперхнулся.
— Суп как кипяток, — проворчал он. — Франсуаза, разве я недостаточно часто просил тебя не подавать его таким горячим?
— Oui, monsieur, — ответила кухарка, не сумев скрыть обиды, а когда выходила, трясясь от злости, добавила: — Просили — года три назад.
— Зачем ты грубишь? — спросила мадам Дидье, тоже рассердившись.
— Господи! — не сумев ничего придумать, выпалил Эмар. Хуже всего было то, что он сам понимал, как плохо обошелся с Франсуазой. — Теперь все примутся дуться по углам.
— Ну, ты сам виноват, и неплохо бы тебе помириться с ней поскорее.
Ему не оставалось ничего, кроме как пойти на кухню и уговорить Франсуазу перестать обижаться. Слезы лились потоком, как и ее воспоминания: она, мол, уже тридцать лет в семье, месье младенчиком еще был, она его на руках носила, пеленки грязные стирала, потому что мадам Галье вечно болела, а денег прачку нанять не всегда хватало — и так далее, и тому подобное, ad nauseam[35].
Эмар заставил себя сказать ей:
— Я знаю, что вы с тетушкой стали для меня роднее матери.
Эти слова дались ему с таким трудом не потому, что были неправдой, и не потому, что он не ценил самоотверженность этих женщин, а оттого, что мужчине всегда сложно выразить подобную благодарность.
Когда пришло время отправляться к мамаше Кардек, Эмар заявил, что он тоже идет туда. В голове крутились дикие планы обогнать под каким-нибудь предлогом женщин и предупредить мамашу Кардек о необходимости скрыть его присутствие в заведении вчера ночью, ибо было совершенно ясно, что она не послала гонца с известиями, понадеявшись именно на него.
Но возможности попасть в родильный дом раньше тетушки со служанкой не представилось, и как он ни изводил себя в поисках благовидного предлога, ни одной достойной идеи так и не появилось. Итак, он шел по морозцу и пытался казаться беспечным, хотя над его головой висел роковой меч. Им, конечно, расскажут о его вчерашнем посещении и всех тех тайных свиданиях, которые он мечтал возобновить, пусть и не мог думать об этой связи без отвращения.
Мамаша Кардек, как всегда, без улыбки приветствовала дам и неохотно добавила:
— Посмотрите, как мадам будет в первый раз кормить ребенка.
Мадам Дидье и Франсуаза в унисон воскликнули:
— Кого? Ребенка? Когда это произошло? Почему вы не послали к нам человека, хотя обещали?
Эмар не выдавал волнения, будто это совершенно его не интересовало, но на самом деле предпочел бы, чтобы, как говорится, земля разверзлась под ногами и поглотила его.
Мамаша Кардек было начала:
— Но я думала, что месье…
Однако оборвала прикусила язык и, ничего не объяснив, попрощалась. Многолетний опыт научил ее, что своевременный уход лучше десятка объяснений.
Впрочем, женщины особо их не ждали, сразу бросившись наверх; взмокший от волнения, но счастливый Эмар последовал за ними. Он был в шаге от падения в пропасть. Но случилось так, что в тот день он все же ушел домой весьма разочарованным, столкнувшись с двумя неприятными открытиями.
Ему даже понравилось, что Франсуаза не обращает на него внимания. Он охотно решил, что дело в мадам Дидье и Франсуазе. Но он не был готов увидеть такого ребенка. С детства ему внушали, что новорожденные похожи на Иисуса на руках мадонн с итальянских полотен или на младенцев с картин Греза, и потому костлявый, тонкорукий, волосатый и сморщенный уродец, которого Жозефина нежно прижимала к груди, потряс его. Что до женщин, то они затрепетали от восхищения.
Когда все трое, попрощавшись, спускались по лестнице, Эмар неожиданно заявил, что забыл у Жозефины носовой платок, хотя тот лежал у него в кармане. И, прежде чем Франсуаза сказала, что сходит за ним, снова поспешил наверх. Младенца успели уложить обратно в люльку, и Эмар ожидал, что Жозефина пылко прижмется теперь к возлюбленному. Или, еще не оправившись после родов, по крайней мере посмотрит на него с томлением и лаской.
Но он был встречен всего лишь вопросом о причине возвращения. Спокойные глаза Жозефины, прежде сиявшие страстью, теперь светились материнской привязанностью, совершенно ничего для него не значащей. Эмар не мог уйти просто так. Он остановился и произнес:
— Ну…
— Quoi, monsieur? — удивилась она. Раньше она не называла его «месье». Давнее обращение вырвалось неожиданно, став свидетельством изменившихся чувств. Но Эмар внезапно осознал, что она больше не его любовница, а просто служанка. Он задумчиво затворил за собой дверь и присоединился к ждавшей внизу мадам Дидье.
Дома он осмелился вновь уколоть тетушку, спросив об ужасном Роке, преследующем детей, рожденных в канун святого праздника.
На самом деле он был готов поверить, что во всем происходящем с ним имелась некая магическая подоплека.
Сомнений нет, его околдовали. Иначе разве решился бы он вступить в подобную связь, так сказать, под носом у тетушки, даже больше, прямо в ее доме? И Жозефина наверняка была под влиянием чар. Сейчас они развеялись. Он тоже почувствовал, что заклятие снято. Теперь он сможет оставаться дома и опять работать над книгой. Сможет вновь окунуться в дела оппозиционной партии, к которой принадлежал.
Задумавшись о своем, он едва услышал голос тети:
— Хотелось бы мне не бояться. Однако, признаюсь, я все еще сама не своя.
— Да уж, ребенок и впрямь страшненький, — рассмеялся Эмар.
— Новорожденные редко бывают очень красивы. Странно то, что он в первый же день сумел поднять головку. Никогда о таком не слыхала. Но Франсуаза утверждает, что она это уже видела.
— Вряд ли здесь есть повод поверить, что мальчишке суждено болтаться на виселице.
— Раз уж вынуждаешь меня, я тебе скажу: у меня нет ни малейших причин думать о плохом. Но меня гложут предчувствия. Честное слово, на душе кошки скребутся.
— Будущее покажет, — беспечно сказал Эмар.
— Может, покажет, а может, нет. Не исключено, что мы в первый и последний раз видели малыша.
— Почему?
— Мамаша Кардек отошлет его в Бретань к невестке, а Жозефина либо вернется к нам и будет паинькой, либо отправится обратно в свою деревню. Вот и делу конец.
Эмар выслушал это с совершеннейшим равнодушием. И удивился собственной холодности. Как? Неужели он переменился столь быстро?
Мадам Дидье позаботилась о бумагах на младенца, детских вещах и крещении. А еще заставила Эмара стать крестным отцом и выбрала ребенку имя, назвав его Бертраном, как звали отца Питамона. Эмар почувствовал укол совести и дал мальчику второе имя — Эмар. Ребенка записали Бертраном Эмаром Кайе; фамилию Кайе якобы носил вымышленный муж Жозефины, для всех окружающих отбывший в долгое морское путешествие.
Мадам Дидье заговорила о деле сразу после крещения:
— Теперь, Жозефина, тебе надо выбрать. Ты можешь вернуться к себе в деревню или остаться здесь.
— Разве, если я вернусь в деревню с ребенком, меня не засмеют? — сказала Жозефина.
— Людям совсем не обязательно знать, что у тебя кто-то родился, потому что мы отошлем мальчика в Бретань, где о нем позаботятся.
— Тогда я лучше останусь в городе, — решила Жозефина, — чтобы быть рядом с малышом.
— Но и здесь ты его не оставишь, — возразила мадам Дидье. — Он не может жить у нас в доме.
— Тогда мы с ним вернемся на ферму.
— Но, деточка, подумай, на что ты себя обрекаешь. Чем на жизнь станешь зарабатывать? Как людям объяснишь, откуда у тебя взялся ребенок?
— Мадам, я скажу им правду, — простодушно ответила Жозефина.
Мадам Дидье осеклась. Правда не должна была выйти наружу. Что скажут о ней самой, когда узнают, что у ее служанки после похода в церковь за святой водой появилось незаконнорожденное дитя? Ну уж нет, деревенские кумушки не должны пронюхать об этом.
Она откинулась на спинку кресла и на мгновение задумалась. Если она отошлет девушку прочь, один Бог ведает, чем это может грозить в будущем. Куда бы Жозефина ни направилась, о мадам Дидье она наверняка не умолчит. Это ужасно, но опять же, связь отрицать невозможно. Ну какова нелепость — эта ответственность за чужой проступок! Или вот еще, надумай она поместить девушку в какое-нибудь заведение, бумаг не избежать — придется выправлять документы, а за последние дни она и без того с ними намаялась и больше не желает их касаться. И хозяйка внезапно приняла решение, которое в сложившихся обстоятельствах показалось ей вполне разумным.
— Ладно, пока можешь остаться здесь, — сдалась мадам Дидье. В конце концов, все сплетники округа уже знают о случившемся, может, даже побольше нее. К тому же христианский долг велит продолжать помогать Жозефине, раз в том есть некоторая доля ее вины. Да, она делает это лишь во имя милосердия. Ей очень понравилась такая формулировка. Мадам Дидье повторяла ее про себя каждый раз, когда вдруг сталкивалась с кем-то из соседей и потому уже не пасовала перед ними: держа спасительную фразу в памяти, она находила в себе силы не опускать голову и говорить без страха.
В действительности ее роль не ограничилась одним христианским долгом. Невозможно было спокойно жить бок о бок с младенцем и не поддаться странному влиянию, которое оказывают все дети на тех, кто часто видится с ними. Сначала под него, конечно, подпадают матери, а потом оно настигает окружающих. Подобно плющу, оно крепко опутывает всех причастных.
Маленький Бертран был поистине безупречен. Никогда не плакал. Ночью спал в самых умилительных позах. Днем тоже подолгу дремал, а когда просыпался, то радостно встречал любого склонившегося над колыбелькой и говорившего с ним. Улыбаясь, он забавно морщил нос. Ласковые карие глазки весело блестели. Он раскрывал ротик и глухо гукал от восторга.
Его здоровье было столь же великолепно, как настроение. Поначалу он плотно набивал животик материнским молоком, потом его отлучили от груди, но он ел все, что ему давали, и рос не по дням, а по часам. Он легко перенес время, когда у него резались зубы. Лучшего ребенка было не вообразить. Впрочем, мы слишком спешим.
Эмар, который меньше всех в доме интересовался растущим мальчиком, видя, как его тетушка опять нянчит малыша в глупой сюсюкающей манере, столь непонятной людям, сторонящимся детей, насмешливо напоминал ей о былых опасениях.
Как-то раз она окоротила его:
— Позже поговорим.
Тем же вечером, когда в доме все затихло, а Жозефина с Франсуазой ушли к себе в комнату за кухней, где жили вместе с мальчиком, тетя заговорила с племянником и высказала все, что накопилось у нее на душе.
— Я о своих дурных предчувствиях не забывала, — начала она. — По правде говоря, я сильней, чем когда-либо, верю, что Бертран ребенок необычный.
— Вы о том, что он никогда не плачет? А вдруг он немой? — предположил Эмар. — Я слышал, дети часто рождаются немыми.
— Может, и немой, — согласилась тетя. — Об этом мы узнаем только через несколько месяцев, когда ему придет пора заговорить. Лично я думаю, что в этом отношении с ним все в порядке.
— Так чего же вы по-прежнему боитесь?
— Ты ему в глаза заглядывал?
— Конечно. И должен признать, что глазки у него красивые.
— Но я скорее не о глазах, а о бровях.
— С ними что не так?
— Они густые и срослись на переносице.
— И какой из этого вывод?
— В наших краях это всегда считалось признаком звериной натуры.
— Очередной предрассудок, — сказал Эмар. — Может, это ему в наследство досталось.
— Ты правильно заметил, — ответила мадам Дидье. — У отца Питамона тоже сросшиеся брови.
— Все верно. Яблочко от яблони недалеко падает.
— Именно. Боюсь, нрав у него будет такой же необузданный.
— Сейчас про него этого не скажешь. — Эмар усмехнулся, вдруг представив, как маленький Бертран покушается на девичью невинность. — Что еще вы в нем заприметили?
— Кое-что пострашнее. Нечто столь редкое, что мне самой раньше видеть не доводилось, хоть в старину, как говорят, это считалось вернейшей и ужаснейшей из всех примет — печатью дьявола на человеческой душе.
Она понизила голос до шепота, и Эмару пришлось наклониться к ней поближе, тем более что холодный мартовский ветер, беснуясь, дребезжал оконными стеклами. Вопреки себе, Эмар почувствовал неладное; то ли от слов мадам Дидье, то ли от ледяного сквозняка, прорвавшегося с улицы сквозь щель в раме и скользнувшего по его спине, по телу побежали мурашки.
— Ну и? — нетерпеливо пробормотал Эмар.
— Помнится, когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне про лес и чудищ, живущих в нем. Про людей, сошедших с ума, потому что столкнулись с безголовым всадником; про дерево, на котором шведские наемники повесили пятерых. Их души до сих пор томятся в том дереве — и не сгинуть ему до самого Страшного суда. Про белого оленя, каждый год появляющегося в лесу в поисках пары, только нужна ему не ланка, а девочка.
— Нельзя такое детям рассказывать, — заметил Эмар.
— Бабушка также говорила, что в деревню на ярмарку иногда забредают незнакомцы, а потом бесследно исчезают. Это морской народ является за жертвой, чтобы уволочь ее в подводное царство. Их можно узнать по влажному подолу и перепонкам между пальцами. Зубы у них острые, треугольные. А еще с гор приходят оборотни. Вот у этих на ладонях растет шерсть.
Она замолчала и затем добавила:
— У Бертрана на ладошках волосы.
Холодная весна с непрекращающимися дождями и сыростью подорвала здоровье мадам Дидье, и без того ослабленное переживаниями последних лет. Смерть мужа, ужасные события 1848 года, когда Эмар получил ранение и оказался в больнице, а вдобавок к ним недавнее предательство отца Питамона и несчастье Жозефины оставили глубокий след в ее душе.
Как-то раз она, приготовив длинный список покупок, шла по улице. Утро выдалось прекрасное. В воздухе витали весенние ароматы, небо ослепляло голубизной, какая бывает лишь после долгих, тяжелых зим, когда сама природа, кажется, стремится очиститься от всего плохого. Но стоило мадам Дидье задержаться в магазине тканей, как погода резко переменилась. Небо заволокло тучами, поднялся ледяной ветер, и вскоре по крышам забарабанил косой ливень. Чудесное утро обернулось ненастным полднем.
Лишь выйдя наружу, она заметила, как испортилась погода. Мадам Дидье попыталась остановить извозчика, но все экипажи были заняты. Потом зашла обратно в магазин, надеясь, что дождь вот-вот прекратится, но с неба лило все сильнее. В магазине было душно, а дверь то и дело открывалась, впуская холодный воздух, отчего ей стало нехорошо. Ее бросало то в жар, то в дрожь. Несильно, но чувствительно заболело горло. Ей хотелось поскорее попасть домой, прилечь и попросить Франсуазу приготовить травяной отвар. Он всегда помогал ей.
Наконец она решилась забыть про ненастье и отправиться на бульвар, надеясь остановить экипаж или укрыться от дождя в кафе и выпить чего-нибудь горячего. Подняв повыше каракулевый воротник и спрятав лицо, она вышла под ливень. Сделав два шага, она споткнулась, упала в лужу и в мгновение ока она промокла с ног до головы. Добрые люди помогли ей подняться, нашли для нее фиакр, и он быстро довез мадам Дидье до дома.
Несколько дней она провела между жизнью и смертью. К счастью, долгое пребывание в городе не сломило ее крестьянское здоровье, и мало-помалу она начала поправляться. Лежа в постели, мадам Дидье очень скучала по малышу, но не позволяла приносить Бертрана к ней в комнату, боясь, что может его заразить. Франсуазе и Эмару, которым тоже запрещалось приближаться к мальчику, приходилось расспрашивать о нем Жозефину и потом подробно рассказывать мадам Дидье о его проделках. Дом разделился на два лагеря, общавшихся между собой на расстоянии.
Наконец настал день, когда мадам Дидье почувствовала, что болезнь ушла. Погода была по-настоящему весенняя, не такая переменчивая, как в то предательское утро, когда она простыла. Окна в доме раскрыли, шторы колыхались от дуновения теплого ветерка.
— Сегодня я обязательно увижусь с Бертраном, — сказала мадам Дидье Франсуазе с Эмаром.
— Вам надо с ним повидаться, — сказала Франсуаза, смахнув слезу. — И раз уж вам полегчало, может, и мне разрешите?
— Конечно, милая моя, конечно. Ну и негодница же я: совсем запамятовала, что и ты у него не бывала. Давай, быстренько меня поцелуй и скажи, что прощаешь. А теперь неси сюда малыша.
И тут они услышали странный шум, который было не описать словами. Как будто кто-то задыхался, завывал и всхлипывал одновременно. Мадам Дидье и Франсуаза удивленно переглянулись. Потом кухарка выбежала из комнаты.
— Какого черта? — воскликнул Эмар.
Звук нарастал, становясь громче, резче и теряя сдавленность.
Франсуаза быстро вернулась вместе с Жозефиной.
— Мадам! — взывала молодая мать. — Это Бертран! Кажется, ему очень плохо. Ах, прошу, скорее отправьте кого-нибудь за врачом.
— Врач сейчас сам будет здесь, — сказала Франсуаза. — Наверное, это он у дверей. — И побежала открывать доктору Робийо, пришедшему с ежедневным визитом к мадам Дидье.
— Не люблю, когда пациенты заводят собак, — так, первым делом, он отозвался о печальном вое, огласившем дом.
— Oui, monsieur, — сказала Франсуаза, которую до сих пор трясло, и проводила его в спальню к хозяйке.
— Что ж, наша больная выглядит сегодня исключительно хорошо, — весело произнес он, прощупывая женщине пульс. — Теперь уже можно вставать и немного прохаживаться. Но не переусердствуйте.
— Сегодня больна не я, — серьезно заметила мадам Дидье, — а малыш мадам Кайе: кажется, он ужасно страдает. Разве вы не слышите?
Доктор, весьма удивленный тем, что завывания исходили от ребенка, а не от собаки, сразу проследовал в комнату Жозефины, но быстро вернулся.
— С пареньком ничего страшного. Даже напротив, он здоров как бык. Может, испугался чего или капризничает. Никто его не пугал?
— Нет, — заверила Жозефина. — Я это точно знаю, потому что с тех пор, как мадам заболела, с ним вижусь только я одна.
— Ладно, сейчас выпишу ему успокоительное, и он угомонится. А когда проснется, весь испуг позабудет.
— Но как ужасно он кричит, monsieur le docteur, — сказала мадам Дидье.
— Перестанет, когда получит лекарство, — ответил врач. — А пока вам бы закрыть дверь, чтобы шум вас не беспокоил. Помните, следует соблюдать осторожность. Болезнь у вас была преопасная.
Все двери плотно закрыли, и в спальне мадам Дидье стало почти не слышно ребенка. Вскоре он замолчал, так как Жозефина сходила к аптекарю, после чего Бертран, приняв снадобье, погрузился в глубокий и спокойный сон.
Мадам Дидье поднялась с кровати и теперь сидела в кресле у окна напротив Эмара. Ее худая рука, обтянутая бледной шелковистой кожей, изрезанной голубыми венами, покоилась на его колене.
— Эмар, ты был мне хорошим сыном. Мне приятно находиться рядом с тобой.
Он хотел было проворчать в ответ: «Чепуха», как обычно делал в таких случаях, но слова комком застряли в горле. Помолчав, он только и смог выдавить из себя:
— Вы уж теперь о себе заботьтесь и больше не ходите покупать всякие глупости в ненастье.
Вечер он провел у ее постели, выслушивая воспоминания о том, как он озорничал с детстве, когда летом семья выбиралась за город. Неожиданно раздался тихий, но навязчивый звук, который понемногу становился все громче. Видимо, ребенок проснулся и вновь залился плачем. Хорошо хоть, что все двери оставались закрыты. Тетушка, казалось, не замечала возобновившихся рыданий малыша. Эмару не хотелось, чтобы она отвлеклась и ее настроение испортилось, и он принялся задавать наводящие вопросы:
— Смутно помню какого-то ежика; у нас были ежи?
— Ой, это прямо комедия, — встрепенулась тетушка, взяв его за руку. — Ты всегда хотел завести ежа, а мы не разрешали. Однако, когда в очередной раз приехали отдыхать в деревню, оказалось, что в доме полно тараканов. Ты ведь помнишь того ленивого сторожа с вечно пьяной женой?
— Не особо, — ответил Эмар. — Мне же тогда года четыре было?
— Думаю, через месяц или два должно было исполниться пять. Да, теперь точно вспомнила, это было как раз в то лето. Но вернемся к ежику. Ты замучил мать просьбами о ручном еже. Бог знает, где ты набрался таких фантазий. В любом случае, когда мы приехали в деревню и увидели кишащий насекомыми дом, ты заявил, что еж их всех быстро съест. Конечно, мы тебе не поверили, но ты не унимался. И если б мы того ежика не выпустили жить обратно в сад, то тараканы его наверняка бы слопали, ведь сам он ни одного так и не поймал. А еще помню, что…
Эмар напряженно вслушивался в странное завывание ребенка и даже не заметил, как тетушка замолчала. Мелькнула мысль, что она тоже наконец услышала этот вой. Звук ужасал — так протяжно воют на луну псы в глухих за кутках, а не плачут дети. Нет, мадам Дидье ничего не слышала: она заснула. Стоило Эмару так подумать, как на него накатила волна страха. Страха столь безумного, что он в ужасе поднялся с кресла. Его рука с легкостью выскользнула из руки тетушки. На секунду он растерянно застыл, а потом выбежал из комнаты.
В коридоре у кухни он наткнулся на Жозефину.
— Я как раз шла давать малышу лекарство, а он сам успокоился. Сейчас с ним все хорошо. Даже не знаю, что и думать, месье. Надеюсь только, что мадам не проснулась.
— Нет, — глухо произнес он. — Мадам умерла.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В своем партикулярном письме в защиту сержанта Бертрана Кайе, Эмар Галье лишь вкратце касается предмета, на котором, будь его намерения иными, он обязательно остановился бы гораздо подробнее.
Оказывается, мадам Дидье в самые тяжкие дни болезни вызвала к себе нотариуса и составила завещание.
В соответствии с этим документом все ее имущество переходило к племяннику Эмару, но с двумя оговорками, а именно: во-первых, он должен был продолжать заботиться о Франсуазе и Жозефине с маленьким Бертраном. Второе условие гласило, что ему следует заняться изучением богословия и готовиться к принятию сана.
Зачитывание этой бумаги вообразить несложно. Нотариусом мадам был Лепеллетье, человек в ту пору неизвестный, но вскоре прославившийся и ставший для многих объектом как ненависти, так и любви. Они с Эмаром неплохо знали друг друга, поскольку вращались в одних и тех же радикально настроенных кругах[36]. Внешне Лепеллетье не отличался особой представительностью: его, низкорослого и смуглого, будто смяло, выпачкало и выбросило в сточную канаву некоей мстительной силой. Он служил подтверждением расхожего, но недоказуемого мнения о том, что в революционеры подаются люди, обиженные судьбой и неудачливые в делах и любви. Лепеллетье уделял мало времени своей профессии, просиживая долгие часы в Bibliothèque nationale, где собирал материалы для двухтомника по истории эпохи Террора, которым восхищался, хотя в те годы Французская революция была чрезвычайно непопулярна. Издание вызвало бурю откликов и принесло автору не только известность, но и ореол тюремного заключения.
Зачитав завещание, Лепеллетье наклонился к Эмару и с ухмылкой спросил:
— И что, пойдешь в священники?
Первыми словами пораженного до глубины души Эмара были:
— Откуда в тетушке такая жестокость? Она знала мои чаяния.
Мэтр Лепеллетье потер вечно сморщенный лоб и хитро сказал:
— Всегда найдется способ обойти условие.
— Какой? — заинтересованно спросил Эмар.
— Например, временные рамки, — подал идею нотариус.
— Правда?
— Да. Что толку в завещании, если в нем не обозначен срок? Например, ты можешь всю жизнь готовиться стать священником. И если вдруг, думая о близкой смерти, захочешь составить собственное завещание, то кто тебя остановит? Ты ведь просто за отведенные тебе судьбой годы не успел исполнить все требования тети, но распорядиться состоянием по своему выбору тебе не возбраняется.
— Мне такое претит, — сказал Эмар. — Ненавижу подобные уловки. Особенно если обманывать придется много лет. Утешает лишь то, что вряд ли я проживу долго.
— Давай, соберись, — подбодрил его Лепеллетье. — Ну к чему это может привести? Ты скоро сам обо всем позабудешь. Разве что жениться будет нельзя. Но даже тут дозволительно отыскать обходной путь — и не самый плохой. Возьми и объяви, что поставленные тетей условия для тебя неприемлемы, и тогда ты унаследуешь ее состояние не по завещанию, а как ближайший родственник.
Эмар живо вообразил, что скажут друзья, прекрасно помнящие горячую критику клерикализма, не раз звучавшую из его уст, когда обнаружится, что он принял сан. Он, конечно, при этом присутствовать не будет, однако стыд останется с ним до гробовой доски.
— В том, что завещание не столь строго, моей заслуги нет, — продолжал мэтр Лепеллетье. — Я, как нотариус, предупредил твою тетушку, что завещание без защиты от нарушения его условий бесполезно. Но она слышать не хотела о том, что ты способен воспротивиться ее последней воле. «Как я пожелаю, так он и сделает», — заявила она. Конечно, это совершенно не по правилам, но не лишено шарма. Ты действительно свободен поступать как угодно.
Слова Лепеллетье больно ужалили Эмара, словно за ними скрывался упрек. Воспоминания о похоронах были все еще свежи, и глаза невольно наполнились слезами. Да, добрая тетушка не желала для него никаких взысканий. Но мог ли он, человек, склоняющийся в последнее время к бескомпромиссному радикализму Бланки[37], заставить себя отправиться в семинарию? Это казалось немыслимым!
Впрочем, не таким уж и немыслимым. Эмар внезапно подумал о недавно прочитанной и немало его взволновавшей статье Бланки, где тот атаковал мистицизм, распространяемый церковью, которая, по убеждению автора, занималась этим единственно из стремления еще сильнее подчинить простонародье высшим сословиям. Тогда, помнится, он отбросил памфлет и воскликнул: «Тебе известно не всё».
Известно не всё? Что ж, в этой фразе был как исток, так и крах мистицизма.
— Как ты относишься к религии? — спросил Эмар нотариуса.
— Moi? Je m'en fous pas mal[38]. — Лепеллетье одним махом подвел черту под обсуждаемой гуманитарной дисциплиной.
— Я всего лишь хочу выяснить, что ты думаешь, к примеру, о… жизни после смерти?
Лепеллетье криво усмехнулся.
— Вечный вопрос? Вот уж не предполагал, что сегодня он кого-то беспокоит.
— То есть ты считаешь его решенным?
— Смотри, вот мои часы, — сказал Лепеллетье, протягивая их собеседнику. — Если я их завожу, они показывают время. Они существуют. Они работают. Сломается пружина — они остановятся. Времени по ним больше не узнать. Они умрут. Время перестанет существовать для них. То же самое, если лопнет пружина в твоем теле.
— Иными словами, потом ничего не будет?
— Не будет, к счастью для нас же, — объявил Лепеллетье. — Вообрази, что лежишь тысячи лет в гробу и продолжаешь ощущать течение времени. Вряд ли тебя такое позабавит.
— Никогда не смотрел на это вот так, — тихо проговорил Эмар. И тут же представил, как его тетушка лежит в гробу. Бледная, чуть улыбающаяся, невинная. Замечает ли она ход времени? Отсчитывает ли секунду за секундой?
— Ты позволил горю взять над собой верх, — участливо сказал нотариус.
Эмар вздохнул и продолжал:
— Ты веришь, что собака может почуять, как в доме кто-то умирает, и зайтись скорбным лаем?
Лепеллетье с подозрением взглянул на товарища.
— Я? Я верю исключительно в науку. Предрассудки мне чужды. Я, как Конт[39], позитивист.
Эмар попытался возразить:
— Разве наука не может вдруг обнаружить, что собаки способны ощутить близкую кончину человека, к которому они привязаны?
— Ты к чему ведешь?
Эмар замешкался. Сейчас он говорил совсем как тетушка, а роль скептика, которую он некогда играл, досталась Лепеллетье.
— Признаюсь, — наконец сказал он, — что нечто подобное произошло, когда умирала тетя, и у меня до сих пор мурашки от этого бегают.
— Нервы расшалились, — уверенно заявил Лепеллетье. — У каждого случается миг, когда здравый смысл отступает. Горе застит взор. Это проходит.
Кстати, так и вышло. Настало лето. Жозефина, Франсуаза и малыш уехали в деревенский дом мадам Дидье. Эмар должен был последовать за ними сразу после продажи квартиры. Он не считал, что им она им действительно нужна. Женщины могут жить на ферме. Больших расходов это не потребует: арендатор Гиймен будет снабжать их плодами из превосходного сада и мясом и яйцами с богатого basse-cour[40], полного птиц, свиней, кроликов и овец. Что касается самого Эмара, то он снял бы какое-нибудь недорогое пристанище где-нибудь в городе, но, конечно же, при этом по большей части обретался бы в деревне.
Галье по-прежнему никак не мог решить, следует ли ему подчиниться тете или просто позабыть о ее последней воле. Оба варианта приносили ему душевные страдания. По правде говоря, он разучился радоваться жизни. Он не был более способен на борьбу против угнетения и противостояние власти Наполеонишки, который все прочнее обсиживал французский трон. Эти болезненные сомнения не давали уснуть, и Эмар ворочался в постели, то угнетаемый страхом смерти, то, наоборот, мечтающий о покое могилы — что в мире идей является столь же универсальным растворителем, как вода в мире физическом.
Неужели он станет готовиться к принятию сана, сможет ли? Как тогда изменится его жизнь? Однажды днем, застигнутый врасплох ливнем, Эмар осмелился укрыться в ближайшей церкви. Когда глаза привыкли к полутьме, он, в мерцании нескольких дюжин свечей в темно-красных стеклянных чашах, принялся не без любопытства осматривать алтари с крестами и статуями.
По проходу между скамьями шел священник. Эмар с неожиданной решимостью приблизился к нему.
— Mon père[41], — прошептал он, — не можем ли мы поговорить?
— Вы хотите исповедаться? — коротко спросил священник и сделал шаг к исповедальне.
— Нет, нет. Просто хотел задать несколько вопросов.
— Конечно.
Эмар замялся, не зная, как начать. Затем спросил:
— Вам нравится ваша работа? Простите, сам понимаю, насколько дерзок мой вопрос, и вы можете на него не отвечать, если он вам не по нраву.
Священник хрипло рассмеялся. Это был дюжий, пышущий здоровьем человек, мгновенно располагающий к себе и ничуть не походивший на иссохшего и бледного аскета. Его крепкое, бугрящееся мускулами под сутаной тело источало жовиальность. Глаза и рот, казалось, готовы были расцвести улыбкой.
Они разговорились, и священник объяснил, в чем состояли его обязанности. Он смотрел на жизнь довольно холодно и рационально. Сказал, что любит служить мессы, и объяснил, какие они бывают и чем отличаются. Не утаил литературных амбиций. Он мечтал написать о болландистах[42] и их обширных трудах, прерванных Революцией. Месье слышал об астрономических изысканиях иезуитов в Китае и их впечатляющих достижениях в архитектуре? Сегодня, когда Церковь подвергается жестоким нападкам, неплохо бы вспомнить, чем ей обязаны наука и искусство. А впереди еще более великие деяния. И он, конечно, внесет свою лепту.
Его рвение было заразительным. Теперь Эмар тоже не желал оставаться в стороне.
— Именно Церковь когда-нибудь выведет человека из всего этого экономического помрачения, — заявил он. — Вот увидите. Рим наконец разочаруется в забывших преданность династиях и всеми силами поддержит социализм. Понимаете, это станет зарей новой эры.
Их беседы повторялись еще не раз, и Эмару все больше нравился священник и все сильнее мечталось стать частью огромной организации, чья история превосходила величием историю любого государства. И однажды Эмар сказал:
— Я хочу принять сан. С чего мне начать?
Священник покачал головой.
— Служение не для вас.
— Да, раньше я был настроен враждебно, — произнес Эмар. — Но вы на многое открыли мне глаза.
Однако священник продолжал качать головой.
— Вам кажется, что я отступлюсь? — не сдавался Эмар. — Возможно, вы правы. Но я по-прежнему намерен готовиться к рукоположению. К тому же я обязан сделать это.
— Вы не поняли, — тихим голосом сказал священник. — Вы хромаете. С физическим недостатком вы не можете служить мессу.
Эмар вспомнил, что когда-то слышал об этом, но тем не менее почувствовал себя уязвленным. Сейчас, когда его лишили возможности стать церковнослужителем, ему еще сильнее захотелось в священники. Он пустился в объяснения того, как вначале противился воле тетушки, но постепенно пришел к решению исполнить ее.
— Погодите, — сказал священник. Он вышел и вернулся с журналом. В нем он быстро нашел нужное объявление: «Пьер-Поль Сгамбати, адвокат, улица Сент-Оноре, 165, первый этаж. Сношения со всеми дикастериями Рима»[43].
— Сходите к нему, — порекомендовал священник. — Вот, посмотрите, чем Сгамбати занимается. Обеспечивает право благословлять четки, нательные кресты и медальоны индульгенциями святой Бригитты[44]. Достает разрешения для церковнослужителей вкладывать личное состояние в коммерцию, а для облысевших священников — надевать парик на мессу. И так далее, и тому подобное. Вот еще: испросит особое дозволение рукоположить кандидата с отсутствующим левым глазом. Денег это будет стоить немалых, как, впрочем, все дела с Римом, но вы тоже, возможно, сможете получить желаемое.
— Но это нелепо! — воскликнул Эмар. — Какой позор!
— Как знаете, — сказал священник и пожал плечами. — Подобные возражения не редкость. Но Рим велик и труднодоступен. Здесь вам тоже приходится платить, например, при всяком обращении в суд. Подумайте сами: этот юрист в совершенстве изучил многочисленные римские канцелярии, секретарей, документацию, все ходы и выходы. Святому Петру такое и не снилось. Но тогда жизнь была гораздо проще. Шла дорога прямая, потом раздвоилась, разбежалась на тропинки, превратилась в лабиринт.
Эмар не смог отнестись к происходящему спокойно. Он много дней обдумывал свое положение, не в силах унизиться до испрошения диспенсации[45] на хромоту, и даже перестал ходить к новому другу-священнику, пока наконец не решил хотя бы временно отложить исполнение плана.
Жизнь подсовывала ему немало горьких пилюль. Особенно в последние годы. Ну почему этот мир с таким восторгом осыпает ничего не подозревающего человека издевками? Есть ли в том тайна или все предельно ясно? Отчего он, Эмар, оказался в калеках, тогда как многие его соратники сражались на баррикадах, но остались живы и здоровы, а все пули обошли их стороной? Откуда у тетушки взялось желание сделать из него священника, хотя сама Церковь отвергает таких, как он? По какой причине его, столь презирающего духовную власть, оскорбила мысль о деловой хватке ее представителей? И, в конце концов, нельзя не увидеть совпадения в том, как священник учил его обводить вокруг пальца закон церковный вскоре после рассказа нотариуса об уловках для обмана закона светского. Живые и мертвые, святые и грешники — все отступали пред деньгами и коварством.
Несмотря на растущую меланхолию, Эмару удалось неплохо сбыть квартиру с рук и упаковать мебель для отправки в деревню. Он стоял посреди опустевшего жилища и прощался со всем, что было в его стенах. К собственной досаде, он обнаружил, что это дается ему гораздо легче, чем он ожидал или даже надеялся. Оказалось, стены не имеют для него значения. На окне, у которого он привык сидеть, теперь не было занавесок, на подоконнике не осталось подушек, а рядом — излюбленного им кресла. Самое заурядное окно. На ум пришло глупое сравнение, и Эмар невольно поморщился: не окно, а какой-то безликий скелет. Неужели его тетушка, чья плоть истлеет, обнажив кости, будет значить для него не больше, чем это окно? Что происходит с телами после смерти? Врачи наверняка знают, раз им приходится производить эти кошмарные вскрытия. Продолжится ли существование за могилой? Или это и есть та самая жизнь после смерти?
Размышляя в такой печальной манере, он краем глаза вдруг заметил на полу нечто металлическое. Полускрытый створкой двери предмет, очевидно, был в последнюю минуту забыт грузчиками, потому что на нем красовалась бирка для отправки. Со странным чувством в груди Эмар узнал в предмете кропильницу, в которой тетушка хранила святую воду. Кропильница представляла собой небольшой латунный сосуд в форме морской раковины, а на ее крышке был изображен какой-то библейский сюжет. Сбоку свисала коротенькая цепочка с кропилом, похожим на маленький скипетр. Вода набиралась через отверстия в его навершие и разбрызгивалась струйками при резких движениях руки.
Воспоминания, почти успевшие уйти в туман небытия и чуть не превратившиеся в образы из сновидений, вернулись к Эмару во всей своей свежести, яркости красок и четкости линий. Вот тетушка посылает Жозефину перед грозой в церквушку за углом, наказав спросить святой воды у священника… как же его там звали?.. Ах, да, Питамон… вот заведение мамаши Кардек… из комнаты с ведром окровавленной воды выскакивает женщина… и тот ужасный вечер, когда надрывно рыдал ребенок и умерла тетя.
Квартира, еще мгновение назад казавшаяся пустой и нелепой, наполнилась видениями. Воспоминания словно соскальзывали с шелковых обоев и кружились над ним. В сгущающихся сумерках ожили тени, угрожающе выступив из углов и подобравшись со спины, отчего Эмар резко обернулся, будто почувствовав присутствие чужака. Все мнилось ему враждебным, суля немалые опасности. Откуда-то издалека послышался лай, становясь все громче, раскатываясь эхом по голым комнатам, раня слух.
Охваченный ужасом, Эмар бросился прочь, быстро преодолев два лестничных пролета и вестибюль. Он выскочил на улицу к ожидавшему его фиакру, уже загруженному багажом для отъезда. Грудь разрывалась от беззвучного крика о помощи, так и не посмевшего сорваться с его губ. Еще один шаг, и он будет в безопасности в экипаже.
Но вместо этого он ощутил, что вдруг покатился по тротуару, сцепившись с противником, в котором вскоре узнал мэтра Лепеллетье.
Низкорослый и чахлый нотариус поднялся с земли, выплевывая пыль и ругательства. Затем он разглядел нападавшего.
— Галье, ты? — удивился Лепеллетье и протянул смуглую худую руку, помогая приятелю встать. — Какого черта ты делаешь? Совсем спятил?
— У меня всего несколько минут до поезда, — переводя дыхание и отряхиваясь, сказал Галье. — Проводишь?
— Нет. Извини, дела. Сам-то поторопись, не то опоздаешь.
— Ладно, тысяча извинений, дружище. — И Эмар забрался в фиакр. На вокзале ему пришлось ждать добрый час до отхода поезда.
Быть может, он и вправду спятил.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Галье пишет:
«Случаются утра, когда человек просыпается, но паутина сновидений все еще опутывает зубчатые колеса его дневного сознания. Только что он спал и пребывал в другой вселенной, погружался в иные сферы. И вот теперь медленно выходит на свет, в мир дневной логики, однако послевкусие сна заставляет его видеть необычность привычного окружения, странность столь неуловимую, что доселе никому не удавалось исследовать и описать ее. Неужели найдется кто-либо, не испытавший подобного?
В болотах иногда можно наблюдать удивительное явление: темная, застойная вода, такая вязкая и маслянистая, что ветер не в силах ее потревожить, внезапно приходит в движение. Поверхность начинает бурлить, будто что-то барахтается в глубинах, и из ряби неожиданно выныривает старая коряга, много лет пролежавшая на дне; выныривает и тут же начинает медленно опускаться обратно в топь… Такое бывает и в океане, и как-то раз несколько случайно проплывавших мимо моряков стали тому свидетелями.
Они заметили торчащий из воды шест. Затем перед их изумленным взором предмет поднялся и оказался верхушкой мачты. На перекошенной рее болтались обрывки такелажа. Со следующей реи, вынырнувшей за первой, мокрыми лоскутьями свисал парус. Появилась еще одна мачта, пониже, а за ней, разрывая поверхность моря, восстали в водопаде брызг палуба и носовая часть корпуса, по давней моде украшенная резным ангелом. Наконец на волнах закачался весь корабль; из каждой щели его лилась вода. В нем сразу узнали испанский галеон — из тех, что уже столетие не бороздили ни одно из семи морей. И после судно, вырвавшееся из глубин, подобно перепончатоногим жеребцам в упряжке древнего Нептуна, замерло среди пенистых гребней и мгновение спустя исчезло, словно его никогда не было.
Многие из видевших это не поверили собственным глазам, а один моряк, охваченный неизъяснимым ужасом, упал на тиковую палубу. Те, кто помудрее, сразу начали искать научное объяснение произошедшему, тогда как набожные члены команды лишь осенили себя крестом и забормотали молитвы вперемешку с крепкой бранью. Но в целом сошлись на том, что зерно или еще какие грузы, попавшие под воду, выделили газ, и он, скопившись под большим давлением, с неожиданной силой вырвался из трюма, подняв на поверхность судно, продержавшееся на волнах, пока газ не улетучился и корпус опять не наполнился водой, после чего корабль отправился обратно на дно.
В топях нашего сознания тоже есть такие корабли, такие коряги, и они на мгновение поднимаются на поверхность нашего разума только для того, чтобы сгинуть вновь. Те же корабли покоятся в пучине наших жизней. Над ними проносится время. Они забыты. Но вот они призраками ушедшего прошлого возникают из глубин. Проплывают перед нашими пораженными глазами, а затем погружаются на дно, точно их и не было».
Этими словами Эмар Галье предваряет письмо в защиту сержанта Бертрана Кайе. Он продолжает:
«В царстве природы также известны существа, казалось бы, давно исчезнувшие с лица земли, однако вдруг выясняется, что одна особь все-таки выжила. Не исключено, что где-то в девственных лесах Африки рыщет некое исполинское чудовище из прошлого. Может быть, сейчас по ледяным арктическим пустыням бродит одинокий мамонт, последний представитель великого рода. Или динозавр — в Южной Америке, или глиптодон — в еще каком-нибудь нетронутом уголке света. Неужели достанет у кого-то дерзости отрицать хотя бы вероятность того, что в необозримых водных просторах, покрывающих чуть ли не всю планету, прячутся неведомые животные?
В наш ужасный век неверия и доверчивости люди проглотят любую сказку о чудищах из прошлого, однако никто не придаст значения мифу о кентаврах, покуда собственными глазами не увидит их костей. Разве ученые уже не сумели заменить драконов, русалок и сфинксов новым типом зверья? Люди с легкостью приняли сие замещение. То место, которое в их умах ранее занимали драконы, теперь занимают мамонты и другие первобытные животные: это неискоренимо».
* * *
Что сказать по поводу подобных утверждений? Можно повести себя как Фома-апостол, требовавший предъявить раны от гвоздей, но в рукописи Галье столько фактов, которые легко найти в старых газетах и прочих изданиях, что появляется соблазн довериться хотя бы описаниям, прежде чем решать, доказывают ли они существование сверхъестественных созданий или нет. В этой главе мы будем почти целиком полагаться на уверения Галье, но в документах и хрониках тех лет тоже имеются рассказы об иных таких случаях.
Если вы отправитесь в деревушку Монт-д’Арси на Йонне, то, вероятно, услышите рассказ о великой охоте на волков. Старожилы начнут соревноваться в красноречии, живописуя леденящие кровь детали. Многие подробности станут противоречить друг другу. Это неизбежно. Но не стоит думать, что весь рассказ — лишь выдумка деревенских простачков, скучающих долгими зимними вечерами и оттого дающих волю воображению, дабы развлечь себя в часы досуга. В их рассказах есть единый стержень, к которому надо отнестись всерьез.
Брамон, garde champêtre[46], первым наткнулся на след волка. Он обнаружил двух мертвых ягнят, брошенных рядом с лесной тропой. У них были рваные раны на горле, а кровь, по-видимому, выпили, поскольку пятен ее оказалось довольно мало. Или же ягнят убили где-то еще, а тушки притащили в это отдаленное и безлюдное место, скрытое от чужих глаз кустарником.
Одно тельце было основательно растерзано, тогда как второе осталось едва тронутым. Вокруг, на сухой почве, нашлось лишь несколько нечетких следов.
В последний раз в этих краях волка встречали лет двадцать назад, и появление зверя в этой части департамента выглядело, мягко говоря, странным. Брамон, хмуро набивая трубку и ворча в попытке объяснить случившееся, пришел к логичному выводу, что виновником преступления стала овчарка, распробовавшая баранину. Более того, он тут же вычислил преступника, обвинив во всем Цезаря, огромную собаку фермера Вобуа: тот не только держал впроголодь своих работников, но и недоедал сам.
«Поделом скупердяю», — подумал егерь. Но толика сомнения осталась: это, в конце концов, мог сделать волк.
Жаль, что он, Брамон, не такой проницательный, как индейские следопыты, о которых ему каждый вечер читает сын. Тогда бы он не сомневался ни секунды. Подобрал бы волосок и сразу определил, чей он. Нашел бы следы когтей и сказал, кому они принадлежат. Воссоздал бы все происшествие. По одному виду ягнят понял бы, сколько они здесь пролежали, догадался бы, когда и где именно они встретили смерть. И закончил бы свою речь словами: «Теперь, друзья, я приглашаю вас убедиться в верности моих наблюдений и выводов. Если я прав, то в третью ночь, начиная с сегодняшней, через два часа после восхода луны, зверь появится на этом самом месте».
Старик Брамон посмаковал, как мог, свой воображаемый триумф, а потом с удовлетворением приготовился разнести новость о том, что на самом деле видел, по округе, вечно жаждавшей интересных историй. И первым человеком, попавшимся ему на пути, оказался Кроте, пастух Вобуа.
Они обменялись приветствиями и сели на пригорке покурить. Разговор начал Брамон:
— Ты ягнят не терял?
— Нет, — ответил Кроте. — С чего ты взял?
— Да так. А где твой пес?
— Где-нибудь тут бегает. — Он посвистел. — Цезарь, сюда!
Цезарь вынырнул из зарослей на опушке и радостно потрусил к хозяину. Это была неухоженная беспородная собака, каких часто держат при стадах. Длиннолапая, с заостренными ушами, лохматым хвостом и густой и кудрявой коричневой шерстью.
Было жарко, и из пасти Цезаря свисал красный язык. Пес подсунул голову под руку хозяина, потому что любил, когда тот дружески приобнимал его за шею.
Брамон почесал его между ушами.
— Так что там с потерянными ягнятами? — спросил пастух.
— На холме два мертвых ягненка. Ищу вот, чьи они. — Брамон сказал это и сразу подумал, что зря. И последующий ход событий лишь подтвердил, что ему действительно стоило промолчать.
— Два мертвых ягненка?
— Обглоданных.
— Обглоданных?
— Волком.
— Волком?
— Точно.
— Господи! — воскликнул пастух, наконец подобрав нужное слово.
Попрощавшись с Кроте, Брамон спустился по пологому склону и дошел до поместья Дидье-Галье.
Сам Галье как раз подстригал розовые кусты в конце аллеи из ложной акации, закрывающей дом со стороны дороги.
После нескольких фраз о погоде Брамон покачал головой.
— Месье, у меня плохие новости.
— Какие? — спросил Эмар, не отвлекаясь от работы.
— В округе завелись волки. Двух ягнят задрали и обгрызли. Вряд ли это какой другой зверь, хоть волков тут много лет не видали.
— Здесь какая-то ошибка, — сказал Эмар. — В этой части страны волки вымерли. Говорят, лисы могут новорожденных ягнят утаскивать.
— У вас ягнята не пропадали?
— Лучше спроси сына Гиймена, за овцами присматривает он. Зайди к нему сам, — предложил Эмар Брамону.
Лесничий проследовал по подъездной дороге и свернул за дом. Жозефина с Франсуазой раскладывали выстиранное белье на солнечной лужайке. Юный Бертран, которому к тому времени исполнилось девять, играл с большим сенбернаром. Никого из семьи Гиймен не было видно.
Брамон попробовал расспросить женщин, но напрасно. Они ничего не слышали о пропавших ягнятах.
— Месье Галье думает, что их могла украсть лиса. Говорит, лисы иногда утаскивают новорожденных ягнят.
— А почему бы и не лиса? — сказала Франсуаза. — В прошлом месяце у нас много кур с утками пропало. Младший Гиймен ставил ловушки, но никого не поймал.
— Попрошу своего сынишку вам ловушку смастерить. У него хорошо получается. А ты как? — благодушно обратился Брамон к Бертрану. — Не хочешь еще разок поохотиться? Бертран вам рассказал, чем у нас последняя охота закончилась? Он застрелил белку и чуть в обморок не упал. Тебе надо научиться ружьем владеть, если хочешь стать настоящим мужчиной.
Франсуаза засмеялась. Но Жозефина возразила:
— Он у нас слабенький. Да и ест мало.
— Как по мне, он вроде крепкий парень. Что с ним?
— Никогда не могла пожаловаться на его здоровье, — ответила Жозефина. — До этого лета хлопот с ним не знала. Сама не пойму, что случилось.
— Лето слишком жаркое, — предположил Брамон. — Вот и самочувствие плохое. Подрастет, все наладится.
Тем временем Бертран, ставший темой беседы, казалось, ничего вокруг не замечал, увлекшись игрой с собакой. Брамон попрощался и поспешил со своими новостями дальше. Все равно в поместье отнеслись к ним без ожидаемого интереса.
Следующим встретившимся ему человеком был деревенский староста, преуспевающий винодел и торговец.
— Monsieur le maire[47], я с дурными вестями. Думаю…
— Именно вас я и ищу, — перебил его староста. — Пастух Вобуа только что рассказал мне про двух недоеденных ягнят на холме и о том, что, судя по останкам, на них напала большая стая волков. Месье Брамон, вы, кажется, отлыниваете от обязанностей.
— Волков… — неуверенно повторил за ним Брамон.
— Да, волков. Где вас в последнее время носит, раз волчья стая свободно заявляется в деревню и режет ягнят прямо под нашим носом?
— Да как…
— Граждане вопиют о помощи, но никто не может разыскать Брамона.
— Но…
— Вобуа вас везде ищет!
— Monsieur le maire, так я сам…
— Никаких возражений. Мы пока посмотрим на это сквозь пальцы. А теперь беритесь за дело, у вас сутки, чтобы доставить в управу убитых волков.
— Oui, monsieur, только я вам хотел сказать…
— У вас двадцать четыре часа и ни минутой больше. — Староста величественно удалился, оставив пораженного и разъяренного Брамона на дороге.
«Как чувствовал, нельзя было ничего этому тупоголовому пастуху говорить. Каков злодей… как это он меня вокруг пальца обвел?»
Он стоял и ругал пастуха, и тут его окликнул Левалло:
— Брамон, mon vieux[48], ты где был? Новости слыхал? Тебя все разыскивают. По округе волки стаями бродят. Тебе бы со всех ног в лес бежать.
— Заткнись! — взорвался Брамон.
По крайней мере, так рассказывал о появлении волка сам Брамон. Кроте, пастух Вобуа, конечно, придерживался иной версии, а поскольку вся деревня, за исключением обитателей хозяйства Галье, впервые услышала эту увлекательную историю из его уст, то Брамону уже никто не поверил, хотя он бесконечно повторял свои объяснения.
— Да я собственными глазами видел, как Кроте принес ягнят сюда, в управу… — твердили ему.
— Это говорит только о его глупости. Не надо было вообще их трогать — пусть бы волки к ним вернулись, — отвечал он.
— Я самолично Кроте про все рассказал, — говорил лесничий очередному приятелю.
— Ну, насмешил. Конечно, мы тебе, дорогой Брамон, верим. Разве еще какая-нибудь деревня во Франции может похвастать столь прекрасным garde champêtre, как наш?
— Я могу место показать, где их нашел.
— Теперь это всякий может.
После такого Брамон замолчал и подумал, что бы сделал индейский следопыт в подобном положении. Ему точно не составило бы труда мгновенно разоблачить пастуха Вобуа. Увы, Брамон не нашел иного способа поднять свой престиж, кроме как изловить волков. Поэтому он закинул ружье за плечо и отправился в лес.
Следующие несколько дней никто не видел ни волка, ни стаи, но если черт кажет хвост, когда его поминают, то и волки обязательно хвосты должны были высунуть, ведь всю неделю в деревне говорили только про них.
И вот нашли еще одного ягненка с выеденным нутром и с точно так же, как у первых, разорванным горлом. К тому же из крестьянских хозяйств, особенно с фермы Галье, продолжали исчезать куры и утки.
Разные люди время от времени утверждали, что видели волка. Иногда им верили, но по большей части их рассказы вызывали сомнение. Однако ближе к осени случилось нечто, отчего к волчьей загадке начали относиться серьезнее.
Малышка Пернетта возвращалась в сумерках домой от приболевшего дяди и в зарослях у гречишного поля Вобуа заметила огромного пса, размером чуть ли не с теленка. Зверь прыжками помчался к ней. Она закричала и побежала.
Животное всей своей тяжестью навалилось на девочку и опрокинуло на землю. Бедняжка потеряла сознание. Очнулась уже в темноте, когда полная, тускло-красная луна повисла над горизонтом. Дрожащая и плачущая Пернетта поспешила домой, и все узнали о случившемся.
Несчастную так трясло, что она только и могла односложно отвечать на неумелые расспросы, и потому никто толком не понял суть истории. Происшествие, тем не менее, взбудоражило многих, и вскоре ночь озарилась светом факелов в руках вооруженных вилами крестьян, затеявших облаву на волков. Несколько человек, решивших, что на Пернетту напал не волк, а наемный работник, бросились допрашивать пришлых батраков. Прочие селяне в испуге разбежались по домам, искренне веря, что всему виною не просто волк, но сам дьявол.
Брамон, по-прежнему полный решимости убить волка и восстановить свою репутацию охотника, хотя на нее никто пока не посягал, днем и ночью неустанно прочесывал лес. От недосыпания у него ввалились щеки. Когда его сын хотел почитать вслух про могучих индейских следопытов, он грубо обрывал мальчика. Сразу после ужина лесничий снимал ружье со стены и уходил прочь. Но волка так и не видел, хотя проверял каждую зацепку, о которой сообщали ему взволнованные односельчане, склонные принимать любую тень за крадущегося хищника.
Как-то ночью, перед самым рассветом, он пересекал унылую низину — топь с чернеющими лужами застойной воды. Земля поросла вереском и папоротниками, но ближе к воде густо стояли болотный аир со шпажником, меж которыми тихо вздыхал угасающий ветер. Брамон с головой погрузился в тщетные мечтания о том, как вскоре на ярмарке вывесит целую кучу волчьих шкур. Вдруг он остановился, как вкопанный. Метрах в пятнадцати от себя он заметил волка, и глаза его не обманули. Зверь склонился над добычей и с хрустом грыз кости, нарушая тишину позднего часа.
Несмотря на охватившее его волнение, лесничий спокойно выдохнул, просчитал расстояние до волка и выстрелил. Зверь пустился в поспешное бегство прямо через лужу, мчась длинными прыжками и касаясь брюхом земли.
У Брамона, однако, достало времени перезарядить ружье и выстрелить повторно. Затем он поспешил по следу, не сомневаясь, что по меньшей мере ранил волка и даже ожидая в скором времени найти его тушу. То, что он мог промахнуться со столь близкого расстояния, никак не приходило на ум.
И тем не менее, произошло именно это, ибо волка он так и не обнаружил, а когда на рассвете вернулся туда, где стрелял, следов крови тоже не увидел, разве что нашлась несчастная полуобгрызенная куропатка. Лесничий прихватил растерзанную птицу домой и долго размышлял над ее окровавленным, растрепанным тельцем.
Он думал и вздыхал, пока в голову наконец не пришла такая догадка, что он даже стукнул по столу кулаком.
— Жена, — закричал он, — неси воск!
— Что там опять у тебя? — отозвалась она.
— Быстро, — приказал он.
— Быстро только кошки родят, — огрызнулась она.
— Давай, хватит пререкаться. Как только я поддался на твои уговоры и повел тебя под венец, язык твой стал что помело.
Жена принесла кусок воска и осталась смотреть, как он отрезает от него частичку и, взяв пулю из своих запасов, лепит из воска такую же. Вместе с тем женщина ни на минуту не смолкала.
— Утром попалась мне эта Жозефина, прости, мадам Кайе. Она ж теперь госпожа — важная да видная. Кто б мог подумать, что это та же Жозефина, которая когда-то за кусок хлеба ноги была готова целовать. Да что такое ты делаешь-то? Так вот, она мне сказала, что от Бертрана одни хлопоты. Аппетита у него нету, и она раздумывает, стоит ли посылать его учиться в город. Конечно, со временем он все равно уедет, чтоб врачом стать, но пока может и в деревенскую школу походить. Ну, я ей кое-что сразу выложила. Ей-то ведь наша школа была в самый раз, только за успехи она ни одной книжки не получила, такая была тупая. В этом она вся. Не будешь ли ты столь любезен и не объяснишь мне, что ты такое делаешь? Ты надо мной издеваешься, что ли? Ладно, им меня на мякине не провести. Вот как тебе? Думаешь, она впрямь за этого Кайе, кем бы он ни был, замуж выскочила, как только в Париж приехала? А как иначе она бы привезла домой полугодовалого ребенка? И с каких пор служанкам разрешается детей оставлять? И с чего бы ее мальчонка врачом стать вознамерился? Деньги-то откуда?
— От месье Галье, конечно, — сказал Брамон. — И перестань над душою стоять, работать мешаешь.
— Все одно не разобраться, что ты там творишь. Хорошо, пускай это деньги месье Галье. Думаешь, я того не знала? А если полагаешь, что и о причине не подозревала, то тоже ошибаешься. Зуб даю, у Жозефины ноги вместе веревкой не спутаны.
— Перестань молоть чепуху. Вы, женщины, всему свое объяснение найдете.
— А вы, мужчины, глупые, как гусаки. Всему верите. Почему, думаешь, месье Галье из Лангра вернулся, семинарию бросил? Разве не собирался он стать священником? Но семейные узы, видать, крепче. Он просто оказался нужнее своей малышке Жозефине.
— Ты воображение попридержи и принеси-ка мне свой серебряный крестик. Вам, женщинам, должно быть стыдно так косточки другим перемывать.
— Ты что с моим крестиком делать надумал? Не хочу его портить. Мне его сам архиепископ освятил, когда я в Аваллон ездила.
— Тем лучше, благословение лишним не бывает.
— Прежде, чем я его тебе отдам, скажи, что ты с ним сделаешь.
— Сама рано или поздно увидишь, и будет у тебя тьма времени это обсудить.
— Только не потеряй — пропажу я тебе так легко не спущу. — Она неохотно протянула крестик мужу. А он тем временем вдавил восковую пулю в кусок мокрой глины.
— Дай-ка мне парочку своих волос! — приказал он. Жена так удивилась, что безропотно позволила вырвать несколько волос с головы. Брамон разложил их в разных направлениях на заготовке и сверху закрыл другим куском влажной глины, плотно ее прижав. Затем вытянул волоски.
— Чтоб воздух вышел, — кратко пояснил он.
— Какой еще воздух? — спросила жена. Впервые в жизни она растерялась.
Лесничий будто не слышал ее, увлекшись проталкиванием маленькой трубочки сквозь глину к пуле. Закончив, он положил получившуюся форму в печь. Глина высохла и затвердела, воск вытек, оставив после себя полость в центре, а Брамон под рыдания и вопли супруги расплавил серебряный крестик. И отлил из него пулю. Ее осталось только подточить и отполировать, удалив все заусеницы.
— Попробуй-ка теперь убежать, — ухмыльнулся Брамон. — От серебряной-то пули, сделанной из распятия, освященного самим архиепископом. Она и Вельзевула свалит.
Лесничий вернулся к своему затянувшемуся наблюдению и ожиданию. Он бы не потратил ту единственную, драгоценную пулю, заранее загнанную в ствол ружья, даже если бы к нему вплотную подошел олень. Отпустил бы браконьера с полусотней фазанов. И не тронул бы нарушителей, тайком скашивающих траву на чужих лугах.
Осень закончилась, а Брамон так и не выследил волка, хотя тот по-прежнему бродил по округе, и люди продолжали жаловаться на пропажу кур и ягнят. Однако лесничего зверь словно обходил стороной.
Но как-то раз зимней ночью, когда землю покрыл снег, а небо затянули тучи, они все-таки встретились.
Волк с упоением рвал добычу и не заметил человека; к тому же, дул ветер, унося запахи прочь.
Брамон, пробормотав короткую молитву, как можно тише приблизился к зверю. Подкравшись на двадцать шагов, так, что смог в подробностях рассмотреть волка: его густую серовато-бурую шерсть, острые уши на склоненной голове и большие глаза, тускло светящиеся в темноте, как блуждающие огоньки на болотах, — он встал на одно колено и прицелился. Животное, внезапно почувствовавшее опасность, оторвалось от жертвы и втянуло ноздрями воздух. Затем приготовилось бежать, но Брамон успел выстрелить. Зверь упал, но прежде, чем лесничий торжествующе выкрикнул: «Попался!» — вскочил на ноги и понесся прочь сквозь голые ветки низкой поросли, покрывающей склон холма.
Брамон ринулся в погоню. Проследить путь зверя не составило труда: отпечатки лап ясно виднелись на белом снегу и вдобавок алели кровью. Хотя рана, как показалось Брамону, должна была быть смертельной, волк быстро удалялся. Пятна крови становились все мельче и все реже и реже окрашивали снег. Наконец они исчезли совсем, и лесничий продолжал преследование по одним отпечаткам. Волк предпочитал бежать сквозь кустарник, но склон холма постепенно выводил к дороге, а за ней простиралось чистое поле, на котором ему не удалось бы скрыться из глаз. «Хромает на левую ногу», — с удовлетворением отметил лесничий.
Однако, спустившись вниз, garde champêtre никого и нигде не увидел. Заснеженную дорогу покрывали свежие следы, и разобраться в них представлялось невозможным. Впрочем, Брамон отверг мысль о том, что дикий зверь осмелился уйти по проезжему пути. Лесничий подумал, что волк скорее пересек дорогу, и уверенно принялся искать отпечатки на другой стороне, но не нашел. Неужели волк повернул назад по своему же следу и скрылся в кустарнике? Или все же побежал по большаку?
Брамон застыл на месте, в растерянности озираясь. Его окружала ночная тишина. Он слышал лишь собственное тяжелое дыхание. Ошарашенный безмолвием и начавший сомневаться в реальности произошедшего, лесничий замешкался. Куда идти? Домой? Нельзя! Он же чуть зверя не поймал! Но теперь-то что? Брамон так и продолжал бы стоять, если бы мороз не погнал его прочь. Но стоило ему направиться в сторону дома, как по спине пополз холодок. Брамон принялся поглядывать через плечо. Ему чудилось, что, как только он отрывает ногу от земли, в его след тихо встает мохнатая лапа.
Тогда ему стало по-настоящему страшно, и он помчался к деревне, ни на миг не переставая слышать, как за ним по насту бесшумно бежит волк. Вспомнились старые легенды о кладбищенских псах и люпенах, кошмарных тварях, обитающих в заброшенных могилах и склепах. И всегда отличавшийся крепкими нервами лесничий обмяк от ужаса. Он едва передвигал ноги. Ружье показалось неимоверно тяжелым. Он безрассудно отбросил его. И только он это сделал, как впереди себя увидел волка. Тот трусил по краю дороги, то исчезая в темноте за обочиной, то появляясь вновь.
Лесничий обозвал себя дураком и бабой, собрался с силами и кинулся за ружьем, оставшимся лежать позади. Подобрал его и рванул вперед. Но где же волк? Скрылся! Нет, все еще здесь. Ружье на изготовку — пли! Зверь упал как подкошенный. Перекатился, не шевелится. С хриплым возгласом Брамон бросился к нему, поднял ружье за ствол и прикладом надавил на волчью голову. Кости смялись, как бумага, во все стороны брызнули кровь, мозг и зубы.
Брамон отер холодный пот со лба. «Слава Богу!» — прошептал он. И пнул тело. Когда же было первое попадание? И вдруг он заметил, что в меху на шее животного утопает ошейник. Он узнал зверя.
Утром Брамона нашли лежащим рядом с телом Цезаря.
Лесничий тяжело болел две недели. Потом пошел на поправку. Когда стало можно его навещать, сам староста почтил визитом его скромный дом и поздравил героя:
— Приносим свои глубочайшие извинения, — сказал он, — и многочисленные благодарности. Вы славно послужили нам, и я прослежу, чтобы об этом узнали в префектуре.
Ослабевший от болезни, но счастливый Брамон смог лишь кивнуть. В его глазах стояли слезы.
Староста собрался уходить. Но сначала подошел к изголовью кровати и похлопал Брамона по плечу.
— Кто знает, — добавил он, широко улыбаясь, — может, вам и медаль дадут.
Даже жена радовалась за мужа.
— Но серебряную пулю верни, — сказала женщина, — она моя. И теперь она станет мне в два раза дороже.
— Странно, что ее в теле собаки не нашли, — прошептал Брамон. — Но как поправлюсь, сразу пойду ее искать. Вряд ли это сложно. Значит, то был пес Вобуа, — продолжал рассуждать он. — А я ведь так сразу и подумал. С тех пор, как я Цезаря убил, волков не видели?
— Ни одного, — заверила его жена. — И куры пропадать перестали.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Вот так в Монт-д'Арси проходила великая охота на волков, продлившаяся чуть более полугода и — во всяком случае, после того, как злодей нашелся — превратившая каждого жителя в следопыта и героя.
Жозефина, например, очень обрадовалась, когда утром ей сообщили, что Брамон убил зверя и тот оказался не волком, а Цезарем, псом Вобуа.
— Эта охота всех с ума свела, — сказала она. — Бертран жаловался, что она ему каждую ночь снится, — и поспешила в комнату сына с криком: — Подъем, лежебока. Волка убили, кошмары тебя мучить перестанут.
Бертран, щеки которого горели алым, повернулся к ней.
— Мамочка, не хочу вставать. Плохо себя чувствую. Нога болит так, что не пошевелиться.
— Как? Что на сей раз? Вечно ты найдешь отговорку, лишь бы поваляться подольше. Клянусь, не понимаю, что произошло с моим прежним хорошим мальчиком Бертраном. Был он такой послушный. Ел все, что перед ним ни поставишь, сам шел спать, а по утрам вставал и чувствовал себя прекрасно. Давай, милый, покажи мне, где болит, а потом быстренько прогуляемся до деревни. На улице морозит.
Она отдернула одеяло, ребенок застонал.
— Вот тут. — Он пошевелил левой ногой.
— Господи! — не сдержала возгласа Жозефина. Нога действительно выглядела плохо: на икре зияла ужасная рана, а вокруг была спекшаяся кровь.
Женщина побежала за месье Эмаром. Он работал внизу, у себя в кабинете, но сразу поспешил к мальчику. Осмотрев ногу Бертрана, он тут же послал Жозефину за врачом.
— Скажи Гиймену, пусть гонит гнедую во весь опор, — прокричал он вслед, когда она спускалась к крыльцу.
Бормоча: «Oh, mon Dieu, quel malheur, quel malheur!»[49]
— Франсуаза принесла теплую воду и тряпку промыть окровавленную ногу. Галье лично занялся этим.
Рана оказалась глубокой, словно, как сперва подумал Эмар, паренек наткнулся на вилы.
— Ты опять прыгал с сенника в амбаре? — спросил он.
— Ай! — воскликнул Бертран. — Больно. Нет, не прыгал я там.
На другой стороне ноги, прямо возле кости, виднелась рана поменьше, и она только укрепила Эмара в его предположении. К тому же, промывая ее, он нащупал под кожей нечто твердое.
«Святые небеса, — пронеслось у него в голове, — да там застрял обломок вил». Эмар надавил на кожу большими пальцами, надеясь, что железо выйдет.
— Конечно, — произнес он, когда из раны показалось что-то маленькое и блестящее, — это острие зубца.
Невзирая на вопли Бертрана, он принялся давить сильнее, пока не почувствовал, что может ухватить металл ногтями и вытащить его.
К счастью, в эту минуту Франсуазы в комнате не было. Она пошла за водой и бинтами, что стало настоящей удачей. Иначе Эмар не смог бы объяснить ей находку: ведь стоило ему вытащить застрявший предмет, как он сразу понял, что никакой это не обломок вил, а пуля — та самая, серебряная, о которой Брамон раструбил на всю деревню.
Бертрану, все еще стонавшему в голос и не смотревшему на него, он ничего не сказал. Просто положил пулю в карман жилета и стал дожидаться врача. Приехавший чуть позже доктор увидел чистую рану и заверил всех в скором выздоровлении пациента.
— Вилы, слава Богу, лишь задели мышцы голени и не попали в кость. Если ничего сверхъестественного не произойдет, в чем я не сомневаюсь, он встанет с кровати через неделю.
Врач ушел, а Эмар, выпроводив Жозефину и Франсуазу за дверь, приступил к строгому допросу мальчика.
— Бертран, ты обязан мне все рассказать. Не скрывай ничего. Где ты был ночью?
— Тут, в постели.
— Тогда каким образом ты поранился?
— Дядя Эмар, я не знаю.
— Давай же, Бертран, выкладывай. Такую рану в кровати не получить.
— Дядюшка, если я вам расскажу…
— Бертран, — прервал его Эмар, — посмотри мне в глаза. Ну же. — Он взял мальчика за руку, пытаясь успокоить. — Я тебя наказывать не стану, я лишь хочу знать правду.
Он не раз брал Бертрана за руку и никогда ничего особенного не замечал. Однако теперь по его спине поползли мурашки.
На ладони мальчика явственно ощущалась нежная поросль волос. Он вдруг вспомнил, как десять лет назад его тетя, мадам Дидье, с ужасом в голосе говорила о волосках на ладошках младенца. На какую-то секунду Эмару почудилось, что он опять слышит жуткий вой, как в ночь ее смерти.
Минуло много лет, столько всего произошло. Он учился в семинарии в Лангре. В последний момент усомнился в истинности своего призвания и не принял сан.
Тем временем Бертран вырос, и ни одно из грозных пророчеств тетушки до сих пор не сбылось.
Неужели, спустя десяток лет, судьба все же настигла паренька?
— Смотри мне в глаза и признавайся, вставал ли ты с постели ночью?
— Дядя, — сказал Бертран, — с чего бы мне вставать? Я всю ночь спал. Точно знаю, потому что один раз проснулся: мне приснился кошмар, даже холодный пот выступил. Мне стало так плохо, что я хотел позвать матушку, но потом опять уснул.
— Что тебе снилось?
— Я сон смутно помню, но все как обычно. Мне теперь почти каждую ночь кошмары снятся.
— Знаю, твоя мама говорила. Давай, Бертран. Рассказывай. Тебя они мучают? Конечно, мучают. Возможно, я тебе помогу, но придется быть со мной предельно честным. С каких пор тебе снятся кошмары?
— Это я могу сказать, потому что точно знаю, как все началось. Прошлым летом мы со стариком Брамоном пошли на охоту, и он показал мне, как надо стрелять. А потом увидел белку и спросил: «Ну, сможешь в нее попасть?»
Я спустил курок, белка пискнула и упала. А Брамон сказал: «Ладно, новичкам везет. Но все-таки как это у тебя получилось?» А мне стало грустно, оттого что я погубил зверька, и я белку подобрал и заплакал. Целовал ее, прощения просил. Я не хотел ее убивать. Она была такая красивая, и пушистая, и теплая, и от этого я горевал еще сильнее. Я ее несколько раз поцеловал и вдруг почувствовал, как что-то затекло мне в рот. Оно обожгло язык, будто перец, только было не горько, а сладко, но не как от сахара. Даже не знаю, что оно напоминало на вкус, однако мне очень понравилось, я даже еще раз поцеловал белку, а потом еще, и уже не просто потому, что было ее жалко, но из-за крови, только я не хотел, чтобы Брамон понял, что я делаю. А вам я рассказываю все как есть, потому что знаю: я поступил плохо.
— Точно знаешь?
— Да. Вот с тех самых пор мне по ночам снится, что я пью кровь, и это пугает меня до смерти. А еще мне иногда кажется, что я волк с картинки из книжки и убиваю куропаток да ягнят, как там нарисовано. А еще снится, что я тот самый волк, за которым охотился Брамон. Так и вижу, как он в меня стреляет, но я не могу с ним заговорить и объяснить, что я не волк. Ох, ну и страшно это, когда хочешь заговорить, а не получается!
— Это все твои фантазии, ты переутомился, — ласково сказал Эмар и погладил волосатую ладошку. — А откуда берутся эти куропатки и ягнята? Ты об этом во сне думал?
— Ага, мне снится, что я собака или волк. Я выскакиваю из окна и бегу на четырех лапах, быстро бегу, очень быстро. Потом перепрыгиваю через кусты, а там птица или ягненок… Все как по-настоящему, как будто я вправду это делаю.
— Да, сны бывают весьма реалистичны. Но от этого не перестают быть снами. А вот если бы на твоем окне была решетка, тебе все равно бы снилось, что ты из него выпрыгиваешь? Давай-ка мы тебе окно решеткой загородим и ночью будем запирать тебя на замок — посмотрим, что из этого выйдет. Может, кошмары пропадут. Попробуем?
— Давайте, дядюшка. Пожалуйста, сделаем так. Я очень боюсь ложиться спать. Но раз я буду знать, что окно с дверью заперты, мне перестанет сниться, будто я убегаю из комнаты.
В тот же день Эмар, дав Жозефине с Франсуазой правдоподобное объяснение и при этом ухитрившись не раскрыть настоящую причину страданий ребенка, поставил на окно комнаты решетку и смазал замок в двери.
Наутро он поспешил к Бертрану узнать, как тот спал, и с радостью узнал, что мальчику ничего не снилось. С тех пор он, перед тем как лечь в постель, каждую ночь запирал Бертрана. Лишь одна Жозефина осталась недовольна таким лекарством.
— А вдруг начнется пожар, — предположила она, — а Бертран будет заперт в спальне? Как он выберется? Придется нам бежать к вам за ключом.
— Мы будем вешать ключ на гвоздь рядом с дверью, и если дом загорится, тот, кто окажется ближе всех к комнате, выпустит мальчика.
Жозефину это немного успокоило.
— Ладно, — уступила она, — кошмары прекратились, и к ребенку вернулся аппетит, но все равно, не к добру это.
С того дня она частенько бродила по ночам и все проверяла, не забыл ли кто погасить свечи и лампы и не остался ли гореть огонь в печи или в камине.
Эмар тоже вставал с постели и прислушивался, замерев у двери Бертрана. Иногда из комнаты раздавались странные звуки. Когда дом погружался в тишину — такую, какая бывает лишь в очень поздний час после того, как все заснули; в полное безмолвие, нарушаемое лишь потрескиванием балок в стенах, лениво вздыхающих, словно после долгого трудового дня; в абсолютное молчание, при котором оживает мебель и начинает покряхтывать, точно жалуется на годы, терпеливо проведенные в углу, — в такую тишь Эмар мог услышать, как дышит Бертран. Медленно и глубоко, как всякий мирно спящий ребенок. Но неожиданно дыхание сбивалось. Мальчик дышал все быстрее и вскоре начинал чуть ли не задыхаться. Изредка вслед за этим раздавалось резкое и узнаваемое клацанье — по деревянным половицам цокали когти. Затем из-под двери слышались сопение и хрип, по дверному полотну раз или два били лапой. И опять тишина, порой разрываемая тихим всхлипом или ворчанием. Постепенно эти звуки затихали, и вновь слышалось лишь ровное дыхание мирно спящего Бертрана.
«Сомнений быть не может», — бормотал Эмар и с тяжким вздохом прекращал подслушивать. Но вскоре возвращался к этому занятию: уверенность все время сменялась в нем сомнениями. «Мне бы только взглянуть», — думал он, хотя и подслушивать-то мог с трудом. Он подбирался к двери с бесконечными предосторожностями и держался в метре от нее, опасаясь, что Бертран учует его запах.
Иногда Эмар пытался неожиданно ворваться в комнату, подбегал и распахивал дверь. Хватаясь за дверную ручку, он успевал расслышать, как в спальне суетится ее обитатель, но стоило двери открыться, и Бертран всегда оказывался на смятых простынях в постели и стонал, словно пребывая в плену страшных снов.
Наутро Жозефина передавала Эмару жалобы сына.
— Перестаньте будить ребенка, тем более так неожиданно, — настаивала мать. — Он говорит, что из-за вас у него кошмары. Зачем вы это делаете?
— Просто проверяю, как он, прежде чем самому лечь спать, — неловко оправдывался Эмар.
Внизу, у себя в кабинете, он собрал все, что смог найти про оборотней. Странная болезнь, это оборотничество. В любом месте, где бы ни жили люди, они верили в нее. Издревле, от Цейлона до Исландии и от Исландии до Цейлона, о ней слагались легенды. Люди-медведи (берсеркеры) в Скандинавии, люди-гиены в Африке, люди-бизоны в индейских сказаниях Северной Америки, женщины-кошки в Константинополе (евшие с булавки по рисинке, зная, что набьют животы на кладбищенском пиру с упырями), индийские люди-тигры — ужасное суеверие, известное всем и выдаваемое за правду.
Эмар читал о вспышках ликантропии во Франции в 1598 году, когда заболевание приобрело размах эпидемии и болели целыми семьями. В Шалоне, в доме портного, нашли бочки, набитые человеческими костями. Его судили перед Парламентом, и вскрылись столь ужасные факты, что документы и протоколы сожгли на костре вместе с преступником. В том же самом году и по тому же обвинению приговорили к смерти еще одного человека, однако заменили наказание на пребывание в лечебнице Сен-Жермен-де-Пре, где обычно держали умалишенных. И в этот же год поймали и казнили семью Гандийон[50].
Если брать только три страны: Францию, Англию и Германию, — то подобные случаи исчислялись сотнями. Можно привести название одного из памфлетов тех времен: «Преправдивейшая повесть о богомерзкой жизни и смерти некоего Петера Штубе, жителя Верхней Германии и урожденного колдуна, в образе волка за 25 лет множество людей погубившего и за преступления казненного в граде Бедбурге, что под Кёльном, 31 марта 1590 года. Напечатано в Лондоне Эдуардом Венджем»[51].
В этих ужасающих рассказах преступники, сознавая вину, горели желанием признаться в том, как превращались в волков и бегали по лесам и полям в поисках разного рода добычи.
Отрываясь поздно ночью от книг, Эмар, с гудящей от чтения головой, невольно бормотал: «Невероятно. Так не бывает». Затем доставал из потайного ящика письменного стола серебряную пулю и долго смотрел на нее. В голове крутились воспоминания о необычайных событиях, свидетелем которых ему довелось стать с тех пор, как бедняжку Жозефину послали в грозу за святой водой — в руки отца Питамона. Потом, все еще не доверяя себе, Эмар поднимался на второй этаж и замирал под дверью Бертрана. Если ничего, кроме мирного посапывания мальчика, изнутри не доносилось, он, терзаемый сомнениями, отправлялся в постель. Но стоило ему заслышать странное скуление или стук когтей по полу, как он быстро поворачивался и спускался в кабинет, зная, что уже не уснет этой ночью.
Неужто все эти кровавые сказки Средневековья не просто фантазии? Не лежат ли их истоки в природных явлениях, некогда исчезнувших, как вымершие животные? Разве не могла своеобразная цепочка причин, некое редкое и удивительное переплетение событий, способных совпасть лишь раз в несколько столетий, породить чудовищное исключение из привычного облика природы?
В своей рукописи Эмар рассуждает так: «Всё вокруг нас пронизано духами стихий, душами умерших животных и еще более ужасных тварей, так и не воплотившихся в нашем мире. Когда тело человека слабеет, его душа начинает вырываться из щупалец плоти, готовясь отлететь, как только тело умрет. И возле умирающего человека толпится, выжидая, сонм кошмарных призраков. Они мечтают вселиться в чудесное тело, тело человека, наипрекраснейшего существа, когда-либо выходившего из-под руки Творца. Человек — тело с прямым позвоночником, с которым никогда не сравниться горизонтальным позвоночникам зверей.
Трупное окоченение, наступающее после смерти, есть не что иное, как защита от вторжения в тело блуждающих душ.
Они, проникая в пустую человеческую оболочку, оказываются в холодном и недвижном панцире. Тем не менее, иногда случается так, что душа зверя проникает в живое человеческое тело. И тогда две души сражаются друг с другом.
Человеческая душа может в конце концов отступить и оставить тело душе зверя. Это объясняет, отчего по свету ходят похожие на людей чудовища, лишь притворяющиеся человеком, венцом творения. Так слуга рядится в одежду господина.
Что касается оборотней, то они бывают двух видов. У первых два тела и только одна душа. Эти два тела живут независимо друг от друга: одно — в лесу, второе — в доме. И они делят единую душу. Жизнь волка является человеку лишь во снах. Он лежит в постели, но ему кажется, что он под открытым небом: бродит по старому сосновому бору в далеком краю, крадется на мягких подушечках лап или заходится воем в стае при виде несущейся галопом по снежной равнине тройки, запряженной в сани… И точно так же волк, насытившийся дичью и задремавший в своем логове, видит странный сон. Он человек, носит одежду и, спеша по делам, идет по городской улице.
Но еще существуют оборотни с единым телом, в котором ведут войну душа человеческая и душа зверя. И стоит человеческой душе ослабеть от греха или тьмы, одиночества или холода, как волк берет верх. И таким же образом, когда от добродетели или света, тепла либо человеческого участия слабеет душа животного, приходит время воспрянуть душе человека. Ибо известно, что все любезное человеческому сердцу заставляет зверя отступить.
Эти великие истины сейчас позабыты, ибо в былые дни подобных монструозных существ преследовали и истребляли столь нещадно, что теперь мы можем наслаждаться относительной неуязвимостью и свободой от такого рода угрозы. Но история их должна служить предостережением, иначе род человеческий отступит пред восставшей из небытия расой зверей и наша цивилизация падет под напором анархии волков, или львов, или неведомых доселе чудовищ. Все это призвано напомнить нам о средневековых способах борьбы, когда бесчеловечные соперники людей были едва ли не полностью уничтожены в жестоком, но необходимом пламени костров».
После обнаружения пули Эмар действительно несколько недель размышлял, не умертвить ли Бертрана с помощью огня. Но как это сделать? Увести его в лес и, заперев в заброшенной хижине углежогов, устроить пожар? Рискованно. Поджечь собственный дом? Почему бы и нет? И пусть Бертран как бы случайно сгинет в пламени.
Однажды ночью, в тысячный раз обдумывая план, Эмар принял решение. Он собрал самые важные бумаги, ответы на письма, которые посылал, пытаясь разузнать о Питамоне и его предках, тщательно составленную библиотеку, посвященную оборотничеству, серебряную пулю, кропильницу и иные вещи, проливающие свет на природу Бертрана, сложил все в мешки и вынес из дома в дальний каретник. Эти вещи он намеревался сохранить.
Затем поднялся на второй этаж с жестянкой керосина в руках, словно хотел заправить лампу. В темном коридоре, немного не доходя до двери Бертрана, он помедлил, чтобы не вспугнуть зверя. И явственно услышал, как по половицам застучали когти, волк быстро втянул носом воздух и громко фыркнул в узкую щель под дверью.
«Меня учуял и теперь настороже», — подумал Эмар. На мгновение сердце его заныло от сочувствия к бедному мальчику, вынужденному страдать за чужой грех. Он взял волю в кулак, приготовился плеснуть керосином на дверное полотно и чиркнуть спичкой, однако услышал приближающиеся шаги.
— Кто там? — нервно окликнул он.
— Я, — ответила подошедшая Жозефина.
— Ты что тут делаешь? — грубо спросил Галье.
— Ох, на душе неспокойно, уснуть не могу.
— Почему неспокойно?
— Пожара боюсь.
— Сколько раз тебе повторять, что ключ на гвозде возле двери, опасаться нечего, — взорвался Эмар.
— Знаю, — покорно согласилась Жозефина, — только вот уснуть не могу, пока своими глазами не увижу.
— Эх, вы, женщины… — выпалил он и тяжело зашагал к себе в кабинет. Там он бросился на кушетку, трясясь всем телом и обливаясь холодным потом. Внутренности болезненно сводило. Проворочавшись долгие часы, он забылся сном.
Утром к нему явился Гиймен.
— Я в старой повозке какие-то книжки с бумагами и вещами нашел. Что с ними делать?
Не зная, как лучше ответить, Эмар пробормотал первое, что пришло на ум, но эти слова будто давно затаились на кончике его языка, готовые вырваться наружу:
— Сожги их, Гиймен.
— Но, месье, металл не сгорит.
— Думаешь? Ладно, сломаешь то, что не сгорит, сунешь в пепел и закопаешь.
— Oui, monsieur.
После Галье долго размышлял, почему отдал тот приказ. И пришел к выводу, достойному фаталиста: «Не исключено, что это к добру». Люди, терзаемые сомнениями, мучимые страхами, неспособные найти выход или выбрать одну из десяти внезапно представившихся возможностей, либо сходят с ума, либо начинают верить в судьбу. И нет лучшего отдохновения для натянутых нервов, чем краткая вакация в виде бегства в фатализм.
«Уничтожил доказательства вместо чудовища, — подумал Эмар спустя некоторое время. — Я еще пожалею об этом». Но тревога отступила. Он повернулся на бок на кушетке и мгновенно провалился в сон.
Как ни странно, Бертрану стало легче. Он прекратил жаловаться на кошмары. Из его комнаты по ночам раздавалось лишь мирное дыхание. Но Эмар не ослабил бдительность: «Волк в нем угомонился только на время».
Жозефина отметила, что Бертран быстро поправляется.
— Вы бы его запирать перестали, — сказала она.
— Когда я сам увижу, что ему лучше, сделаю все как надо, — отрезал Эмар.
Но под ее натиском скоро сдался. И ничего не произошло.
— Может, вправду поправился, — удивился он.
— Это его россказни про волков пугали, — утверждала Жозефина. — А почему бы вам не продолжить давать ему уроки? Вы уже несколько месяцев с ним не занимались. Он так экзамены сдать не сможет.
С тех пор Эмар, как и раньше, каждый день по два часа занимался с Бертраном у себя в кабинете.
Но мальчик учился плохо. Медленно усваивал новое, хотя прежде бойко схватывал материал. «Мы сделали слишком длинный перерыв, — решил Эмар. — Или же он достиг своего потолка. Старого пса новым фокусам не научишь», — вдруг подумал он.
Шли месяцы, все было спокойно. Однажды в дверь кабинета постучалась Франсуаза.
— Франсуаза, что такое? Вид у тебя озабоченный.
— Да, месье. — Кухарка помолчала и вдруг затараторила: — Кажется, месье, пора Бертрана в спальне сызнова запирать начать.
Эмар остолбенел. Что могла заметить Франсуаза?
— Ему опять снятся кошмары?
— Не нам с вами, месье, о снах говорить. Я вам не Жозефина, мне материнская любовь глаза не застит. Я-то, как и вы, два и два быстро складываю. — Она смахнула седую прядь со лба.
— Что тебе известно? — спросил Эмар.
— Слыхала я, что некоторые тигрят в дом принимают и за любимцев держат. Но подрастет тигренок, и пора его в клетку сажать.
— Что тебе известно? — утомленно повторил Галье.
— А вот известно, — подбоченилась она. — Я что, не видала, как он рос? Игривый да смышленый. Будто щеночек. Или, может, тигренок.
— Так что же ты ко мне с этим только сейчас пришла?
— Потому что Гиймен сказал, лиса вернулась. Его сынишка утку нашел, а у нее голова отгрызена.
Эмар устало провел рукой по потному лбу.
— Когда же это кончится?
За обедом его посетила идея. Он отправился на кухню, где ел Бертран. Подошел к мальчику и оттянул ему нижнее веко.
— Анемия, — провозгласил он диагноз.
— Так опять аппетита нет, — пожаловалась Жозефина.
— Будем каждый день давать ему немного сырого мяса, — прописал Эмар. — Это хорошо для кроветворения.
Потом он ухмыльнулся. Провернул славный трюк. Накормим волка и не дадим ему разбушеваться. И он оказался прав. Бертран жадно поедал сочащиеся кровью ломтики. Стал выглядеть лучше. Волосы заблестели. Кожа посвежела. Засияли глаза. Мальчик набрал вес и подрос. И Жозефина, заметив улучшения, принялась подсовывать любимому сыну всё большие порции мяса с кусочками сала на них.
Учение тоже начало даваться легче, и было приятно смотреть, как Бертран резвится во дворе. Он так носился туда-сюда, что даже пес уставал за ним бегать. Когда мальчик играл в салочки с деревенской ребятней, его ловили последним, если вообще удавалось его догнать. А когда он водил при игре в прятки, никто не мог от него укрыться.
Жители деревни, по большей части, и не подозревали о странностях Бертрана. Жена Брамона, правда, чувствовала, что на ферме происходит нечто необычное, но приписывала это интрижке Жозефины и Эмара. Она иногда позволяла себе распускать язык, утверждая, что Бертран — непризнанный сын Эмара, но эта злость, как отмечал ее муж, во многом проистекала из ревности к мальчику Жозефины, которому прочили карьеру врача, тогда как лесничиха мечтала о подобной судьбе для собственного ребенка — Жака; но, учитывая, что у них в семье детей было пятеро, а жили все на скромное жалование Брамона, изучение медицины представлялось неосуществимым.
Однако мать столь настойчиво заводила об этом речь, что добилась желаемого. Правда, не всего сразу, а шаг за шагом.
Сначала она уговорила мужа отослать Жака учиться в местную школу. Брамон, пусть неохотно, но согласился.
Затем она вытребовала для Жака разрешения поступить в лицей. Ладно, раз сын успешно сдал экзамен, то можно годик и поучиться, но не больше. Так продолжалось много лет, пока Жак не собрался стать бакалавром[52], а затем, осенью, отправиться в Париж изучать врачебное дело.
Жак и Бертран сдавали выпускные экзамены одновременно. Бертран обучался дома под руководством Эмара, которого привык называть дядей, и сам понимал, что отстает от своего товарища: умом его природа не обделила, а вот здоровье подвело. Особенно часто он болел зимой, в феврале. Начинал плохо учиться, по ночам мучился от кошмаров. Бертран очень стыдился этой своей единственной слабости и любопытным друзьям говорил, что страдает от мигреней.
Его самого удивляли странные сны, в которых он на четырех лапах несся то через лес, то вверх по холму, то вниз к долине. Дядя успокаивал его:
— Пустяки. Со всеми мальчишками такое случается. Ты это перерастешь.
Однажды Эмар спросил:
— Что про сны говорят твои друзья?
— Да ничего. Ведь я им особо о них не рассказываю.
— Хм. Понимаю. Да, может, лучше про такое молчать.
Экзамены на степень бакалавра проводились весной в Осере. Жак с Бертраном отправились туда вместе. Сессия должна была продолжаться три дня.
Эмар поначалу предложил сопровождать Бертрана, так как, несмотря на годы относительного затишья, предпочитал держать его перед глазами. Но Франсуаза настояла:
— Раз потом он в одиночку поедет в Париж, то и туда пускай едет один. Это станет проверкой.
Мысль показалась мудрой, так и порешили. Парнишка, в конце концов, шесть лет никого не беспокоил благодаря хитрости Эмара с обильным кормлением сырым мясом.
Прибыв в Осер, Жак и Бертран остановились в небольшой гостинице вместе с другими юношами, приехавшими в город с той же целью. Первые два дня в гостинице царила тишина, нарушаемая лишь шуршанием переворачиваемых страниц и негромким гулом множества голосов: мальчики усердно зубрили материал перед сложными экзаменами. Третий экзамен был проще, и напряжение спало. Монотонное бормотание переросло в крики, слышались взрывы хохота, двое школяров затеяли потасовку во дворе.
Стоило последнему экзамену счастливо отойти в лимб прошлого, как настал ад кромешный. Юнцы бесновались на улицах, но умудренные длительным опытом горожане успели позакрывать лавки и магазины. Кафе подавали еду и напитки в худшей своей посуде, а счета за разбитые тарелки выставляли такие, будто то был севрский фарфор.
Вечером один слегка нетрезвый молодой человек, с которым Бертран и Жак успели подружиться, предложил им отправиться в некое известное ему заведение.
Жак с удовольствием схватился за мысль, ибо более свободные нравы в бедняцкой части деревни не могли не оставить на нем следа.
Но Бертран воспротивился. Нет, ни за что.
Жак поддразнил его:
— Испугался?
А приятель пошутил:
— Официант, стакан теплого молока для младенчика.
Бертран серьезно ответил:
— Не в этом дело. Мне нездоровится. Плохо спал ночью.
— Ты один такой, что ли? Нам всем было не до сна.
— По-моему, ко мне возвращаются мигрени. — Он на самом деле чувствовал странный застой в крови и напряжение, которыми обычно сопровождались ночные кошмары.
Жак хлопнул его по спине.
— Вот тебе и лечение! Тебе его долго не хватало. Une petite femme…[53]
Товарищ принялся декламировать озорное стихотвореньице, двусмысленное и оттого еще более пикантное:
— Ну, бывай, Бертран, — попрощался Жак, — и не забудь надеть шарфик, не то простуду подхватишь! Gaudeant bene nati!
Издевка оказалась слишком ядовитой. Бертран поднялся и сердито бросил:
— Я иду с вами.
Товарищи подхватили его под руки и повели по улице, дружно распевая. Бертран тоже поддался бесшабашному веселью. Он пел во весь голос, перекрикивая друзей.
Дом, в который они направлялись, стоял в тихом переулке. Им открыла невысокая, но статная женщина и, после довольно холодного приветствия, проводила юношей в крошечную гостиную. Вдоль стены были расставлены позолоченные стульчики. Маленькое и тоже покрытое позолотой пианино притулилось в углу. Украшением комнатки, тускло освещенной мерцающими газовыми рожками, служили несколько картин, и на всех, на диванах или около фонтанов, возлежали в окружении черных рабов толстые голые женщины. Однако в углу вдруг обнаружилось отдельно висящее изображение Марии Магдалины, омывающей ноги Христу. Перед ним горела лампада из темно-рубинового стекла.
В комнату вошли три девушки. Некрасивые и безрадостные. Все они были в грубых темных платьях. Одна из них, самая некрасивая, носила очки в толстой оправе. Жак и его друг Рауль сразу подскочили к девицам посимпатичнее, а Бертран подошел к близорукой, после чего они, вместе с остальными, закружились в польке, которую наигрывала севшая за позолоченное пианино мадам.
Танец закончился, настроение немного поднялось. Девушки обмахивали блестящие от испарины лица платками. Мадам удалилась за шампанским. Рауль сначала пропел одну безумно уморительную песенку, потом завел другую.
Бертран, чья кровь была разожжена танцами и пением, добавил к прежде выпитому вину шампанского.
Мадам осторожно намекнула, что час поздний. Открыла дверь и указала на лестницу вверх.
Бертран остался наедине с девицей. На него вдруг навалилась ужасная усталость. Он едва держался на ногах. Нервы не выдерживали напряжения. Ему хотелось поскорее покончить с прелюдией, более того, хотелось быстрее завершить все дело.
Девица с усмешкой посматривала на него. Она привыкла к застенчивым юнцам. И обычно атаковала их поддразниванием.
— Месье, должно быть, очень скромен, — заговорила она, — если намерен заняться любовью в одежде.
После этого Бертран принялся расстегивать сюртук.
— Знаете, — неожиданно остановила она его, — сначала напишите что-нибудь приятное в мой альбом. — Она достала увесистую тетрадь.
Он открыл ее и с удивлением увидел имя Виктора Гюго — размашистый и цветистый росчерк под грязным стишком.
На следующей странице он обнаружил неумелый и непристойный рисунок, а под ним автограф — Орас Верне[55].
На следующей странице красовался сонет, подписанный: «Tout a vous, Адольф Тьер»[56].
Еще там были Дюма, Гарибальди и даже поспешный набросок большой короны и герба, а под ними подпись — Наполеон Третий.
Бертран впервые попал в такое положение. По правде говоря, он немного ошалел и потому, прежде чем осознал свою ошибку, написал: «Бертран Кайе, Монт-д’Арси».
Затем он все понял. Это же просто выдумки. Жестокая шутка, начатая первым посетителем и продолженная последующими.
— Вы умеете читать? — спросил он.
Девушка покраснела и отрицательно помотала головой.
Постепенно картинка прояснялась. Она носила очки по той же причине, что и вела альбом: чтобы скрыть свое несчастное, униженное положение.
— Вы больше ничего не будете писать?
Он, желая ее порадовать, добавил короткое стихотворение:
Но Бертран никак не мог избавиться от стеснения, и девушка, Тереза, предложила немного поиграть. Он снимает с себя один предмет одежды, а она, в награду за это, — два. Последовал короткий спор о том, засчитывается ли ему головной убор. Нет, настаивала девушка, ведь так можно всю уличную одежду посчитать. И предложила начать с того, что есть. Бертран поддался ее настрою и снял уже расстегнутый сюртук. Она сняла жабо и кружевное болеро. Выяснилось, что ее костюм, на первый взгляд незамысловатый, состоит из неисчислимого количества предметов: нескольких нижних юбок, лифа, корсета, подвязок и прочих мелочей. Она с победной улыбкой снимала вещь за вещью, оглашая их названия. Наконец она осталась в одном чулке и нижней рубашке, а Бертран, стягивая с себя последнее, не удержался и воскликнул:
— Ничья!
— А вот и нет, — фыркнула она и, сняв чулок и очки, не тронула сорочку. Лишь указала на нее со словами: — Я победила.
— Но очки — это жульничество, — возразил юноша.
— Все честно, — заверила Тереза. — Победа за мной, и в наказание ты снимешь с меня рубашку сам, только чур, руками не касаться.
Она присоединилась к обнаженному Бертрану, который, по-прежнему немного стесняясь, ретировался в постель.
— Как же я это сделаю? — спросил он с нервным смешком. — Без рук-то?
— А на что тебе пальцы на ногах и зубы?
Он принялся неуверенно стягивать тонкую ткань с ее тела зубами.
— Порвется же, — сказал он.
— Купишь мне новую, — пригрозила она, но тут же хмыкнула и успокоила: — Это очень дешево.
Он вновь взялся за дело.
— Ээээ! Да ты меня кусаешь! Святые угодники…
Зубами он зажал ее кожу вместе с тканью. Услышав крик девушки, он почувствовал, как сквозь сорочку сочится кровь. Он обвил Терезу руками. Хотел было отпустить, однако им овладела непонятная ярость. Придавливая жертву к кровати одной рукой, второй он зажал ее рот. Тереза, почувствовав ладонь у себя на губах, в отместку укусила его, не забывая бешено отбиваться кулачками.
Ранним утром Жак с Раулем решили подшутить над приятелем:
— Давай-ка бросим Бертрана тут одного. Вот испугу-то будет.
Когда мадам предъявила им счет, они заплатили только за себя. Шампанское, аренду бального зала (!) и прочие изыски, присутствующие на бумаге, они оставили другу.
— Он заплатит, — уверили они сводню. — Он у нас богатый.
— Точно? — спросила мадам. Впрочем, она еще вчера заметила, что одет он был лучше остальных двоих.
— Очень богатый, — повторили они.
Мадам сразу сообразила, что в таком случае ей надо придумать что-нибудь еще и добавить к счету. Воодушевленная этой мыслью, она проводила клиентов и отправилась составлять новый и еще более шикарный счет. Местные не особо охотно заглядывали в ее заведение, и потому заезжих гостей нужно было использовать в полную силу.
Жак и Рауль вернулись в гостиницу, собрали книги и стали ждать Бертрана. Но он все не появлялся.
— Давай вернемся, посмотрим, что с ним, — сказал Жак. Но при дневном свете их ночная эскапада представлялась довольно постыдной. Никому из них не хотелось возвращаться в тот дом среди бела дня.
Тем временем хозяин гостиницы настойчиво прощался с жильцами:
— Если господам угодно задержаться, то им придется заплатить еще за сутки.
Рауль, весело насвистывая, предпочел умыть руки и убраться подальше, рассудив, что дело нечисто и лучше как можно скорее уехать, иначе слухи о его приключениях дойдут до родителей.
Жак, в свою очередь, не находил себе места. Бравада предыдущего вечера сменилась угрызениями совести. Его размышления прервал хозяин:
— Вы бы вещички приятеля из комнаты тоже унесли, а то ему придется платить за номер.
— Хорошо, я их возьму, — ответил Жак, — а на случай его возвращения сюда оставлю записку. — И, подумав, что проблема решена, он связал книги Бертрана в стопку, черкнул короткую записку другу, мол, книги забрал и с ними домой уехал, а затем отбыл восвояси.
Возвратившись в деревню, он нервно ждал новостей. А когда услышал, что Бертран лежит дома больной, его волнение усилилось. «Теперь-то все всплывет», — казалось ему. Но ничего не происходило. Наконец он осмелился спросить мать:
— Что случилось с Бертраном?
— А-а, — отмахнулась она, — разве поймешь, что в их доме творится? Говорят, Галье, негодяй, избил его чуть не до смерти. Старый развратник! Но себя не переделаешь!
Жак промолчал, зная, как мать относится к семейству Кайе. Ему было достаточно чувствовать, что его шкура в безопасности, и потому он принялся с нетерпением ожидать близкого отъезда на дальние угодья, где ему предстояло работать все лето. В середине августа он должен был вернуться, но тут же отбыть в Париж для занятий на медицинском факультете. И хотя в тот год разразилась война, планы его матушки ничуть не изменились. Лесничихе все казалось недостаточно важным в сравнении с ее заветными мечтаниями.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В то утро, когда Жак с Раулем ушли, оставив Бертрана один на один с необходимостью оплатить большую часть услуг, хозяйка заведения отправилась к себе сочинять новый счет, призванный стать истинным шедевром. Закончив, она принялась дожидаться пробуждения гостя. Время было не раннее, но девушки частенько залеживались в постели с клиентами, и мадам, ничего не подозревая, занялась своими делами.
В десять ее опять начало мучить нетерпение, и она постучала в дверь комнаты Терезы. Ответа не последовало.
«Ох уж эти богачи», — с отвращением подумала сводня, оскорбившись подобным неприличием. Она спустилась вниз и добавила в счет плату за еще один день аренды. Цифра переросла сто франков. Но найдется ли столько у гостя? Впрочем, можно согласиться снизить цену до содержимого его карманов. «Включая эти его дорогие часы», — решила она.
Во второй раз мадам постучалась в комнату в одиннадцать. Опять никакого ответа. Она приложила ухо к двери и услышала тихий стон. Повернув ручку, хозяйка вошла.
Тереза — но в каком виде! — лежала одна на кровати и негромко стонала. Все простыни были в бурых пятнах крови. Гостя и след простыл.
На крики мадам в комнату сбежались девушки.
— Позовите доктора, — приказала хозяйка.
— Полицию тоже надо вызвать, — сказала одна из девиц.
— Нет! — выкрикнула мадам. — Не сметь! — Отношения с властями у нее не сложились, и меньше всего на свете ей хотелось впутывать в дело закон. Если и впрямь понадобится, то полицию можно вызвать в последний момент.
Когда Терезе промыли и перевязали раны и она наконец смогла заговорить, мадам начала допытываться:
— Как ты ему позволила так с собой обращаться?
— Кажется, я потеряла сознание.
— И за все это ты не получила ни сантима?
— Откуда мне было знать, что он собирается делать?
— В Париже за такое бешеные деньги платят, — заметила мадам, для которой Париж служил arbiter elegantiarum[57] во всех вопросах, касавшихся прейскуранта и обычаев заведений, схожих с ее собственным.
— Я не думала, что он из этих, — неуверенно пожаловалась Тереза.
— Эх, знать бы его имя! — воскликнула мадам.
— Но он записал мне его в альбом, — сказала девушка.
— Да уж! В твой альбом!.. — презрительно фыркнула сводня.
— Да, в него, — настаивала Тереза. И хозяйка с сомнением заглянула в тетрадь, но на листе черным по белому значилось: «Бертран Кайе, Монт-д'Арси». Всё выглядело вполне правдоподобно. Да и дорога до Монт-д’Арси занимала всего два часа.
В тот же день мадам наняла извозчика и без труда выяснила, что семейство Кайе проживает в особняке Галье, скрытом аллеей из ложной акации. Деревья как раз цвели, и тысячи великолепных золотых кистей украшали ветви. Земля была усыпана лепестками. В воздухе кружился неспешный желтый дождь.
Грузная поставщица любви en détail[58] не устрашилась красот, за которыми, насколько она знала жизнь, часто скрывалась страсть к дорогостоящим порокам. Напротив, она более не сомневалась в удачном финансовом исходе поездки и смело позвонила в дверь.
Эмар Галье пригласил ее в свой кабинет.
— Я пришла поговорить о вашем сыне Бертране, — заявила владелица maison tolérée[59].
— Говорите, — ответил Эмар.
Она поведала ему о произошедшем, искусно приукрасив рассказ и не скрыв своего занятия — ведь, если честно, иногда ей нравилось бравировать им перед богатой буржуазией.
— А я что должен сделать? — спросил Эмар, пылая негодованием, но внешне оставаясь равнодушным.
— Ей-Богу, месье, я всего лишь хочу возместить причиненные мне убытки. Кто бы мог подумать, что столь милый, утонченный юноша…
— Сдается мне, вам следует обратиться в полицию, — перебил ее Эмар, размышляя о представившемся шансе наконец-то благополучно сбыть Бертрана с рук.
Мадам перепугалась, но не подала виду. Конечно, она имела полное право вызвать полицейских, более того, была обязана это сделать, однако из-за возраста Бертрана сама могла попасть под суд, чего ей совершенно не хотелось, к тому же в этом случае она, скорее всего, не получила бы денег.
Поэтому, притворившись, что раздумывает о деле, мадам принялась искать достойный предлог поскорее ретироваться.
— Хорошо, месье, — вдруг выпалила она. — Я обращусь в полицию. Поначалу я решила, что вы оцените возможность уладить все тихо и мирно, но теперь вижу, что мои благородные намерения пропали втуне и я напрасно потратила время.
Эмар боролся с собой. Почему ему казалось, что оборотень в семье — позор? Что за глупый стыд мешал ему открыто предъявить миру это чудовище? Заметьте, чудовище, порожденное не им, а чужим человеком и навязанное ему, Эмару Галье, простым стечением обстоятельств.
Однако не поспособствовал ли он сам сложившемуся ходу событий тем, что скрывал зверочеловека? И все-таки он никак не мог заставить себя выдать Бертрана. Он так успешно заботился о мальчике, что почти позабыл о звериной стороне его натуры, но теперь вновь стало очевидно, что парень по-настоящему опасен и, конечно же, ни о каком изучении медицины в Париже не может быть и речи.
Он вздохнул и сдался:
— Сколько вы хотите?
— Пять тысяч франков, — ответила сводня, поджав губы.
— Запишите мне свой адрес, — спокойно сказал Эмар, — и я пришлю вам тысячу франков сегодня же, после чего, надеюсь, никогда больше не услышу об этом деле.
Его невозмутимая решительность испугала мадам. Выручить даже тысячу было уже неплохо. Она встала и ушла. По пути домой ее посетила блестящая идея. Добравшись до заведения, она первым делом накинулась на окружающих, особенно на Терезу.
— Убить тебя мало! — кричала она на бедную страдалицу.
— Но, мадам… — рыдала перебинтованная Тереза.
— У нас нет денег даже врачу заплатить. И, если хочешь знать, мне пригрозили судом за то, что я пустила к нам несовершеннолетнего.
Постепенно она смягчилась.
— Так и быть, заплачу доктору из своих. Вы ж, дуры несчастные, копить не догадываетесь: на свои тебя не вылечу — ты мне тут, чего доброго, помрешь.
Тереза рассыпалась в благодарностях.
— Вот увидите, мадам, — пообещала она, — буду на вас работать, не жалея сил.
— Иди уж, — шутливо отмахнулась хозяйка, — может, ты так славно потрудишься, что тебя кто-нибудь за муж возьмет, ты уедешь, а нам и альбома своего на память не оставишь.
— Ох, мадам, зачем же вы так? — с упреком сказала Тереза, хотя и сама уже витала в мечтаниях о столь счастливом будущем.
Но подобревшую хозяйку продолжала грызть совесть до тех пор, пока она не купила Терезе платье за десять франков, а также не заплатила прачке из собственного кошелька за стирку окровавленных простыней. Полученную тысячу она, однако, тратить не стала, а присовокупила к своим вложениям в ценные бумаги, на проценты от которых надеялась прожить, когда отправится на покой. Дорога к финансовой независимости невыносимо медленна и терниста.
Тем временем Эмар мерил шагами кабинет и размышлял. Давно ли тянутся за Бертраном подобные дела? Вряд ли это его первое посещение девиц. Или нет? Немалую роль играла в глазах Эмара половая подоплека преступления. Нельзя сказать, что Эмар совсем позабыл о своих давешних похождениях того же сорта, но, научившись за время пребывания в семинарии в Лангре сдерживать плотские желания, он уже плохо понимал, как некоторые не могут управиться с похотью. Чем больше он думал о том, что натворил Бертран, тем сильнее злился. Наконец он открыл дверь кабинета и, что было на него совершенно не похоже, громко выкрикнул:
— Жозефина!
Она выскочила на зов из кухни и бросилась к нему по длинному коридору.
— Да, месье?
— Бертран вернулся из города?
— Еще нет, месье.
— Дай мне знать, когда он приедет.
В глазах Жозефины застыл вопрос, но Эмар, не обращая на нее внимания, закрыл дверь. Он вспомнил длинное письмо, полученное им в пору его изысканий и посвященное Питамонам и Питавалям: одного из Питамонов закрыли в колодце и кормили сырым мясом с салом, и после долгих лет заключения он перестал разговаривать и только выл, как волк. Эмар прекрасно помнил концовку письма: «Говоря по правде, тот, кого туда засадили, был самым приличным из Питамонов. Но и он, прежде чем угодить в яму, убил двоих. Конечно, убил он Питавалей, а по ним плакать никто не стал, да и по нему никто особо не страдал, кроме невесты, прождавшей его три десятка лет, если не дольше. Впрочем, все Питамоны славились тем, что оставили после себя много горя».
Эмар задумался: неужели Бертран кончит так же? Если положение не изменится, ничего нельзя будет поделать, кроме как держать его под замком. Он обдумывал эту мысль, спрашивая себя, станет ли комната в доме надежной тюрьмой для Бертрана. Камера должна быть крепкой, по крайней мере, столь же прочной, как узилище, где был заперт Питамон, если не прочнее.
Вдруг Бертран впадет в неистовство в собственном доме, как это уже случалось за пределами поместья, и станет резать уже не ягнят, а людей, — ведь успел же он напасть на ту несчастную проститутку… Тогда либо придется обращаться в полицию, либо сажать его за решетку у себя во владениях.
Погрузившись в размышления, Эмар поднялся на второй этаж и открыл дверь комнаты Бертрана. Юноша оказался у себя: он мирно спал в собственной постели!
Эмар вздрогнул от неожиданности, как будто на прогулке столкнулся нос к носу с тигром, но взял себя в руки и подошел к кровати. Лицо мальчика горело ярким румянцем. Он глубоко дышал. Голова была откинута, точно силы оставили его. Волосы спутались. Казалось, он много выпил и теперь отсыпался.
Словно почувствовав взгляд Эмара, Бертран открыл глаза. Сначала в них вспыхнуло удивление, потом мальчик потупился.
— Ты когда вернулся? — спросил Эмар.
— Ну, я… я не знаю точно. Да, не помню.
— Что с тобой случилось?
Бертран на секунду растерялся, а затем сказал:
— Очередной кошмар, понятия не имею, как я здесь очутился. Дайте подумать — в голове туман, а тело болит так, как будто точно я всю ночь бежал. Любопытно…
— Что тебе любопытно?
— Знать бы, да… знать бы, было ли это просто сном? Я в городе сдавал экзамены. Как я попал домой? Неужто прибежал, как мне и приснилось? А то, что произошло до этого, тоже было сном?
— Не на сей раз! — вдруг взорвался Эмар, отчего Бертран испуганно отпрянул. — Не на сей раз! — Глаза юноши вылезли из орбит. Ему стало безумно страшно. Он забился в дальний угол кровати и прильнул к стене, трясясь, как собачонка на морозе.
— Погоди-ка! — выкрикнул Галье. Ему в голову пришла одна мысль. Он выбежал, не позабыв запереть дверь, и поспешил так быстро, как ему позволяли больные ноги, к амбару, а там схватил тяжелый кнут, которым жеребят приучают к плугу. Ворвавшись обратно в дом, он разогнал женщин криком «Прочь!» и закрылся в комнате вместе с Бертраном.
«Я из тебя волка выбью!» — с яростью подумал Эмар и хлестнул парня, все еще остававшегося в углу. Кнут впился в тело, и Бертран издал вой, будто исходивший из самого его нутра.
Кнут поднялся и опустился опять. «Я тебя укрощу! — вертелось в голове у Эмара, и он, стиснув зубы, призвал все душевные силы. — Укрощу!» На лбу сияли капли пота.
Бертран кричал, пока не охрип и голос его не истончился до фальцета. Потом он просто хныкал, тихо и прерывисто. В конце концов умолк. И Эмар остановился.
Пошатываясь, смутно понимая, где он и что наделал, Галье покинул комнату. В коридоре лежала Жозефина, Франсуаза суетилась вокруг нее с бутылочкой нюхательной соли. Жена Гиймена громко причитала внизу:
— Господи! Что же такое творится-то?
— Ce n’est rien. Allez! Vaguez a votre besogne![60] — Эмар грубо отмахнулся от нее, быстро прошел в кабинет и затворил за собой дверь.
На несколько дней дом погрузился в тишину, исполненную невысказанной злости. Лишь раз Жозефина, потрясая кулаками, крикнула в лицо Эмару:
— Ты убил его!
— Заткнись! — оборвал ее Эмар.
— Чем же он вам так насолил? — спросила она с ноткой угрозы в голосе.
— Не твоего ума дело.
— Но вы ему почти как отец.
Эмар презрительно хмыкнул.
— Увидишь, умрет он, я и тебя убью! — опять сорвалась она.
Но возведенные им вокруг вспышки гнева стены праведности постепенно начинали осыпаться, и Эмара все сильнее терзали раскаяние и сочувствие.
Кончилось тем, что он поднялся в комнату Бертрана. Мальчик робко посмотрел на дядюшку карими глазами. В них не было ненависти, не было желания отомстить, а лишь мольба и затаившийся ужас.
— Не надо…
«Похож на побитого пса, — подумал Эмар. — Может, трепка его излечила».
— Дай поглядеть на спину, — приказал Галье.
Кожа Бертрана была исчеркана желтыми, красными, фиолетовыми и зелеными полосами. Эмар испугался.
— Как ты себя чувствуешь?
— Уже лучше, — тихо ответил Бертран.
— И ты точно не повторишь свою — как бы это назвать? — эскападу?
— Точно не повторю, дядюшка, — пообещал мальчик.
— Ты уж не повторяй. — Эмар собрался уходить, но Бертран окликнул его:
— Дядя, я правда сделал то, что мне приснилось? То есть…
— А что тебе приснилось?
Бертран замешкался. Говорить мешали робость и скромность.
— Я… кусал и царапал… ее.
— Да, похоже, так и было. А мне пришлось за все платить. Забудь и больше об этом не заговаривай.
Бертран чуть поразмыслил.
— Я часто вижу во сне, как кусаюсь и царапаюсь, а люди в меня стреляют. — Он умолк.
— И?.. — Эмар ждал продолжения.
— Но ведь это только сны.
— Конечно. Но ты уж постарайся держаться подальше от дурных компаний.
— Обещаю… — Он опять помолчал. — Вы сказали маме, что не пустите меня в Париж.
— По-моему, не стоит оставлять тебя одного, по меньшей мере сейчас, — сказал Эмар и решительно вышел из комнаты.
В последующие дни Галье намеренно не позволял себе смягчиться. Спина Бертрана зажила, но Эмар все еще не разрешал ему покидать спальню. Когда Жозефина принималась жаловаться и просить, Эмар сразу прерывал ее.
— Всему свое время, — повторял он и, если она продолжала настаивать, просто уходил. Он решил, что не даст подобному повториться.
Вскоре умер давний сосед, старый скряга Вобуа, и на похоронах ожидали всех обитателей поместья Галье. Бертран, выпущенный по этому случаю из заточения, тоже отправился в церковь, торжественно пообещав следить за собой. К слову, юноша действительно вел себя отлично, как всегда на людях. Он весьма учтиво и любезно поговорил с мадам Брамон.
— Ты болел? — спросила она.
— Да, — ответил Бертран.
— Жак оставил твои учебники у нас дома. Кто-нибудь из моих младших тебе их занесет.
Бертран поблагодарил, но призадумался, что именно знает Жак и что рассказал своей матери.
— Когда в Париж едешь? — продолжила она.
— Дядя пока молчит об отъезде.
— Знаешь, Жак возвращается двенадцатого числа следующего месяца, то есть августа. Приходи на прощальный ужин. А рано утром он уйдет пешком в Париж. Почему бы вам, мальчикам, не отправиться туда вместе?
— Я спрошу дядю, — уклончиво сказал Бертран.
Лесничиха осталась недовольна: «Немного денег в кармане — и они уже вообразили, что могут задирать нос. Ладно уж, его мамаша деньжата эти заработала. Зуб даю, Галье ей не за просто так платит».
А Бертран обрадовался тому, что она, слава Богу, не успела засыпать его каверзными вопросами.
Похоронная церемония начала сказываться на юноше. Он весь напрягся, и ему было не по себе. По какой-то неясной причине долгие и неторопливые действия священника и скорбящих стали так раздражать, что хотелось крикнуть: «Да побыстрей же, заканчивайте!». Он чуть ли не с радостью предвкушал скорое возвращение к себе в комнату. И сам понимал, насколько это странно. Но он отличался от других. Те могли позволить себе открытость и свободу. Он же был полон секретов, и их тяжесть давила на него, когда он оказывался среди людей, которые могли прознать о его несчастье. Да, дома было безопаснее.
Но вечером, впервые за несколько недель сидя на кухне за ужином, он уже не считал возвращение в спальню столь привлекательным. Напротив, его потянуло в поля, где поднимающийся летний ветер сулил прохладу.
Вошел Эмар.
— Пора тебе в комнату, — сказал он.
Бертран промолчал, угрюмо вперившись в тарелку.
— Почему не ешь?
— Не голоден.
— А сырое мясо от анемии будешь?
— И его не хочу.
— Тебе когда-то нравилось. Но в последнее время, я погляжу, ты к нему не притрагиваешься.
— Не хочу, — мрачно повторил Бертран.
— Тогда марш в комнату! — отрезал Эмар.
Бертран не ответил. Слышавшая перебранку Жозефина встала в дверях.
Эмар подумал: «Не голоден, говоришь? Значит, опять накатывает. Конечно, теперь-то он знает, какова на вкус человеческая кровь…»
— Я тебе покажу! — Эмар повысил голос. — Где там кнут?
И снова бросился в амбар.
Жозефина подскочила в Бертрану и обвила его руками.
— Мальчик мой милый, — зашептала она, — делай, как он говорит. Он же тебя убьет. Быстро иди к себе. Он уснет, а я тебя выпущу.
Эмар вернулся, и Жозефине удалось успокоить его, сказав, что Бертран поднялся в свою комнату.
— Что бы он там ни натворил, вряд ли он такого заслуживает. Не думайте, что я не знаю о его проделках. Он мне все рассказал. Мальчиков всегда на такое тянет. Вы сами тоже не ангел. Как будто я не помню.
— Ничего-то ты не знаешь, — набросился на нее Галье.
— Я знаю, что если это не прекратится, мне прямая дорога к старосте.
Эмар испугался, но скрыл это.
— Я все делаю для его же пользы. И перестану, когда пойму, что он усвоил урок. Если хочешь, собирай вещички — и скатертью дорога вам обоим, препятствовать не стану. — Он повернулся и ушел наверх, чтобы запереть дверь Бертрана.
Утром в кабинет постучалась Франсуаза.
— Вы слышали, что могилу Вобуа ночью раскопали, а тело покалечили? Вся деревня об этом говорит. Арестовали пастуха Кроте. Болтают, что он позарился на золотые зубы хозяина и зубы-то эти у него в комнате нашлись; а сам Кроте уперся, мол, Вобуа, тот еще сквалыга, как помирать собрался, есть все равно не мог, потому и зубы свои отдал Кроте, вроде как за работу расплатиться, потому что ему-то они уже не были нужны.
— Хм… пожалуй, похоже на Вобуа, — проговорил Галье.
Франсуазе явно хотелось сказать кое-что еще, но она продолжала стоять молча и лишь с вызовом откидывала седые пряди со лба.
— Ну давай же, выкладывай, — подбодрил Эмар.
— Думаю я, месье нужно знать, что вчера ночью Бертрана дома не было.
— Чепуха! Куда бы ему деться?
Она пожала плечами.
— Может, он себе отмычку завел. В любом случае, я видала, как он, едва свет забрезжил, крался вдоль аллеи. Ошибиться я не могла.
— Ох, как же я устал от этого, — пробормотал Эмар и вернулся к книгам по политической экономии. Он не на шутку увлекся учением Карла Маркса, немца, чьи труды в те дни наделали немало шума.
Но и в разгар работы, когда он продирался сквозь сложные немецкие предложения, в голову невольно лезли мысли о подсознательно сложившейся в уме взаимосвязи. Бертран — Кроте — Вобуа… Почему бы и нет? Да, почему бы и не Бертран? Неужто Франсуаза намекала на это? Ну, вряд ли! Однако, если даже она ничего не имела в виду, вероятность оставалась. У зверя появилась непреодолимая тяга к человеческой плоти, ведь он попробовал ее на вкус! А что до двери, так ее отперла Жозефина со своей глупой отговоркой про пожар.
Эмару стало до того любопытно, что он даже не почувствовал злости. Он поднялся в комнату Бертрана. Хотя был десятый час, юноша все еще спал. Лицо раскраснелось, рот обмяк, грудь высоко вздымалась. Он выглядел точно так же, как в то утро, когда грузная хозяйка лупанария явилась требовать компенсацию.
«Отсыпается после оргии», — с ужасом и отвращением подумал Эмар.
С этого момента он больше не сомневался.
— Ты открыла сыну дверь, — сказал он, отыскав Жозефину. — Я пытался щадить твои чувства, но пойми, твой ребенок опасен. Отныне я буду носить ключ от его двери с собой, и плевать на пожары. Если тебя это не устраивает, можешь обращаться в полицию.
— Так я и сделаю, — заявила Жозефина.
— В результате твой сын окажется за решеткой в государственном учреждении, а не запертым дома. Выбирай! — Произнеся это, он велел ей уходить.
Жозефина сразу бросилась к Франсуазе, но та оказалась скупа на слова.
— Слушайся месье Эмара или попадешь еще в большую беду, — предупредила она Жозефину. — Месье делает все возможное, лишь бы помочь Бертрану, и если ты от него отстанешь, то он мальчика и в Париж ради тебя пошлет.
Положение, конечно, стало невыносимым. По деревне поползли слухи, разнесенные Гийменами: Бертран сошел с ума, и теперь его вынуждены держать под замком.
Жозефина, встречаясь с деревенскими кумушками, стойко отражала все вопросы. Ее бедный Бертран снова болен. У него такие хрупкие нервы. Но ему, безусловно, станет лучше, когда спадет жара, и тогда он сможет отправиться в Париж. Впрочем, не будь войны, сельские сплетники ни за что не оставили бы Кайе в покое; но Бертран, как они выяснили, вскоре уехал в Париж, а на передний план вышли более насущные и страшные события.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Бертран, долго пребывая в вынужденном бездействии, обдумывал случившееся с ним, но так и не смог прийти к определенному заключению. Временами казалось, что ему стало бы легче, если бы он мог свободно гулять по полям. А болеет он от заточения в четырех стенах. В них нечем дышать. В душе поднималось свирепое негодование. Вот войдет к нему дядя Эмар в следующий раз — и он его убьет! Но иногда, особенно по утрам, когда в памяти был свеж сон, в котором он, спасаясь от смерти, убегал что есть мочи от огромного белого пса, или после подобного этому кошмара, его не раз переполняла радость от того, что он дома и в безопасности. Напряжение покидало тело, дыхание, бурно вздымавшее грудь, медленно успокаивалось.
Памятуя, что дядя как-то намекнул на учебу в Париже, Бертран брался за книги и рассеянно листал их. Когда дядя Эмар приносил еду или выводил его на короткую прогулку, хотелось о многом спросить. Но Галье всегда менял тему и говорил о войне или об экономике, государственном страховании и прочих предметах, к тому же нередко принимался экзаменовать ученика по латинскому и математике. Бертран не блистал. Его подводила память. Эмар пришел к выводу, что волк опять взял верх.
Большую часть времени Бертран проводил в мечтаниях. Ему нравилось думать о Терезе, и он спрашивал себя, согласится ли она опять увидеться с ним. Он снова и снова застывал у окна и смотрел на двор. Там частенько проходила Франсуаза, но никогда не поднимала взгляд. Нередко внизу оказывалась его мать, чистая и опрятная; она быстро озиралась и, если рядом никого не было, посылала ему воздушный поцелуй. Его всегда глубоко трогал этот жест. Или же на глаза ему попадалась мадам Гиймен: она нагибалась к колодцу, и ее огромный круглый зад топырился под красной юбкой, огнем горевшей на солнце. Каждый раз, глядя на женщин, Бертран думал о Терезе. Он не мог забыть, как она стояла перед ним в одной сорочке и поддразнивала: «Стяни ее зубами». С каким безумным восторгом сорвал он с нее тот последний кусок ткани!
Бывало, мать останавливалась у его двери, и они разговаривали.
— Я вытащу тебя отсюда! — неизменно обещала она. — Ты уедешь в Париж. У меня есть на это деньги.
Не так давно Тереза сложила и подсчитала все, что сумела скопить за годы жизни на ферме.
Однажды, будучи в деревне, она узнала, что Жак вернулся и, прежде чем отправиться пешком в Париж, собирается дать прощальный ужин.
— Нет, вряд ли мы сможем прийти, — ответила она мадам Брамон. — У Бертрана вечером поезд из Арси. Но, конечно, в Париже они с Жаком встретятся.
Жозефина торжествовала. Бедняжка Жак пойдет пешком. А Бертран поедет на поезде. Тогда мадам Брамон, почувствовав укол в ее словах, заметила:
— В списке сдавших экзамен имя Жака стояло выше имени Бертрана. — Она надеялась уязвить соперницу, хотя ей объяснили, что список составлялся по алфавиту и фамилия Брамон, естественно, шла перед фамилией Кайе.
Фальшивая стрела достигла цели, и Жозефина, уходя, выглядела недовольной, отчего у лесничихи появился еще один повод для радости: эта невежда понятия не имеет, что в списке имена идут не по достоинствам соискателей, а по начальным буквам фамилий.
Теперь Жозефина не сомневалась, что Бертран должен уехать сегодня же вечером. Она тайком собрала сумку с одеждой и едой, положила туда деньги и с нетерпением ожидала наступления темноты. Зная, что Эмар носит ключ от комнаты Бертрана в кармане жилета, она решила стащить его, как только Галье уснет. Дело было рискованным, но ее это не волновало. Ей удалось шепнуть сыну:
— Жди меня ночью. Ты едешь в Париж.
«Париж», — повторил про себя Бертран. Правда, в тот момент он бы с большей радостью увиделся с Терезой. Но потом ему подумалось, что и без Терезы в Париже женщин хватает, и он промечтал об этом весь день до самого вечера.
После полуночи, лежа в постели, он почувствовал на щеке поцелуй. Ему как раз снилась Тереза, и он не сразу понял, что к нему пришла мать. Она, в одной ночной сорочке, склонилась над ним и между поцелуями шептала:
— Мальчик мой милый. Вставай и уходи, пока дядя не увидел, что я украла ключ.
Бертран сонно отвечал на ее поцелуи.
— Малыш, просыпайся. В сумке все, что тебе нужно. Деньги тоже там. Быстро! Тебе надо далеко уйти от своей темницы. Дорогой мой, хороший. Когда же мы теперь увидимся? Вот бы мне сбежать с тобою.
Она присела на краешек кровати, заставила его приподняться и прижала к своей груди. Он обвил Жозефину руками и крепко обнял, отчаянно сражаясь с остатками сна. Но все вокруг ощущалось словно сквозь тонкую дымку. Он сжимал в объятиях Терезу, а она дразнила его, уговаривая сорвать с нее сорочку.
— Драгоценный мой… Ох, Бертран! Ты что делаешь? Перестань! — все еще шептала Жозефина, не решаясь повысить голос. — Бертран, хватит! — Она отбивалась от его молодых мускулистых рук, но вдруг затихла и прекратила сопротивляться. Ее переполнило осознание собственной жертвенности, и лицо озарила восторженная улыбка. Годы ее жизни слились в неразрывное целое — Питамон, Эмар, Бертран. Они стали едины. Сплавились в неразделимое тело с множеством рук, но лишь одним лицом.
Бертран очнулся несколько часов спустя и с ужасом увидел, что рядом, разметавшись на постели, лежит обнаженная мать. Обуреваемый беспокойством, он тихо встал, оделся и открыл дверь. В коридоре было тихо и темно, особенно после залитой лунным светом комнаты. Бертрана опять переполнило знакомое желание бежать в лес. Пора выбираться. Он лишь смутно помнил, что произошло, но чувствовал страх и стыд, от которого, как он надеялся, его избавит побег из дома.
Когда он вышел из комнаты, дорогу ему неожиданно преградил дядя, одетый в ночную рубашку.
— Ты почему не в спальне? Как ты оттуда выбрался? Быстро обратно!
Бертран оскалил зубы.
— Вы не можете вечно держать меня под замком! — выкрикнул он. — Я уезжаю в Париж! Отпустите, говорю! Дайте мне уйти! Я здесь умираю!
— Быстро в свою комнату! Ступай!
Бертран опустил голову и рванулся вперед. Он услышал, как дядюшка охнул от толчка, но не стал выяснять, не пострадал ли тот. Просто побежал вниз. Входная дверь оказалась заперта, но в ближайшей от нее комнате, кабинете Галье, был открыт балкон, впуская ночной бриз. Бертран проскочил туда, перепрыгнул через перила и, пролетев почти два метра, мягко приземлился на ноги. Не понимая, что делает, он свернул на большак и помчался прочь.
Шум в коридоре разбудил Жозефину. Мгновенно сообразив, что произошло, она встала и решила спрятаться у себя. Подбирая лоскуты от разорванной сорочки, она увидела забытые Бертраном вещи и подумала: «Он мне напишет, я ему деньги отошлю», — после чего подняла сумку и проскользнула в свою спальню. Проходя мимо двери сына, она успела вытащить ключ из замочной скважины и уже в спальне выбросила его в растущие под окном кусты.
Бертран, тяжело дыша, огромными скачками несся по дороге. Наконец он кинулся ничком на заросшую травой росистую обочину, наслаждаясь успокоительной прохладой. Травинки щекотали лицо. Он непроизвольно начал ловить их ртом.
Но вдруг вздрогнул. Тело напряглось. По большаку кто-то шел. Бертран осторожно поднялся и спрятался за кустарником у поля. Дядюшка преследует его! Но нет. Из скрывающей подробности темноты показалась неясная фигура человека, спокойно шествующего с котомкой за спиной; каждый второй его шаг сопровождался стуком трости о землю.
Бертрана пронзило дикое желание напасть на прохожего, голова запылала от этой мысли. Глаза налились кровью, стало больно моргать. Каждая частичка тела заныла, ощущения обострились так, что стежки на ткани острыми иглами впились в спину. Он, в спешке отрывая пуговицы, сбросил рубаху. Когда вся одежда грудой упала к его ногам, ему полегчало. Холодный ветер вдруг овеял его обнаженное тело, и Бертран обратил внимание на тяжесть в мочевом пузыре. Он аркой послал струю в сторону от снятой одежды.
Сейчас он действительно почувствовал себя на воле, совершенно свободным, и беззвучными длинными прыжками ринулся вслед за исчезнувшим в ночи путником. Он догнал едва видимого в темноте прохожего через несколько минут. Руки чесались схватить незнакомца за горло. С воплем он выскочил из кустов и набросился на человека, который, обернувшись, испуганно и беззащитно попятился от безумствующего врага.
Хотя мгновение назад Бертран только и мечтал сжать его горло, он даже не сделал попытки схватить и удержать жертву руками. В ход пошли не конечности, а лицо, точнее, жевательные мышцы челюстей. Он широко распахнул рот. Зубы, разрывая ткань, вонзились в плоть. Забил теплый фонтан, и Бертран жадно приник к нему.
Потом он поволок добычу в кусты на обочине. Ему даже не пришло в голову использовать руки. Он тянул тело зубами. Стоя на четвереньках, упирался в землю, отталкивался и рывками тащил жертву к краю дороги. Укрывшись в зелени, Бертран начал поглощать куски плоти, выдранные из горла. Ему хотелось мяса с груди, но добраться до нее мешал шерстяной костюм. Несмотря на все усилия, плотная ткань не желала рваться, зубы лишь захватывали плоть под ней. Однако голод он почти утолил. И теперь безумно клонило в сон. Голова Бертрана упала на тело жертвы. Он задремал. Но, как долго проспал, сам не понял.
Пробудившись, Бертран вздрогнул. Он замерз, ему только что приснился кошмар, клубок из крови и мяса, борьбы, криков и прыжков. Рука шарила в поисках одеяла, которое он в горячке сна, конечно же, сбросил. Но укрыться никак не удавалось. Наверное, одеяло застряло в щели между стеной и кроватью. Он потянул еще. Ну и тяжелое же оно. А это что за белый шар, похожий на кочан капусты, обглоданный червями?
Перед глазами возникло истерзанное лицо его друга, Жака Брамона. «Неужели эти кошмары никогда не прекратятся? — пожаловался Бертран про себя и отпустил одеяло. Голова Жака откинулась назад. — Но это совсем не напоминает сон. Как же мне очнуться? Ладно, вылезаю из постели».
Но спустить ноги на пол не вышло. Бертран не спал. Все происходило по-настоящему. В предрассветных сумерках он увидел искалеченное тело. Его собственный рот был измазан липкой кровью.
— Господи, это все наяву? — воскликнул он. — Или я наконец смогу проснуться, ведь кошмара хуже у меня еще не было?
Он слишком явственно слышал свой голос, чтобы отрицать правду.
Бертран упал на труп и разразился горьким плачем:
— Жак! Жак!
Но Жак не отвечал.
«Боже! Я знал, что кошмары реальны, я знал это, знал! Знал, что причина, по которой дядюшка меня запирает, гораздо серьезнее, чем он готов был признать».
Бертран рыдал. Скрипел зубами. Рвал на себе волосы. Чуть успокоившись, он сначала захотел побежать домой, к маме. Но, смутно вспомнив, какой ужас он с ней сотворил, отказался от этой мысли. «И это тоже было наяву? Нет, нет! Ни за что! Но все же…» Да, домой ему никак нельзя.
То, что произошло там, наверняка столь же реально, как случившееся здесь. Он снова расплакался. Что он за чудовище такое! Действительно, его только взаперти и держать. Но постепенно светало, и Бертран стал размышлять о грозящей ему опасности. Надо поскорее куда-то скрыться. Что будет, если на него натолкнется кто-нибудь из деревни или даже сам старик Брамон! Не приведи Господь!
Теперь, когда ужас перед содеянным сменился страхом за свою жизнь, Бертран быстро поднялся и призадумался. Лес недалеко. Что, если затащить труп туда?
Его удивило собственное спокойствие. Он взял мертвеца за плечи и волоком перетянул сквозь прогалину в живой изгороди, а потом через поле к деревьям. «Жак, да ты был упитанным», — подумалось Бертрану. Зайдя поглубже в чащу, он выдохнул. Потом принялся руками разгребать жухлую листву и дерн, пока не получилась неглубокая могила.
Его начала грызть новая мысль. Кажется, стоит снять с Жака одежду: «Домой за своей я вернуться не могу». И тотчас, словно из пелены сна, выплыло воспоминание, как он сбросил рубаху и штаны где-то там, на лужайке за кустарником. «Если все мои видения реальны, — сказал он себе, — то я найду одежду на том же месте».
Он оставил труп и бросился обратно. Нельзя было терять ни минуты. Небо на востоке окрасилось нежно-розовым. Вдали закукарекали петухи. В глубине души Бертран надеялся, что одежды за кустами не окажется: ведь это будет означать, что не все его сны сбываются. Но вымокшие от росы вещи все-таки лежали там, где он сорвал их с разгоряченного тела. Бертран оделся и опрометью кинулся в лес довершить начатое.
С каждой секундой становилось светлее, и задача похоронить старого товарища по играм усложнялась. Было трудно управляться с окоченевшим трупом. Под ноги угодил заплечный мешок Жака. Бертран отодвинул его и подумал: «А ведь это идея! Там может найтись что-нибудь полезное». Он тут же покопался в содержимом. Еда, белье и, чуть не на самом дне, бумажник с деньгами.
Мелькнула мысль выкинуть хлеб, вино и холодную ветчину из котомки и положить вместо них пару кусков человечины. Бертрана едва не вывернуло от отвращения к подобной затее.
— Как мне это в голову-то пришло? — в ужасе вскричал он, после чего торопливо закончил с могилой и скрыл все следы, старательно закидав вскопанный участок листвой. Затем, закинув мешок за спину, поспешил к дороге.
Весь день, лишь изредка позволяя себе передышку, Бертран шел, насколько мог судить, на северо-восток, в направлении Парижа. Людей и деревни обходил стороной. К вечеру он был довольно далеко от дома и чувствовал себя в относительной безопасности.
Когда в полдень голод заставил его ненадолго прервать бегство, Бертран выбрал местечко попрохладнее и более тщательно обыскал мешок Жака. Внутри нашлось приличное количество разной еды — от холодного цыпленка до зайчатины. «Старик Брамон зайчатинку любит», — подумал Бертран. Еще была бутылка вина, несколько ломтей хлеба и пара скороспелых яблок. Из стеклянной баночки он поел паштета, приготовленного вроде бы из печенки и зеленых овощей. Обед удался на славу. Вино оказалось отличным, а мясо очень вкусным. Он поглощал все с изрядным аппетитом.
«Кое-что оставлю на вечер, — подумал он. — Еды тут и на ужин с лихвой хватит». Удовлетворенный как настоящим, так и перспективами на будущее, Бертран немного подремал, а после отправился дальше.
К вечеру он вновь сильно проголодался, но о курятине или зайце даже думать не хотелось. Внезапно Бертран опять поймал себя на странной мысли: «Ну почему я не взял руку Жака? Да, Жак был моим закадычным другом, которого я знал всю свою жизнь, но, в конце концов, он же умер, разве нет? А если ему все равно в могиле лежать, то к чему угрызения совести?» И он бесстрастно подумал: «В следующий раз буду умнее».
Урчание в животе усиливалось, и он невольно старался держаться поближе к деревням, надеясь встретить одинокого ребенка. А еще начал приглядываться к церквям и кладбищам, высматривая венки, ленты или иные приметы недавних похорон. Стемнело, но он все еще неприкаянно бродил близ уснувших ферм, и собаки лаяли, учуяв его запах. Потом он решил найти убежище в лесу. Тело изнывало от голода. Он тявкал и подвывал на луну, видя ее холодный блеск меж силуэтов листьев и ветвей.
Стоило Бертрану покинуть место своего утреннего преступления, как на дороге показался молодой батрак. Он случайно пнул башмаком какой-то твердый предмет, и тот вылетел вперед из-под его ноги. Это была отличная походная трость. «И кто мог потерять такую вещь?» — подумал парень и пошел дальше, изящно размахивая тростью и ударяя ею о землю в такт шагам.
Добравшись до фермы, он показал находку товарищам.
— Глядите, что у меня есть. Здорово, да?
Трость всем понравилась, но один из работников сказал:
— Ты где ее взял? Это палка старика Брамона, нашего лесничего. Лучше ее вернуть.
— Это да, вернуть придется, — немного грустно ответил батрак, жалея, что нужно расстаться с отличной полированной тростью, к которой уже успела привыкнуть рука.
— Обязательно отдай, — посоветовали ему. Однако вещь вернулась к законному владельцу лишь спустя неделю, потому что у парня нашлось много отговорок для отсрочки часа расставания.
— Откуда она у тебя? — удивленно спросил Брамон.
— На дороге валялась.
Брамон недоуменно покачал головой. Затем показал трость жене.
— И что это значит? — поразилась она.
— Хм. Скорее всего, ничего. Помнишь, она ему не понравилась и он просто нес ее, вложив в лямки мешка? Может, выпала, а он не заметил.
— Но пока что мы не получали весточек ни от него, ни от тетушки Луизы. Хотя он, конечно, до Парижа добрался.
— Мать, дай ему время. Сама знаешь, лишних денег у него не водится. У нас еще четыре рта, особо не забалуешь. Он это прекрасно знает. Да и тетя Луиза еще беднее, чем мы. Так что успокойся.
— Не могу. Жаль, не могли мы отправить нашего мальчика, как полагается. Месье Галье сказал мне, что Бертран поехал из Арси на поезде. Он и сам за ним, как только получится, последует. Хоть бы с Жаком все было хорошо!
Батрак, нашедший трость, неожиданно ушел к себе в деревню, затосковав по невесте, оставшейся дома. Он даже решил не дорабатывать неделю, потеряв часть жалования. Это и стало основным доказательством против него на суде, когда, приблизительно через неделю, обнаружили тело несчастного Жака, а батрак превратился в обвиняемого. Рассчитав все по часам, следствие пришло к выводу, что в то утро он должен был встретить Жака на дороге как раз там, откуда было недалеко до могилы в лесу.
Можно было выстроить две версии: либо он трость действительно нашел, либо убил ее хозяина. Не приговорили парня только потому, что других улик против него не обнаружилось. Да и иного мотива, кроме грабежа, на который опиралось обвинение, тоже не усмотрели.
На суде старый Брамон бормотал:
— Если его отпустят, я убью его собственными руками!
Но его жена видела в произошедшем одну трагедию и, качая головой, вновь и вновь повторяла:
— Только представьте, Жак и от деревни отойти не успел. А мы-то думали, что он давным-давно в Париже.
Даже невеста батрака не смогла поверить в его непричастность и бросила парня, и тот, оправданный по закону, вдруг обнаружил, что отринут обществом. Лишь Галье обращался с ним достойно, но, когда парень пришел к нему в поместье, то узнал, что месье отбыл в Париж. Несчастный отщепенец хотел уехать подальше, однако денег на это не было, хотя вся деревня думала, что наличные Жака хрустят у него в кармане. Выходом оставалась армия: в ту пору шел призыв, пруссаки осаждали Париж, — но он так и не записался в солдаты, а просто однажды вечером напился от отчаяния и повесился.
— По крайней мере, стрелять не пришлось, — проворчал Брамон. — Сразу видно, совесть у него была нечиста.
Ему рассказали о посмертной записке, оставленной самоубийцей: «Я невиновен, но даже моя дражайшая Элен не верит в это. Как мне жить дальше?»
Брамон удивленно хмыкнул.
— Надо же, такие наглецы будут продолжать врать и перед судом Господним.
Только Эмар знал правду. В то утро, когда был убит Жак, Бертран бежал из дома. Сам способ убийства, разорванная сонная артерия, увечья и так далее, не оставлял никаких сомнений. Впрочем, доказательства-то где? Первым порывом Галье было сразу ехать в Париж, куда, как он думал, направился Бертран, но он отложил поездку на несколько недель из-за суда над незадачливым батраком. Нужно было проследить, чтобы не вышло несправедливости. Он посетил Осер, город, в котором проходил суд, и поговорил с юристами со стороны защиты, стремясь удостовериться, что парня не приговорят за убийство, после чего, дав бедняге пятьдесят франков и пообещав дальнейшую помощь, если понадобится, посчитал свой долг исполненным.
Затем, уже в Париже, он несколько месяцев спустя узнал о смерти батрака и горько себя корил. «Ну почему я тогда не поджег дом?» — думал он. Правильно ему когда-то написали: Питамоны оставляют за собой шлейф из несчастий, отравляя все вокруг. Ох, если бы он мог заставить себя признаться во всем полиции. Но странный стыд не давал сделать этого. Ужасный позор, ложащийся черным пятном на того, в чьей семье выросло мифическое чудовище — и это в век науки и просвещения!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Эмар пробрался в Париж третьего сентября, за день до полного окружения города немецкой армией[61]. Но еще по дороге в столицу он понял, что, не имея ни малейшего представления о намерениях Бертрана, найти парня будет сложно. Как на самом деле узнать, где он? Но затем в голову Эмара пришла грустная и тем не менее справедливая мысль: за Бертраном будет тянуться шлейф преступлений.
Конечно, Эмару следовало бы сразу обратиться в полицию. Но он не осмеливался так поступить. Что он скажет полицейским? Допустим: «Мне кое-что известно. По Парижу бродит человек, который в определенные ночи жаждет крови и поэтому превращается в волка и выходит на охоту». Если его сразу не засмеют, то обязательно спросят: «Вы это видели собственными глазами?» И начнется: «Нет, но у меня есть доказательства, потому что я прожил с ним под одной крышей девятнадцать лет». — «И что за доказательства?» — «Одно из них — серебряная пуля, ею стреляли в волка, но она очутилась в ноге этого юноши». — «Хотя простое наличие пули нас не убедит, все же покажите ее». — «Она у меня не с собой, однако парень появился на свет в канун Рождества, а брови у него сросшиеся…»
Нет, это безумие. До такого даже не дойдет, а если и дойдет, то что с того? «В конце концов меня запрут в сумасшедший дом. И поделом! Нет, в полицию идти нельзя, только дурака сваляю», — заключил Эмар.
Лучше всего будет дождаться, пока всё не станет ясно и другим. «И тут появлюсь я со своим заявлением. Ведь либо Бертран совершит ряд преступлений — и дело получит огласку, либо ничего не произойдет — и мне будет не о чем волноваться».
Итак, Эмар по нескольку раз в день просматривал газеты. Он нетерпеливо пропускал военные сводки и вчитывался в криминальные репортажи. Но война почти вытеснила их из новостей. Пред лицом великой важности жизни тысяч людей, идущих на смерть, прямо в зубы к огромному оборотню, выпивающему кровь из целых армий, какое значение имел такой волчонок, как Бертран?
Но вскоре путеводная нить нашлась. Умер генерал Данмон. Его смерть вызвала волну сочувствия, ибо конец генерала был трагичен. Сначала он лишился своего единственного ребенка. На следующий день его постиг еще более тяжелый удар: преступник осквернил мертвое дитя; а назавтра испустил дух сам скорбящий отец. Негодяя поймали и, после кратковременного содержания в камере для арестантов, перевели в тюрьму Гран-Рокет ожидать суда.
События можно восстановить по записям Эмара, газетам того времени, показаниям некоего Жана Робера и подобным документам.
Генерал Данмон был известной личностью в имперском Париже. Большую часть жизни он провел в поисках удовлетворения плотских желаний, но потом ему удалось добиться прочного положения в обществе, а также блистательного брака с богатой наследницей. Вопреки сплетням, он по-настоящему любил избранницу и решительно настроился быть примерным семьянином, что совсем не удивляло ввиду его близящейся отставки. Счастье не имело границ, когда небеса благословили генерала дочерью, которой, в чем он не сомневался, суждено было стать последним его жизненным достижением.
В ноябре 1870 года, когда девочке исполнилось всего пять, ее унесла скоротечная болезнь. Врача позвали сразу, но он все равно не успел вовремя и мог лишь наблюдать, как в горячке и муках задыхается ребенок, чей жар остыл лишь от холода смерти.
Последовала пышная церковная служба. Похоронный кортеж протянулся бесконечной цепочкой, несмотря на обычную в условиях войны нехватку лошадей: так много было скорбящих. На ледяных улицах закутанные в платки женщины и дети, стоя в длинных очередях за крошечными порциями мяса, провожали взглядами печальную процессию, и от этого им становилось легче переносить тяготы судьбы. Дрожать от холода — это тоже проявление жизни. Хуже, когда больше не дрожишь…
Маленький гробик привезли покоиться на Пер-Лашез. Рабочие разобрали массивные каменные плиты у входа в семейный склеп, но час был поздний, а холод стоял собачий, и они поспешили по домам, собираясь все доделать наутро.
Убитый горем отец, заливаясь потоками слез, был не в силах сдержать громкие всхлипывания и причитания о собственной жестокости: как-то раз он сорвался и злобно накричал на своего ангелочка за то, что девочка немножко порисовала на важной корреспонденции. Он никогда не простит себе этого. Ну почему он не додумался сохранить и оправить в рамы те рисунки? Теперь они стали бы самыми драгоценными реликвиями в его жизни.
Среди провожающих было много старых сослуживцев генерала, которые невольно вспоминали, как этот несчастный старик с его горькими ребячьими жалобами в течение двадцати лет травил самые сомнительные байки по всей Франции и к тому же неоднократно и сам выступал главным героем этих анекдотов. Ах, как виртуозно он умел пройтись по грани в компании юных кавалеров и дам: девушки не понимали в его историях ни слова, тогда как молодым людям приходилось держаться за бока! Это и впрямь был его любимый фокус, его конек.
Самые каменные сердца разрывались при виде отца, которого силой вытаскивали из ямы, поглотившей дитя в белом гробике. Обезумевшая мать, с трудом осознававшая происходящее, безропотно позволила увести себя обратно к длинной цепочке экипажей. А с генералом его друзьям не сразу удалось справиться.
Наконец он оказался у кареты. Но вдруг решительно зашагал к лошадям в траурных плюмажах и заговорил с возницей:
— Заедешь за мной домой завтра в пять утра. И будешь заезжать каждое утро до самой моей смерти. Отныне я все рассветы намерен встречать на кладбище.
Пораженный кучер стащил с головы цилиндр и пробормотал нечто невнятное.
Рано утром генерал сел в экипаж, не опоздавший ни на минуту. Карета неслась по темным, молчаливым улицам, совершенно пустым, если не считать нескольких телег, груженных капустой и морковью, этим скудным пропитанием для осажденного города. Извозчики клевали носом, пока терпеливые ослы и лошади стоически цокали по мостовой. На телегах, укрывшись от утреннего холода копнами шалей и платков, храпели торговки с мальчишками. То было жалкое подобие картины, какую генерал частенько наблюдал, возвращаясь под утро после затянувшейся пирушки, но тогда это было для него концом ночи, а никак не началом дня.
Данмон сидел, расправив плечи, в глазах не блестело ни слезинки. Он исполнял обет, наложенный на себя самого, и чувствовал, что тяжкая ноша горя уже полегчала. По дороге он вдруг осознал, что разделяет исполнение клятвы с незнакомцем. Человеком, который теперь тоже будет страдать от наказания, предназначенного другому. Такая мысль никогда не посетила бы его в былые дни, но сейчас она оказалась столь навязчивой, что генерал не мог бездействовать. Он попросил кучера остановиться. Затем вышел из кареты и забрался на облучок.
— Вперед, — сказал он.
Возница, оторопев, поднял поводья и хлестнул ими по спинам лошадей. В лицо подул ночной ветер. Генерал сидел с совершенно прямой спиной. Привыкший сутулиться извозчик невольно приосанился.
— Тебя как зовут? — дружелюбно спросил генерал.
— Жан Робер, к вашим услугам.
— Женат?
— Да, ваше превосходительство.
— Дети есть?
— Пятеро, ваше превосходительство.
— Девочки?
— Две.
— Любишь их?
— Видите ли, месье, они мои.
— Конечно.
— И денег на них уходит изрядно.
— Это точно, — подтвердил генерал и кивнул.
— Были малышками, ничего не стоили, разве что повитухе заплатил…
— Это да.
— Ротики-то у них крохотные, зато животы большие, все время есть хотят.
— Вот ведь чудеса, — заметил генерал из вежливости.
— Однако вырастут детки, повзрослеют, своими семьями обзаведутся, тогда, понятно, и стариков к себе взять должны, о них позаботиться.
— Хороший ребенок не забудет о таком долге, — строго подтвердил Данмон.
Кучер быстро продолжал:
— Я своих стариков не забросил, скажу я вам, но нынче дети уже не те пошли. Старших более не уважают. В газетах только про преступления и читаешь.
— Да, старые добрые деньки. — Генерал вздохнул. — Кстати, — проговорил он, будто невзначай, хотя ни на миг не забывал о том, зачем пересел из кареты, — прости, что заставил тебя подняться в столь ранний час и заехать за мной. Теперь я буду сам вставать на час раньше и ходить сюда пешком.
Извозчик погрустнел. В его голосе прозвучало разочарование.
— Да что вы, ваше превосходительство. Мне в радость, даже за счастье…
— Все хорошо, приятель, — сказал генерал и похлопал возницу по колену. — Сердце у тебя доброе. Но не хочу лишать твоих детишек компании отца по утрам просто из-за того, что я ребенка потерял. Прогуляюсь. — И опять вздохнул.
Они ехали сквозь темноту и молчали.
— Значит, конец, — прервал тишину возница и тоже не сдержал вздоха.
— Ты о чем? — спросил генерал.
— Говорю, конец.
— Чему конец?
— Хорошей работе, а я уже успел размечтаться.
— Не понимаю.
— Месье, платят нам мало, — объяснил извозчик. — А тут у меня каждый день было бы немного дополнительного заработка, да еще в такой час, когда меня никто не спросится. А я-то уже обо всем позаботился и пообещал кладбищенскому сторожу заплатить за то, что в такую рань откроет нам ворота.
Генерал призадумался.
Карета остановилась перед запертым кладбищем, и Данмон, приняв неожиданное решение, вручил кучеру туго набитый бумажник.
— Вот. Тебе столько за год не платят. Бери. Он твой. А я с чистой совестью буду каждое утро ходить сюда пешком и нести свое бремя в одиночку.
Возница, не зная, как еще выразить благодарность, опустился на колени и срывающимся от сдавленных рыданий голосом забормотал что-то невнятное.
— Не надо, дружище, — сказал генерал, покоробленный этой сценой, — поднимись. И давай-ка вернемся к делу.
— Holà! Holà! — вдруг закричал извозчик.
— Что еще?
— Надо сторожа разбудить, он там в домике спит. Обещал открыть нам ворота.
— Нет. Не стоит. Зачем тревожить его сон? К тому же не подобает повышать голос в таком месте. Лучше помоги, и мы скоро будем за оградой.
Чтобы облегчить восхождение, которое было сложно назвать незначительным, извозчик подогнал карету к самым воротам.
Время близилось к шести. Утренняя дымка, сероватая и светящаяся, возвестила холодный рассвет. На мощеные дорожки с голых мокрых деревьев падали капли. Стоило генералу с извозчиком перебраться на другую сторону, как мимо них пронеслась собака, одним скачком перемахнула через высокое ограждение, на миг задержавшись на самом верху, и скрылась в тумане.
— Что это было? — испуганно спросил генерал.
— Видать, пес сторожа, — предположил Жан Робер.
— Совсем у меня нервы сдали, — сказал Данмон. Они шли сквозь молочную пелену, и белые надгробия, похожие на скорчившиеся от холода фигуры, казались чуть более плотными сгустками тумана.
Мощеные дорожки остались позади, и под ногами захрустел гравий боковой тропки, единственный греющий душу звук в царстве скорби. Но даже в этом уютном звуке, повторенном многократно, постепенно начало мерещиться беспокойство, а затем тревожная нота, чуть ли не угроза. Лишь скрип гравия был слышен на кладбище, только он — один на целом свете. Хрусть! Хрусть! Хрусть! Две пары ног то работали в такт, усиливая звучание, то сбивались с ритма, ступая невпопад, затем опять двигались в унисон, как танцоры в особенно сложной фигуре, как милующиеся и тут же ссорящиеся любовники.
Этот звук заполнил генерала целиком. Сердце, тело, разум подчинялись неумолкающему поскрипыванию, похрустыванию, пока его глаза наконец не нашли могилу дочери, могилу, пребывающую в странном беспорядке.
Он попытался разглядеть ее сквозь туман. Невольно ускорил шаг. Господи! Боже! Смилуйся надо мной! Белый гробик оказался перевернутым набок; крышку кто-то сорвал и разломал. От тела его девочки остались лишь жуткие ошметки, разбросанные по земле. Вдали загрохотала канонада: прусские войска начали обстреливать форт Мон-Валерьен.
Два часа спустя кладбищенский сторож совершал утренний обход и натолкнулся на ужасную сцену. Его собака, старая, молчаливая псина, редко разражавшаяся лаем, вдруг рванула вперед и с возбужденным рычанием принялась обнюхивать лежащего у могилы генерала Данмона и раскиданные вокруг останки ребенка, похороненного днем ранее.
Полицейские быстро прибыли на вызов и сразу же приступили к расследованию. Положение генерала в обществе, равно как и отвратительный характер преступления, требовали незамедлительных действий. Генерала отвезли домой. Он метался в горячке и не мог отвечать на вопросы, но славящаяся своей сообразительностью полиция Парижа не дремала. Не прошло и трех часов, как инспектор с командой из четырех человек и с ордером в кармане прибыл в переулок у ворот Сен-Мартен. Они остановились у невзрачного двухэтажного домишки. От главного крыльца вверх змеилась темная лестница. Приказав полицейским ждать, инспектор, человек по природе несмелый, тем не менее почувствовал себя обязанным возглавить подъем на второй этаж, что он и сделал, взведя курок. Этим его предосторожности не ограничились, и каждый свой шаг он сопровождал громким выкриком: «Именем закона!».
Наконец он добрался до нужной двери и постучал в нее. Ему открыла неряшливая женщина с двумя ребятишками, держащимися за подол; третий восседал у нее на согнутой в локте руке. Свободной рукой она откинула черные пряди со смуглого, но не лишенного прелести лица и, презрительно усмехаясь, сказала:
— Под кроватью он, трус проклятый!
Инспектор, чья робость преобразилась в храбрость, да что там, в настоящую браваду, стоило ему только услышать, что есть кто-то трусливее его, свистнул подручным, тут же примчавшимся к нему вверх по ступенькам.
— Вытащите его! — сказал он и ткнул пальцем в сторону большой неприбранной постели со сваленными горой перинами и пуховыми подушками.
Из-под кровати выволокли перепуганного до смерти мужа. В руке он сжимал тяжелый бумажник из красной кожи с изящным гербом, вышитым золотой нитью.
— Угу, — хмыкнул инспектор и схватил портмоне.
Внутри лежали четыре тысячи билетами Банка Франции.
— Так, так, — с веселой ухмылкой проговорил инспектор, поддразнивая несчастного, упавшего перед ним на колени. — Деньги, конечно, твои?
— Мои! — неистово закричал извозчик. — Мои, мои. Ох, не забирайте. Нам они так нужны. Мои, всеми святыми клянусь. Разве вы не видите, в какой нищете живем?
— Конечно, твои, приятель. И ты думаешь, у нас хватит жестокости тебя с ними разлучить? Нет, ты тоже пойдешь, вместе отправитесь. Allons, mon cher croque-mort! En route![62]
Полицейские подняли извозчика с колен.
Жан Робер бросил отчаянный взгляд на жену.
— И ты? Ты тоже?
Она отвернулась.
— Уведите его. Вор! Пес шелудивый! Я на него всю жизнь горбатилась, пятерых ему родила, потому что любила, верила, что он в следующий раз чужого не возьмет.
— Говорите, в следующий раз? — повторил за ней офицер и присвистнул. — Так, значит? И давно?
— Три года в тюрьме в Безансоне провел, — сказала жена. — Всеми святыми клялся, что больше не украдет, лишь бы я его обратно домой пустила. Господи, что я за дура, опять ему поверила. Выметайтесь отсюда, все!
Сначала извозчика, Жана Робера, отвели в участок, где записали имя, фамилию и прочие сведения, а затем, под холодным дождем, погнали вокруг внушительных размеров здания в тюрьму для арестантов при префектуре полиции, ни днем, ни ночью не прерывающей работы. Там, в крохотной камере, Робера оставили гадать, что за шутку сыграла с ним судьба. Вдруг разбогател и теперь оказался беднее прежнего. Но как он ни ломал голову, так ничего и не понял. Зато вспомнил, что когда-то сказал ему священник, навещавший узников безансонской тюрьмы. Там, стоило Роберу начать стенать, повторяя, что, хотя он сыграл ничтожную роль в совершенном преступлении, его подельники получили куда меньшие сроки, этот старый врачеватель душ говорил: «Сын мой, виновный человек часто вынужден подвергаться наказанию, причитающемуся другому преступнику. Вдобавок, мир наш столь грешен, что иногда страдают даже невиновные; с другой стороны, наш мир также полон благости, временами дозволяющей грешнику наслаждаться покоем. Но это исключения. Гораздо чаще именно виновные расплачиваются за губительные деяния, а невинные вознаграждаются. Исключения лишь подтверждают правило. А правило таково: если ты не преступил моральные устои, тебе не надо бояться возмездия».
Так часто сей добрый и благожелательный священник уверял в этом Робера, что его слова, пусть и не понятые в то время, навсегда запечатлелись в памяти узника. И вот наконец до него дошел их смысл: если ты не нарушаешь закон и живешь в рамках правил, ты в совершенной безопасности, но все поворачивается для тебя иначе, когда ты принадлежишь к пограничной группе людей, не относящихся ни к великим грешникам, ни к настоящим святым, то есть являешься одним из тех, у кого всегда найдется повод жаловаться на суровость правосудия, ибо оно то и дело наказывает их строже, чем они заслужили. «Сын мой, — предупреждал священник, — избегай даже намека на грех».
Роберу снова вспомнилось это предостережение, когда полицейский отвел его к juge d'instruction[63] в небольшой зал поблизости. Несколько скамей, отдельный стул для подозреваемого, секретарь, склонившийся над бумагами: «Par devant nous, Gustave Le Verrier, juge d'instruction, sont comparus: Jean Robert, cocher attaché aux services des pompes funèbres»[64] и так далее. Самого Густава Леверье, следственного магистрата, пока не было видно.
Однако вскоре чиновник явился, и тогда его стало невозможно не увидеть. Он был огромен. Человек-гора. Просторная судейская мантия свободно колыхалась вокруг его телес и ниспадала великолепными складками, подобно театральному занавесу. Большое, здорового цвета лицо, обрамленное светлой бородой, сквозь которую просвечивал румянец, беспрестанно озарялось улыбкой.
Он посмотрел на заключенного с таким снисхождением, что в погруженной во мрак душе несчастного вспыхнуло солнце надежды.
— Quel temps, quel temps affreux[65], — пробубнил Леверье громыхающим басом и перевел взгляд на заключенного в поисках подтверждения.
Робер растерялся, и тогда судья подался вперед, приблизив исполинское лицо к арестанту и открыв пещеру рта, окаймленную сверкающими зубами и розовыми деснами с блестками слюны.
— Ну-у? Сказать, что ли, нечего? — то ли выдохнул, то ли проревел он.
И Робер промямлил:
— Oui, monsieur le juge… паршивая погода, воистину паршивая!
Гора плоти отодвинулась от бедняги, опять расцвела улыбка, и толстые губы прогудели:
— Пускай такая, для разнообразия!
Маленькие сияющие глазки, утонувшие в жире, впились в Робера, белая рука с пальцами-сосисками пренебрежительно взметнулась. Робер с воодушевлением подтвердил сказанное.
Последовали предварительные формальности, затем на вопросы ответили сторож и какой-то суровый господин, оказавшийся смотрителем кладбища (до этого Робер видел его только издали), и наконец судья обратился к подозреваемому:
— Вам знакома тридцатая седьмая статья седьмого раздела?
— Нет, месье.
Робера затрясло.
— Как?! Вы работаете кучером при похоронном бюро и не знаете, что частный наем извозчиков запрещен?
— Нет, месье, это мне известно.
Судья гневно оглядел человека, который одновременно знал и не знал что-то.
— А тридцать восьмую статью знаете? Эту-то помните?
— Нет, месье.
— Она гласит, что вход ночью на кладбище запрещен.
— Да, месье, это я помню, но…
Определенно, последнее переполнило чашу терпения судьи.
— Так помните или нет? — взревел он.
— Помню, помню, — тихо проговорил Робер.
— Тогда скажите, что написано в статьях сорок восьмой и сорок девятой в главе десять?
Не в силах соображать так быстро, Робер пролепетал:
— Не знаю.
Тут судья сдался. Откинулся на стуле, пожал плечами и произнес наипрезрительнейшим тоном:
— В сорок восьмой запрет на собак, а сорок девятая гласит, что нельзя перелезать через ограду. Я вижу, вы не знакомы даже с правилами, касающимися вашей собственной профессии, хотя они везде висят перед глазами и выучить их несложно. Посему полагаю, что вы вряд ли знаете тридцать шестую статью Code d'instruction Criminelle[66].
Робер промолчал, и судья повысил голос:
— Отвечайте!
Робер поспешно признался в неведении.
— Sera puni d’un emprisonnement et cetera[67], — нараспев проговорил магистрат. — Виновный в надругательстве над могилами или склепами будет приговорен к тюремному заключению от трех месяцев до года и к штрафу в размере от шестнадцати до двухсот франков. И это не единственное наказание за преступления и правонарушения, которое здесь можно применить… Я сейчас говорю о краже бумажника, — и он опять пустился в многословные объяснения. — Теперь позвольте мне зачитать решение Cour deCassation[68] от двадцать третьего июня 1866 года: «Проникновение в склеп считается преступлением, если нарушитель имел преступные намерения. Но даже если таковых не было, подобное проникновение всегда признается оскорблением памяти усопших».
— Тут закон вручает нам весьма тонкий инструмент, этакий пинцет, — восторженно продолжал судья. — Является ли преступлением нарушение целостности захоронения, зависит от намерений виновного. Несомненно. Но эти намерения безусловно преступны, если могила была потревожена. — Он довольно улыбнулся. Леверье ценил тонкости юриспруденции. Его лицо, когда он опять обратился к Роберу, лучилось дружелюбием, источало любовь: — Понимаете, насколько наши замечательные законы простирают длань защиты даже на мертвых? Во Франции почившим бояться нечего.
Робер покорно поспешил подтвердить это.
Далее рассматривался вопрос о краже портмоне и, когда буква закона была приложена и к этому случаю, Робера попросили сделать заявление. С его слов было записано, что он признал себя виновным в желании подзаработать на стороне и в намерении поделиться деньгами с несколькими другими наемными служащими, чья помощь в этом деле могла оказаться неоценимой. Однако, помимо вышеперечисленного, иных проступков за ним не числилось. Генерал сам отдал ему деньги. Над могилой кто-то надругался до их прихода. Генерал упал в обморок, а Робер в страхе сбежал.
На этом следствие завершилось. Магистрату только и осталось, что решить, стоит ли задерживать Робера для суда или нет.
С этим он справился быстро. Если человек невиновен и честен, то он не станет противоречить сам себе. Лишь преступники склонны путаться, знают они что-то или не знают. Робер, без сомнений, виновен и должен предстать перед судом. А пока его следует поместить в тюрьму Гран-Рокет.
— От нее до места преступления, кладбища Пер-Лашез, рукой подать, — прозвучал окончательный вердикт. В тюрьме Робер должен был дожидаться выздоровления Данмона, и тогда генерал сможет свидетельствовать против него.
Извозчик сложил руки в молитвенном жесте.
— Но генерал знает, что я невиновен!
В ответ магистрат одарил его дружелюбнейшей из своих улыбок. Огромное лицо буквально озарилось благодушной радостью.
— Тогда, безусловно, он сообщит об этом суду.
— Но как же моя работа и семья?
— Это просто суд, приятель, и суд не небесный. Закон карает за преступления, он не вознаграждает невиновных.
Когда Жана Робера увели, судья пробубнил:
— Ну почему никто не знает законов? — И пожал плечами. Этот жест походил на землетрясение в горах. Величественные складки мантии колыхались ничуть не хуже морского прибоя. Затем служитель правосудия чинно удалился для краткого посещения недавно установленных писсуаров с проточной водой — всё в лучших английских традициях.
К несчастью, в этот крайне неудачный момент генерал Данмон испустил последнее дыхание. Газеты, естественно, с прискорбием сообщили о роке, обрушившемся на генерала в последние дни, и таким образом Эмар узнал о случившемся.
«Это точно Бертран», — подумал Галье, вспоминая Вобуа. Чем больше он размышлял, тем сильнее убеждался в этом. Он поспешил в тюрьму и попросил встречи с судьей Леверье.
Его представили, и он тут же приступил к делу:
— Полагаю, мне известно, кто совершил преступление на Пер-Лашез. То есть, мне кажется, я догадался, кто ответственен за надругательство над телом ребенка.
— Неужели? — Магистрат расплылся в широкой улыбке, однако в ней не хватало того тепла, что часто озаряло его лицо, подобно огню в распахнувшейся дверце топки.
— Виновен юноша, с которым я прожил много лет и отметил его склонность к подобным деяниям.
— Как его зовут?
— Бертран Кайе.
— Парижанин?
— Думаю, что сейчас он обретается в Париже. Он сбежал из дома.
— Даже так?.. А вам известно, что преступник уже установлен?
— Да, но этот человек, вероятно, не виновен в преступлении.
— Это будут решать присяжные и судьи, — холодно заметил следственный магистрат.
— Но задержанный вами человек может знать что-либо про настоящего преступника. То есть про Бертрана Кайе. За решеткой должен сидеть другой. Раз он начал совершать преступления, ему не остановиться, их будет много.
Судья подался вперед, его огромный подбородок уперся в край кафедры. Когда он заговорил, голова задвигалась вверх и вниз в такт открывающемуся рту.
— А если я задержу вас, то преступления будут совершаться?
— Меня? Разве я имею какое-то отношение к происходящему?
Магистрат опять откинулся на спинку кресла. Определенно, мир людей, не изучавших законы, полон противоречий. То они что-то знают, то опять не знают; сначала одно, потом совершенно противоположное.
— Мне кажется, вы сказали, что как-то замешаны в этом?! Но если я ошибаюсь, тогда зачем вы суете туда нос? — Его голос возвысился до раскатов грома.
Эмар попятился, пробормотал какие-то отговорки и как можно быстрее ретировался.
Но он не перестал просматривать газеты и на следующий же день натолкнулся на сообщение, что еще одна свежая могила на Пер-Лашез оказалась разрыта. Затем были вскрыты несколько могил на кладбище Монмартр, потом опять на Пер-Лашез. Несмотря на неудачный опыт общения со следственным магистратом (Эмара бросало в дрожь при мысли, что могло произойти, раскрой он истинную природу преступления тому человеку), Галье решил встретиться со смотрителем кладбища Монмартр. Тот оказался приветливым старичком. Когда клерк сообщил ему о цели посещения Эмара, он сразу пригласил его в кабинет и представил своему гостю, смотрителю с Пер-Лашез.
— Нам было бы интересно узнать, что вы скажете, ибо мы только что пришли к поразительному выводу.
— Какому? — быстро спросил Эмар, надеясь, что они не пришли к мысли о существовании оборотня.
— Сначала говорите вы, а потом мы.
— У меня есть знакомый юноша, мой дальний родственник, который выказывал подобные наклонности в нашей провинции.
— Гм.
— Недавно он приехал в Париж, и я его разыскиваю, потому что знаю, как его приструнить.
— Хм…
— Так вот, я полагаю, что это дело его рук.
— Боюсь, это не наш случай.
— Почему?
— Мы внимательно осмотрели следы на оскверненных могилах, здесь и на Пер-Лашез, и там следы не человека, а…
— Волка! — воскликнул Эмар. — Или большой собаки, — поспешно добавил он.
— Откуда вы знаете? О волке мы не думали. Почему вы так сказали?
— Видите ли, — Эмар замялся, — у него есть ученый пес (помесь с волком, понимаете), и эта собака помогает ему.
— Ясно, — произнес один из господ. Он задал Галье несколько вопросов о прочих сведениях, именах, деталях, и Эмар старательно отвечал на них, тогда как смотритель делал заметки.
— Надеюсь, эта напасть в скором времени прекратится, — заверил он Эмара. — Каждый вечер мы ставим возле свежих могил пружинные капканы, и мародер, будь то человек, волк или собака, скоро попадется в их весьма неуютные стальные тиски.
— Беспокоит лишь одно, — сказал второй смотритель, — война вот-вот доберется и до наших кладбищ. На Монмартре и на Пер-Лашез установят пушки для обороны Парижа, если внешние укрепления, не дай Бог, падут.
— Можно подумать, — вмешался первый, — что люди очень спешат умереть, раз одну за другой затевают войны. Неужто им кажется, что если они перестанут убивать, смерть отступит от мира? Уверяю, они глубоко ошибаются, если так думают. Я не помню ни одного дня, прошедшего без похорон.
Это скорбное напоминание, внезапно изменившее течение беседы, позволило Эмару не выдать своего страха: бедняга Бертран может угодить в мощный стальной капкан. Хотя почему бы и нет? С делом надо покончить — так или иначе.
Он отправился домой и стал ждать. Но ничего не происходило. Набеги на могилы, очевидно, прекратились. Прошло пять дней, он навел справки на кладбище: новых попыток вскрыть могилы не было.
Смотритель по этому поводу сказал:
— Либо наша теория о собаке неверна, либо зверь почуял ловушки. Похоже, вы правы, месье Галье, и здесь орудует человек. Возможно, это один из наших работников или кто-то с ними сговорившийся. Иначе как объяснить, что едва ли не ежедневные набеги на могилы внезапно прекратились, когда мы установили капканы, и за последние пять дней ни разу не повторялись?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Просматривая хронику событий в «Galignani’s Messenger»[69] от семнадцатого ноября, Эмар случайно задержал взгляд на небольшой заметке и мгновенно испытал настоящее потрясение.
«В военное время по Парижу всегда гуляют рассказы о нападениях волков. Вот одна из этих вечных историй. Приближение суровой зимы, успевшей возвестить о себе холодами, и голод, царящий в нашем несчастном городе, опять возродили эту бессмертную легенду. В предместьях ходят слухи о волке, иногда даже о волчьих стаях (!), а один из свидетелей пытался нас убедить в том, что особь такого волка удалось отловить и отправить в Jardin d'Acclimatation[70] для изучения. Точно неизвестно, что именно там произошло. Однако не стоит думать, что слух исходит от ученого, подобного нашему уважаемому Э. Жоффруа Сент-Илеру».
Статья заставила сердце Эмара сжаться. Ему тут же стало ясно, что в ней содержалась доля правды, а поводом для ее написания являлся не кто иной, как Бертран. Конечно, косвенно. Но к этому часу, после долгих недель пребывания в Париже без малейшего намека на обнаружение Бертрана, кроме череды ужасных преступлений, из которых ни одно не было приписано чудовищу, волку-оборотню, Эмар успел настроиться определенным образом и обрел способность улавливать мельчайшие детали, относящиеся к делу, как ученый видит в микроскоп колонии организмов в капле грязной воды.
«Как волк может пробраться в Париж?» — размышлял он. Разве прорваться через германские линии? Чепуха! Следовательно, тот волк и есть наш Бертран. Ведь он уже в Париже! Дальновидное наблюдение, пусть и не такое прозорливое, как у Ньютона, узревшего в падении яблока беспрерывное падение Луны. Да, это след. Четкий и несомненный. К тому же, не время пренебрегать любыми уликами. Эмар решил действовать.
Голод в Париже, как упоминалось в газетной заметке, тогда достиг внушительных размеров, если, конечно, можно сказать, что пустота обрела впечатляющую полноту. Хотя вопрос о снабжении столицы продовольствием стоял с самого начала войны, так как Париж находился в опасной близости от границы и врагу не требовалось совершать длительные переходы до него по французской территории, решать проблему никто не пытался до ночи на пятое августа, когда над городом нависла настоящая угроза. Правительство тогда только-только получило телеграмму о поражении в битве при Вейсенбурге[71].
Господин Анри Шевро[72], недавно сменивший на посту префекта департамента Сены — известного, хотя и печально, барона Османа[73], «украшателя» Парижа, — собрал комитет из муниципальных чиновников и приказал завезти в город достаточное количество продуктов питания для населения, фуража для лошадей, соли, мяса, вина и прочего. Комитет неоднократно заверяли, что все меры, необходимые для защиты жителей от голода в период длительной осады, приняты, а Париж оказался в окружении лишь в сентябре, то есть через шесть с лишним недель после приказа, однако в столице чуть ли не сразу начало исчезать продовольствие, отчего цены взлетели вверх. Талоны, выпущенные правительством, не помогли. Проницательные бедняки восприняли происходящее, как всегда, рассудительно и философски. Они заметили, что стоит по Парижу прокатиться молве, пусть и необоснованной, о предстоящих мирных переговорах, как на прилавках опять появляются продукты, а цены падают. Дело в том, что все, кто обладал средствами и возможностями, скупали еду, надеясь перепродать ее с барышом, но при этом были вынуждены избавляться от части запасов ввиду слухов о близком окончании осады. В действительности еды в Париже было много, но рынком правила частная корысть.
Имя Жоффруа Сент-Илера также привлекло внимание Эмара. «Сент-Илер? — удивился он. — И в таком сочетании — Жоффруа Сент-Илер. Любопытно. Неужели мой старый знакомый?» Если так, то это существенно облегчало задачу. Жоффруа Сент-Илер вряд ли позабыл его и наверняка будет рад увидеть вновь. Без сомнения, это тот самый. Жоффруа Сент-Илеры[74] были всегда связаны с зоологией.
В тот же день Эмар появился в приемной директора Jardin d'Acclimatation.
Ему сказали, что господин directeur слишком занят.
— Передайте, — ответил Эмар, — что мы с ним были знакомы еще в ту пору, когда он не знал слов «слишком занят».
Клерк быстро вернулся из кабинета директора. Секунду спустя Жоффруа Сент-Илер, потомок знаменитого Жоффруа Сент-Илера, вести об открытиях которого Гёте считал более важными, чем участь королевств, выглянул в приемную, очевидно, желая посмотреть, кто там, и тут же вернуться к себе.
— Месье… — быстро начал он, но сразу замешкался. — Tiens, c'est tu[75], Эмар!
Они обнялись.
— Как жизнь?
Последовал краткий обмен новостями, но Эмару хотелось сразу приступить к делу.
— Я прочитал в газете, — сказал он, — что сюда привезли волка.
Директор издал нервный смешок.
— Волка? О, да. Ха! Конечно, в газетах всякое пишут. — Вдруг он посерьезнел. — Тебе хочется разузнать об этом волке?
— Да, очень! — воскликнул Эмар. Затем, совладав с эмоциями, попытался объяснить: — Я пришел сюда именно для этого. Погоди, я все расскажу.
— Не надо, друг, — тихо и без улыбки ответил директор, — боюсь, я сам все прекрасно понял. — Он помедлил, а Эмара пробрала дрожь. — Дай подумать. Хм… Я занят по горло, но ты пришел как нельзя вовремя. Мы с Мобером приглашены на ужин. Помнишь его? Мобера, здоровяка Мобера? Нет? Ладно, в любом случае он не может пойти, поэтому со мной пойдешь ты. Встречаемся здесь через два часа. Отправимся вместе. Да, приходи сначала сюда, — спешно закончил он. Эмару показалось, что его друг разволновался.
— А как же волк?
— Ах, да. Волк, — таинственно произнес Сент-Илер и скрылся у себя в кабинете.
Изумленный и заинтригованный Эмар, в голове которого вертелась сотня предположений, вернулся домой переодеться и ровно через два часа опять стоял в приемной директора. «Ему все известно», — думал он, но, появившись, Жоффруа Сент-Илер вел себя как ни в чем не бывало.
Он дружески подхватил Эмара под руку и потащил к воротам, где уже ожидал экипаж, помчавший их прочь на большой скорости.
— Куда мы? — спросил Эмар.
— К доктору Анатолю де Гранмону.
— А волк? — напомнил Эмар.
— Тсс! — прервал его директор.
Путь оказался коротким. Вскоре они покинули карету и вошли в красивый старый особняк. За гостиной виднелась ярко освещенная столовая, а там — накрытый на десять персон стол. На белоснежной скатерти сверкали фарфор и хрусталь, серебро и золото.
Жоффруа Сент-Илер представил Эмара и пояснил:
— Бедняга Мобер не смог прийти. Я взял на себя вольность привести старого друга, месье Эмара Галье, убежденного республиканца. Это наш хозяин, доктор Анатоль де Гранмон, и его гости, месье де Катрфаж и Антуан Ришар дю Канталь[76], члены нашего Société impériale zoologique d'acclimatation. Месье Демаре, знаменитый…
— Мы знакомы, — сказал Эмар. Они обменялись рукопожатием.
— Месье Декруа, наш прославленный пропагандист употребления конины.
— Она насыщенней, питательней и полезней для здоровья, — сурово сказал месье Декруа.
— Месье Гро, чей отец понял, как из овечьей шерсти делать шелк.
— Месье Дежен.
— Месье Жиродо[77].
Эмару показалось, что компания собралась не просто так. Все они, конечно, имели определенный интерес к условиям содержания животных, но за этим стояло еще что-то. Они беспрестанно перешептывались и хмыкали, однако ему никак не удавалось уловить общего смысла встречи. До его слуха донеслось:
— Не сомневайся, ты справишься.
— Боюсь, я слишком склонен к обморокам, — последовал ответ.
Оказавшись поблизости от своего друга, Жоффруа Сент-Илера, и более не опасаясь чужих ушей, Эмар напомнил:
— Как же волк?
— Узнаешь в свое время, — поспешно оборвал его directeur.
Эмар продолжал мучиться: неужели его тайна раскрыта и все это перешептывание — признак замаскированного возбуждения?
Вдруг хозяин попросил тишины.
— Господа! Послушайте меня, пожалуйста! Я вижу, что причина, по которой мы собрались сегодня на ужин, больше не секрет, как нам хотелось бы. Но это неважно. Всем вам известно, что сейчас наша дорогая Отчизна, наш возлюбленный Париж, жемчужина Европы, в великой опасности. Мы здесь, нас почти два миллиона, и пищи фатально не хватает. Враг знает это и стремится воспользоваться нашим бессилием. Но с Господней помощью мы сумеем выстоять, пока провинции собирают войска и спешат нам на выручку под предводительством храброго Гамбетта[78].
Мы тоже можем внести свой скромный вклад. Мы тоже можем помочь. У нас тоже, господа, имеется свой план. Это не изобретение, которое разнесет армии в пух и прах, не стратегия грандиозного сражения, не тактика нашего дорогого Трошю[79] или любого другого из наших храбрых генералов. Это, друзья мои, дар зоологической науки человечеству. Не только нашему многострадальному городу, нет. Всему миру, чей выбор продовольствия сейчас ограничен ничтожно малым числом животных.
Это исторический момент. У нас есть веская причина запомнить его. Мир воздаст почести нашей смелости. Мы разорвем цепи, которыми нас сковали глупые предрассудки и традиции.
Господа, проведем это время весело. Мы, все как один, Колумбы и стоим на пороге исследования нового мира, открытия новых вкусов в кулинарии, обретения новых продуктов питания. Так давайте, как я сказал, воспримем это весело. Вы слышали анекдот, который сейчас повторяет весь Париж? Он возвещает новую эру. Отринем же все, что мы знали прежде, и войдем в нее с улыбкой.
Какой анекдот? Да вот этот: один добрый парижский буржуа, сильно страдающий из-за того, что между зубов ему положить нечего, принес в жертву великому богу аппетита собственного пса. Сидят они с женой в тишине и поглощают своего драгоценного фокстерьера. Жена поднимает глаза и видит, что муж аккуратно выкладывает кости из тарелки, как привык делать. «Зачем все это теперь?» — спрашивает она. Муж одергивает себя и со вздохом отвечает, качая головой: «Ах… Какая незадача! Фидо от этих косточек был бы в восторге».
Хотя некоторые гости уже знали этот анекдот, все одобрительно посмеялись, а затем прошли в столовую и сели за стол. Эмар начал кое-что понимать. Но еще не все.
Суп был великолепен. Все наперебой расхваливали его, особенно месье Декруа, ратовавший за включение конины в рацион человека. Причина сразу стала очевидна. Как только тарелки очистились, хозяин огласил состав блюда — бульон из конины, заправленный пшеном.
Подали relevés (закуски). Восторженные восклицания! Позвали повара, дабы выразить ему свое восхищение. Эмар, немного сбитый с толку, попробовал поданное, нашел вкус приятным и продолжал недоумевать. Гости весело обменялись репликами, после чего хозяин зачитал пояснения:
— Это была зажаренная печень собаки на шпажках a la maîtred'hôtel[80] и рубленый кошачий окорок под майонезом.
Эмар подавил отвращение. Хозяин наверняка пошутил. Галье повернулся к другу за поддержкой, но Жоффруа Сент-Илер делал заметки на обратной стороне какого-то письма. Последовали entrées (главные блюда). Ими, как потом выяснилось, оказались: собачьи лопатка и вырезка, тушенные в томате; кошачье мясо в горшочке с грибами; собачья отбивная с зеленым горошком; рагу из дичи, в данном случае крыс, в горчичном соусе.
Внесли жаркое на огромных тарелках. Эмар с трудом удерживался, чтобы не сползти под стол. Если бы не его ученые сотрапезники, со спокойной рассудительностью пробующие блюда, критикующие, обсуждающие и сравнивающие их, он давно бы сдался и упал в обморок. В жарком под перечным соусом скрывались собачья нога и енот; оно сопровождалось салатом из бегонии с приправами и добавлением охлажденных вареных мышей, а также английским пудингом с лошадиным костным мозгом.
А блюда все вносили и вносили.
Наконец пиршество завершилось. Те, кто помудрее, брали в рот лишь по кусочку, иначе переедания было бы не избежать. Когда насытившаяся компания откинулась на спинки стульев, Жоффруа Сент-Илера попросили зачитать сделанные записи.
— Суп был отличный. Некоторым пшено показалось недоваренным, но даже они не могли не похвалить общий вкус.
Наше отвращение к поданной на шпажках собачьей печени мгновенно улетучилось, стоило лишь попробовать это изысканно приготовленное блюдо. Больше всего оно напоминало почки ягненка, но превосходило их нежностью.
С печенью подавался рубленый кошачий окорок. Это белое мясо было немного похоже на холодную телятину, но приятнее. Стоило бы рекомендовать его людям с ослабленным здоровьем.
Тушеные собачьи лопатка и вырезка удостоились многих комплиментов, в том числе сравнения с козьим мясом.
Кошатина в горшочке, пусть и несколько жестковатая, оказалась столь ароматной, что, не будь количество подаваемых блюд так велико, многие с радостью попросили бы добавки.
В собачьей отбивной было многовато уксуса (полагаю, другие гости поддержат меня). Мясо довольно волокнистое, но неплохое.
Изысканное крысиное рагу удостоилось только похвал. Его можно поставить рядом лишь с мясом ласточек.
Собачья нога обладает великолепным вкусом, хотя грубовата по фактуре. Лучшими в ней были те части, что прожарились меньше всего и сочились кровью; однако енот мало кому понравился — слишком пресен.
Салат из бегонии имел сходство со щавелем. Думаю, он отлично оттенял чрезмерно специфический и соленый вкус мяса. Надо продолжить опыты в этой сфере. Холодные мыши походили на креветок, и некоторые даже обвинили повара в мошенничестве.
Самым удачным блюдом ужина следует признать крысиное рагу. Не понимаю, как мир мог столько времени отказываться от такой вкусной пищи. Я, например, стал ее поклонником. С этих пор, в дни как голодные, так и изобильные, мой рацион будет часто украшен крысиным мясом, а мои гости обязательно полюбят его, как я. Да, я предвижу скачок в развитии производства: наши гурманы быстро уничтожат диких крыс, и мы предстанем перед необходимостью выращивать крыс на фермах, что, конечно, приведет к улучшению породы, если здесь вообще стоит что-либо улучшать.
Пусть добрые вести выйдут из этой комнаты в мир. Крыса — отличный продукт! Не думайте, что для приготовления обеда человеку понадобится много крыс. В одном зверьке, без шкуры и костей, почти восемь унций[81] мяса, из которого одну унцию составляет печень, очень жирная и питательная. Двух крыс вполне достаточно для небольшой семьи. Стоит людям один раз попробовать крысятину, и они от нее больше не откажутся.
Позволю себе закончить одним критическим замечанием и одним предупреждением. Критика: наш повар действовал смело, но совершил ошибку, стремясь скрыть непривычный привкус мяса пряными и густыми соусами. Эти сорта мяса вскоре будут цениться именно за свою необычность.
И я бы развесил следующее предупреждение во всех частях города: «Прежде, чем готовить крысиное мясо, его необходимо отварить для профилактики трихиноза[82], случаи заражения которым уже имели место»[83].
Жоффруа Сент-Илер сел на место под раскат аплодисментов. По английской традиции, подали портвейн. Эмар схватил стакан и жадно выпил, пытаясь успокоить возмущенный желудок.
Ужин так затянулся, что вскоре гостям пришла пора расходиться. Эмар собрал волю в кулак и сумел рассыпаться в комплиментах по поводу вкусной еды и редкого опыта.
— Разумеется, это только начало, — сказал Жоффруа Сент-Илер, когда они вышли на улицу. — Мы еще к насекомым не приступали. — Он гордо и привольно расправил плечи. — Пройдемся немного, подышим. Ночной воздух так освежает.
Эмар не мог не согласиться с этим.
— Да, о насекомых, — продолжил директор. — Ты когда-нибудь постельных клопов пробовал? Они сладкие! Хотя пахнут отвратительно. А саранча! Такого ты раньше точно не ел. Вот доберемся до нее, и нам понадобятся новые термины для описания вкуса. Человек всеяден. В этом отношении зоологи всегда объединяли людей с медведями. Так к чему скромничать, если перед нами такое разнообразие, только руку протяни? Колумбы! Старина Гранмон подобрал верное слово.
Эмар не решился сразу прервать череду элегических мечтаний ученого, который в эту минуту казался чуть не пророком. Но потом робко напомнил:
— А как же волк…
И тут Жоффруа Сент-Илер повел себя необъяснимо. Он повернулся к товарищу, схватил его за руку и с чувством произнес:
— Знаю, мой друг, все понимаю. Но больше ни слова.
Что же он знает? Эмар терялся в догадках. Неужели он и вправду что-то понял? Ужин заставил Галье усомниться в этом. «Они все превратились в волков, — подумалось ему. — Бертран их заразил, но о моем волке им ничего не известно. Однако, когда тебе повторяют, что все понятно, надо благодарно кивать головой». И Эмар кивнул. Какое-то время они шли молча.
— Милый Галье, если бы я только знал, можешь мне поверить… Думаешь, это было жестоко с моей стороны? Но, эх… Ты сам подумай: это было похоже на анекдот, рассказанный Гранмоном.
— Какой анекдот?
— Про собаку.
— Анекдот про собаку?
— Видишь ли, когда ты пришел ко мне с вопросом про волка, я сразу догадался: ты знаешь, что это был не волк. А уж когда ты показал, как сильно тебя интересует это дело, я все мгновенно понял.
— Понял что? — спросил Эмар, с трудом следивший за мыслью.
— Это была твоя собака. Конечно, все вокруг, кроме того репортера, сразу догадались, что пойман отнюдь не волк. Но газетчик жаждал сенсации. А мы хотели заполучить собаку для нашего повара. Услышав тебя, я подумал, не будет ли жестокостью, если я промолчу? И меня осенила счастливая идея: возьму тебя с собой, и ты хотя бы побываешь на похоронах. Это ведь лучше, чем ничего? Плохо, понятно, но все же…
Слова «счастливая идея» ножом резанули по сердцу Эмара. На том адском ужине действительно подали собаку или волка! Бертрана! Они съели Бертрана! Его плоть была изысканной на вкус, хотя и несколько волокнистой! Боже всемогущий!
Эмара переполнил неизбывный ужас, и он помчался прочь, не сказав ни слова.
— Но, Галье… прости меня, — услышал он крик директора за спиной. Эмар бежал так, будто за ним гналась волчья стая, в животе бурлило. Он остановился в темной арке, и его вывернуло наизнанку — до слабости, до чистоты.
Эмар почувствовал себя лучше только тогда, когда утренние газеты известили о новом, кошмарном и кровавом преступлении. Они не убили Бертрана! Он все еще жив. И вот доказательство: «На рю де Будапешт проживала Нормандская Красотка; по крайней мере, так она называла себя в надежде привлечь клиентов из провинции, и была она проституткой честных правил, весьма уважаемой в своих кругах и не только. Вчера ночью, по утверждению консьержки, Нормандская Красотка вернулась домой в сопровождении молодого человека приятной наружности, одетого в мундир Garde Nationale[84]. Они поднялись наверх, и все было тихо, пока не вскрылось дело рук того юноши. Теперь место Нормадской Красотки, любимицы ее многочисленных земляков, обосновавшихся в Париже, вакантно. Она мертва. Изрезана грубым, зазубренным орудием. Буквально разорвана на части. Ее нашли на полу комнаты в луже крови. Ничего не украдено. Неужели лондонский Джек Потрошитель[85] пересек Ла-Манш? Полиция прочесывает гвардейские полки».
Характер преступления выдавал того, кто его совершил. Итак, Бертран записался в Национальную гвардию. Вполне ожидаемо. Вся молодежь в ее рядах.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Эмар догадался верно. Бертран служил в Национальной гвардии. Где еще молодой человек в Париже во время осады мог гарантированно получать ежедневное довольствие? Мастерские опустели, работу не найти, а Национальная гвардия принимала всех, кто готов поставить подпись. Что до настоящей службы, так это дело иное. Когда вышло постановление о том, что солдаты должны сами выбирать себе офицеров, с дисциплиной попрощались, ибо офицеры оказались в первую очередь заинтересованы в ублажении подчиненных и сохранении своих должностей, а не в планировании действенного сопротивления пруссакам.
Бертран, быстро промотавший деньги в череде кутежей и попытках повторить удовольствие, некогда испытанное с Терезой, легко позволил случайному знакомому убедить себя вступить в Национальную гвардию и подписал контракт, немного изменив имя, отчего Эмар не смог найти его в списках.
В суматохе тех дней чиновники особо не тратили времени на проверку. Многие новобранцы записывались сразу в несколько батальонов, меняя имена и получая гораздо больше денег. При этом только самые недальновидные говорили, что у них нет ни жен, ни детей, теряя добавки на вспомоществование семьям. Избранные голосованием офицеры тоже хотели наполнить списки и получать жалование на тысячу человек, хотя под их началом ходило сотен восемь, и считали прикарманенную разницу заслуженной платой за проявленную смекалку.
Однако неправильно требовать добродетели от бедняков, когда для них она означает голод. Лучше спросите, чем занимались парижские богачи. Они, безусловно, вносили свою лепту в патриотический подъем и без стеснения наживались на этом, как людям богатым и свойственно.
В ту пору у Бертрана практически не было возможности умиротворять тайные аппетиты, суть которых он лишь недавно начал явственно понимать. Но теперь, полностью осознав обратную сторону собственной природы, он попытался устроить свою жизнь так, чтобы, удовлетворяя нужды, не подвергаться излишней опасности. Снял дешевую подвальную каморку в задней части дома. Там имелась возможность открыть окно, и ночью он приходил и уходил через него незамеченным. Днем он его тщательно запирал и даже озаботился для этого покупкой и установкой нового замка. Еще один замок он поставил на дверь, оградив себя от внезапного вторжения консьержки, женщины весьма назойливой: та почему-то решила по-матерински заботиться о парне, прибираться у него в комнате и латать одежду.
Бертран знал, когда ожидать нового приступа. Этому всегда предшествовало отсутствие аппетита. Днем от одной мысли о еде, особенно о хлебе и масле, его подташнивало. Вечером накатывало напряжение, сопровождавшееся усталостью и бессонницей. Тогда он отпирал окно и запирал дверь, ложась в постель только после принятых предосторожностей. Нередко он просыпался утром в кровати, но при этом не помнил, что происходило ночью. И лишь болезненная одеревенелость в шее и слабость в конечностях, какие бывают после многомильного забега, царапины на руках и ногах да едкий привкус во рту говорили, что ночь он провел в другом месте. Впрочем, как-то утром он получил этому доказательство. Проснулся и заметил, что под кроватью лежит нечто белое. Человеческая рука! Мужская. Пальцы плотно сжаты в кулак. Между ними — клочки меха, будто вырванные из зимнего пальто или шубы.
Бертран принялся лихорадочно вспоминать. Откуда? У кого? Наверняка у человека в зимней одежде. Перед глазами начали вставать смутные образы: он, скачками, весело несется по снегу и слякоти, ледяной колючий ветер гуляет по пустым ночным улицам, завывает в печных трубах, его порывы выбивают воздух из легких. Но кто же там был в шубе? Никого в шубе он не помнил.
Однако пришло воспоминание, как он, повинуясь низменным инстинктам, последовал за припозднившейся похоронной процессией на кладбище Монпарнас. Погода стояла ужасно холодная, небо затянуло тучами, чувствовалась близость снегопада. Замерзшие провожающие плелись за гробом, он пристроился к ним. Семья и друзья не обратили ни малейшего внимания на юношу в гвардейской форме, тихо и скорбно шагавшего рядом. В такие моменты все уважают горе другого и довольствуются простейшими объяснениями: это приятель, которому усопший когда-то оказал услугу, или что-нибудь в подобном роде. Бертран даже приобрел некий блеск очарования. А его скромность и быстрое исчезновение по окончании церемонии только добавили шарма.
С Бертраном заговорил лишь один из присутствовавших, пожилой мужчина. Но и он не вдавался в расспросы. Казалось, ему просто надо было высказаться самому.
— Вы друг мадам или Блеза? — спросил он, а когда Бертран наугад ответил, что Блеза, старик тут же продолжил, не давая собеседнику и слова вставить: — Редкой учености был человек. А какой добряк! Лишь Богу ведомо, зачем ему чуть не в пятьдесят понадобилось жениться на девчонке! Я его предупреждал: «Блез, — говорю, — старый ты дурачина. С такой юной да живой девицей тебе не управиться — в могилу сведет. Выпьет из тебя всю кровушку. Ты за ней не угонишься». Но он ни в какую. Околдовала она его… Но даже я не ожидал, что конец придет так скоро. Всего-то три месяца брака.
— Понимаете, — голос старика понизился до доверительного шепота, — кое-что мне в этом не нравится. Два дня назад он был совершенно здоров. Сам его видел, успел с ним поговорить. А вчера Блез скоропостижно скончался, сегодня похороны. К чему такая неподобающая спешка? Вдова-то, сразу видно, не расстраивается, а только и думает, как скорбь поизящнее изобразить. Ох, ладно. Блез, дружище, ты еще долго будешь жить в моей памяти!
Стоило Бертрану припомнить разговор, как все подробности ночи вернулись к нему. Разверстая яма, не закопанная из-за позднего часа; гроб, припорошенный тонким слоем земли и снега. А затем ужасная борьба с мертвецом, очнувшимся после сильного наркотика!
Потом пришла иная догадка. Мех не из шубы — это его мех! Серовато-бурые клочки шерсти были его собственными! Значит, ему не просто казалось, что он меняется, он не только подчинялся стремлению мускулов двигаться иначе, но преображался по-настоящему!
Кто в такое поверит? Как у него получилось, действуя одними лапами, сорвать с гроба тяжелую крышку?
Тут ему захотелось подробностей, но от решения в следующий раз обратить на это внимание было мало толку. Даже очнувшись под открытым небом и обнаруживая рядом с собой свежую могилу или жертву, на которую он напал во время ночной вылазки, Бертран никак не мог вспомнить, совершалось ли нападение в теле зверя или человека, ведущего себя как зверь. Было ясно, что во время своих эскапад он не мог мыслить здраво, по-человечески, однако ему доставало хитрости достигать своей цели.
Когда Бертран только прибыл в Париж и располагал деньгами, взятыми у Жака, он нередко наведывался в maisons toléreés. Но вскоре оставил это развлечение, ибо искушенные парижские девицы, как цирюльники, требовали щедрого вознаграждения за всякое отклонение от нормы, за любой добавочный каприз.
Скудное солдатское жалование не дозволяло дорогих забав. Бертран искал на улицах удовольствий подешевле. Иногда ему везло, но чаще нет. И тогда, переполнившись глухой яростью, он заманивал продажную женщину несбыточными обещаниями. Эти любовные похождения нередко заканчивались убийством. Особенно тогда, когда становилось невозможным поживиться на свежих могилах.
Подробности его службы остаются неизвестны. В военных архивах Национальной гвардии ничего не нашлось.
Бертран редко участвовал в боевых действиях, но часто маршировал на парадах, присутствовал на празднествах и слушал разглагольствования о том, как лучше спасать Париж.
Он мало с кем подружился в полку. Ближе к вечеру, закончив с обязанностями, он, как правило, направлялся в армейскую столовую, медленно цедил стакан вина и мрачно размышлял о своей болезни.
Одна войсковая закусочная, куда он пристрастился заглядывать, была довольно популярна среди солдат даже не из-за вин, а из-за девушки, почти каждый день приходившей туда на несколько часов и работавшей там бесплатно. Ее красоту хотелось назвать неземной. Стройная и хрупкая, она была не старше семнадцати лет; ее юное тело казалось совершенным, и неважно, как она одевалась: она поражала бы изяществом и молодой энергией, даже если бы носила рубище, а не роскошное платье.
Ее смуглое лицо не переставало радовать сердца, ибо с него не сходила улыбка, а сверкающие белизной зубы были безупречны. Быстрый взгляд черных глаз доставался каждому, как и доброе слово, и теплый смех. Все знали мадмуазель Софи де Блюменберг, дочь известного банкира.
Многие, особенно офицеры, конечно, пытались вовлечь ее в нечто большее, чем мимолетный флирт, но ее было не так-то просто сбить с пути. Когда подъезжала ее карета и лакей спускался с подножки, открывая дверцу, девушка выскальзывала из фартука, снимала военный головной убор, накидывала шубку и, взмахнув на прощание муфтой, уезжала прочь.
Нередко мадмуазель Софи сопровождал офицер в ярком мундире, выдающем в нем человека важного; знавшие его говорили, что это капитан Барраль де Монфор. Они были весьма примечательной парой. Он — мужчина видный, с военной выправкой, она — экзотическая красавица.
Таким обычно завидуют и в то же время желают им всех благ, какими только может одарить жизнь, пусть почему-то и предпочитает приберегать их для немногих избранных. Подобные люди кажутся созданными для того, чтобы судьба осыпала их подарками.
Впрочем, Софи и сама не сомневалась, что ее путь будет бесконечной чередой новых чудес, удовольствий и сюрпризов. И жизнь ее не обманывала. К тому же девушка умела по-настоящему радоваться и пустяку — чудесная способность, без которой любая принцесса в прекраснейшем дворце будет несчастна.
Сидя в карете с Барралем, Софи не уставала его поддразнивать. Например, рассказывала, как мужчины сходят по ней с ума. И описывала некоторых из них. Подчеркивала их привлекательную внешность. Утверждала, что, будь у них такой же, как у него, яркий голубой мундир с золотыми галунами, Барраль померк бы на их фоне.
Видя, как ей нравятся его недовольство и ревность, Барраль старательно хмурился и подыскивал для ответа сердитые слова. Мадам Луиза Херцог, тетя Софи, частенько присутствовавшая при таких свиданиях в качестве дуэньи, считала эти шутливые перепалки проявлением самого дурного вкуса и окатывала молодых холодом и негодованием. Честно говоря, всю затею с кантиной она считала недостойной для девушки из аристократического семейства и совсем не одобряла столь горячий патриотизм. Она совершенно справедливо полагала, что он есть не что иное, как простое оправдание распущенности.
Но барон де Блюменберг не мог ни в чем отказать дочери, своему единственному ребенку. Более того, проявление патриотизма испокон веков считалось хорошей политикой ведения дел. Он был ярым патриотом во времена Империи и оставался таковым сейчас, при Третьей республике[86]. Не исключено, что Парижская коммуна также не лишила его стремления показать себя патриотом. Ради процветания бизнеса можно пойти на многое.
Он пожертвовал крупную сумму денег на содержание армейских столовых, но личное участие его дочери выглядело более эффектно, тем более что дочери и жены из лучших семейств Парижа тоже работали в столовых или госпиталях.
За ужином тетя Луиза всегда заводила разговор о Софи, ее заброшенном образовании, работе в столовой и свободе, «хотя могут найтись и те, кто захочет назвать это испорченностью».
Как-то раз, когда почтенная дама приготовилась отбыть к себе домой, не обошлось без ссоры из-за того, что Софи разрешили засидеться со всеми до позднего часа. Барраль де Монфор также откланялся и поехал провожать мадам Херцог.
В карете она доверительно сказала ему:
— Вы слишком хороши для этой семейки, хоть вы и христианин.
Он не понял, было то лестью или упреком.
— С тех пор, как богема ввела в моду распущенность нравов, мир быстро покатился под откос. И война еще раз подтверждает это.
Барраль из вежливости согласился с ее утверждением.
— Помню я, — продолжала тетушка, гневно задирая подбородок, — как тот художник, Курбе, выставил в Салоне картину с голой женщиной[87]. Я была там, когда императрица в ужасе отвернулась от нее. Конечно, весь Париж собрался посмотреть на полотно. С тех пор dégringolade[88] не остановить. Дурные картины, плохие книги, постыднейшее поведение.
— Ужасно, — с подобающим негодованием поддакнул Барраль.
Мадам Херцог сурово посмотрела на него.
— В молодости я неплохо повеселилась, не выходя за рамки приличия.
На языке Барраля вертелся уточняющий вопрос.
— Полагаю, ваше поколение сказало бы, что я была очень строгих правил.
Ему очень хотелось возразить, что правила у мадмуазель де Блюменберг, если разобраться, наверняка гораздо строже.
Вернувшись к себе, Барраль снял ментик, отстегнул саблю, уселся и стал представлять себе Софи. Светлое бархатное платье нежного лимонного оттенка, щедро обшитое кружевом, юбка с оборками и белым атласным шлейфом, такая пышная, что, казалось, пенные гребни волн плещутся у ног девушки, ступающей по морскому прибою. И этот бутон белизны раскрывался прекрасными покатыми плечами и грудью, будто отлитой из сияющей бронзы. Он вспоминал ее обнаженные смуглые руки, ее смех, ее черные как смоль локоны.
Обязанностью Барраля, а также его радостью и привилегией, было каждую ночь писать Софи, изобретая все новые способы восхвалять соболиные брови, смелыми дугами изгибающиеся на безупречно слепленном челе. Его долг состоял в поиске новых сравнений для ее зубов, белых, как лепестки гардении, или даже похожих на пробивающиеся из земли ростки, сияющие свежестью на лесной поляне. Он исполнял еженощную повинность, запечатлевая все эти мысли на бумаге и усеивая их словами любви, а потом отсылал послание, чтобы Софи могла начать утро с него.
Немногочисленные гости, приглашенные к ужину, разошлись, барон удалился в свой кабинет, где обычно ночевал, а баронесса — в будуар, но Софи никак не могла успокоиться. Что бы такое придумать? Если пойти к папа, он встретит ее улыбкой, приласкает и начнет вспоминать разные глупости о том, как она была маленькой. Если навестить мама, начнутся расспросы о здоровье, разговоры о нарядах и, скорее всего, посреди беседы не миновать возмущенного восклицания.
В огромных апартаментах стояла тишина. Мерцала тяжелая мебель, латунные украшения в виде сфинксов и свитков переливались в свете газовых рожков. Где-то за дверью зевал сонный лакей, ожидая, когда молодая хозяйка уйдет к себе и можно будет погасить огни.
Софи взяла журналы со столика в гостиной и несколько книг из библиотеки и отправилась в свою комнату. Она читала, пока не заболели глаза, но никак не могла заставить себя хоть чем-то заинтересоваться. Потом разделась и продолжала читать в постели — читала до последнего, не желая гасить рожок на стене, тушить свечу на прикроватной тумбочке.
Наконец она собралась с духом, потянулась и выключила рожок. Беспрерывное шипение газа, которое Софи не замечала до этой секунды, прекратилось. Большой фарфоровый абажур из сверкающего белого стал серым. Комнату словно вытянули из прекрасного настоящего и забросили обратно в Темные века. От пламени единственной свечи сонно колыхались тени. Углы спальни, подернутые темнотой, будто отдалились, погрузившись в таинственный мрак. То малое, что осталось от жизни, ютилось возле горящей свечи.
Софи задула ее. Тьма овладела миром. Даже Средневековье исчезло. Всё окутала непроницаемая чернота доисторических времен. Девушка откинулась на подушки и принялась молиться о скором приходе сна. Но нервы были слишком напряжены. Она прислушивалась к дюжине невнятных звуков, пытаясь угадать их источник. Ей пришлось проанатомировать десятки смутных очертаний, слившихся в угрожающе крупные пятна черноты, и определить их природу.
Софи с подозрением вглядывалась в каждую новую тень, выплывающую на нее из мрака, и ей недостаточно было знать, что прежде она сотни раз ошибалась. Она продолжала пристально всматриваться, пока в темноте, окутывающей комнату, не проступили извивающиеся неясные фигуры, порожденные усталостью глаз. Девушка убеждала себя, что это объяснимо, но каждое новое видение казалось все более реальным. Все они будто только и ждали, когда Софи смежит веки, чтобы наброситься на нее. Нет, она станет бодрствовать ночь напролет. Она не позволит сну закрыть ей глаза.
Подобно тому, как мрак ночи сменяет свет дня, за жизнью приходит смерть. Девушка довела себя до изнеможения бесплодными попытками постичь то, что скрывается за могильным камнем. Каково это, быть мертвым? Наверное, так: уйти во Тьму. Непроглядную тьму. С тенями, выступающими из теней. И всеохватным ужасом. Нет. Все совершенно иначе. Там царит всепоглощающая пустота. Абсолютное ничто. И в этом вакууме таятся немыслимые, невообразимые кошмары.
Такова смерть. Лежать под землей в гробу. Софи тысячи раз представляла себе, как это будет. Ее зароют на Пер-Лашез, в еврейской части кладбища, недалеко от входа, рядом с печальной усыпальницей Элизы Рашель[89], tragédienne[90]. Там расположены участки, принадлежащие семействам Блюменберг и Херцог.
Софи вспомнила день, когда умер ее дядя Моиз, муж тетушки Луизы. Кортеж двигался по рю дю Репо. По улице Усопших. Улица Усопших. Странное название, чарующее и отвратительное одновременно.
Она будет лежать на кладбище. Мама с папой тоже будут лежать там. Не исключено, что она уйдет первой. В ушах зазвучал плач родителей. Софи словно слышала, как мама говорит: «Такая молодая! Только вышла замуж!» Ее муж, Барраль, тоже был с ними. Она представила, как он клянется отомстить.
Стоило ей об этом подумать, и сразу стало ясно, что все ее фантазии — настоящая глупость. С чего бы ему клясться отомстить, да и кому? Но сердце не прекращало обливаться кровью от страшных мыслей. Нет, это полная чушь. Как она сможет выйти за Барралля и при этом покоиться вместе со своей семьей? Ее же, конечно, похоронят рядом с мужем. Жен всегда так хоронят.
Отчего-то ее ободрила эта идея. Быть похороненной с Барралем. Вот и доказательство, что правды в ее выдумках нет. Никакие они не пророческие. Не будет Барраль клясться отомстить за нее, стоя на CimetièreIsraelite[91] на Пер-Лашез.
Потом пришла мысль, что родители Барраля, люди провинциальные и, как говорят, не слишком довольные влюбленностью сына, могут не позволить похоронить Софи, еврейку, на христианском кладбище. И тогда все ее мрачные фантазии и предчувствия вернулись и тяжким камнем обрушились на грудь.
Утром от страхов не осталось и следа. Сквозь шторы начал пробиваться свет дня. Софи лежала в своей великолепной кровати, украшенной позолоченными купидонами. Над головой был знакомый azure-ciel-de-lit[92], усыпанный золотыми звездами вокруг вышитой шелком белой луны.
Прочь умчались безумные мысли о кладбищах и страшной клятве Барраля, бестолковой паутиной опутывавшие мозг во тьме ночи. Если успеть встать раньше мамы, можно попросить ее горничную помочь одеться и причесаться. А скоро придет почта, и в ней будет письмо от Барраля с восторгами по поводу ее красоты, столь сиявшей накануне вечером, и заверениями в вечной любви. Таковы были дневные мысли Софи.
Вероятно, ночи станут еще страшнее. Немцы передвинутся ближе к кольцу укреплений, установят пушки в нескольких милях от Парижа и начнут обстреливать сам город. Тогда придется ложиться в кровать, не зажигая огней или с тусклой свечкой, но и это не означает, что удастся уснуть. А ночи зимой холодные и длинные. Попробуй не закричать от ужаса. Зато день принесет больше радости. Захочется смеяться каждую секунду, иначе жизнь не искупит неминуемых ночных страданий.
Итак, дни Софи полнились смехом, а ночи — мукой, хотя она и беспрестанно напоминала себе, что у нее по крайней мере есть компенсация в виде богатства. А каково беднякам? Рядом с ней Барраль. Но что делать несчастным девушкам, которым никакой Барраль не пишет?
Помогая в солдатской закусочной, она думала о нем. Он зайдет или заедет за ней. Она увидит его издали. Пешком или верхом, он всегда в ярко-голубом мундире с золотыми галунами.
Но примечала появление Барраля не она одна. Все вокруг легонько толкали друг друга локтями и улыбались. Среди солдат был один юноша, не красавец и не урод, но с запоминающимися глазами, большими и темными. Софи заметила, что он оставался угрюмым, когда другие улыбались.
Как-то раз, наклоняясь с тряпкой за мокрым стаканом, она встретилась взглядом с этими грустными глазами. Что-то в них тронуло ее до глубины души. Призвало назад ночные мысли. Она отвернулась, опасаясь, что и он вглядится в нее, прочтет самое заветное: ее раздумья о страхе и смерти.
Но в кантине, считая, что он не смотрит, она снова и снова искала его глаза — широко распахнутые, под густыми бровями. Почти всегда он тут же переводил на нее взгляд, и их глаза встречались. Тогда она смотрела в другую сторону. Но через мгновение вновь поворачивалась к нему. В его глазах было нечто властное. Странный призыв в бездну. Приглашение в пустоту, в бездонную пропасть. Давай, бросайся. Просто шагни туда. Откуда тебе знать, вдруг это слаще всего, о чем ты мечтала и что испытывала в жизни? Что за страхи? Почему ты боишься того, чего пока не знаешь? Давай же! Прыгай!
Ах! Этот сладчайший дурман смерти!
Она чувствовала его притягательность. Сколько раз у нее появлялись эти мысли, стоило ей погасить рожок и задуть свечу! Днем, в те часы, когда Софи не появлялась в закусочной, она редко вспоминала его глаза, но по ночам они преследовали ее. Смотрели из черноты и излучали фосфоресцирующее сияние, свойственное глазам некоторых зверей. Их взгляд просачивался в ее бессонные раздумья. Они не покидали ее всю длинную, страшную ночь. Она видела их в еврейской части Пер-Лашез. Теперь она не была одна во тьме. Эти глаза спасали ее от кошмара одиночества.
Она спрашивала их, что там, за могилой, каково лежать в гробу и разлагаться. И они знали ответ. Они говорили: «Где бы ты ни была, я с тобой. Ночью и днем. В жизни и смерти».
Утром эти мысли исчезали. Она читала письмо Барраля, принималась планировать визиты и составлять список покупок, и все чаще и чаще звучал ее веселый смех. Отец слышал его, даже сидя в своем кабинете. Он улыбался и покачивал головой: «Птичка-веселушка. Откуда берется в человеке столько задора? Особенно в ней, нашей Софи, зачатой, можно сказать, в объятиях смерти. Благослови ее Бог».
Днем, приходя в кантину, она сразу начинала искать его глазами. И, если не находила, чуть ли не радовалась, но не совсем. И невольно продолжала озираться в надежде, что он придет.
Она ждала его, хотя дрожала от страха, смешанного с желанием. Софи смотрела на дверь, но не забывала улыбаться окружающим, будто на свете не было ничего, кроме удовольствий, веселья и развлечений.
Он приходил. Приходил всегда. Садился в сторонке и погружался в размышления. Думал о безумном роке, сотворившем из него наполовину человека и наполовину зверя. Иногда ему хотелось обратиться к врачу. Может быть, от этого есть лекарство. Но вряд ли. Его случай уникален.
Кроме того, глупо даже помышлять об этом. Ему нельзя к доктору. Он не посмеет. Он успел совершить столько злодеяний, что навсегда закрыл себе дорогу к докторам. Хотя, если бы его вдруг ранили и отправили в госпиталь, он бы, возможно, сумел расспросить врачей о своей болезни.
Он не раз останавливался у книжных лотков и просматривал медицинские сочинения, но они мало что подсказывали ему. Он открыл, что подобный недуг известен, то бишь имел название, но авторы относили его либо к обману, либо к самовнушению, а касаемо исцеления не предлагали ничего, замечая только, что средневековый метод сожжения на костре являлся бессмысленной жестокостью.
Постепенно он пришел к выводу, что возражения против лечения огнем были не менее легкомысленны, чем полное отрицание болезни — и что, напротив, имелся ряд причин самому взойти на костер. Он всерьез задумался о необходимости покончить с собой.
Эти мысли все чаще посещали его с той минуты, когда он впервые заглянул в кантину, где работала Софи. Он увидел ее и мгновенно влюбился. С тех пор он приходил туда ежедневно. Она воплощала в себе все то, чего не хватало ему. То, чего у него никогда не будет. Черту, которую он давно и безвозвратно утратил, — joie de vivre, радость жизни.
Потом он начал замечать, что и она наблюдает за ним. Однажды, когда их глаза встретились, он уловил некую связь между ней и собой. Ему претила мысль, что он смеет смотреть из грязи на ее чистоту, и он всерьез поклялся измениться. Первым пришло решение набивать днем живот человеческой пищей, чтобы умерить ужасный ночной аппетит. Однако в первую же ночь, несмотря на переедание, он проснулся и понял, что больше не в силах спать: его кожа зудела от стремления ощутить свободное дуновение ветра, конечности ныли, призывая коснуться земли, челюсти предвкушали, как он будет терзать и разрывать добычу. Некоторое время он сражался с собой, пытаясь вызвать перед глазами облик Софи.
Но из его открытого рта стало доноситься тяжелое дыхание. Он почувствовал, как язык, короткий и толстый язык человека, уплощается и вытягивается. «Помоги мне Господь!» — вырвалось из груди. Теперь язык уже изгибался во рту, свешивался между зубами. Неспособный противостоять долее, Бертран выпрыгнул из кровати. Прошел в угол комнаты, пошарил под тряпьем и вытащил руку, человеческую руку. Вторую и последнюю из обеих рук, отнятых им у Нормандской Красотки.
Он впился в нее зубами. Подозрительный взгляд скользил по комнате. Из горла лилось глухое рычание. Вдруг воцарилась тишина, потом опять раздался какой-то шум: окоченевшая рука билась о пол, хрустели кости, иногда резко царапало половицу кольцо на мертвом пальце.
Наконец голод утих, но Бертран уже не помнил о произошедшем. Он очнулся утром в собственной постели: голова тяжелая, шея ноет, на языке налет. Было сложно заставить себя встать, но все же он поднялся и с отвращением принялся убирать с пола остатки трапезы. Потом оделся и направился в полк.
Когда он пересекал двор, к нему подскочила толстая консьержка.
— Месье, подождите. Оставьте мне наконец-то свой ключ. Я бы хотела навести порядок в вашей комнате.
— Возьмите, — угрюмо ответил Бертран, — но знайте, тогда я просто перееду.
— Но, месье… — начала было она.
— Сколько раз мне надо вам повторить, что мне не нужна уборка в комнате? Для чего, как вы думаете, я установил замок? Чтобы вы заявлялись туда и тревожили меня, когда только вам заблагорассудится?
— Ах, но ведь…
— Так дать вам этот ключ или нет?
— Ah, mais, voyons…[93]
— Merde alors![94] — воскликнул он и пошел дальше.
— Фи! — вырвалось у консьержки, а в голове ее пронеслось: «Quelle bête féroce![95] Как будто я шпионить за ним собралась. Однако готова поспорить, он что-то скрывает, раз решил держать дверь на запоре». Убежденная в собственной правоте, она состроила возмущенную гримасу и вернулась к прерванной уборке.
Отбыв положенное время в полку, Бертран отправился в столовую и расположился там, хмурый и исполненный ужаса перед самим собой. «Ты погряз в мерзости. Как ты вообще смеешь даже находиться в одной комнате с этим чистым созданием?» — говорил он себе.
Ему страстно захотелось превратиться в гадкое насекомое, в паука, чтобы забежать ей под ноги и погибнуть раздавленным ее подошвой. «Нет, — подумал он, — она на меня не наступит. Она не отнимет жизнь и у ядовитого жука. Она слишком добра».
Как Бертран ни сдерживался, он не смог не поднять взгляда на Софи. Она как раз смотрела в его сторону, но тут же отвернулась. Однако вскоре опять на него посмотрела. Ее глаза, словно под гипнозом, смотрели в его глаза, а его — в ее. Это продолжалось какую-то долю секунды, но им показалось, что прошла целая вечность.
Вечером Бертран дал себе последнюю клятву, а когда вернулся домой, собрал мясо и кости в сверток, добавил камень для веса и связал поплотнее, намереваясь незаметно ускользнуть и утопить все в Сене.
«Хватит, — твердил он. — Это не повторится. Никогда. Клянусь перед глазами твоими».
Он был влюблен. Влюблен. На обратном пути к нему пристала уличная женщина, но он твердо отказал ей. «Уродина», — пробормотал он под нос. Ему такие больше не нужны. Внезапно Бертран стал очень добродетелен. Вернулся к себе и забылся здоровым сном. И проспал до утра без видений.
«Я излечен! — проснувшись, захотел он крикнуть солнцу, чей рассветный луч проник в комнату. — Излечен! Она исцелила меня. С ее помощью мне понадобилась только сила воли».
Днем, в кантине, Бертран опасливо подавил порыв подбежать к Софи и поблагодарить ее за все. Но нашел, тем не менее, клочок бумаги и написал: «Вы спасли меня от ночных кошмаров. Вы ангел». И два дня носил его в кармане, не решаясь вручить.
Но однажды, ближе к вечеру, когда карета Софи уже подъезжала и Бертран мог в очередной раз упустить такую возможность, он поспешил к стойке и протянул ей записку. Она схватила ее и спрятала в рукав, будто только и ждала этого, будто всю жизнь прятала его любовные послания.
Прежде, чем уехать с Барралем, девушка улучила время прочитать письмо: «Вы спасли меня от ночных кошмаров». Дрожь сотрясла ее. Откуда он знает? Как догадался о ее снах?
В карете ей уже не хотелось смеяться над шутками кавалера. Но Софи не поддалась настроению. Все давно привыкли видеть, как она не перестает дарить улыбки и веселье. И она делала это — неважно, что было у нее на душе.
— Софи, — сказала тетя Луиза и покачала головой, — когда ты наконец станешь рассудительней?
Девушка оборвала смех. Ее поразило сходство их мыслей. Как и тетушка, она говорила себе: «И это все, что у тебя есть, Барраль: шутки, остроумные ответы и милая болтовня? О чем ты думаешь по ночам?»
Она могла бы ответить на этот вопрос за него: «По ночам, до зари, я думаю о вас, а если Бог являет мне такую милость, вижу вас и во сне». Простая любезность и ничего больше. Хороший парень, наш Барраль, но поверхностный и глуповатый, примером чего Софи посчитала этот так и не произнесенный им ответ.
Софи и Бертран несколько недель тайно обменивались записками. Но таких заверений во взаимности мыслей и любви вскоре стало недостаточно. Софи жаждала большей близости.
Вечера, проведенные дома с Барралем, обычно под бдительным надзором тети Луизы, наводили на девушку скуку. «Хоть бы Барраль поскорее ушел, — думала она, — я бы тут же отправилась в постель, к глазам моего Бертрана». Она перестала страшиться темноты, бояться смерти, ибо знала, что уже не одна.
Как-то раз тетя Луиза на минуту вышла из комнаты. И Софи, сама не сознавая, что делает, вдруг прекратила болтать. В голове вертелось: «Бедняга Барраль, я скоро оставлю тебя». Повинуясь внезапному порыву жалости, она вложила свою руку в его. Испугавшись столь откровенного проявления симпатии, ведь Софи никогда ранее столь ясно не выказывала своих чувств, Барраль сжал ее пальцы и так разомлел от любви, что не смог вымолвить ни слова. С удивлением, радостью и болью в сердце он посмотрел в ее наполненные слезами глаза и вдруг услышал:
— Бедняга Барраль…
Тут вошла тетя Луиза и объявила, что час уже поздний. Барраль, продолжая витать в любовных облаках, проводил тетушку домой, а когда добрался до своей квартиры, то, позабыв снять ментик, поспешил за стол и начал писать Софи. Послание вышло длиннее, чем когда-либо. Он дюжину раз рассказал о своих чувствах, в каждом абзаце поклялся в любви и в три часа вышел отправить письмо, потому что в ту ночь ему было не заснуть.
Утром Софи принесла письмо к себе в комнату и села, намереваясь прочесть его. Но мысли унесли ее к Бертрану. Она размышляла, как назначить ему свидание. Время близилось к полудню, и ей пришлось поторопиться на какую-то глупую встречу — Софи сама жалела, что согласилась на нее, разве что, если она хотела сохранить свою тайну, ей было нужно выходить в свет.
Но прежде, чем куда-либо пойти, девушка решила написать несколько слов Бертрану. Почему бы не назначить ему свидание у него дома? Именно так надо поступить. Вскоре, буквально со дня на день, осада закончится, а вместе с ней пропадут солдатские кантины и значительная часть ее свободы. Она черкнула записку и оделась к выходу. Но потом вспомнила, что не успела прочитать письмо Барраля. «Ладно, — подумала Софи, — прочитаю как-нибудь потом», — и бросила нераспечатанный конверт в ящик секретера.
В тот вечер Бертран едва сдерживался, стараясь не закричать от счастья. Она придет к нему домой. Она, да, она. Вправду придет к нему в комнату. Сможет заглянуть лишь на полчаса, но встреча состоится точно в назначенное время, и они будут вместе, наедине.
Ночь больше ничего не значила для Бертрана. Он не сомневался, что будет спать, а если что и приснится, то только Софи. Утром, собираясь в полк, он спохватился и закричал в темное окошко:
— Мадам Лабуве!
— Да, месье! Сейчас! — откликнулась консьержка и примчалась к нему так быстро, что ее изобильная грудь плясала в такт шагам.
— Вот ключ, — сказал он. — Пожалуйста, приберитесь на славу.
От удивления консьержка лишилась дара речи.
А он вдруг улыбнулся. Теперь он мог улыбаться, ибо сумел вновь стать частью рода человеческого.
— У меня сегодня гости.
Она все поняла и улыбнулась в ответ.
— Ах, месье, — только и проговорила она. А потом довольно хмыкнула. — Приберусь. Все так вычищу, что с пола есть сможете.
Он вздрогнул, но взял себя в руки, сердечно попрощался и ушел. Она смотрела ему вслед, стоя на морозе. «Хм. Такие пустяки, а он уже ведет себя по-человечески. Молодежь принимает подобные вещи слишком всерьез. Но, в конце концов, что еще есть в нашей жизни?»
Софи не опоздала. Он встретил ее на углу улицы и провел через лабиринт дворов и тесных коридоров к себе в комнату.
— Я запомню дорогу, — сказала она с улыбкой.
Она не могла не заметить, как убого его жилище. В окно смотрело не небо, а стена соседнего дома. Стулья были тяжелые и неудобные.
Они сели на кровать и взялись за руки. Закружившись в веренице мыслей и чувств, они смущенно молчали. Что теперь им делать, раз они остались вдвоем? И они не делали ничего, просто сидели и смотрели друг на друга.
Наконец, охрипнув от всеподавляющей любви, он извинился за бедность обстановки. Она, ласково и робко, ответила такой же банальностью.
Они, наверное, просидели так минут двадцать или больше, обмениваясь натужными фразами, когда Софи овладела странная и неотступная мысль. Что она делает в этой комнатушке? Кто этот юноша, чью руку она так крепко держит в своей, словно умрет, если отпустит? К чему это?..
И ее охватил ужас, какой бывает только в конце ночного кошмара, перед самым пробуждением, когда все естество кричит о том, что происходящее не может быть правдой, но страх реален, как никогда.
Софи резко выпустила руку Бертрана и встала.
— Вы же не уходите? — воскликнул он.
— Мне пора, — произнесла она.
— Не надо, — взмолился он.
Ее взгляд затравленно метался по комнате, словно ее поймали и заперли в клетке. Софи и впрямь чувствовала себя в ловушке. Надо выбираться отсюда! Она оказалась в кошмаре наяву. Похоронила себя заживо! Софи поспешила к двери, но Бертран поймал ее за руку и задержал.
— Отпусти! — испуганно прошептала она.
Он хотел отпустить ее, но пальцы не слушались. Бертран медленно притянул девушку к себе. Она закрыла лицо рукой, будто защищаясь. Глаза в страхе распахнулись.
— Не надо! — умоляла она. — Не делай мне больно!
Внезапно Бертран отпустил ее.
— Я не хотел обидеть вас, — с мукой в голосе сказал он. Потом отвернулся и добавил: — Можете идти, если пожелаете. Проводить вас на улицу?
Ее минутный ужас исчез. Чего она так перепугалась? Ей стало очень стыдно. Повинуясь порыву, Софи обвила Бертрана руками.
Его руки остались недвижны. Настала его очередь испугаться. Он осознал, что на мгновение утратил контроль над собой. Как он посмел сжать ее в объятиях! Лучше бы им вовсе не встречаться. Лучше бы он убил себя.
— Бертран, — тихо и нежно окликнула его Софи.
Он не ответил.
— Бертран, — в отчаянии она сорвалась на крик, — ты что, не любишь меня?
— Я люблю тебя так сильно, что лучше бы совсем… — со вздохом начал он.
— Тогда не мешкай, обними меня, — перебила она.
Он послушался.
— Крепче обнимай, — сказала девушка.
Он опять повиновался.
— Еще крепче, — прошептала она. От сомкнутых вокруг нее рук, от близости его тела она ощутила такое блаженство, что голова закружилась, а дыхание стало прерывистым. Напряжение сменилось слабостью, Софи показалось, что она вот-вот истает, растворится. Однако кое-чего недоставало. Если бы он сжал ее еще сильнее. Смял ее. Растерзал! Искалечил!
— Держи, держи меня крепче, — тяжело дышала она. Софи все еще мечтала исчезнуть в нем, но не могла. В отчаянии она закричала: — Сделай мне больно, Бертран! Не жалей!
Его руки тисками сомкнулись вокруг ее тела. Боль вспышкой пронзила Софи, но она почувствовала небывалое возбуждение, точно из самого ее нутра выпустили птицу и та неистово и оглушительно запела. И тогда тело Софи наконец растворилось. Стало трудно дышать.
Они по-прежнему стояли у кровати.
— Мне больно, — проговорила она. Он мгновенно отпустил ее. Софи посмотрела ему в глаза. Сначала в один, потом в другой. Она искала в них объяснения только что пережитой радости. Но видела лишь необыкновенные, огромные, темные глаза под густыми бровями, неуместные на таком мальчишеском лице.
Она была благодарна ему. И пыталась как-то выразить эту благодарность. Но что она могла сказать? Что сделать? Они опять сели на постель и взялись за руки.
— Какие у тебя длинные ногти! — воскликнула она.
— Не смотри на них, они уродливы.
— Не говори так. Никакие они не уродливые, а очень красивые и блестящие. Но почему такие большие?
— Потому что… — начал он и запнулся. — Это у меня… болезнь.
— Болезнь?
— Да.
— Чем ты болеешь?
Он чуть не бросился ей в ноги и не выложил все начистоту. Но сдержался и попробовал сменить тему.
— Она называется онихогрифоз[96], — сказал он.
— Онихо… Как?
— Онихогрифоз, — повторил Бертран.
Софи звонко рассмеялась.
— Запиши это слово для меня.
— Давай-ка лучше на твои ногти полюбуемся, — предложил он. — Похожи на гладкие драгоценные камни. — Он поднес их ко рту и поцеловал. Ощутил соблазн прикусить кончики ее пальцев зубами, что сразу и сделал, но нежно.
Однако ей все равно было больно. Она хотела вскрикнуть и отдернуть руку, но не стала. Разве это не способ выразить ему свою благодарность?
— Кусай их, если хочется, — принялась настаивать она, а когда он замешкался, спросила: — Не хочешь?
Он вспомнил, что испытал подобное в детстве, когда рассказал маме про боль в паху и она решила посмотреть.
Бертран поборол свой стыд и ответил:
— Хочу. — Но желание уже пропало. — В другой раз, — добавил он.
— В следующий раз, то есть завтра, — уточнила она. И встала. — Ох, так поздно! В столовую я сегодня не успею.
Короткий зимний день сменился холодными серыми сумерками. Бертран с девушкой поспешили на улицу, чтобы найти для нее извозчика.
Дома Софи ждал Барраль. Тетя Луиза тоже была там и молчала, всем своим видом выказывая крайнее негодование.
Мать сразу принялась бранить дочь. Однако Барраль почувствовал такое облегчение, что только и смог сказать:
— Слава Богу, вы в безопасности. Слава Богу.
— Ты где была? — спросила мадам де Блюменберг. — Мы все сошли с ума от беспокойства, весь дом из-за тебя переполошился.
— Я просто гуляла, — беспечно ответила Софи и отправилась к себе в комнату.
После ужина они остались с Барралем наедине.
— Я так волновался, — признался он. — Думал, в вас попал вражеский снаряд и поклялся отомстить проклятым германским гуннам.
Она улыбнулась.
— Милый Барраль.
И во второй раз за время его длительного ухаживания положила свою ладонь на руку офицера.
Глубоко тронутый, он сжал ее пальцы и заговорил дрожащим, искренним голосом:
— Дорогая, что вы думаете о моем письме? Вам не показалось, что я был излишне дерзок?
— Почему же, нет, — неуверенно ответила она. Он неверно истолковал причину ее смущения. — С чего бы мне считать вас дерзким?
— Значит, я могу? Могу? — едва не вскричал он.
— Что, Барраль?!
— Вы позволите мне… То есть… могу ли я… вас поцеловать?
Она опять улыбнулась. Он казался ей глупым мальчишкой.
— Конечно, можете, — тихо сказала она.
Он взял ее лицо в свои руки и посмотрел ей в глаза.
— Милейшая моя Софи. — Его голос срывался. Ей же было просто любопытно, что случится дальше. Он нежно коснулся своими губами ее прекрасных губ, чью девственную чистоту так боялся осквернить. Ничего особенного не случилось. Птица не выпорхнула и не оглушила Софи своим пением. Тело не напряглось, как пружина, и не собиралось распадаться на части. Пустота. Его поцелуй напоминал разбавленное сахарной водичкой теплое молоко, которым нянюшка потчевала ее на ночь.
Барраль ушел домой, и там из-под его пера родилось самое страстное послание из всех им написанных. Он вложил в него всю душу. Тысячу раз извинился, признался в дюжине ребяческих грешков, из-за которых считал свои губы недостойными ее чистого поцелуя. Сможет ли она когда-нибудь простить его за то, что он скрыл от нее свое жалкое прошлое, захочет ли простить? Он всеми святыми клялся, что с тех пор, как два года назад впервые увидел ее, оставался непорочным, как новорожденный, и навсегда останется таковым.
Она бросила его письмо в ящик секретера, не распечатывая.
Софи все глубже погружалась в радость новой любви. Каждый раз, когда она приходила к Бертрану, ее тело испытывало неведомые доселе восторги, отчего она совершенно перестала опасаться, что кто-нибудь узнает про их связь. Больше того, она хотела, чтобы все видели, как они любят друг друга. Ее не покидало желание кричать: «Смотрите, что со мной творится, когда любимый держит меня в объятиях!» Временами ей казалось, что нет ничего лучше, чем созвать всех в каморку Бертрана, раздеться перед ними и спросить: «Вы видите, как я красива? Смотрите же, ибо всю эту красоту я отдаю ему. Видите, как он обнимает, целует меня, ласкает каждую частичку моего тела? Неужели у кого-нибудь еще в этом мире есть такой возлюбленный?»
Солдаты в столовой быстро смекнули, что с ней происходит. Они говорили друг другу: «Она была уже тепленькой. Не понимаю, как мы оставили ее этому сопляку, Бертрану? Да и этот щеголь в голубом мундире, де Монфор, нам в подметки не годится».
Они становились все наглее и уже перестали стесняться в выражениях. Она смеялась, а они распалялись все сильней. Хорошая девчонка, эта Софи де Блюменберг, хоть папаша у нее и миллионер. «Она с нами одного поля ягодка», — решили они и обменялись усмешками. Когда Софи бывала в кантине, там царили благодушие и веселье.
Барраль, однако, долго ничего не понимал и, конечно, понимать не желал. Безусловно, он не мог не заметить, как с недавних пор сверкают глаза Софи, как подергиваются дымкой. Он заметил, что никогда раньше она не была столь неотразимо красива. Заметил, как она округлилась, пополнела. Но отнес это к естественному взрослению. А когда наконец он все понял, стало уже поздно что-либо предпринимать. Осаду сняли, объявили перемирие, Франция отказалась от Эльзаса и Лотарингии и должна была выплатить миллиарды в качестве контрибуции. А затем началась революция, подняла флаг Парижская коммуна, и Барраль погрузился в исполнение своей секретной миссии, что уберегло его от опрометчивости и насилия при решении личных дел.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Галье писал свое свидетельство, когда Париж сотрясался от катаклизмов и они еще не стерлись из памяти, но почти не пытался запечатлеть на бумаге исторические события того периода. Мне было довольно сложно восполнить этот пробел, ибо сегодня дела минувшие позабыты. Я полагаю, однако, что настроения тех дней очень важны для нашего повествования. Галье сам не перестает намекать, что тень времени играет немаловажную роль в описываемых им странных происшествиях. Впрочем, иногда он склоняется к противоположной точке зрения, то есть дает почувствовать, что эти настроения были порождены болезнью, в действительности разнесенной Бертраном и другими, подобными ему.
Он пишет:
«Теперь я понял, отчего моя тетя, мадам Дидье, пожелала в завещании отправить меня учиться на священника. Уж не зерна ли религиозной веры, таким образом посеянные во мне, защитили меня от Бертрана? Сложно сказать. Но я видел достаточно. Мало кто мог его встретить и не пострадать.
Я часто размышлял и размышляю над вопросом, могут ли несколько схожих с ним чудовищ распространить, в геометрической прогрессии, эту заразу на все народы буквально за считанные дни. Так в романе Эжена Сю[97] шествует неумолимая холера. Да, это объяснило бы многие загадки истории».
Что ж, вполне возможно. Безусловно, Париж казался охваченным эпидемией, хотя ее причину легче отыскать в ужасах войны, чем в оборотнях. Страшная зима, множество голодающих, младенцы, умирающие как мухи, повсеместные взрывы снарядов — определенно, всё это сломило не одного несчастного. Город переполнился ненавистью и подозрениями. Человек с именем, слишком похожим на немецкое, или чертами лица, чересчур напоминающими вражеские, нередко мог пострадать за то, что вряд ли являлось его виной. Если дом выглядел необычным, то его, конечно, населяли шпионы. Бедняков, забравшихся в канализацию в поисках тепла и укрытия в морозную ночь, не раз грубо будили и обличали как злоумышленников, закладывающих бомбы для уничтожения столицы.
Старуха, решившаяся при свечах на грех, не подобающий ее возрасту, завесила окно ветхой юбкой, желая скрыться от посторонних взглядов. Но свет, пробивающийся сквозь дыры, создал такой причудливый узор, что снаружи собралась толпа, увидевшая в нем мешанину точек и тире и принявшая это за секретный шифр, сигнал к наступлению пруссаков на Париж. Бедная женщина не только не сохранила свою постыдную тайну, но столкнулась с визитом нежданных гостей, а ее слабость стала потехой для сплетников.
Как-то безлунной ночью, во время обстрела, толпа заметила вдали, на востоке, огонек, весьма напоминающий сигнальный фонарь на длинном шесте, и поспешила в его направлении через весь Париж. И напрасно астроном-любитель пытался убедить их, что они гонятся за одной из планет Солнечной системы, призрачно связанной с земными бедами только благодаря силе притяжения.
Однажды, по доносу патриотически настроенного гражданина, в доходный дом номер три на площади Французского театра ворвалась полиция с ордерами на обыск и арест. Дело принимало серьезный оборот. Жильцов на четвертом этаже обвиняли в том, что они по условленным дням вывешивают черно-белый флаг. Отряд вернулся в участок в некотором смущении. Черно-белый флаг оказался на самом деле сине-белым, да и висел он под окном посольства Гондураса.
Иногда такие казусы оканчивались смехом, но чаще — трупами.
Но все рано или поздно завершается. Луи Адольф Тьер стал главой исполнительной власти, вскоре договорились о прекращении стрельбы, потом подписали прелиминарии, и германские войска коротким триумфальным маршем прошли по городу[98]. Длительная осада осталась в прошлом. Сердце Парижа забилось вновь. Дельцы, слишком долго удерживавшие запасы продовольствия, оказались застигнуты этими событиями врасплох и поспешили выбросить товар на рынок, переполнив прилавки. Цены рухнули. В воздухе запахло весной. Жизнь опять заиграла красками.
Но пелена ненависти и подозрений не желала рассеиваться. Толпы громили магазины и кафе, посмевшие открыто обслуживать немцев. Поговаривали, что правительство предало Париж. Национальная гвардия, насчитывавшая чуть ли не четыреста тысяч солдат и офицеров, громогласно заявляла, что изменники препятствовали ее эффективному использованию. Люди не хотели уходить с военной службы. Демобилизация означала для них голод.
Новое правительство недальновидно проявило себя как реакционное. Мораторий на выплату долгов, который защищал во время войны обнищавшее население, отменили. Государству больше не угрожал враг, и беднякам пришла пора опять впрягаться в ярмо, отчего минутное очарование, заставлявшее верить, что французское экономическое рабство все же предпочтительнее немецкого, исчезло.
Однако народ ошибался, считая, что Тьер и его клика отдали Францию на растерзание Пруссии. Это было совсем не так. Настоящий политик, а тех политиков можно назвать настоящими, никогда не предаст свою страну ради страны чужой. Предательство совершится только в его собственную пользу. Он и есть враг, притаившийся внутри государства.
Бисмарк предложил разоружить Национальную гвардию, обещая буханку хлеба за каждую винтовку. Фавр отверг его призыв, но позже пожалел об этом: Национальная гвардия не желала сдавать оружие и пускаться на новые и утомительные поиски работы — с заниженной оплатой, длинными сменами и отсутствием будущего. Гвардейцы вышли на демонстрацию у здания городского совета. Застрелили двух генералов[99]. Правительство Тьера укрылось в Версале, собрало силы и вернулось осаждать Париж — во второй раз. У Парижа появилась Коммуна. Нельзя сказать, что народ сражался именно за нее. Но так всегда бывает. Праведник заносит топор, намереваясь обезглавить змею, но вместо этого попадает себе по лодыжке. История пестрит подобными примерами.
Русские всей страной отмечают восемнадцатое марта, День Парижской коммуны. Их вдохновляет ее легендарный образ, тогда как Коммуна в сущности оказалась ошибкой, на которой новому поколению революционеров следовало бы поучиться. Верно, в ней правил пролетариат, но то же мы видим в любом лагере бродяг, перебивающихся случайными заработками. Коммуна не представляла из себя ничего, кроме скрежета зубовного от бессилия и неудач. Среди ее приверженцев было много радетелей за человечество, много закаленных революционеров, тех, кого долгие годы гноили в тюрьмах из-за политических воззрений, тех, кто добровольно отправлялся на Голгофу, но еще были люди бездарные, оппортунисты и карьеристы, а также такое количество перебежчиков, с каким сталкивается далеко не каждое правительству.
Эмару, как и большей части старых республиканцев, сражавшихся за революцию 1848 года, предложили место в Совете Коммуны. Он отклонил несколько постов и наконец занял незначительную должность, без оплаты и лишних обязанностей, под началом живописца Курбе — тот был назначен в дни республики председателем комиссии по охране музеев и продолжал оставаться таковым и при Коммуне. Эмар был рад возобновить знакомство, начавшееся еще во времена Бальзака в брассери[100] на улице Отфёй.
В отношениях Эмара со старыми соратниками образовалась трещина. Его взгляды на религию более не совпадали с их мировоззрением. Галье по-прежнему мечтал отделить церковь от политики, образования и экономики, но тезис о том, что религия — это простой предрассудок, перестал звучать для него столь же весомо, как раньше. Впрочем, он предпочитал держать рот на замке. Эмару довелось не раз убедиться в небезопасности таких разговоров. Взять хотя бы дело рю де Пикпюс.
Однажды, вскоре после восстания, Эмар отправился вместе с Курбе в великолепный hôtel[101] барона де Блюменберга на площади Сен-Жорж. Они обнаружили, что во дворце практически не осталось предметов искусства из знаменитой коллекции банкира. Скорее из уважения к славе художника, нежели из-за откровенно грубой настойчивости Курбе, хозяин принял их лично и извинился за беспорядок в доме. Он объяснил, что семейство собирается отдохнуть летом за городом. Коренастый, жизнелюбивый гений живописи вынул трубку изо рта и раскатисто рассмеялся, заметив вслух, что многие этой весной предпочитают выехать на летнюю вакацию пораньше. Дороги еще не перекрыли, и не один парижанин, поняв, куда дует ветер, искал убежища, не дожидаясь грозы.
Курбе пришел к де Блюменбергу в связи со своими обязанностями на посту председателя Союза художников и главы музейной комиссии. Ему необходимо было убедиться, что разъяренная толпа не доберется до произведений искусства, хранящихся у Адольфа Тьера в особняке по соседству и в домах других известных коллекционеров. Однако Курбе умалчивал о своем истинном замысле. Он считал, что все эти коллекции лучше передать под опеку государства. Особенно ему хотелось обогатить собрание Лувра.
Именно в этот день Эмар Галье впервые увидел некую мадмуазель Софи де Блюменберг, ослепительную семнадцатилетнюю красавицу, и был представлен ей.
В своем свидетельстве Галье лишь кратко касается этого визита, сосредотачиваясь на его более значимых последствиях. Читателю, однако, было бы неплохо на мгновение задержаться на нем в компании автора и приглядеться к ménage[102]Блюменбергов.
Барон де Блюменберг числился среди самых выдающихся граждан Парижа. Будучи меценатом и благотворителем, он ослеплял блеском великодушия и гостеприимства, и нечистоплотные приемы, какими он нажил миллионы, никому не бросались в глаза. Он умел так дружелюбно протянуть свою щедрую правую руку парижанам, богатым ли, бедным ли, что манипуляции его левой руки оставались незамеченными.
Конечно, авторы памфлетов не раз изобличали его. Он был прекрасной мишенью для их наивных, но едких нападок. Барон приходил в ярость, когда на карикатурах видел себя с необъятным брюхом. Поговаривали, что Курбе, в свою очередь, получил взятку за снисходительное отношение к животу банкира, когда тот заказывал ему портрет[103].
Барону чрезвычайно льстило, если высокооплачиваемые художники писали его таким, каким он хотел себя лицезреть. Тогда он радовался, как ребенок. Но когда надо было провернуть коварную махинацию и придать ей вид совершенно неприметного условия, запрятанного в глубинах договора, после чего опустить себе в карман миллион, ему не было равных в Париже.
Его положение не удалось поколебать ни Сентябрьской революции, ни падению Империи. Он легко и грациозно поменял старые цвета на республиканские. Просто перешел с одного пастбища на другое. Но по-прежнему оставался бароном де Блюменбергом. Все еще при деньгах и власти.
Даже Коммуна не заставила его разволноваться. Зная о финансовых затруднениях революционеров, он, как барон Ротшильд, быстро пожертвовал им миллион наличными, а в обмен получил свободу действий. Коммуна редко отваживалась на собственное мнение. По правде говоря, Коммуну до последнего дня разрывали споры о том, для чего она была создана.
В день визита Курбе барон готовился скрыться в безопасном месте. Дом ходил ходуном. Сотню бронзовых скульптур заколотили в ящики, скатали сотню ковров и гобеленов, сундуки забили бельем и кружевами. Из всех дверей бесконечным потоком несли в огромные фургоны упакованные вазы, картины и мебель. Раздавался щелчок кнута, и objets d'art[104] уезжали на каникулы.
Мадам де Блюменберг носилась по комнатам, собирала дорогие безделушки и проверяла, как проходит отправка ее мехов, вееров и эгреток. Под мышкой она зажимала бесценную сумочку, до отказа переполненную украшениями. Это была маленькая, похожая на птичку женщина, подтянутая и шустрая, с блестящими птичьими глазками и резкими птичьими движениями. Она порхала с места на место, скакала по лестницам вверх-вниз, от подвала до чердака, не пропуская ни крошки. Никогда никто из ее слуг так и не смог хотя бы минутку побездельничать на работе или стянуть хозяйского имущества хотя бы на сантим. Она любила повторять, что, возглавляй она Францию, правительству хватило бы половины обычного бюджета. И вряд кто-нибудь мог усомниться в этом. Однако ей почему-то не приходило в голову, что в таком случае политика строгой экономии довела бы ее мужа до сумы.
— Как же мне не хочется с этим расставаться, — сказал барон жене тем вечером, после того как Курбе с помощником отбыли с некоторыми ценными дарами Лувру, а дом почти опустел, — но полагаю, все нам с собой не забрать. — И он с грустью воззрился на огромный палисандровый рояль, инкрустированный слоновой костью.
— Эдмон, мон шер, тебе делать больше нечего? — раздраженно воскликнула жена. — Конечно, мы не сможем его увезти. Да его отсюда вообще не вынести… Эй, вы, двое, — окликнула она грузчиков, — берем это и это. Быстро! Время поджимает.
— Помнишь, как я тебе его подарил? — со вздохом сказал барон. Он поднял крышку над клавиатурой. На внутренней стороне была инкрустация из слоновой кости и разных пород дерева: корабль, сражающийся со штормом, в обрамлении из водорослей с резвящимися в них любострастными русалками. Он опять вздохнул и надавил на клавишу. В пустоте комнаты затрепетала жалобная нота.
— Эдмон! — с укором произнесла мадам де Блюменберг. Он поймал ее за руку и потянул к роялю.
— Помнишь? — повторил он.
— Да помню, помню, — рассердилась она.
— Наше чудесное, наше ужасное кораблекрушение. — Он снова вздохнул.
— Ты такой романтичный. — Она усмехнулась и попыталась высвободить руку.
— Не надо, — попросил он. — Не уходи… В конце концов, тогда в первый и последний раз ты отдалась мне. — Он слегка охрип от нахлынувших чувств.
— Потом как-нибудь мне об этом расскажешь. — Но он успел обвить рукой ее талию и не отпустил от себя.
— Я никогда не забуду об этом.
— Неужели? После всех тех, других? — Жена откровенно дразнила его.
— Сама знаешь, они для меня ничего не значат. Просто развлечения делового человека. Ты всегда была моей единственной любовью. Я часто задаюсь вопросом, что произошло бы, если бы ты могла ответить на мои чувства с той же силой?
— Разве я плохо слежу за домом? А если тебе понадобится переспать с женщиной, то за пару франков ты получишь кого угодно. Девиц самых опытных… в своем деле.
— Тот единственный раз, — мечтательно произнес он, обращаясь скорее к себе, чем к жене, и провел свободной рукой по изображению морского бедствия. — Мы все думали, что обречены. Ужасный шторм, оснастка сорвана, течи по всему корпусу, капитан и команда в отчаянии. И мы двое, уверенные, что погибнем в том плавании, в нашем свадебном путешествии. В самом начале пути я думал, что ты отказываешься принять меня исключительно из девичьей скромности, но позже все стало ясно… Однако, когда перед нами разверзлась бездна, ты проявила милосердие и отдалась мне, уступая моему последнему желанию. Ах! Годы твоей холодности не сотрут из моей памяти те объятия.
— А вот я, — сухо сказала она, — и сейчас сожалею о том дне… Ну, вспоминать закончил?
— Как ты можешь сожалеть, — спросил барон, — ведь иначе и Софи бы не было? Я не устаю поражаться, что Софи, такая живая и жизнелюбивая, появилась на свет благодаря слиянию двоих людей, смотрящих в глаза смерти.
— Ты только про Софи и думаешь, — сказала жена. — А сколько ты причинил мне боли, предпочитаешь забывать. Все те жуткие месяцы, когда тело раздувается, а голову не покидает мысль о том, что все ближе и ближе день, когда оно разорвется, раскрываясь. Эта участь должна была постичь тебя, но ты получил лишь удовольствие. А я — ничего, кроме боли.
— Надо же, — продолжал барон, — из столь ужасающего переживания, будто вырванная из рук самой смерти, родилась наша попрыгунья Софи, веселая и беззаботная, как коноплянка, не знающая бед, не думающая о могиле.
— Раз уж речь зашла о Софи, — сказала баронесса, — неплохо бы тебе с ней поговорить.
— Что-то случилось? — насторожился он и с сожалением закрыл крышку, убрав с глаз сцену с тонущим кораблем, воспоминанием о самом трепетном моменте в его судьбе, когда смерть каким-то чудом обернулась жизнью.
— У нее очередной каприз. Хочет остаться в Париже!
— Не хочет уезжать? Что за глупости! Где она будет жить?
— С тетей Луизой.
— Какая чепуха!
— Вот и попробуй что-нибудь с ней сделать. Я опустила руки.
Барон прошел по огромным и пустым залам в комнату дочери. Софи сидела на голой скамейке у окна. Услышав, как вошел отец, она посмотрела на него с улыбкой.
«Солнечное, теплое создание! — подумал барон. — Счастлив тот, кому она станет женой. Как она будет любить его! Везунчик Барраль…» На барона нахлынуло странное чувство — не ревность, ибо от него не было больно, но очень схожее с ревностью.
— Ты опять поссорилась с мамой, — начал он.
— Нет. С чего вы взяли?
— Она только что сказала мне, что ты отказываешься ехать с нами. Ладно, я рад, что все в порядке. — Он был и вправду рад.
Барон столь искренне любил жену и дочь, что мельчайший разлад между ними мог испортить ему настроение на весь день.
— Конечно, в порядке, — весело ответила Софи. — Я никуда не еду. Остаюсь с тетей Луизой.
— Но, дочка, почему ты раньше молчала? — попенял он. — Мы бы остались тут все вместе. Мебель-то уже вывезена. К тому же мне ни за что не удастся убедить маму изменить планы. Сама ее знаешь. Почему, почему вы всегда спорите?
— Папа, милый, не надо менять планы, у тети Луизы обо мне прекрасно позаботятся.
— Ага, понял. — Барон вдруг улыбнулся. — Конечно, я мог бы догадаться сам. Он тоже остается. Верно?
Софи вспыхнула и прикусила нижнюю губу.
— Да, — ответила она. — Он тоже остается.
«Счастливчик Барраль, — опять подумал отец. — Что поделать, оставайтесь, — и он мысленно благословил их. — Оставайтесь, и да хранит вас Господь. Отдай себя, подари всю себя человеку, которого ты выбрала сама, и сделай его счастливым, как был счастлив я, но лишь раз в жизни…»
От этих мыслей на его глаза навернулись слезы, и он, повинуясь порыву, присел рядом с дочерью и обнял ее.
— Ты уже не помнишь, как я брал тебя из рук няни и носил по комнате. Ах, ты была самой милой девочкой в мире. Не хотела отправляться в кроватку, отказывалась кушать и — эх! — справлять свои делишки, пока сначала я не покатаю тебя по комнате. Да, жалко, сейчас уже не получится.
Софи скрыла недовольство и вытерпела его ласку.
— Вы же позаботитесь о мамочке и успокоите ее? — говоря это, она потихоньку высвободилась из его рук.
Барон со вздохом встал.
— Посмотрим, что можно сделать. — Предвидя скандал, он провел рукой по лбу.
Софи вскочила и поцеловала его.
— Дорогой мой папочка! — воскликнула она.
Барон вышел, пребывая на седьмом небе от счастья.
Прямо за дверью он столкнулся с Барралем и под наплывом чувств схватил его за руку.
— Там вас ожидает сюрприз, — сказал он. — Большой сюрприз! Идите, Софи не терпится рассказать вам.
Барраль, выглядевший встревоженным, с облегчением посмотрел на барона.
— Какого рода сюрприз?
— Софи сама скажет. — Барон решил хранить тайну: негоже лишать девочку радости поведать жениху, что она остается в городе.
Хотя Барраль пришел попрощаться, печалило его главным образом не это. Напротив, последние два дня он находил успокоение в мысли о расставании с Софи, поскольку в нем не переставала расти уверенность, что в сплетнях, окружавших ее с недавних пор, есть толика правды (всего лишь толика, конечно) и лучшего решения, чем отъезд девушки из Парижа, было нельзя вообразить. Это стало бы препятствием для ее дружбы с тем юным гвардейцем.
«Но о каком сюрпризе речь? — недоумевал Барраль. — Вероятно, она решила принять мое предложение, когда я его сделаю». Внутри у него все перевернулось. С рвущимся из груди сердцем он постучался к ней в комнату.
— Софи, — начал он, входя, но потом язык перестал слушаться.
Они говорили обрывочными фразами. Обоим было не по себе. Барраль мучился вопросом, не опуститься ли ему на колено.
Можно ли говорить без обиняков? Наконец он собрался с силами.
— Милая Софи, сейчас, когда вы покидаете Париж, а я остаюсь здесь, вдали, и постоянно рискую жизнью, мне необходимо кое о чем вас спросить.
— Но, Барраль, я никуда не еду, — сказала она.
Все его красноречие, и без того весьма неуклюжее, мгновенно иссякло. Она по-настоящему огорошила его, и он на секунду совершенно растерялся.
— Что-то вы не рады, — заметила Софи.
Он отвернулся и пробормотал:
— Будь я уверен, что вы остаетесь из-за меня…
Она уже не слушала.
— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, говорю… — Он собрал все свое мужество. — В кантине про вас ходят ужаснейшие сплетни.
— Да? И какие же?
Он окончательно сник и пробубнил:
— Просто… ну, сплетни. Конечно, я ни слову из них не верю, — поспешил заверить он.
— Так какие именно?
— Я подумал, вам надо об этом знать.
— Понятно, — ответила она.
Они замолчали. Он недовольно заерзал.
— Безусловно, это только слухи, — начал он в ожидании ее опровержений.
— Какие слухи?
— Которые ходят.
— Но вы так и не сказали, что обо мне болтают. — Она оставалась спокойной и слишком рассудительной.
Он взволнованно воскликнул:
— Скажите, что это неправда!
Но она безжалостно повторила:
— Что неправда?
Ее будто бес подзуживал, так ей хотелось, чтобы Барраль сам сказал ей об этом. Софи со странным упоением ждала, когда с его губ сорвутся слова о ее любви к Бертрану. Она жаждала хотя бы этой радости, если уж было невозможно поведать более сокровенные подробности ее чувства. За прошедшие недели она испытала множество новых ощущений, но ей хотелось еще.
Перед Софи открылся целый мир, и она ненасытно вбирала в себя неведомые ей доселе наслаждения.
Барраль содрогнулся от боли.
— Значит, это правда, — проговорил он. — Но как такое может быть? — Он чувствовал себя путешественником, который примчался в порт, увидел, что его судно уже отплыло, и теперь ему остается лишь стоять на берегу и твердить одно и то же, словно многократное повторение лжи способно смягчить разочарование: «Быть этого не может. Нет, это мне снится».
Затем его обуял гнев.
— Я знаю, как поступлю, — заявил Барраль. — Я убью его. Найду его адрес и убью.
Вдохновляясь собственной жестокостью, Софи подлила масла в огонь:
— Только приходите, когда мы с ним вместе, чтобы пронзить нас одним ударом.
— Не вас, Софи! — огрызнулся он. — Я убью только его.
— Разницы никакой, — сказала она. — Мы с ним единое целое: умрет он, умру и я.
— Отлично. Тогда можете умирать, потому что ему от меня не уйти.
— Такова сила вашей любви? — усмехнулась девушка. — Вот чего стоили все ваши письма? И это после того, как вы клялись мне, что никогда не разлюбите. Как я могла верить тем дешевым обещаниям? — и она с отвращением отвернулась.
Барраль стоял, как громом пораженный. Дерзость ее упрека крайне удивила его. Ее виновность отступила на задний план. Всплыл иной вопрос: лгал он в своих письмах или говорил правду? Лгал или нет?
Выбитый из колеи, он взмолился:
— Но что мне теперь делать?
— Если ваша любовь истинна, она не исчезнет, — ответила Софи. — Поверьте, я ни на миг не усомнюсь в своей любви к нему.
Это прозвучало еще более безумно, чем ее первый довод. Но он принял ее слова как должное.
— Я всегда буду любить вас, — прошептал он.
— Вы хороший человек, Барраль, — похвалила девушка. — А я не перестану одаривать вас тем, чем всегда, — своей дружбой. У нас ничего иного и не было, я вам ничего больше не обещала. Но во имя меня и своей любви ко мне вы будете любезны с Бертраном и не проговоритесь ни моим родителям, ни тете Луизе… никому и никогда.
Он сглотнул и пообещал это.
Домой он вернулся, как в тумане. Снял мундир и бросился на кровать. Но облегчения не почувствовал. Спать не хотелось. Нужно было что-то сделать. В комнате словно не хватало чего-то. Он огляделся, не в силах сосредоточиться.
Потом понял, чего хочет. Письмо. Надо написать Софи письмо. Он сел за стол и начал писать. Рассказал ее красоте и своей любви, и о своей боли и муках, и вечной верности. Рано утром, отправив послание, он немного успокоился.
Затем капитан Барраль де Монфор — разочарованный в любви, с разбитым сердцем — полностью окунулся в новую миссию. Задание шпионить на Версальское правительство требовало тонкой работы. Он понял, что сложное дело станет великолепным противоядием от всех его бед.
Более того, связанный обещанием, он не мог открыто отомстить Бертрану или сплетникам из 204-го гвардейского батальона, но мог напасть на них с тыла. Он мечтал пустить им кровь. Мысль о том, что рано или поздно он заставит их страдать, воодушевляла его. Именно против этих людей и были направлены все его усилия.
Барраль с головой ушел в тайную деятельность, не забыв позаботиться о том, чтобы его ни в чем не заподозрили. Например, будучи членом штаба, он мог бы с легкостью доставать ценные сведения из первых рук, однако старательно избегал личного участия в заседаниях и узнавал обо всем из иных источников. Никто и не догадывался, что он что-то вынюхивает.
Клюзере[105], возглавлявший штаб, заметил отсутствие де Монфора за заседаниях, обвинил его в пренебрежении обязанностями и угрожал уволить. Все принимали Барраля за легкомысленного офицера, которого больше, чем война, заботили великолепие мундира и красота посадки в седле.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Я уже успел упомянуть о деле рю де Пикпюс. Хотя к нашему рассказу оно имеет мало отношения, разве что служит фоном для него, этот случай настолько показателен в плане царивших в то время настроений, что будет полезно на нем задержаться. В своем свидетельстве Эмар Галье несколько раз говорит о тайнах рю де Пикпюс. А так как упоминаемые события оставили след в истории, несложно дополнить его замечания и вдохнуть в них жизнь. Впрочем, у нас есть и иной повод вдаваться в подробности.
Эмар пробыл в Париже добрых восемь месяцев, но так и не повстречал Бертрана. Более того, за последние три месяца он не слышал ни об одном преступлении, которое мог бы с уверенностью приписать своему воспитаннику. «Бертран погиб. Да, наверняка», — частенько говорил себе Эмар. В то время смерть была обычным делом. Немцы целый месяц забрасывали Париж снарядами, убив сотни горожан. А в относительно немногочисленных сражениях с участием Национальной гвардии из-за бездарности командования пали тысячи солдат и офицеров. Эмар с грустью подумал, что Бертран мог оказаться среди тех бедолаг. Он вспомнил малыша, столь обожаемого покойной тетушкой. Вспомнил, как мальчик рос. Мягкую шерстку на его ладонях. Большие карие глаза, влажные и трогательные, как у щенка.
А потом, совершенно неожиданно, Галье столкнулся нос к носу с самим Бертраном. Эмар так долго гнался за любыми уликами, что в конце концов стал считать себя завсегдатаем мест преступления. Он водил дружбу со многими революционерами, занявшими высокие посты: в те беспокойные дни такие связи гарантировали ему определенную степень неприкосновенности, хотя его, случалось, принимали за шпиона и однажды чуть не отправили в тюрьму.
Второго апреля Коммуна, это недолговечное правительство из Отель-де-Виль[106], выпустило декрет о национализации всего имущества под так называемой «мертвой рукой», то есть земель и построек, принадлежащих церкви и ранее не подлежавших отчуждению, и приказало полиции разыскать и составить опись подобной собственности и организаций, ей владеющих.
Есть версия, что Риго, бывший тогда префектом полиции[107], на самом деле хотел лишь заполучить в заложники влиятельных духовных лиц, рассчитывая обменять их на Бланки, арестованного версальцами, но, по официальным бумагам, такие общества, как иезуиты и прочие, обвинялись в тайном хранении больших запасов оружия и патронов — политическая уловка, весьма эффективная и сегодня.
Еще мне хотелось бы коснуться бессмертных, веками передающихся из уст в уста историй о том, что серые каменные стены монастырей обязательно хранят какую-нибудь тайну: за их толщей, конечно, томится забытый всеми узник, умоляющий жестокосердных монахов отпустить его, но братия в ответ лишь распевает гимны да прячет ухмылки под коричневыми капюшонами; или те же монахи держат взаперти, где никто не услышит ее причитаний, юную деву, и она вынуждена покориться грубой похоти тех, кто дал невыполнимые клятвы и должен в глазах мира блюсти обет безбрачия; еще в монастырях могут быть сокровища, или призраки, или необъяснимые видения, сопровождаемые невероятными звуками.
Газеты тех дней, видимо, не придумав ничего лучшего, подарили этим старым россказням новую жизнь. К примеру, в одной из них мы читаем: «У комиссара бывшей полицейской префектуры имеются доказательства того, как верхи парижского духовенства предали Францию и стали немецкими шпионами».
Среди церквей, в которых искали склады оружия и боеприпасов, оказались два соседствующих здания Конгрегации отцов и сестер Святейшего Сердца Иисуса на рю де Пикпюс. По слухам, там спрятали тысячу восемьсот винтовок Шасспо, новинки того времени[108], укрыв их вместе с неисчислимыми «сокровищами Отцов» — огромным запасом золота и драгоценностей ордена. Седьмого апреля в дома Конгрегации пришла с обыском полиция. Обыск ничего не дал. Это никак не повлияло на выход в одной из газет статьи, где утверждалось, что на рю де Пикпюс были обнаружены признаки наличия «оружия, боеприпасов, а также мастерской по изготовлению бомб».
Публика требовала очередную порцию новостей, и двенадцатого апреля полицию опять отправили искать таинственный «подземный зал», предположительно используемый в качестве арсенала. Повсюду накопали канав, в десятках мест продырявили стены, но секретного склада не нашли.
Так вышло, что, едва слухи начали стихать, в монастырском саду рабочий случайным ударом заступа вывернул из земли человеческие кости. Эта более страшная находка мгновенно затмила бомбы и винтовки.
Несмотря на поветрие безумия, гулявшее по осажденной столице, некий сильный духом гражданин осмелился прислать в полицию «Историю Парижа» Дюлора[109] с подчеркнутым отрывком, в котором говорилось, что не только здания Конгрегации, но и некоторые другие дома на рю де Пикпюс, вероятно, стоят на человеческих костях, поскольку эту местность ранее занимало кладбище, на тот момент частью остававшееся открытым для захоронений и частично отданное городу под застройку и сады[110]. Но полицейские то ли не умели читать, то ли просто не хотели тратить время на подобную чепуху и на книгу не обратили внимания, так и не узнав, что в 1793 году, иными словами, в эпоху Террора, в общем длинном рву на старом кладбище были похоронены 1306 казненных на гильотине аристократов.
Не исключено, что этим двум религиозным общинам не стали бы вменять в вину незаконное захоронение вне официально признанных кладбищ и тем более не заподозрили бы их в убийствах, если бы не другая, странная и пугающая находка. Полицейский, проверявший чердаки, обнаружил там три зарешеченные каморки, а в каждой из них — по седовласой женщине. Ни одна из узниц не смогла объяснить, за что туда попала. Все они бормотали нечто невнятное, выкрикивали нелепые угрозы и пронзительно визжали.
Широко известно, что в былые времена католическая церковь держала собственные тюрьмы, однако факт, что этот варварский обычай сохранился по сей день, поразил общество. Никто не усомнился, что три старухи когда-то были прекрасными послушницами монастыря, но, конечно, стоило им высказать собственное мнение или восстать против жестокого диктата священников, как их приговорили к заточению, и после долгих лет одиночества бедняжки лишись рассудка. Сумасшедших узниц выставили на всеобщее обозрение, дабы публика могла убедиться в порочности практик, бытовавших в Церкви. Любой мог прийти в казармы на улице Рёйи и, заплатив буфетчице десять сантимов, посмотреть на несчастных.
Вскоре на монастырь обрушились еще более ужасные обвинения, на сей раз подтвержденные вещественным доказательством: среди имущества монахинь была колыбель! Да, эти якобы целомудренные женщины хранили у себя детскую колыбельку!
И неважно, что многие из тех, кто жил по соседству, могли бы вспомнить, что в женском монастыре на Рождество устраивалось театрализованное представление с младенцем Христом и поклонением волхвов, и потому не затруднились бы объяснить назначение колыбели, этой части сценических декораций, раз в год извлекаемой из хранилища. Но подавать голос в те дни мыслилось неразумным. Одну девушку, осмелившуюся высказать свои сомнения, незамедлительно арестовали и посадили за решетку как заговорщицу.
Затем выплыли и иные подтверждения распутства внутри Конгрегации. В келье преподобного отца Буске, стоявшего во главе мужского монастыря и как раз отсутствовавшего в то время в Париже, нашли научный трактат — пособие по практическому родовспоможению, ну надо же!
Ясное дело, никто не заметил, что на обложке стояло имя автора — тоже Буске, который по странному совпадению оказался не только племянником прелата, но еще студентом-медиком и недавно представил этот труд в качестве дипломной работы, являющейся одним из условий получения степени в Парижской медицинской школе. А если бы доктор Пайе, врач при женском монастыре, сообщил об этой детали полиции, то его самого заперли бы в камере как «соучастника преступлений на Пикпюс».
Но и тогда, возможно, общественность не потеряла бы остатки здравомыслия, не появись новые доказательства. Во-первых, сундук с костями! А в дополнение к нему спрятанные на самом дальнем, самом труднодоступном чердаке железные орудия необычной и зловещей формы, с цепями и кандалами, рядом с особыми ложами, снабженными защелками и подъемными механизмами. И последнее, венчающее все открытие — склеп под часовней женского монастыря, а там в гробах восемнадцать трупов различной степени разложения!
Вот вам и полный состав дела!
Газеты не жалели ярких красок, расписывая леденящие кровь детали: «За что несчастную сестру-бернардинку запирали в некоем подобии клетки, столь тесной, что, урони она иголку, нагнуться и подобрать ее не получится? Каковы смысл и предназначение этого железного венца, этой дыбы, этого стального корсета? Они — части пыточного арсенала, необходимые атрибуты средневековой Инквизиции, процветающей в Париже девятнадцатого века».
В одной статье рассказали о человеке, который десять лет назад заснул в церкви на Пикпюс. Его не заметили и заперли в здании на ночь. Несколько часов спустя он проснулся в темноте от истошных стонов.
Другой журналист отметил, что все восемнадцать найденных тел были женскими, а их позы в гробах выглядели неестественными. Очевидно, их похоронили недавно. Копна пепельных волос одной из покойных несла отпечаток былого великолепия. Говорили, что по ним некий виноторговец, живший поблизости, узнал дочь, пропавшую несколько лет тому. «Когда трупы вынесли на свет, провалы ртов на их лицах, — писал газетчик, — приняли самые невероятные формы. Казалось, будто эти лишенные плоти кости пытались заговорить, поведать нам о трагедиях, прервавших их жизни». Тут автора статьи посетило вдохновение, и он принялся живописать то, о чем молчали мертвые: «Приглядитесь, — говорят они (трупы), — приглядитесь к нашим бедным черепам — все они повернуты либо направо, либо налево. Разве это не доказывает, что нас погребли прежде, чем наши тела сковал хлад смерти?» Дальше обрисовывались жуткие полуночные оргии, что устраивались монахами в склепах при зыбком свете факелов. То был рассказ о девах, обманом завлеченных на особую божественную церемонию, участие в коей должно было проложить им прямую дорогу на Небеса.
Каким бы желанным ни выглядело обещание грядущей благости, ни одна девушка не потребовала немедленной оплаты, предпочитая ждать еще много лет. Однако вино на причастии уже содержало сильный наркотик. А облатку пекли из муки, смешанной с порошком из сонных трав. И монахи удовлетворяли свою неуемную, извращенную похоть, в то время как одурманенные жертвы с трудом оказывали сопротивление, после чего на несчастных и вовсе обрушивалась пелена полного забытья.
Наркотик переставал действовать, к девушкам возвращалось сознание, и они просыпались в темном, узком ящике, постепенно догадываясь о его ужасном назначении, но впереди их ждала лишь чернота смерти. Похороненные заживо, они сопротивлялись, и свидетельством тому служат их скорченные тела, распахнутые в крике рты, согнутые пальцы, все эти следы предсмертных мук, когда грудь разрывается от нехватки воздуха, а руки ощупывают пространство в поисках выхода.
«Но правосудие неминуемо приближается царственной поступью! — пишет наш автор. — Как бы тщательно ни скрывали преступление, на него все равно прольется свет. Не мешкайте, добрые и милосердные жители Парижа, идите и смотрите на черные дела бесславных церковников. Смотрите внимательно! Выбирайте: ложитесь живыми в гробы, как Карл Пятый[111], или же, подобно Лазарю, пробуждайтесь от долгого сна беспечного невмешательства! Здесь, пред сим склепом, заступайте в караул! И да пойдет человечество за вашим неугасимым сиянием к возвышенному единению с гармонией…» и т. д., и т. п.[112]
Еще в одном издании разместили пространную и витиеватую статью о колыбели у монахинь. Автор вопрошал, что за несчастные младенцы, порождение союза монахов и монахинь, спали в ней, отделенные всего несколькими метрами и несколькими стенами от алтаря Девы? Что сталось с теми детьми? Безусловно, монахи не стремились сохранять жизнь этим осязаемым свидетельствам бесчестного нарушения священных обетов. Нет, намерения церковников были ясны и понятны. Увы! Когда родительницы, монахини, жестоко лишенные неразумной религией права на материнство, ласкали любящим взором своих сыновей и дочерей и начинали иными глазами смотреть на изображения Девы Марии с младенцем Иисусом на руках, познав касание губ ребенка к соску, касание, от которого любовно сжимается сердце, отцы отрывали малыша от материнской груди, убивали его или живым отправляли в сточную канаву. А если бедная бернардинка или целестинка сходили с ума от горя, их запирали в клетке на чердаке, где безумные колыбельные осиротевших матерей, смешанные с дикими выкриками и мольбами вернуть ребенка, таяли под коньком крыши.
Позже монахи нашли более изощренный выход. Они решили изучить повивальное дело, тем самым ограждая себя от появления младенцев. Пустую колыбель убрали с глаз долой. Она стала больше не нужна. Теперь монашки с монахами могли скрывать свои пороки за не сходящими с лиц ангельскими улыбками.
Воистину, ветер безумия гулял по Парижу. На рю де Пикпюс валом валил народ. Эмар тоже не остался в стороне. Этьенн Каржа[113], «воспользовавшись волшебной помощью электрического света», запечатлел скелеты из склепа на фотографиях. Лавки торговали изображениями тайных похорон. Полиция обыскала другие монастыри, мужские и женские. Всплыло множество ужаснейших находок! Прибитые к стенам цепи, кандалы, смирительные рубашки и прочее — все это, конечно, предназначалось для укрощения сопротивляющихся Венер.
Не весь Париж, спору нет, поглупел разом, но бездумную массу, привыкшую заглядывать в рот к газетчикам, подхватывая то один мотив, то совершенно иной, чрезвычайно взволновали эти романтические ужасы.
Насколько невежественным надо быть, чтобы в сундуке с костями не опознать реликварий с мощами святого? В защиту женского монастыря, правда, выступили его давние воспитанницы, заявив, что «пыточные орудия и прокрустовы ложа для растягивания жертв Инквизиции» являлись всего-навсего ортопедическими приспособлениями, которыми пользовались при лечении калек, отданных под опеку монахинь. Три сумасшедшие пленницы, как выяснилось, были престарелыми сестрами, потерявшими рассудок, за которыми бережно ухаживали. Но газеты предпочли не распространять эти сведения.
Коммуна поручила доктору Пьорри[114], профессору Медицинской академии, составить официальный отчет по делу. Он намеренно задержал документы со своими выводами, дождавшись падения Коммуны и возвращения свободы слова. И тогда он обнародовал заключение. Все восемнадцать найденных тел принадлежали пожилым женщинам, а никак не юным девам. Похоронили их очень давно. Насколько давно, Пьорри сказать затруднялся, но определенно десятилетия назад. Доказательств недавних злодеяний не нашлось.
Однако его заключение опоздало, ибо комедия улицы Пикпюс к тому времени успела прийти к предсказуемо трагическому финалу.
На сцену гордо вышел облаченный в яркий мундир присадистый коротышка Рауль Риго, всегда готовый поделиться с друзьями нюхательным табачком, и приказал арестовать всех скопом. Риго, этот гений, этот прирожденный детектив, чуть ли не с пеленок решил, что обязательно возглавит полицию Парижа. Он достиг поставленной цели, но его неуемные амбиции и дурной нрав сослужили ему не только добрую службу.
Риго решил взять важных церковных деятелей в заложники: Версальское правительство задержало престарелого революционера Бланки, и шеф полиции надеялся на обмен пленниками.
Длинная цепочка монахов и монахинь была отконвоирована в бывшую префектуру. Туда же ранее привели ряд других клириков, в частности архиепископа Парижского монсеньора Дарбуа, аббата Лагарда, его главного викария, и целый сонм священников рангом пониже.
Риго лично допрашивал каждого.
— Род ваших занятий? — спросил он у одного иезуита.
— Слуга Господа.
— Господа? И каков же адрес вашего хозяина?
— Он везде.
— Запиши, — приказал Риго секретарю, поглаживая свою роскошную бороду. — Такой-то; называет себя слугою Господа. Гражданин Господь, бродяга без установленного места жительства.
Архиепископ попытался воззвать к душе коммунара.
— Дети мои… — начал он, простирая руки.
Риго перебил Дарбуа:
— Здесь нет детей. Только граждане.
Архиепископ помедлил, но осмелился продолжать.
Риго не дал сказать ему и слова.
— У полиции достаточно сведений, — заявил он, — для доказательства сговора Церкви с Версальским правительством, а также вины священников в том, что в недавних боях войска Версаля взяли верх над Национальной гвардией. Нас предали, сомнений нет. Наши секреты попали к врагу. Но виновные наконец обнаружены, их уже задерживают.
Прелат хотел было ответить, но Риго отрезал:
— Вы, парни, восемнадцать веков ускользали от правосудия. Если сейчас вы откажетесь сознаться в заговоре, мы начнем следствие. А пока я должен вас арестовать.
Он взял листок и начертал: «Начальнику тюрьмы: поместить этих двоих, называющих себя Дарбуа и Лагард, в камеры — без права визитов и переписки». На стенах опустевших церквей появились объявления: «Сдается конюшня»[115]. Молельные дома стали местом собраний политических клубов.
Полиция не ошиблась в единственном отношении: измена имела место, заговор существовал. Коммуна, как ни одно другое правительство, оказалась пронизана разного рода интригами, опутана сетью предательства, но, видя источник заражения в священниках и религиозных организациях, полиция проглядела настоящее осиное гнездо, Café Suede, заведение, откуда спрут протянул свои щупальца по всему городу.
Париж полнился людьми, видевшими в перевороте исключительно возможность нажиться. Правительство Тьера в Версале знало цену их честности и стояло наготове с деньгами. Высокопоставленные коммунары наведывались в Café de Suede за золотом. Капитан Барраль де Монфор, подвизавшийся при штабе 7-го легиона и заслуживший хорошую репутацию среди офицеров Национальной гвардии, сидел там за столиком и вел непринужденную беседу в густом облаке табачного дыма. Со стороны казалось, что он просто встречался с друзьями за аперитивом ради легкого, остроумного разговора.
Это было обычное место свидания Барраля с его агентами со всех концов Парижа. Он сердечно приветствовал их, болтал о пустяках, и как бы случайно в их карманах начинали шуршать билеты Banque de France. Договаривались о расценках: пять тысяч франков от префекта Версальской полиции за оставленные открытыми ворота; десять тысяч от военного министерства за возможность прохода батальона; три тысячи за каждого человека, из казны министерства внутренних дел. И все это под носом у полиции Коммуны, сбившейся с ног в поисках подземных ходов для шпионов Версаля и безуспешно проверившей десятки мест на предмет туннелей. И в те самые дни, когда подручные Риго развернули кампанию по преследованию несуществующих убийц умерших сто лет назад женщин.
Завершив деловую встречу в Café de Suede и оставив после себя пустые бокалы да пепельницы, полные серебристого сигарного пепла, капитан Барраль де Монфор вставал и, прежде чем вернуться к своим служебным обязанностям, брал экипаж или шел пешком в кантину при 204-ом батальоне.
Когда он сегодня вошел туда, на него подняла взгляд черноволосая девушка удивительной красоты.
— Ну, какие нынче новости, Софи? — непринужденно начал разговор Барраль.
Она огляделась, убедившись, что никто не слышит, и прошептала:
— Говорят, войска выводят из укреплений в От-Брюйер и с аванпоста в Кашане.
— Хм, что за нелепый приказ?
— Вам эти сведения пригодятся?
— Возможно. Если это ослабит их позиции, надо атаковать там.
Софи чуть улыбнулась.
— Расскажете, чем все закончилось. И если я справилась с работой и расплатилась с вами, сдержите и свое обещание.
— Можете на меня положиться, — торжественно заявил он. Затем они немного поболтали. Софи сняла фартук, защищавший ее нарядное платье, и они рука об руку вышли из столовой.
— Вы все еще влюблены в него? — спросил Барраль. Его рот горько скривился.
— Конечно, — беспечно ответила девушка.
— Ложь. — Барраль остановился в стороне от толпы и положил руки Софи на плечи. — Зачем вы меня обманываете?
Он грубо потряс ее, громко повторив:
— Отвечайте же, зачем? — Ему хотелось закричать, но он не посмел.
— Не глупите, — раздраженно сказала Софи.
— Ага! Думаете, у меня глаз нет? Вы с каждым днем все бледнее. Стали похожи на привидение.
— Почему вы вечно мне досаждаете?
Лицо Барраля исказилось, словно он собирался заплакать.
— Разве вы забыли, как я вас люблю? — тихим и печальным голосом произнес он.
— Барраль, вы хороший мальчик. Хотелось бы мне тоже вас полюбить. Но теперь уже слишком поздно.
— Не говорите так! — воскликнул он. — Почему слишком поздно? Давайте уедем из этого кошмарного города. Я могу сделать это, как только пожелаю.
Софи не ответила, а лишь посмотрела вдаль, будто пытаясь разглядеть что-то за горизонтом, а он торопливо продолжал:
— Можно вместе уехать в деревню, в мой домик в Валлори[116].
Она перебила его:
— Возьмем фиакр. Я спешу, он уже ждет меня. Сегодня его отправили на Пикпюс, но уже должны были отпустить.
Барраль пробормотал что-то себе под нос. Софи не разобрала слов, но поняла, о чем он.
— С его головы не должен упасть ни один волосок! Предупреждаю, если с ним что-нибудь случится, я себя убью, и не имеет значения, будет в том ваша вина или нет.
— Обещаю, что не трону его, — сказал Барраль, — и сдержу слово. Послушай те, не могли бы вы дать мне свой адрес?
— Для чего? — подозрительно спросила девушка.
Он немного помолчал. Но потом, уже в карете, повторил просьбу.
— Не понимаю, к чему вам мой адрес. Наверное, хотите доложить тете Луизе, куда я сбежала.
— Нет, — твердо сказал он. — Не за этим. Я хочу написать вам письмо. Сами знаете, как долго я писал вам, и это вошло у меня в привычку. Иными словами, мне сложно остановиться. А отдавать письма лично в руки — это совсем другое. Мне так нравилось писать по вечерам и выходить ночью на улицу, чтобы бросить письмо в почтовый ящик.
— Как это мило, Барраль. Вы всегда такой милый.
К его горлу подступил комок. Он попытался воспользоваться ее благорасположением.
— И, конечно, раз уж вы уехали от мадам Херцог, негоже отправлять письма на ее адрес: вы же сами хотите, чтобы она думала, будто мы вместе.
— Вы и вправду очень милы, Барраль, — растроганно повторила Софи. И взяла его за руку. — И чересчур добры ко мне. Ох, вы и не представляете, какая я испорченная. Я делаю такое! Вы должны быть счастливы, что я исчезла из вашей жизни. — Сказав это, она осознала, что испытывает к Барралю не только сочувствие. Поняла, что в ней говорит гордыня. Она считала себя выше «милашки» Барраля. О, она плохая, очень плохая.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Автор приносит извинения за неупорядоченность последних глав. В его оправдание можно заметить, что хронология свидетельства Галье местами не слишком очевидна, а это несколько затрудняет пересказ описываемых событий.
Как говорилось ранее, в Париже Эмар впервые столкнулся с Бертраном лицом к лицу во время расследования на рю де Пикпюс, и, хотя в предыдущей главе мы, стремясь как можно полнее передать содержание записок, успели сбиться с пути прямого изложения истории, в этой мы обязательно к нему вернемся.
Однажды, когда Эмар, недалеко от монастырей на Пикпюс, остановился поговорить со своим знакомым, полицейским комиссаром Клавье, отвечавшим за следствие, к ним подбежал солдат с сообщением о находке трупов в склепе. Клавье поспешил в церковь, Эмар — за ним. Рабочие, которым помогали гвардейцы, выкапывали гробы из земляного пола и тут же выносили их на свет.
Взгляд Эмара остановился на одном из гвардейцев, и по его спине побежал холодок. Галье вздрогнул, но не только из-за того, что в разгоряченном и потном солдате с тяжелым гробом на спине узнал Бертрана. Здесь было и другое.
Несколько месяцев назад Эмар шел по улице где-то в районе Бастилии и по привычке думал о воспитаннике, терзаясь сомнениями, действительно ли стоит искать Бертрана в Париже: возможно, он вообще не приезжал сюда. Внезапно в глаза Галье бросилось красное полотнище, растянутое над магазином. На нем белыми буквами было написано: «Guerre a outrance! Война до победного конца!» Призыв осенял одну из многочисленных лавок, с недавних пор торговавших мясом кошек, собак и крыс.
Эмар не удержался и походя бросил взгляд через дверное стекло. Внутри стояла очередь из домохозяек, кутавшихся в теплые платки. Жена мясника заворачивала мясо в видавшую виды бумагу. Ее муж орудовал тяжелым, обагренным кровью тесаком. Его грубое, оплывшее лицо раскраснелось от напряжения — работа шла полным ходом.
Эмар проследовал дальше, но лицо мясника крепко засело в памяти, заслоняя все мысли. Пройдя три квартала, Эмар вдруг воскликнул: «Да ведь это же был отец Питамон!» — и поспешил обратно убедиться в своей правоте. Мясник и впрямь напоминал отца Питамона, но уверенность Эмара испарилась: слишком много лет миновало с последней его встречи со священником. Галье долго смотрел на мясника, узнавая и не узнавая его. Вроде бы отец Питамон, но может, и нет… Сбившись окончательно, Эмар пошел своей дорогой.
Вот и сейчас, глядя на гвардейца, изо всех сил старающегося вытащить наверх тяжелый гроб, Эмар точно так же колебался. Уж не отец Питамон ли это?.. Но солдат все-таки оказался Бертраном, повзрослевшим и возмужавшим. Сердце Эмара бешено забилось. Он так долго ждал этой минуты. Что делать? Закричать? Схватить его? Огласить сводчатый купол церкви громкими проклятиями, обличающими чудовище? Однако вместо них на ум приходили лишь иронические замечания.
Галье стоял в толпе и смотрел, как с гроба снимают крышку. Бертран был прямо перед ним. Эмар тронул его за рукав и, когда тот обернулся, тихо сказал:
— Подходящая работенка.
Бертран вздрогнул и выдохнул:
— Дядя…
— Что, развиваешь свое особое дарование?
— Дядя…
— Я говорю, дело ты по себе нашел, точно ведь?
Бертран, толкаясь, выбрался из толпы, и его место тут же с радостью заняли другие. Он сел на церковную скамью, Эмар опустился рядом.
— Так и знал, что ты будешь здесь, — продолжил Галье.
Бертран посмотрел на него наивными карими глазами.
Глядя на его чисто выбритое лицо с близкого расстояния, Эмар невольно подумал, какой он еще юный и красивый. Но, когда парень открыл рот и спросил, откуда Эмар узнал о нем, блеснув белыми зубами, скорее походившими на крепкие звериные клыки, Галье вновь осознал, что именно скрывалось за привлекательной внешностью.
— Спрашиваешь, как я узнал, где тебя искать? Думаешь, я сумел позабыть тебя и твои пристрастия?
— Вы злой.
Эмар раскатисто рассмеялся.
— А ты, значит, добрый.
— Я много страдал, — ответил Бертран.
— А те, кого ты убил? Они, конечно, не страдали. Полагаешь, я, пусть и издали, не следил за твоими проделками? Давай-ка посчитаем: во-первых, Жак. Ну? Успел его позабыть? Небось, не до воспоминаний, когда дел так много…
— Дядя, — взмолился Бертран и опустил голову.
— Можешь добавить в свой список еще одну жертву, — сказал Эмар, неожиданно кое о чем вспомнив. — После перемирия, когда восстановили почтовое сообщение, я получил письмо от Франсуазы. Кстати, тебе и в голову не приходило домой написать, да? Семнадцать лет человека холят-лелеют, а потом глянь — того и след простыл.
— Вы держали меня взаперти. — Бертран, по-прежнему не поднимая головы, сделал слабую попытку оправдаться.
— Считаешь, я был неправ?
— Правы.
— Хм. Ладно, рад слышать. Ты не безнадежен. Ах, да. Как я говорил, мне написала Франсуаза и рассказала о том, что батрака, обвиненного в убийстве Жака, отпустили. Но против него ополчилась вся округа. Жизнь стала ему не мила. И он повесился.
Бертран вздохнул.
— Теперь о скупердяе Вобуа. Ты ведь и не воображал, что за твои подвиги могут осудить его пастуха, Кроте? А бедняга croque-mort[117] в деле дочери генерала Данмона, извозчик Жан Робер: ты предполагал, что он отправится в тюрьму вместо тебя, а его семья пойдет по миру? Даже не представляю, сколько еще человек ты погубил. И кляну себя за то, что молчу о твоих преступлениях. Я должен был бы кричать о твоей вине со всех крыш. Но я устыдился. Да, мне стыдно. Это все равно как бояться, что тебя застанут врасплох в уборной. Именно. Я не хотел, чтобы кто-то узнал, что я в малейшей мере связан с таким чудовищем, как ты.
— Дядя, — простонал Бертран.
— Да, с чудовищем, — продолжал Эмар. Теперь он по-настоящему разозлился и заговорил громким хриплым шепотом. — Со зверем, способным убить проститутку, например, Нормандскую Красотку. Это же твоих рук дело, я не ошибся? Признавайся! Это ты их всех убил!
Бертран еще ниже опустил подбородок и затрясся мелкой дрожью.
— Животное, — стараясь не шуметь, негодовал Эмар. — Ты… ты loup-garou![118]
Бертран сунул меж зубов костяшки пальцев, борясь с диким желанием закричать, и из его груди раздался только всхлип. Толпа, галдящая вокруг восемнадцати гробов юных дев, этих только что обнаруженных жертв монахов, не обратила никакого внимания на двоих, сидевших в стороне. Офицеры, привыкшие к слабой дисциплине в Национальной гвардии, тоже не взглянули на Бертрана.
А того била неудержимая дрожь.
— Не надо так! — плакал он. — Разве мне недостаточно просто знать, что я оборотень? Для чего меня в этом еще и упрекать?
Эмар почувствовал жалость. Он был чересчур жесток. Это не вина мальчика, а его беда.
— Прости, Бертран. Я долгие годы пытался скрывать все от тебя. Старался помочь. Даже твоей матери не говорил, что с тобой творится. Иногда это было действительно тяжким бременем.
— Мама так и не узнала?
— Полагаю, нет.
— Как она?
— Наверное, хорошо, — неуверенно сказал Эмар.
— Что-то не так? — спросил Бертран, почуяв неладное.
— Все в порядке. Сам понимаешь, писем сейчас мало доходит.
— Говорите, я должен знать.
«Разве я обязан утаивать позор его матери? Это такой пустяк в сравнении с остальным», — подумал Эмар и, переведя дыхание, ответил:
— В деревне заметили беременность твоей мамы и разразился скандал, а мать Жака распустила язык и осмелилась обвинить меня в распутных отношениях с Жозефиной, что, конечно, было ложью, то есть не совсем истиной, но… — Он замолчал, погрузившись в воспоминания.
— Продолжайте.
— Ну, за Франсуазой дело не стало. Она однажды видела, как младший Гиймен крадется по дому, поэтому взяла разоблачение в свои руки и обвинила его. Твоя мать все подтвердила, но сам Гиймен на первых порах отпирался. Хотя после того, как в один прекрасный день они вместе сбежали из дома, история начала выглядеть правдоподобно.
— Куда сбежали?
— Никто не знает. — Эмар покачал головой и вздохнул.
Бертран тоже покачал головой.
— Еще и это, — проговорил он.
Эмару подумалось, что жизнь преподнесла парню очередную горькую пилюлю, и печально кивнул. Затем его вдруг осенило:
— Что? И это тоже ты? Господи!
— Да, — сказал Бертран, поднял голову и посмотрел дяде в глаза. — Это тоже. Но все позади. Теперь все кончено. И слава Богу.
— В каком смысле, все позади?
— Все завершилось. Я излечен, — без обиняков заявил Бертран.
«Он пытается уйти от разговора? — спросил себя Эмар. — Или вправду вылечился?»
— Как же ты излечился?
— Не знаю. Но вылечился. Это девушка. Я влюбился. Она исцелила меня. Она оберегает меня от… — Он оборвал фразу.
Неужели это не обман? Нет, невозможно. Но тут Эмар вспомнил, как внезапно прервалась цепь преступлений. Значит, таково объяснение? Любовь? Чудо Любви? Любовь к хорошей женщине.
— Кто она?
— Ее зовут… Нет, не скажу. Вы сами ее увидите, потому что она сейчас придет сюда. Я освобождаюсь в пять. Я вас не познакомлю. Но вы сможете посмотреть на нее издали. Она богата, очень красива и так добра. Ах, вы не представляете, насколько она хороша. Нет, не представляете.
— Конечно, — сказал Эмар и улыбнулся. Исцелен любовью. Надо же, Бертран влюблен по уши. Какая ирония судьбы! Галье не сомневался, что их роман чист и сладок до приторности.
Ему на ум сразу пришли старые сказки из собрания братьев Гримм: некоторые были про оборотней — он ими заинтересовался, пока изучал предмет. У таких сказок имелось бессчетное множество вариаций: принц превращался то в уродливую ящерицу, то в лягушку, то в какое-нибудь другое отвратительное или опасное животное и требовал любви от девственницы, чтобы вновь обрести человеческий облик. Естественно, никто не хотел выходить замуж за лягушку. Но в конце концов находилась чистая и невинная девушка, которая из жалости соглашалась на брак и брала лягушку в постель, после чего принц превращался в человека. И потом эти двое, безусловно, жили долго и счастливо.
Неужели и этот кошмар завершится жемчужным рассветом, пронизанным ароматом роз? И Бертран будет жить долго и счастливо? Была ли крупица правды в тех старых сказках? Не в этом ли путь к излечению?
Красавица и чудовище. Да. У старинных историй есть своя мудрость.
— А вот и она, там, на улице, — радостно прошептал Бертран. — Идите, дядюшка, посмотрите на нее издали. Вы такой красавицы еще не встречали.
Бертран выбежал наружу и встретил Софи поцелуем. Они прильнули друг другу, словно не виделись по меньшей мере год.
Эмар глядел на них из церковного портала. И не преминул заметить молодого офицера, расплатившегося с извозчиком и со склоненной головой отошедшего в сторону, как будто все прочее его не касалось. Галье не усомнился, что это был брат красавицы. А она и впрямь прехорошенькая. В лице что-то знакомое… Где же он ее видел?
Эмар стоял и смотрел, как Бертран и его возлюбленная уходят, взявшись за руки. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, — процитировал Галье, — и перекуют они мечи свои на орала[119]. Настоящие телячьи нежности». Он погрузился в размышления и цинично спросил себя, насколько их любви хватит. Вдруг ему подумалось: «Почему бы не поговорить с тем офицером? Может, хотя бы пойму, зря ли я отпустил Бертрана после столь долгих поисков».
Молодой человек все еще стоял на тротуаре, словно ждал другой фиакр и держал наготове плату очередному извозчику. Эмар подошел к нему со словами:
— Извините, пожалуйста, можно ли задать вам один вопрос?
Капитан Барраль де Монфор мигом превратился из отвергнутого любовника в шпиона.
— Конечно, — сказал он, — но получите ли вы на него ответ, это дело иное.
— Entendu[120], — произнес Эмар. — Вы знакомы с той юной дамой?
— Возможно.
— А с тем юношей?
— Нет.
— Премного благодарен вам за любезность, — сказал Эмар. — Надеюсь, что не слишком вам помешал.
— Pas de quoi[121], — отозвался Барраль. Но не успел Эмар отойти, как капитан передумал. — A mon tourmaintenant[122]. А вам та девушка знакома?
— Нет.
— А молодой человек?
— Возможно.
Эмар улыбнулся. Капитан тоже улыбнулся.
— Полагаю, если мы сложим известные нам сведения воедино, из этого кое-что выйдет, — сказал Эмар. — Пойдемте, устроимся где-нибудь поудобнее.
Они зашли в ближайшее кафе, сели за столик и сделали заказ. Но разговор не клеился, так как каждый пытался разузнать больше, чем сообщал сам. Барраль не горел желанием делиться печальной историей своей любви, Эмар не хотел рассказывать о Бертране. Он лишь смутно намекнул на некую постыдную тайну, но умолчал о преступлениях.
— Вижу, вы не особенно высокого мнения о племяннике, — вдруг заметил Барраль. — И я вас отлично понимаю. Позвольте изложить вам некоторые сделанные мной наблюдения. С тех пор, как она стала встречаться с вашим знакомцем, на ее щеках появился необычный румянец. Это лишь украсило ее, но одновременно потрясло и испугало меня. И не только ее щеки лихорадочно раскраснелись, глаза также зажглись странным, неспокойным сиянием. Поначалу мне подумалось, что это симптомы зарождающейся болезни. Но нет, она была здорова, как никогда. Только потом я начал понимать причину. Ее околдовали. А как еще объяснить любовь самого веселого и счастливого создания на свете, изнеженной красавицы, выросшей в богатом доме, к мрачному юнцу без гроша в кармане?
По какой-то непонятной причине Эмар разволновался и принялся защищать Бертрана, хотя и не слишком настойчиво.
— Почему вы не поговорили с ее родителями? — точно извиняясь, спросил он.
Барраль смутился:
— Понимаете, она заставила меня дать обещание молчать.
«Да он сам влюблен в нее, — решил Эмар. — Бедолага. Я и впрямь сглупил, позволив Бертрану уйти».
Просидев около часа за бессвязным разговором, оба встали с мест, недовольные результатом и охваченные недобрыми предчувствиями. Барраль, поначалу возлагавший на эту беседу немалые надежды, понял, что она подходит к концу, и не смог сдержаться:
— Но, месье, неужели вы своему племяннику так ничего и не скажете? Разве совсем ничего нельзя поделать?
Эмар похлопал его по плечу.
— Друг мой, здесь должны действовать вы. Однако считаю своим долгом вас предостеречь. Не откладывайте! Время уходит. — И похромал прочь, радуясь, что, с одной стороны, если Бертран все еще совершает преступления, то он, Галье, свой долг исполнил и теперь капитан обязательно совершит какой-нибудь отчаянный поступок и развяжет этот узел; с другой же, если Бертран вправду преобразился, то никто чрезмерно не поторопил события. Эмар по-прежнему опасался, что в длительной перспективе пользы от нерешительности не будет. Тем не менее, за годы сомнений и колебаний по поводу Бертрана, бездействие вошло у него самого в привычку.
Барраль смотрел Эмару вслед, и ему хотелось бежать за ним с криком: «Почему вы так сказали? Зачем намекнули на столь ужасные вещи? Остановитесь, вы обязаны мне помочь. Мы должны действовать сообща!»
Но он не бросился вслед за Эмаром, а вернулся домой и начал писать свое ежевечернее письмо к Софи. Весь день он жил лишь ради этого умиротворяющего и прекрасного момента. Двойственность тайной службы померкла, Бертран стерся из памяти, и он сосредоточился на воспоминаниях, пытаясь вызвать в памяти Софи такой, какой она была в тот или иной день год или два года назад. Он старался припомнить точный фасон платья, цвет тафты, узор лент, бант за бантом ниспадающих гирляндами на пышной юбке. Ему хотелось воссоздать каждую реплику их вечернего разговора и точные цитаты из письма, написанного им в ту же ночь.
Все это было в далеком прошлом и ускользало, не даваясь в руки, но кое-что удивительным образом выныривало из темноты и вставало перед глазами, будто случилось вчера.
Проживая ушедшие дни, Барраль вновь наслаждался ухаживанием за девушкой и воображал, что их любовь взаимна. Он обладал отличной памятью. Она служила ему хорошим подспорьем в шпионаже: все только устно, никаких бумаг, которые потом могут быть использованы в качестве обличительных улик.
Он закончил писать поздно ночью и вышел отправить послание. И внезапно спросил себя, дала ли ему Софи настоящий адрес. Если да, то вправду ли она там живет? Но если на указанной улице имеется дом с таким номером — то, вероятно, она не солгала.
Барраль побрел по бесконечному, безмолвному лабиринту продрогшего Парижа проверить догадку. Идти было далеко, но он и не думал отказываться от затеи. Наконец Барраль увидел дом. С правильным номером. Однако, где их квартира? Он перешел дорогу и посмотрел наверх. На каменном фасаде чернели одинаковые квадраты окон. Сбоку виднелся узкий проход. Не исключено, что их окно смотрит туда. Но вряд ли. Кругом ни огонька! Они, наверное, уже спят. Спят. В одной постели. Рядом друг с другом. Или не спят, а лежат в темноте…
Барраль едва не застонал от боли. И тут окошко у самой земли замерцало тусклым светом. Кто-то в полуподвальной каморке зажег свечу. Его услышали. Вот-вот откроют окно и глянут, кто там бродит. Барраль едва не пустился наутек. Но нет. Окошко так и не открылось, но свет не погас, по-прежнему пробиваясь сквозь плотную белую завесу, похожую на простыню.
А что, если это их комната? Барраль нагнулся и всмотрелся. Кое-что можно было различить, но очертания оставались смутными. В комнате разговаривали. Голоса доносились через щель для проветривания. Кажется, перешептывались мужчина и женщина. Но так тихо, что было не разобрать, кто и что говорит.
Отчаявшись, Барраль отошел от дома. Свеча все не гасла. Наверное, там мать утешает больного ребенка, подумал он. Но тут же отверг эту мысль: он был уверен, что это их окно. Как пьяный, он принялся кружить по ближайшим улицам. Душу охватило смятение. «Нельзя так больше делать, — внушал он себе, — если меня заметят, мне конец. И это после всех предосторожностей, которые я предпринял, лишь бы не быть заподозренным в шпионаже!»
Барраль не ошибся, за занавешенным оконцем лежали они. Вечерние объятия обессилили влюбленных. Они спали.
Внезапно Бертран проснулся. Такое с ним часто случалось по ночам. Его мог разбудить малейших шорох на улице. Вот и сейчас он лежал и больше не мог уснуть, хотя надеялся на это.
В комнате было темно и прохладно, однако сон не шел. Бертран беспокойно ворочался с боку на бок. Он будто горел изнутри.
Софи тоже проснулась и нетерпеливо спросила его:
— Спокойно полежать не можешь?
Каждая клеточка ее тела молила об отдохновении.
Бертран вздохнул. Ей стало его жалко.
— Бедняжечка, — сочувственно сказала она и обняла его.
Они поцеловались. Он игриво прикусил ей ушко. Они еще крепче прижались друг к другу.
— Пожалуйста… — прошептал он и сам на себя разозлился. Ну зачем он попросил ее об этом?
— Если очень надо, возьми на столе, — не стала возражать Софи.
Он ругал себя за слабость, ругал ее за податливость, но все равно не мог пересилить желание. Он встал и зажег свечу. Пламя озарило острое лезвие ножа.
Бертран откинул с Софи одеяло. Почти всюду на ее теле виднелись порезы. Старые уже успели зарубцеваться, и теперь смуглую кожу в разных направлениях пересекали светлые шрамы. Новые раны либо еще сочились кровью, либо начали затягиваться спекшейся корочкой. В мерцании свечи они казались старинными драгоценностями или полированным черепаховым панцирем.
Подавив секундное сомнение, Бертран склонился над телом девушки… Потекла рубиновая кровь. Он сразу припал к ней и принялся с жадностью глотать. При этом Бертран отвратительно причмокивал, всасываясь в стремлении не упустить ни капли.
Софи тем временем ласково теребила его волосы.
— Маленький мой, бедненький, — приговаривала она. Мысли ее витали где-то вдалеке, обрываясь и принося бессвязные образы.
Потом влюбленные вновь слились в объятии.
Наконец сон разлучил их. Они лежали, переплетя тела, ночной холодок овевал потную кожу. Позабытая свеча горела, пока огонек не захлебнулся в растаявшем воске.
Утром, когда их разбудил рассвет, Бертран почувствовал себя другим человеком. Он с ужасом смотрел на дело своих рук. Касался ран кончиком пальца и горько плакал.
— Я тебя убиваю, — стенал он. — Что у нас за доля такая! — И бил себя ладонью по лбу, той самой волосатой ладонью.
Софи рассмеялась сквозь слезы.
— Бертран, не глупи. Я рада за тебя умереть, — сказала она и ощутила необъяснимый прилив удовольствия при мысли о смерти.
Но он не желал успокаиваться.
— Будь во мне хоть капля человеческого, я бы скорее убил себя, чем рассек твою кожу.
— Перестань! Не надо! Что я буду делать, если ты меня покинешь?
Он искал пальцами самую свежую рану. Нашел и закрыл глаза, чтобы не испытывать соблазна на нее посмотреть.
— Неужели это я ее нанес? — бормотал он. — Да, я. Зачем ты мне позволила? Почему сразу меня не убила?
— Бертран, не глупи, — повторила она и принялась целовать его, прогоняя мрачные мысли.
Солнце взошло, и мрак позади. Ночь миновала, и сумасшедшие раздумья темных часов должны теперь вернуться в могилу, к своим истокам.
Когда Бертран с Софи шли по мощеному дворику, им навстречу выбежала консьержка.
— Мадам, — воскликнула она, — вам письмо.
— Письмо? — удивился Бертран.
— Да, письмо, — сказала консьержка и улыбнулась.
Софи мгновенно узнала почерк. Ежедневное письмо от Барраля.
— Оно ничего не значит, — сказала девушка, заметив подозрение на лице Бертрана. — Сам прочитай, а лучше — выбрось.
— Можно? — спросил он, приготовившись разорвать конверт пополам.
— Сам не сделаешь, сделаю я, так и решим… Пойдем завтракать. Умираю с голоду. — Звук разрываемой бумаги стал музыкой для их ушей.
Настроение было преотличное. Бертран говорил о том, чем займется после войны. Ему очень хотелось вернуться к изучению медицины.
— У дяди денег куры не клюют, — сказал он.
— У меня тоже. Разве мне их недостает? — ответила Софи. — Захочу, папа меня миллионами осыплет. Впрочем, они в конце концов все равно будут моими. Мы будем жить в моей комнате у меня дома. — Она вспомнила свою красивую кровать с лазурным пологом. Временами она скучала по сверкающей роскоши родительского особняка, по картинам, коврам, разноцветному мрамору, бронзе, золоту и ценным породам дерева, отполированным до зеркального блеска.
— Не исключено, — мечтал вслух Бертран, — что я сумею научиться держать себя в узде, а может, я найду кого-нибудь еще для плохих минут, а к тебе останется только чистая любовь.
Софи обидели его слова. Ранили до глубины души. Она сразу, словно ей уже приходилось чувствовать подобное, поняла, что заранее ревнует к этой «какой-нибудь», готовой подарить Бертрану частицу себя.
— Не говори так. Никогда не говори, — тихо произнесла она. — Ты мой целиком и полностью.
— Но… — заикнулся было Бертран.
— Молчи, — оборвала его Софи. Она старалась изгнать из сознания видение Бертрана с другой девушкой: укол ревности был таким сильным, что даже еда стала казаться безвкусной. Ей вспомнился Барраль. Бедняга. Неужели он вот так страдает? На мгновение ей показалось, что она согласилась бы отдаться ему, отдаться любому, кому она так нужна. Всему батальону солдат, что смотрят на нее похотливыми, голодными глазами. Всем небритым, бородатым лицам, желающим почувствовать гладкость ее щек. Всем грубым ручищам, тянущимся к ее нежному телу. Всем заскорузлым грязным пальцам, жаждущим одарить ее интимными ласками.
В ней забурлила любовь ко всем мужчинам сразу, поднялась из глубин и обожгла губы. Софи наклонилась через столик и впилась в Бертрана страстным поцелуем. Он оценил ее жертву. Понял, что она могла отдать свою любовь кому-то другому, но избрала и полюбила всей душой именно его — и только его. Это тронуло его до самого сердца, и он не мог вымолвить ни слова, закружившись в водовороте переживаний.
— Бертран, не смей никогда говорить, что кто-то встанет между нами, — сказала Софи. — Ты не понимаешь, насколько это больно слышать.
— Понимаю, — ответил он, — только…
— Молчи. Разве не я первой предложила себя тебе? Опять же, не я ли купила нож, когда тебе показалось, что рвать кожу зубами слишком жестоко? Для тебя я готова на все на свете.
Наступило молчание, и Софи вдруг подумала о родителях. Они так же любили друг друга? Ее мать когда-нибудь столь же открыто предлагала свое тело отцу? Ей стало горько от этой мысли. Софи почему-то не верилось, что ее родители когда-либо делили ложе. Однако делили, хотя бы раз. Но вряд ли оно напоминало их с Бертраном постель, убогую койку в подвале, такую узкую, что они могли лежать на ней, лишь тесно прижавшись друг к другу. А случалось ли с родителями такое, что они засыпали, забыв потушить вставленную в бутылку из-под вина свечу, и она гасла сама, истаяв до горлышка?
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Они приникли друг к другу, как дети, что сидят одни в темноте и дрожат от ужаса, предугадывая надвигающуюся беду. Отчаянно друг в друга вцепились, как двое утопающих. Их словно засасывало вниз, в вечную ночь небытия, наступающую после недолгого дня жизни. Обессиленные души устали держаться за плоть, как будто знали, что очень скоро придет смерть и унесет их из прекрасной обители тела, служащего лишь пристанищем для мерцающего огонька духа; как будто видели мимолетность существования — и неважно, сколько оно продлится, ибо все, у чего есть конец, скоротечно; и сплетали руки в неразрывном объятии, и сливали губы в крепчайшем поцелуе, и боялись его прервать, дабы ничто не разлучило их; круглые сутки он хотел лишь одного — причинять ей боль, а она — с радостью ощущать синяки и порезы: лишь так могли они во всей остроте ощутить, что все еще живы, по крайней мере сейчас, в это преходящее мгновение, и забыть о грядущей смерти и бесконечном, не ведающем ничего человеческого одиночестве.
Им было мало ночей любви и дневных разговоров. В минуты покоя они мысленно устремлялись друг к другу. Бертран стал ненасытен. Тело Софи виделось ему родником, бьющим кровью. И, похоже, ее плоть сама мечтала удовлетворить его нужды. Софи пополнела, налилась кровью, как кормящая мать молоком.
Ее походка сделалась плавной. Она больше не могла совладать с покачиванием бедер. Шла так, словно несла Бертрана на руках, да и болезненные следы на теле ни на миг не переставали напоминать о нем. И потому в часы разлуки, когда Бертран отправлялся на службу, а она не могла его сопровождать, что случалось довольно редко, поскольку они улучали минутку на объятия, даже если он был в карауле, Софи подносила руку ко рту и целовала нанесенные им раны.
Эта непрерывная близость странным, но объяснимым образом позволяла мужественно смотреть в глаза смерти. Софи часто молила Бертрана не подставлять себя под пули, особенно теперь, когда войска Версаля окружили Париж и вероломно нападали на коммунаров.
Как-то раз Бертран спросил девушку, что она станет делать, если его застрелят, и услышал в ответ: «Тоже застрелюсь». И никто из них не дрогнул. Они не боялись умереть вместе. Так они хотя бы разделят все, что ждет их за могильным камнем, даже пустоту. Их переполняла невыносимая боль при мысли, что один из них останется жить, когда второй сгинет.
В таком настроении они часто обсуждали совместное самоубийство, например, возможность спрыгнуть с крыши, держась за руки. Подобная гибель не казалась им настоящей смертью, но лишь еще более неистовой лаской, чем все те, что они когда-либо пробовали.
Софи теперь постоянно работала в кантине 204-го батальона, помогая буфетчице, и мужчины за столами разглядывали ее с растущей жадностью. Она прекрасно справлялась со своим новым положением. Софи в некоторой степени огрубела. Ее губы нередко кривились, и на лице словно читалась готовность крепко выругаться. Пышные волосы, столь лелеемые ею в прошлом, теперь были небрежно стянуты в узел. Кожа утратила золотистый блеск, став просто смуглой. Но эти метаморфозы не погубили ее красоты, а лишь сделали ее другой.
В воздухе витало отчаяние. Чувствовалось приближение конца. Многие в Коммуне начали терять голову. Курбе добился сноса величественной Вандомской колонны, бронзового памятника победам Наполеона[123]. Версальскому шпиону удалось взорвать большой военный завод. Было немало жертв. Неудивительно, что в этой атмосфере насилия созвали ученую комиссию и поставили перед ней задачу собрать горючие материалы, керосин, серу, динамит, смолу и огнепроводные шнуры в количестве, достаточном, чтобы сжечь Париж дотла в случае его взятия врагами.
Хуже того. Принялись за производство, пусть и неудачное, газовых бомб для удушения противника и снарядов, разбрызгивающих кислоту. Для будущих узников спроектировали перстни, снабженные резиновой емкостью с ядом и пустотелой иглой: одна царапина — и торжествующий версалец повержен. Успели изготовить лишь несколько штук, да и те пролежали без употребления, однако и при столь мизерной пользе эти изобретения навсегда оставили след в памяти, будучи свидетельством безысходного положения Коммуны.
Двое влюбленных в полуподвальной каморке чувствовали напряжение острее других. Особенно Бертран. От всепроникающего запаха смерти хотелось выть. Не раз он сдерживался в самый последний момент, не позволяя пронзительному воплю вырваться из горла. Он неустанно повторял: «Я излечен. Я излечен», — зная, что это не так, зная, что зверь не вырывается на волю только ценой страданий Софи.
Он просыпался по ночам и мысленно твердил: «Боже! Не дай мне дрогнуть! Не дай мне дрогнуть!» И повторял все известные ему молитвы, и призывал всех святых на помощь. Наконец, в отчаянии, он хватался за нож. Софи спала. В последнее время она редко отзывалась, когда он требовал от нее жертвы. Ее тело нежно прижималось к нему. Девушка медленно переворачивалась — расслабленная и счастливая в своем царстве грез.
А он больше не находил удовлетворения. Сумасшедшее желание побуждало забыть об осторожных глоточках и двинуться к мягкой шее, к сонной артерии, только бы ощутить, как бьющая фонтаном теплая кровь наполняет рот.
Бертран бешено тряс головой и плотнее сжимал челюсти, не давая себе закричать: «Нет, нет! Господи! Не допусти этого!» Ночами напролет он боролся с жаждой, накатывающей вновь и вновь и мучавшей сильнее и сильнее с каждым приливом. Снова и снова пытался ее укротить, но мог позволить себе лишь малую толику того, что жаждал. «Я же все равно медленно убиваю Софи, — ярился он. — Почему бы не покончить с этим раз и навсегда?!»
Однажды желание вцепиться возлюбленной в глотку сделалось таким неистовым, что он вскочил с кровати, в спешке натянул одежду и выбежал прочь. «Если мне так это нужно, — подумал он, — пусть пострадает кто-то другой, не она».
В нескольких кварталах от дома он натолкнулся на прохожего. Руки и ноги Бертрана оторвались от земли, подбросив туловище в воздух. Зубы искали горло. Страх придал сил начавшему отбиваться незнакомцу. Бертран утробно рычал и тихо подвывал. Одежда сковывала движения. Не надо было напяливать ее на себя. Вдруг он ощутил, как его повалили на скользкую мостовую, надавили на живот тяжелым коленом и, обездвижив, принялись с ожесточением бить кулаком по голове.
Софи проснулась поздно и поначалу подумала, что Бертран выскочил прикупить что-нибудь на завтрак. Он долго не возвращался, и девушка забеспокоилась. Неужели он присоединился к своему батальону и сейчас сражается возле Порт-де-Сен-Клу? Мадам Лабуве, консьержка, Бертрана не видела. Софи бросилась в штаб, располагавшийся в бывшей лавке. Он оказался закрыт. Никто не мог ей ничего подсказать. Она металась от двери к двери, заглядывала во все кантины, кидалась с вопросами к каждому встречному, одетому в форму. Куда только ни попадала, идя по ложному следу.
Вечер застал ее в полном измождении — душевном и физическом. Сотни раз в ней вспыхивала надежда, но тут же гасла. Софи сбилась с ног и проголодалась, хоть и не думала об этом. Бредя по двору к своему дому, она воображала, что Бертран давно ждет ее в их каморке. Но там оказалось пусто и темно, а валявшиеся с утра в беспорядке вещи так и остались неубранными.
Софи, уверенная, что утром обязательно найдет Бертрана, легла на койку. Но сон все не шел. Ей не хватало мужского тела рядом. Не хватало напоминания, что любимый все еще с ней. Внезапно для себя Софи погрузилась в то, о чем успела позабыть за долгие месяцы, — стала выискивать ужасы в темноте, населяя комнату крадущимися тенями, готовыми в любую секунду на нее наброситься. И они возникали перед ней, придвигаясь все ближе, выжидая удобного момента, чтобы вцепиться в горло и убить. Почему Бертран не здесь? Почему не защищает ее? «Бертран! Бертран!» — стонала несчастная.
Увидятся ли они вновь? Неужели все кончено и их похоронят в разных могилах? Лежать ли ей теперь в еврейской части кладбища? Сбудутся ли кошмары, столь часто посещавшие ее раньше? Родители, рыдающие над гробом. Барраль, клянущийся отмстить. Она внимает плачу родных. Да, почти разбирает то, что говорит Барраль. Видит, как ее опускают в землю. Слышит, да, по-настоящему слышит, очень отчетливо слышит, как комья земли, один за одним, ударяются о крышку гроба.
Софи в ужасе очнулась, мокрая от пота. Она жадно ловила воздух ртом. Какая глупость! Тишину нарушали лишь шаги в комнате наверху. Стук тяжелых, подбитых гвоздями сапог.
Вдруг раздались шаги и на ее этаже. Наконец-то Бертран вернулся домой. Идет! Слава Богу! Звук становился громче. Софи уже готовилась выкрикнуть имя Бертрана. Но человек не дошел до их двери, свернув в соседний коридор. Шаги смолкли.
Вокруг опять начала сгущаться тьма. Девушка встала и зажгла свечу. Это был лишь огарок, и вскоре он потух. Фитиль в лампе давно застрял и не выдвигался. Впрочем, масла в ней тоже осталось чуть-чуть, на донышке.
Свечка вспыхнула в последний раз. У Софи было несколько спичек, и она принялась зажигать их, очень бережно, через большие промежутки времени. Запас неуклонно подходил к концу. Но ей удалось заснуть раньше. В теплой, влажной ладони серные головки размякли и слиплись. Проснувшись утром, Софи обнаружила в руке дурно пахнущую химикатами клейкую массу. Бертран не появился.
Вышло так, что его арестовали. Сам он был солдатом, схватил его тоже солдат, и дело передали в военный трибунал.
В то утро Эмар столкнулся на улице с полковником Гуа. И сразу поздравил его:
— Говорят, ты с недавних пор председательствуешь в новом военном суде.
— И как раз сегодня у нас первое заседание, — ответил Гуа. — Будем разбирать весьма любопытные случаи. Несколько предателей, сумасшедший, пытавшийся искусать товарища по оружию…
Услышав это, Эмар переспросил:
— Как так — искусать товарища?
— Больше ничего не знаю, — ответил Гуа, — но если тебе интересно, пойдем, я расскажу.
По дороге полковник поделился с Эмаром своими планами вернуть в трибунал суровость революционного правосудия.
— Что толку в трибунале, в котором только и знают, что прощать? — сетовал он. — Современный военный суд утерял революционные черты — быстроту и строгость, а виновата во всем публика, приходящая на заседания. Мы должны вести дела за закрытыми дверями и быть готовыми казнить пятерых невиновных, лишь бы не упустить затесавшегося среди них предателя. Я тебя уверяю, только таким способом можно покончить с перебежчиками.
Да, — продолжал он, — мы совершили ошибку, отказавшись от гильотины. Отбросили самое ценное оружие, когда-либо попадавшее в руки революционеров.
Гуа не особенно задумывался об интересе Эмара к сумасшедшему, которого будет судить вечером.
Не исключено, что голова Гуа полнилась иным. Сотни конфискованных простыней, наволочек и прочего белья, все из нежнейшей камки, а еще дорогая мебель с остальными безделицами ожидали его в Лондоне в заветном местечке, обустроенном там на случай падения Коммуны. Правда, он мог размышлять и о спекуляциях с чесноком: в Париже как раз остро ощущался его дефицит. Быть может, подобные предположения уходят корнями в домыслы его врагов? Кто теперь рассудит? Наверняка известно одно: ближайшие соратники уважали Гуа исключительно за луженую глотку, способную безропотно пропустить через себя столько крепчайшего пойла, сколько пожелает ее обладатель, то есть изрядно.
Гуа рассеянно пошуршал бумагами, написал пропуск для Эмара, чтобы тот мог навестить сумасшедшего: «Il est permis au citoyen Galliez de communiquer avec le citoyen Bertrand Caillet detenu pour la cour martiale a la prison du Cherche-Midi»[124] — и отдал его. Эмар, увидев имя, сразу понял, что произошло.
— Я тебе об этом парне столько рассказать могу, — заметил он судье. — Но лучше опишу все в партикулярном письме.
— Буду благодарен, — ответил Гуа, — хотя вряд ли у нас будет время вдаваться в подробности. В подобных случаях я предпочитаю проявлять снисходительность, дабы уравновесить ею суровость в приговорах по более серьезным делам.
Эмар поспешил увидеться с Бертраном. Гвардеец провел его в комнатушку, лишь недавно ставшую камерой. Там, на походной койке, сидел арестант, почти неузнаваемый из-за фиолетовых синяков и ссадин. На нем была смирительная рубашка. Он даже не поднял головы посмотреть на вошедших.
— Бертран, — тихо окликнул его Эмар.
— Дядя, вы? — спросил Бертран, но не пошевелился.
— Бертран, — ласково повторил Эмар. — Почему ты здесь? Что стряслось?
— Ничего. Уходите. Я хочу умереть.
— Где мадмуазель де Блюменберг?
— Не знаю. И знать не желаю. Мы не должны больше видеться. Я и без того причинил достаточно зла.
— Но с ней ничего плохого не случилось?
— Надеюсь. Однако я сломал ей жизнь. Помните, как вы кормили меня сырым мясом и говорили, что оно помогает от анемии? Теперь я понимаю, что это была уловка. И она не работает.
— На что ты намекаешь? — встревожился Эмар и принялся расспрашивать Бертрана. Тот быстро объяснил, на какие жертвы пошла Софи ради него.
— Хватит, не пытайтесь меня спасти, — завершил он свою историю, — и не говорите Софи, что я здесь, потому что я за себя не ручаюсь. Будет лучше, если меня казнят.
— Я и не думал вновь тебя спасать. Bien au contraire[125]. Если бы тогда, на Пикпюс, ты не убедил меня, что излечился, я бы в тот же день добился твоего ареста. И теперь я точно позабочусь, чтобы ты отсюда не вышел. Прощай, Бертран.
— Прощайте, дядюшка, — ответил тот, так и не подняв взгляда.
У Эмара все сжалось внутри. Неужели он оставит паренька в беде? Ведь в таком случае он принесет в жертву не только Бертрана, но и все уроки, которые давал ему, все долгие годы воспитания. Неужели можно столь быстро забыть подобное и уйти, перекинувшись несколькими словами?
— Я могу что-то для тебя сделать?
Молчание.
— Софи что-нибудь передать?
Бертран быстро замотал головой. Потом сказал:
— Попрощайтесь за меня с Франсуазой, она всегда была добра ко мне, и с мамой, если ее увидите.
Эмар, с затуманенным слезами взором, похромал на улицу и остановил фиакр, намереваясь ехать домой. «Да, пусть все так и закончится», — подумал он и, добравшись до кабинета, сразу приступил к сочинению обличительного письма.
Первым делом он решил обрисовать преступления Бертрана. Наметить штрихами, не больше. Однако предмет увлек его, и он принялся примешивать к фактам изложение собственных эмоций. Это показалось ему нелепым, и он устыдился. Но чувства слишком долго копились в его сердце и теперь прорывались сквозь холодные фразы с перечислением злодеяний Кайе. Не в силах совладать с собой, он излил душевное волнение в горячей тираде, полной излишней, но весьма естественной риторики, словно самостоятельно, а не по велению мозга слетавшей с пера.
Его изложение становилось все более страстным. Он начал позволять себе замечания, напрямую противоречащие устоям Коммуны, и развивать мысли, на тот момент представлявшиеся крамолой. Вскоре Эмар полностью отбросил страхи и погрузился в тему со всем свойственным ему пылом.
И наконец он добрался до главного. Гуа сказал: «В подобных случаях я предпочитаю проявлять снисходительность, дабы уравновесить ею суровость в приговорах по более серьезным делам». Этого ни за что нельзя было допустить. Бертран должен быть приговорен к смерти. Эмар применил весь арсенал аргументов, добытых во время изысканий по теме, и попытался доказать, что не стоит отвергать сожжение на костре, некогда практиковавшееся Церковью, и считать его средневековой жестокостью, ибо у этой казни имелись свои преимущества.
«Обширные успехи нашего поколения в завоевании материального мира, — писал он, — не должны ослеплять нас, заставляя думать, что, когда мы сумеем постичь физический универсум до самых его глубин, мы сможем объяснить всё необъясненное.
В былые времена ученые с жаром стремились измерить глубины духовного мира, но едва ли не все их победы и достижения позабыты.
Кто способен сказать, чем мы обязаны отважным священникам далекого прошлого, что шли в запретные леса друидов, вооружившись лишь колокольчиком, Писанием да кадилом, и изгоняли лесных духов, уничтожали фамильяров и элементалей, сражались с чудовищами и демонами древней Галлии? Кто сможет оценить наш долг перед ними за то, что они помогли уничтожить всех странных и противоестественных тварей, затаившихся в темных уголках и закутках, под папоротниками и замшелыми камнями, и выжидавших минуты, когда на них, на свою беду, наткнется беспечный, забывший перекреститься путник? Не все те чудовища были одинаково опасны, но все они пагубно влияли на человеческие судьбы.
Неужели сегодня одинокий прохожий может без страха идти в полночных тенях по безмолвным лесам Франции благодаря одной лишь бдительности полицейских? Разве только стараниями ученых мы позабыли веру в призраков и чудовищ? Или все-таки то была Церковь, которой, после тысячи лет сражений, наконец удалось покончить с давящей атмосферой подспудных страхов и таким образом позволить человеческому эго раскрыться во всей своей полноте? Гордыня не должна затмить в нас, воспользовавшихся их наследием, чувство благодарности. Более непредвзятые мыслители будущего обязательно поддержат мое убеждение.
Да, сегодня мы чувствуем себя свободными от ужасов, в давние времена терзавших невежественные народы, но не стоит видеть в том повод для гордости, думая, что нам просто удалось перерасти детские страхи. Лучше рассмотрим вопрос, отбросив всякие предубеждения.
Зло существует. И зло взращивает зло. Память о кошмарах и жестокостях глубоко укоренена во тьме столетий. Один проступок порождает другой, нет, множит себя же. Один преступник заражает другого. Они плодятся, как мухи. Не будет сопротивления — и мир обратится в изрыгающую гниль клоаку.
И не стоит торопиться с выводами. Говорят, что католическая церковь сожгла триста тысяч ведьм, пока все вокруг не отпрянули, в ужасе вскричав: „Что за жуткий предрассудок! Ведьм не бывает“. К тому времени их действительно уже не было. Ведьм просто не осталось.
Теперь решетки сломаны, врата широко распахнуты, и чудовища из прошлого в своих новых обличьях не преминут заполонить наш мир. Эти новые ужасы не будут скрываться в лесах, а средь бела дня выйдут на рыночную площадь; они не станут подстерегать одиноких путников, но вцепятся в горло целым народам. Грядут войны, доселе не виданные, и зверства, в голове не укладывающиеся. Кровь хлынет темными водопадами, и крики трехсот тысяч ведьм покажутся птичьими трелями на фоне оглушительного плача погибающего человечества».
Раскрасневшись от трудов, ибо все было написано в великой спешке перед приближающимся судом, и разрумянившись от смущения, спутника всякого, кто осмелился раскрыть свои потаенные мысли, Эмар помчался к генеральному штабу, занимавшему здание на углу улиц Шерше-Миди и дю Регар.
Полковник Гуа уже был там, но занимался чем-то своим. Шел восьмой час, а заседание назначили на девять. Гуа взял у Эмара бумаги и задал несколько вопросов, на которые Галье ответил максимально кратко: «В письме есть все, что нужно». Убедившись, что свидетельство будет прочитано, Эмар ушел.
Итак, дело было сделано, конец настал. Если он ошибся, ничего уже не вернуть. Эта мысль утешила Эмара сильнее всяких размышлений о том, стоило ли идти на такое. Чувствуя облегчение, он уселся в огромном, ничем не примечательном зале и стал ждать начала суда. Помещение еще пустовало. Несколько светильников, свисавших с потолка, едва рассеивали мрак. В углах затаились тени, и казалось, они собираются с силами, прежде чем обратиться в стаю летучих мышей и окончательно затмить свет.
Вскоре скамьи заполнились публикой, за которой присматривала кучка гвардейцев с примкнутыми к ружьям штыками. В первый ряд усаживались женщины в дорогих платьях.
Наконец появился Гуа и сразу приступил к рассмотрению дел. Сначала шли незначительные правонарушения — кражи, неуважительное поведение, потасовки. Потом настал черед основного блюда. Жан-Николя Жиро, капитан 74-го батальона, обвинялся в неповиновении приказу Гандена, chef d'escadron[126]. Юристы вступили в схватку. Затем дали слово Жиро.
Он подтвердил, что сказанное правдиво. Три дня под огнем противника его подразделение обороняло Порт-Майо. Им обещали, что скоро придет смена. Гвардейцы ослабели от усталости и голода. Но, как только их сняли с позиции, пришел приказ о возвращении обратно.
— Я с чистой совестью отказался подчиняться. И, являясь командиром, беру всю ответственность на себя, — завершил речь в свою защиту Жиро.
Гуа, председательствующий судья, объявил перерыв и обсудил дело с младшими судьями. Они быстро вынесли вердикт, тут же зачитанный Гуа. Он представлял собой цепочку «attendu que», то есть «ввиду того»:
— Ввиду того, что обвиняемый признает свою вину; ввиду того, что Порт-Майо стал средоточием вражеских атак; ввиду того, что прошлые политические заслуги обвиняемого, сколь угодно выдающиеся (Жиро был старым республиканцем), а также его доблестное поведение на поле брани, не могут считаться оправданием в случае уклонения от исполнения служебных обязанностей (и так далее)… мы находим его виновным в нарушении приказа сражаться с вооруженными бунтовщиками Версаля.
В связи с чем суд, после надлежащего обсуждения, приговаривает гражданина Жиро Жана-Николя к смертной казни, которая состоится…
— Благодарю вас, господа, — раздался громкий голос приговоренного, резко прервавший размеренное чтение Гуа.
Дабы избежать волнения в публике, сразу начали слушать другое дело: ведь стоит только дать людям повод выказать свои чувства, как их не остановить.
Бертрана привели уже за полночь. В зале успело стать невыносимо жарко. Лампы чадили. Воздуха не хватало. Зрители потихоньку ерзали на скамьях. Вид Бертрана никого не тронул. Солдат как солдат, и что с того, что он выглядит затравленным и его руки связаны за спиной: смирительную рубашку с него уже сняли.
На него не стали тратить много времени. Единственный свидетель — с забинтованными руками и многочисленными следами зубов и ногтей на лице — рассказал, как все произошло. Затем предложили высказаться Бертрану, но он отказался говорить. По взаимному согласию дело велось без адвокатов, что способствовало его быстрому рассмотрению.
Трибунал за минуту обсудил ситуацию, после чего для оглашения приговора встал председатель Гуа. Сердце Эмара неистово забилось, когда в руках у Гуа он увидел собственное письмо: тот словно намеревался его зачитать и действительно привел несколько отрывков, но таким образом, что совершенно исказил доводы Галье.
Гуа кратко и поверхностно прошелся по изложенным Эмаром фактам и закончил следующим выводом:
— Перед нами дело, которое в былые дни непременно привело бы обвиняемого на костер. Дамы и господа, католическая церковь сожгла триста тысяч таких, как он. Задумайтесь над этим! Триста тысяч несчастных, чьим единственным проступком была болезнь, а их вместо того, чтобы передать в руки сведущих врачей, отправили к палачу. Наша просвещенная Коммуна, ведомая наукой, выступает против смешения случаев преднамеренного нарушения социальных законов и физических и психических недугов. Больше того, со временем мы и преступников начнем признавать больными людьми и излечивать их с помощью медицины и гигиены. Этот счастливый день наступит, как только нам удастся уничтожить версальских бунтовщиков вместе с их союзниками — священниками и монахами.
Это племя веками пестовало в народе веру, что лишь кресты и молитвы, орудия пыток и горящий хворост у столба способны сдерживать силы ада. И этот юноша, введенный неизвестным мне заболеванием в заблуждение и считающий себя бешеным псом, стал бы для церковников очередным доказательством существования дьявола и, следовательно, необходимости в попах и аристократах, ибо лишь они якобы способны держать Лукавого в узде.
Мы поступаем иначе. Не ведая корысти, мы не ищем способов подавлять народ и держать его в подчинении путем насильственного и изощренного внедрения невежества и предрассудков. На нашей стороне прогресс, свобода и разум.
В результате обсуждения судьи пришли к следующему заключению: ввиду того, что обвиняемый страдает заболеванием, приводящим к спорадическим припадкам безумия; ввиду того, что своим поведением в суде он доказывает временный характер этих припадков; ввиду того, что трибунал создан для суда над преступниками и не пытается карать за болезни тюрьмой или смертью, мы постановляем поместить обвиняемого под присмотр врачей в больнице при тюрьме Санте и держать его там до полного излечения.
Решение суда оглашено публично… (и тому подобное).
«Слова! Слова! Слова! — с отвращением бормотал Эмар, видя, как его аргументы обращаются против него же. — Одно толкование, другое. Сотрясение воздуха, пустая болтовня, и никому ничего не известно».
Действительно, в тот день было сказано очень много. Тем же вечером в Отель-де-Виль судили бывшего военного министра Клюзере, прозванного Американцем, — судили за государственную измену. Казалось, никто из членов коллегии не хотел завершения процесса. Большинство коммунаров, специально приглашенных для решения по делу этого профессионального революционера, обнажавшего оружие в дюжине войн, гремевших в Старом и Новом Свете, не просто выступали за освобождение генерала, но горели желанием воспользоваться случаем и растоптать меньшинство, считавшее Клюзере виновным.
И не было конца череде выступающих, как не было конца перебранкам. Собравшиеся обсасывали каждую подробность событий нескольких последних недель.
Стояла глубокая ночь. Говорил Верморель[127]. Он заявил, что следствие установило несостоятельность обвинений против Клюзере, однако «легкость, с которой был арестован военачальник, заподозренный в нечистоплотности по отношению к нашему общему делу, имеет огромную важность для всех. По моему мнению, она является одним из лучших подтверждений разумности и жизнеспособности Коммуны!»
В зал, трясясь от волнения, вошел бледный человек. В руке он держал телеграмму и с нетерпением ждал, когда Верморель закончит речь. По всем признакам, ее завершение было делом неблизким, и потому вошедший встревоженно выкрикнул:
— Побыстрее!
Взгляды собравшихся обратились на грубияна. Им оказался член Главного совета Коммуны Бийоре[128]. Последовала пауза, во время которой он приказал всем, кто не занимает высоких должностей, покинуть помещение. Когда двери в зал закрылись, он зачитал телеграмму.
Она пришла от генерала Домбровского[129]: войска Версаля прорвались в город и теперь с боями занимали кварталы.
Суд возобновился, но мысли выступающих уже витали где-то далеко. Никаких длинных речей. Быстрое подведение итогов и вынесение дела на голосование. Двадцать восемь голосов против семи за немедленное освобождение Клюзере. Генерала пригласили в зал и огласили решение.
Клюзере счел подобающим произнести речь, но никто не слушал его. Зал опустел. Дни бесконечных разговоров закончились.
Члены Главного совета Коммуны растворились в ночи. Кто-то подумал о своей семье и о себе, кто-то поспешил спрятаться. Но остальные сохраняли мужество до самого конца и, не страшась смерти за общее дело, отправились возглавлять безнадежное сопротивление на баррикадах.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Позднее Эмар составил несколько дополнений к своему документу в защиту Бертрана, известного как Бертран Кайе из 204-ого батальона Национальной гвардии. Мы уже цитировали одно из них, где Эмар стремился показать, что становление Коммуны являло собой следствие некоего заразного заболевания. Следующий отрывок также довольно интересен:
«После суда и приговора Бертрану полковник Гуа вернул мне мои записи.
— Галье, милый мой, — сказал он, — в этом твоем трактате имеются мысли, которые лучше держать при себе, а посему получи его обратно. И уничтожь! Такие вещи опасны.
Мой ответ был нелюбезен, ибо то, как он исказил мои слова и выдал их за свои, немало меня задело, а снисходительный упрек из его уст стал настоящим ударом.
— Что-то ты сам не побоялся произнести все это вслух, — сказал я, — но ты прав. Я тоже заметил, что Коммуна страшится инакомыслия. Однако я никогда не робел и всегда пользовался свободой мысли и слова, которую взрастила в нас былая, менее несчастливая Коммуна[130].
К моему удивлению, Гуа, славившийся нетерпимостью, улыбнулся и приобнял меня.
— Эмар, перестань, неужели ты действительно веришь во все то, что там понаписал?
— Кстати, это любопытный вопрос, — уклончиво сказал я. — А что, если верю?
Он хмыкнул и спросил:
— Ты вправду собирался принять сан?
— Не исключено.
— Ты? Эмар Галье? Ходил бы в сутане и с крестом, болтающимся на животе? Ну нет, такого быть не может! — Он рассмеялся.
Мы по-дружески перебросились несколькими фразами. Зная мою преданность общему делу, Гуа не хотел меня осуждать, но не преминул предупредить, что мне лучше придержать язык. Честно говоря, он сам был одним из тех опасных людей, охваченных, как я успел сформулировать, той же жаждой, что и Бертран, и вскоре он доказал это.
Никогда бы не подумал, что мне сперва доведется увидеть его, а не себя в сутане и с болтающимся на животе крестом».
Довольно краткое замечание о судьбе Гуа, промелькнувшее в рукописи Эмара Галье, нетрудно расширить, ибо последние дни Коммуны подробнейшим образом запротоколированы.
Читатель наверняка помнит, как новый глава бывшей префектуры полиции произвел немалое количество арестов, особенно среди духовных лиц, намереваясь сделать их заложниками. После этого правление Коммуны широко распространило ультиматум, гласивший, что за каждого застреленного Версалем коммунара будут убивать двух заложников.
Главной целью Коммуны, однако, была попытка запугать Адольфа Тьера и заставить его вернуть Бланки, ставшего версальским узником. Схваченный архиепископ Парижский, которому в случае дальнейшего удержания Бланки грозила казнь, лично направил в Версаль письмо, умоляя обменять Бланки на себя. Помимо прочего, он подчеркнул, что в обмене нет никакой опасности, поскольку Бланки, как коммунист, не представляет ценности для Коммуны, давно отринувшей его идеи: «Даже оказавшись среди коммунаров, он не станет опорой режиму, а лишь усилит разногласия в их стане».
Но Тьер не пошел на переговоры. Попытки американского посла, как и многих других, переубедить его пропали втуне. Некоторые коммунары утверждали, что Тьер сам желал казни архиепископа, видя в ней повод для возникновения волнений среди населения Парижа. Версия выглядит достаточно надуманной: если бы в Коммуне опасались волнений, никто бы уж точно не стал убивать церковника. Возможно, для милосердия было попросту слишком поздно. Версальская армия подступала к Парижу. Прорыв свершился, войска вошли в город и крушили баррикады. На улицах бушевали бои. За каждым окном мог скрываться коммунар с ружьем — и сражаться за жизнь, как загнанная в угол крыса. Эта последняя неделя не ведала пощады.
Упоение кровопролитием влечет за собой состояние, схожее с опьянением. Раззадоренная бесчисленными убийствами толпа с криками требовала еще крови: так человек, перебравший со спиртным, валяется под столом в луже собственной рвоты и все равно тянется за новой бутылкой.
Двадцать четвертого мая, на третий день уличных боев, к тюрьме Гран-Рокет подошел вооруженный отряд и потребовал немедленной казни шести заложников, включая архиепископа. Зачем? Драматический жест, призванный убедить Версаль выпустить Бланки из заточения, был уже ни к чему. Все было кончено. Версальские войска, как питон, взяли Коммуну в кольцо и медленно ее сдавливали. Ребра города трещали. В воздухе витала смерть. «Архиепископ по-прежнему у нас, так давайте его казним. Завтра будет поздно», — решили коммунары.
Двадцать пятого мая Клавье, комиссар, отвечавший за расследование на рю Пикпюс, явился в тюрьму, чтобы забрать из камеры банкира Жеке. Комендант тюрьмы предварительно захотел увидеть письменный приказ. У Клавье такового не оказалось, но, будучи человеком предприимчивым, он набросал и подписал документ на месте. Комендант под дулом пистолета взял бумагу и, глядя на оружие, счел ее вполне законной. Банкир, попавший в тюрьму за то, что нечестно нажил, а потом еще и спрятал миллионы, на самом деле был банкротом, разорившимся на спекуляциях в Мексике не без помощи своих же партнеров, ибо в касте капиталистов верность ценится не выше, чем в любом другом общественном слое, хотя силами творить добро или зло они отнюдь не обделены.
Клавье вывел пленника из тюрьмы, побродил по улицам в поисках укромного уголка, поставил банкира к стенке и, невзирая на его мольбы о пощаде, приказал солдатам стрелять. Потом мальчишки из соседних дворов немного развлеклись, пиная труп.
По странному совпадению, полковник Гуа в эту минуту проходил по соседней улице и услышал выстрелы. В качестве главы военного трибунала, Гуа воспринял расстрел банкира как браконьерство на своей территории, однако быстро сговорился с Клавье действовать сообща.
Перво-наперво они отправились пообедать, затем, чуть позже, опять встретились и нанесли повторный визит в тюрьму Рокет.
Приготовив револьверы, они потребовали у коменданта список узников. На сей раз комендант знал, что от него ожидалось, и сразу сдался.
Гуа проглядел список и поставил галочки напротив пятидесяти имен, выбрав десять клириков (четверо из них были монахами, арестованными во время фарса на Пикпюс) и сорок гвардейцев с агентами Империи. Полсотни. Ему хватило: в отряде Клавье было маловато солдат для охраны.
Тюрьмой овладело страшное волнение. Ранее уже увели на казнь семерых заключенных, и оставшиеся перепугались. Дабы успокоить пленников и предотвратить сопротивление, коммунары повторяли, что собираются лишь перевести их в другую тюрьму: «Мы отконвоируем вас в мэрию Бельвиля[131]: в Гран-Рокет недостаточно хлеба для всех».
Многие поверили. К тому же количество названных ободряло само по себе. Одного человека или даже шестерых-семерых расстрелять могут, но не пол сотни же!
Тюремщики, проходя по коридору, отперли множество камер с заключенными, чьи имена не прозвучали. Причиной тому послужило бегство нескольких опытных надзирателей — те, кто остался, плохо разбирались в своем деле. Среди открытых камер оказалась и та, где томился Жан Робер, кучер с похорон дочери генерала Данмона. Срок его задержания давно подошел к концу, но его никак не выпускали. Имени Робера в списке не было, но он все же решил притвориться, что его назвали: вдруг представится возможность для побега? Он уже несколько месяцев ничего не слышал о своей семье. Все вокруг спешно собирали пожитки. Жан Робер быстро схватил шинель, единственную имевшуюся у него собственность, и выскочил в коридор.
Никто не пытался пересчитывать пленников, которых поспешно выстроили в колонну и под звуки дудок и барабанов вывели из тюрьмы. Некоторые шли в том, в чем пребывали в камерах. Однако многие успели одеться и собрать в узелок кое-какие вещички. Пленные солдаты канувшей в Лету Империи с гордостью чеканили шаг. Позади них, путаясь в сутанах, плелись священники. По краям, с ружьями наперевес, шагали fédérés[132], люди из Национальной гвардии, служащие Коммуне. Жан Робер, чьи ноги окостенели после долгих лет на облучке и нескольких месяцев за решеткой, тащился среди клириков.
Его сразу удивили толпы, стоящие вдоль дороги. Гремели злые выкрики, летели гнилые овощи, все норовили толкнуть или ударить заключенных. Что происходит? Почему они все вопят: «Смерть заложникам!»?
— Куда мы идем? — спросил Жан Робер у ковыляющего рядом монаха.
— На Голгофу, — отрывисто ответил тот и вновь забормотал молитву. Извозчик, много лет проработавший в столице, никак не мог припомнить в Париже место с таким названием. Он хотел было уточнить это у спутника, но постеснялся повторно прерывать его молитвы.
Охрана, опасаясь, что толпа растерзает узников еще до казни, призвала себе на помощь гвардейцев из 74-го батальона, стоявшего на баррикаде. С этой минуты обстановка стала чуть спокойнее. Колонна, сопровождаемая громадной и беспрерывно растущей толпой, миновала рю де Пари и свернула на рю Аксо.
«Сбежать у меня не выйдет. Ладно, пусть будет другая тюрьма», — подумал Жан Робер и, вздохнув, подчинился судьбе.
Число вооруженных стражников, а также мальчишек, присоединившихся к шествию, неуклонно увеличивалось. За каждым пленником следила сотня взглядов. Жан Робер внутренне сжался. Вдруг кто-нибудь заметит, что он угодил в колонну случайно, не будучи в списке? Он мечтал поскорее куда-нибудь попасть, хотя бы в новую камеру.
Наконец узники прошли через огромную арку во двор с несколькими домишками. За ними тянулся сад для прогулок, перемежавшийся огородными грядками.
В дальнем конце сада их остановили у стены. Толпа вливалась во двор и завывала, призывая к расстрелу заложников.
Несообразительный Жан Робер постепенно начал понимать, что творится. Конвоиры из Национальной гвардии защищали узников от безумствующей толпы только для того, чтобы казнить их в военной манере. Он до того удивился, что выкрикнул:
— Да они нас расстреляют!
Необоримый страх стальными тисками сжал сердце. Жан Робер дернулся вперед.
Гвардеец с отрешенным, мечтательным лицом грубо толкнул Робера обратно к стене и стал сдерживать прикладом винтовки, не переставая думать о чем-то своем.
— Я не виновен! Не… — кричал извозчик.
— Виновных тут нет, — тихо произнес молодой монах и положил руку ему на плечо, утешая.
— Нет… — завопил несчастный и, выпучив глаза, злобно стряхнул с себя милосердную длань, стремящуюся насильно примирить его со смертью. В горле застрял комок, каждое слово причиняло боль. На подбородке блестела слюна.
— Не хочу умирать! — яростно взревел он.
— Тише! — сказал монах. — Нам всем следует научиться умирать.
— Но я не хочу, — снова выкрикнул Робер. Ему было нелегко говорить, и от усилий на лбу выступили капли пота.
Недалеко от стены, в саду, солдаты обсуждали порядок расстрела. Некоторые коммунары делали последние отчаянные попытки остановить преступление, однако дело зашло слишком далеко. Заводилы побуждали людей требовать крови, и толпа успела заразиться жаждой убийства.
— Пора выбираться отсюда, — перешептывались меж собой члены Главного совета Коммуны. Когда, чуть погодя, раздались выстрелы, никого из высокопоставленных лиц рядом уже не было.
Охранники отошли от заложников, чтобы присоединиться к расстрельной команде.
— Эй! — окликнул Робер гвардейца, собравшегося уходить, и чуть не бросился за ним следом. — Я не из этих…
Ему не дали договорить. Разъяренный гвардеец с силой ударил его прикладом под дых, толкнув обратно. Робер схватился за живот и принялся ловить ртом воздух: парализованные мускулы остановили дыхание. Боль заставила его опуститься на одно колено.
Гвардеец отвернулся и исчез.
Монах, глядя на скорчившегося соседа, поднял руку, отпуская грехи: «Ego te absolve ab omnibus…»[133].
Робер все еще задыхался, когда начался расстрел. Пули прошили ветви отцветающих фруктовых деревьев. Нежная весенняя зелень мгновенно разлетелась в клочки, сучья поломались, кора покрылась ожогами. Пока гвардейцы перезаряжали ружья, послышались принесенные ветром звуки вальса: неподалеку от сада располагался лагерь немецких оккупационных войск, и его обитатели отдыхали под музыку, радуясь хорошей погоде.
Когда все жертвы упали на землю, солдаты достали револьверы и начали добивать умирающих. Под нескончаемую череду этих милосердных выстрелов заблестели и штыки. Как обнаружилось позднее при вскрытии, в некоторых телах засело до шестидесяти-семидесяти пуль, причем на них насчитали и по столько же колотых ран[134]. Немало членов расстрельной команды тоже оказались ранены собственными товарищами.
Казнь сочли законченной, и полковник Гуа с Клавье совершили последний осмотр. В списке стояло пятьдесят имен, однако трупов было на один больше.
Гуа пожал плечами.
— Определенно, один лишний[135].
Но вдаваться в подробности никто не стал, ведь время поджимало. Шаг за шагом, баррикада за баррикадой, войска Версаля отвоевывали Париж у коммунаров.
В тюрьме Гран-Рокет все еще находились триста пятнадцать заложников. На следующий день человек по фамилии Ферре попытался поставить их перед выбором: либо они отправляются с расстрельной командой, либо идут защищать баррикады. Но уличные бои практически вплотную приблизились к тюрьме, и Ферре покинул ее, не довершив начатое и оставив едва ли не все камеры отпертыми. Однако большинство заключенных сочли, что им будет безопаснее внутри, чем снаружи, а для большей уверенности еще и забаррикадировались в тюрьме. Смельчаки, решившиеся на побег, попали в руки к коммунарам и были казнены на месте. Утром версальцы завладели районом и освободили заложников.
Затем последовали ужасающие, неописуемые события, сравнимые разве что с природными катастрофами наподобие землетрясений и лавин. Отступающие коммунары начали поджигать общественные здания. Стаи мужчин и женщин ходили по улицам и громили лучшие дома в кварталах перед грядущим отступлением. Среди этих обезумевших поджигательниц сокровищ Парижа была и Софи де Блюменберг.
Накануне падения Коммуны Софи оставалась вместе с 204-ым батальоном. Она сняла с трупа мальчика сапоги. Они оказались впору ее маленьким ножкам. Где-то поблизости ей удалось подобрать китель зуава[136].
Несколькими днями ранее 204-ый был отправлен защищать баррикады в Девятом округе. Там его почти полностью уничтожили: войска Версаля сумели подобраться к баррикаде с рю Комартен и расстреляли беззащитных гвардейцев с тыла. Шестнадцать уцелевших попали в плен и тут же были казнены на глазах у тех немногих, кому удалось отступить к ближайшей баррикаде.
Теперь эти немногие выжившие, стоя у здания мэрии на площади Вольтера, погрузились в обсуждение случившегося, затеяв этот разговор еще во время разгрома. Софи, не стыдясь своей любви, продолжала расспрашивать всех о Бертране. И хотя никто из сослуживцев утром его так и не видел, его имя без раздумий добавили в список погибших. От этого поражение казалось еще более впечатляющим и горьким. «Лежит рядом с другими мертвецами», — отрезали солдаты, качая головой. Они даже не попытались как-то утешить девушку. В тот момент гвардейцы отчаянно стремились разобраться, как сами попали в такую беду. Им не хотелось верить, что поражение могло стать естественным исходом битвы. Они подозревали измену. Перебрав ряд имен, солдаты остановились на капитане де Монфоре, пославшем их на эти позиции и распределившем, явно намеренно, батальон по баррикадам так, что на тыловой, на рю Комартен, не хватало людей для обороны.
Рассматривая предположение с разных сторон, гвардейцы находили все больше веских причин для подозрений. Главными были три. Во-первых, Монфор происходил из аристократического семейства и вел себя соответствующе: любил гарцевать на коне, щеголять в обшитом золотом голубом мундире и выкрикивать приказы, не спешиваясь, — чем не убедительное доказательство связи с Версалем? Во-вторых, он питал ревность к Бертрану, что тоже могло привести к измене ради уничтожения соперника. И наконец, в тот самый день Монфор поспорил с другими офицерами, настояв на определенном расположении баррикад и людей на них, хотя обычно никогда не вмешивался в обсуждение военной стратегии.
Кто-то внезапно вспомнил о случае, подтверждавшем правдивость догадок. За несколько дней до описываемых событий капитан де Монфор явился в министерство на рю Сен-Доминик. Он был слегка пьян и пребывал в отвратительном настроении. Бурная жестикуляция капитана заставила гвардейца, стоящего у входа, поднять штык, преграждая путь внутрь.
Монфор вышел из себя и принялся выкрикивать оскорбления в адрес часовых. Узнав, что здание охраняли солдаты 204-го батальона, в котором, как известно, служил Бертран, капитан усмехнулся:
— Значит, из 204-ого? Вы, парни, редкий сброд. Вашему батальону не помешает славная чистка.
Софи мало волновало, как сильно пострадал батальон, защищая подступы к церкви Мадлен[137], но мысль о том, что Барраль таким образом избавился от Бертрана, потрясла ее до глубины души. Ее скорбь быстро переродилась в яростное желание отомстить.
На свою беду, капитан Барраль де Монфор как раз проезжал верхом мимо, направляясь к баррикаде на бульваре Вольтера. Софи заметила его первой и, указывая на него пальцем, закричала:
— Вот он, грязный предатель!
Услышав ее голос, Барраль придержал гарцующего жеребца.
И тут на него с воплями: «Смерть ему! Смерть изменнику!» — набросилась дюжина гвардейцев, десятки рук вцепились в мундир и вытащили капитана из седла. Его били, толкали, гнали к зданию мэрии; красивая униформа превратилась в лоскуты; лицо заплыло, посинело, опухло. Софи, видя, как толпа издевается над ним, в ужасе приоткрыла рот. Ей хотелось убежать прочь, но она сдержалась: «Поделом тебе, предателю!» Она совершенно позабыла, что на протяжении последних месяцев сама помогала Барралю изменять Коммуне.
В мэрии сидели женщины и шили мешки для земли, использовавшиеся при возведении баррикад. Дежурные офицеры Ферре и Гентон решили, что нужен суд.
— Друзья, сделаем все как положено, — кричали они разбушевавшейся толпе.
Капитана повели по площади, кишевшей солдатами и любопытствующими. Многие вовсе не понимали, что происходит. Просто услышали крик «Предатель!» и подхватили его.
Каждый норовил пнуть пленника, и конвою было нелегко пробираться сквозь толпу. Чуть дальше путь преградила цепочка украшенных алыми флагами катафалков, плетущаяся вверх по холму к Пер-Лашез. Кто-то выкрикнул:
— Сейчас его очередь! — И толпа в нетерпении принялась повторять это на разные голоса.
Гентон и Ферре не переставали увещевать тех, кто мешал идти:
— Нужен порядок. Правосудие прежде всего.
Коммунары объявили, что Монфора должен судить военный трибунал. Это решение вкупе с красным кушаком Гентона, указывающим на него как на облеченного властью человека, позволило конвою наконец пересечь площадь и добраться до рю Седен.
На ней, в одном из магазинов, расположилось командование нескольких батальонов. По первому же требованию там собрали революционный трибунал. Его возглавил полковник Гуа. Младшими судьями стали Гентон и Ферре.
Это была сущая пародия на правосудие. Против Барраля де Монфора не нашлось ни единой улики. Тщеславный, да; высокомерный, да; пренебрегал обязанностями, возможно; и никаких доказательств связей с Версалем или какой-либо измены.
Судьям хотелось спасти Монфора, своего старого приятеля, а также кузена Эдуара Моро, члена Главного совета и одного из вождей Коммуны. Но перед лицом толпы никто не посмел объявить Монфора невиновным. Сам подсудимый не сказал ни слова; вероятно, он просто не мог говорить. Его веки посинели и опухли, затянув глаза; из уголка плотно сжатых губ текла струйка крови. Он сидел и безучастно молчал. Только раз он прошептал так тихо, что судьи с трудом услышали его:
— Я невиновен. Кто посмел назвать меня предателем?
Судьи и сами не могли поверить в его вину. Напротив, они были уверены, что он ни при чем, однако требовалось не только произнести это вслух, но и взять Барраля под защиту. Они не сделали ничего. В итоге они подтвердили лишь одно обвинение, в небрежении обязанностями, и приказали разжаловать Барраля в рядовые, при этом подчеркнув, что его следует немедленно направить на ближайшую баррикаду и бросить в бой.
Потакая толпе, один из младших судей добавил:
— Если он проявит себя трусом, разбейте ему голову.
Намека оказалось достаточно. Толпа позаботилась о претворении слов в действительность. Барраля оставили лежать на дне канавы, а сверху на него падали комья грязи и плевки. Такова толпа. Та же самая, что восемью неделями ранее подожгла гильотину на этом же месте, на площади Вольтера, встречая безумным ликованием радостную весть об отмене в Коммуне смертной казни.
В воздухе витал запах крови. Предчувствие неминуемой гибели пробуждало в людях самое худшее, обычно глубоко сокрытое в душе. Войска Версаля полностью заняли левый берег и начинали окружать оставшуюся в руках коммунаров часть города. Каждая взятая ими баррикада означала установку временного поста и осуществление методичных, беспощадных, поголовных карательных мер через приговор трибунала и массовые казни. Пятьдесят жизней коммунаров за каждого убитого версальца.
Коммуне грозило уничтожение, и, что естественно, бразды правления оказались в самых что ни на есть жестоких руках, ибо в такие минуты не столь твердые духом люди думают об отступлении или даже, как все прочие, впадают в отчаяние. В том, что Париж подожгли, виновен не какой-то конкретный человек, но Коммуна в целом, и оправдание ей, если подобное вообще следует оправдывать, можно найти только в пиковом положении. Было неправильно жечь сокровища Парижа, ценные библиотеки, невосполнимые архивы. Это было бессмысленно не потому, что на самом деле важность подобных сокровищ сильно преувеличена, но потому, что такой жест скорее свойственен слабаку, пострадавшему в драке и теперь злобно избивающему малолетних детей врага. Да, если бы сожжение библиотек, музеев и архивов покончило с бедностью, я бы посчитал подобную жертву ничтожной. Однако в те дни этот шаг отнюдь не выглядел символичным, равно как и не нес никакой пользы.
Поджог столицы, тем не менее, включал некоторое планирование. Баррикады нуждались в мужчинах, и дело поручили женщинам. Им выдали горючие жидкости и факелы с полицейского склада. Все знали, что затея небезопасна, но участвовать в ней вызвались немало женщин.
Некоторых привлекла назначенная награда — десять франков в день. Среди них оказалась супруга Жана Робера, известного нам кучера, вышедшая на улицы вместе с двумя малышами (теми, что остались от пятерых), присмотреть за которыми было некому. Теперь, когда она стала зарабатывать деньги, дети тихонько грызли колбасу, держа в ручонках по толстому куску. Они недоедали месяцами, но сейчас забыли про голод. И хотя их переполненные животы протестовали, дети никак не могли остановиться и продолжали жевать, будто пытаясь уверить себя, что это не сон.
Другие женщины стали поджигательницами из чистой ненависти к версальцам. Многие из них потеряли мужей либо пережили иное горе — и мечтали хоть как-то отомстить, предпочтительно богачам, своим вечным угнетателям. Они говорили: «Нам эти дворцы с роскошными залами все равно не достанутся, так давайте сожжем их! Пусть они не достанутся никому!»
А как же Софи? Она пошла с ними, ища смерти. Пошла, желая навсегда погрузиться в безумие. Пошла, потому что версальцы, которым она так часто помогала получать сведения, предали ее Бертрана и убили его на баррикадах; да, убили, и если бы ей довелось убедиться в его гибели, увидеть собственными глазами его тело, она бы без раздумий покончила с собой.
В эти ужасные дни Эмар предпочитал не покидать дом. Но иногда он не мог усидеть на месте и выходил на улицу взглянуть на происходящее. Обычно он поднимался по бульвару Батиньоль и взирал на Париж сверху. Сюда приходили многие. Люди стояли и смотрели, как в сумерках, подсвеченных пожарами, черно-белая фотография города преображалась в цветную литографию. Серовато-коричневая пелена дыма окрашивалась красно-оранжевыми всполохами и, стоило тьме сгуститься, исчезала совсем, оставляя зрителю лишь пламя и искры.
Люди гадали, что именно горит там, внизу. На расстоянии трудно было определить. Тюильри, Лувр, Дворец правосудия, Казначейство, Дворец ордена Почетного легиона, Пале-Рояль и прочее. Жар был таким сильным, что достигал районов, где еще сражались коммунары. Шато д'О в огне, бульвар Вольтера в огне, Grenier d'Abondance[138] в огне. Сена, багряная от крови, драконом с огненной чешуей рассекала город. В воздухе кружились горящие клочки соломы из зернохранилища и бумаг из архивов.
Как только версальцы отбивали очередную часть Парижа, первым делом организовывались пожарные команды, к которым тут же спешили на помощь окружные пожарные, те самые, кому fédérés, пока район находился в руках Коммуны, не позволяли бороться с огнем.
Столица была почти полностью отвоевана Версалем, но коммунары по-прежнему удерживали некоторые позиции, закрепившись в ратуше Одиннадцатого округа, в Бельвиле, в парке Бют-Шомон и в других местах.
В ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое мая состоялась последняя жестокая схватка. Остатки боевых отрядов fédérés в отчаянии отступали по Пер-Лашез, от могилы к могиле. Исход не заставил себя ждать: сто двадцать восемь выживших коммунаров были прижаты к кладбищенской стене и расстреляны. Когда двадцать восьмого числа, в воскресенье Пятидесятницы[139], взошло солнце, гражданская война завершилась, разве что в отдельных домах, то там, то здесь, раздавались одиночные выстрелы да на единственной оставшейся баррикаде на рю Рампонно последний коммунар поднял алый флаг и еще некоторое время продолжал сражаться. Но и он бежал, и вскоре, вместо сорванного красного, там заколыхалось трехцветное знамя.
Версальцы, пришедшие к власти после победы, проявляли со своей стороны не меньше жестокости, чем вожди Коммуны. Напротив: хоть историки и предпочитают не заострять на этом внимание, их деяния обрели гораздо больший размах.
Скажите, к чему из коек полевого госпиталя, устроенного в церкви Сен-Сюльпис, вытаскивать восемьдесят раненых коммунаров и тут же расстреливать их, если многие и без того стояли на пороге смерти? Зачем казнить вместе с ними оставшегося дежурить в госпитале медика Фано, единственные вина и преступление которого заключались в исполнении врачебного долга?
Всех поставить к стенке и расстрелять! На рыночной площади Мобер, на улице Шаронн во дворе Клюни, на рю Брезин. Тела сбрасывали во рвы — не ограничиваясь малым числом, максимум пятьюдесятью трупами, как коммунары. Какая безделица! Нет, расстреливали сотнями.
Затем настало время порядка. Вышло распоряжение: больше просто так не убивать. Пленных отдавать под трибунал. И их отдавали. Что немного снизило скорость расстрелов, ибо военно-полевые суды хотя бы брали на себя обязанность записывать имена. Но мало кому удалось спастись. Допросы отличались краткостью. Никаких свидетелей, никакой защиты. Пара слов — и вперед с очередной группой несчастных к ближайшей стенке.
Ошибки? Ну да, в спешке таковых не избежать. Вийома[140] расстреливали дважды, двумя командами, но в действительности он избежал смерти и написал свои знаменитые книги. Что за бедолаг расстреляли вместо него? Делион пишет: «Я видел его гибель. Он вел себя как последний трус. Едва говорил, задыхаясь от ярости». Как хорошо понимаешь ту трусость и ту злость. Обращаемся к другому источнику: Курбе расстрелян после опознания[141]. Кого там опознали? Что это была за процедура?
В газете «Gaulois» читаем следующую историю: «На улице Гренель арестовали Бийоре. Он пытался отбиваться, затем стал ползать по земле, умоляя о пощаде. Его убили на месте». В другом округе кто-то закричал: «Вон идет Бийоре». Указанного прохожего сразу арестовали. Он отчаянно повторял, что это ошибка, даже когда его привели к капитану Гарсену. Но там уже собрался десяток свидетелей, готовых подтвердить его личность.
Капитан Гарсен спросил:
— Вы по-прежнему все отрицаете?
— Да, да, — неистово кричал подозреваемый. Дело обстряпали так быстро, что всего через несколько секунд умирающий человек лежал в луже крови. И только потом, чуть позже, кто-то догадался обшарить его карманы. В них обнаружились письма на имя некоего Констана, служившего в галантерейном магазине и не имевшего никакого отношения к Коммуне. Но несчастный уже бился в агонии, и его решили избавить от мучений последним выстрелом.
А кем был прохожий на Пуан дю Жур, также казненный вместо Бийоре? Настоящего Бийоре арестовали неделю спустя и впоследствии приговорили к пожизненному заключению.
Как-то перед военно-полевым судом в Ле Шатле предстал заезжий голландец, плохо изъяснявшийся по-французски. При нем оказалась крупная сумма денег, и она послужила доказательством того, что он являлся высокопоставленным коммунаром, собравшимся бежать за границу. Его казнили в казарме на Лобау.
Варлена[142] казнили на Пятидесятницу. В течение нескольких минут его успели арестовать, судить и расстрелять. Собралась такая огромная толпа, что солдаты едва смогли прицелиться и выстрелить. Варлен остался стоять. Дали второй залп. Варлен упал. Публика взорвалась аплодисментами.
Эмар не пытался скрыться. Он ходил по улицам и чувствовал странный душевный подъем. «Жгите!» — кричал он про себя, когда видел, как языки пламени взмывают к небесам. «Пли!» — немо приказывал он, и люди, выстроившиеся вдоль стены, падали под треск ружей.
«Не так уж я и ошибался», — проносилось в голове Эмара. Неожиданно для себя он радовался разразившейся в Париже буре насилия. И даже ее ему было мало. Хотелось утопить весь мир в огне и крови. Мир все равно недостоин права на существование. «Поднимайтесь! Дантон! Марат! Робеспьер! Почему вы не здесь, почему не следите, чтобы работа была выполнена как подобает?»
Вскоре Эмар обнаружил, что был в корне неправ. Коммуна расстреляла пятьдесят семь узников тюрьмы Рокет. Версаль ответил девятнадцатью сотнями. Сравните и другое. За пятнадцать месяцев эпохи Террора было гильотинировано 2.596 аристократов. Версальцы за неделю расстреляли 20.000 горожан. Разве эти цифры не доказывают относительную эффективность современного ружья рядом с гильотиной и не позволяют сравнить степень жестокости толпы из высшего и низшего классов?
Бертран, как начало казаться Эмару, был далеко не самым вопиющим случаем. Как вообще можно сравнивать вервольфа, убившего пару проституток и разрывшего несколько могил, с этими тигриными стаями, рвущими друг друга со все возрастающей свирепостью? «Худшее еще впереди», — сказал себе Эмар, и его сердце вновь наполнилось необъяснимой радостью. Грядущие века будут убивать не тысячами, а миллионами! Процесс будет ускоряться, убитых станет не сосчитать! Да здравствует раса оборотней!
Однажды, идя по улице, Галье в привычном возбуждении размышлял об этом. Череда казней завершилась. Но аресты продолжались. Солдаты и полицейские рыскали по домам. Все подозрительные лица немедленно задерживались. Для этого было достаточно малейшего сомнения. Почтальон оговорил одно семейство лишь за то, что им чаще обычного приходили письма. Бакалейщик накляузничал на покупателя, берущего слишком много колбасы. Некий парижанин попал в тюрьму, потому что не смог быстро ответить на вопросы. Другого арестовали за стремительную походку, третьего — за неторопливость. Самый сумасшедший повод не представлялся неразумным. Любой пустяк мог привести за решетку. За три недели полиция получила 379.823 анонимных доноса.
Такие события, такие взгляды и мысли не столько расстраивали, сколько неизъяснимо радовали Эмара. Бальзамом на сердце изливалось: «А я вам говорил!» В конце концов, это лучше, чем сто раз услышать. Видите, как солдаты очищают улицы от трупов? Видите, как наполняется телами фундамент, приготовленный для строительства школы? Или церкви, или дома, который станут населять все новые и новые семьи оборотней?
По-прежнему не получалось наладить работу полиции, однако за порядком помогали следить армейские подразделения: трупы тактично убирали подальше с глаз, складывали аккуратно, рядком, где-нибудь в тихих уголках, и даже присыпали землей, скрывая заскорузлую от крови одежду. Немного земли, немного времени — и дело сделано. Раса оборотней охотно забывает о жертвах.
Из дымящихся руин восстал Homo economicus и опять устремился к процветанию. По улицам бродил человек, толкая перед собой ручную тачку. Останавливался подле мертвецов, обнажал голову и коротко бормотал молитву. Прежде чем водрузить шляпу обратно, махал ею, разгоняя мух, а затем быстро и умело разувал труп и кидал сапоги или башмаки в свою тележку. Он собрал знатный урожай.
Бдительные граждане останавливали его, расспрашивали. Он отвечал вежливо:
— Собираю для официального опознания, — и продолжал заниматься своим делом.
Эмар, столкнувшись с ним, сказал:
— Все по восемнадцать, — и с удовлетворением посмотрел на удивленное лицо мужчины[143]. А про себя Галье с ухмылкой добавил: «Волчишка!»
В общем, Эмар в те дни наслаждался жизнью. Однажды он заметил на улице священника и присвистнул: несмотря на крест и сутану, он узнал полковника Гуа, беспощадного убийцу заложников, находящегося во всеобщем розыске. «Напугаю-ка я этого волка в овечьей шкуре», — решил Эмар и поприветствовал беглеца на латыни:
— Pax vobiscum![144] Кого я вижу, как не старину Гуа, нашего pastor fidus![145].
Гуа вздрогнул.
— Ради Бога, Галье! — взмолился он дрожащим голосом.
Но Эмар не сдержался и опять пошутил:
— Что ж ты, отче, себя тогда вместе с остальными не пристрелил? Иди уж…
Да, Эмар веселился в те дни на славу, пока его самого не арестовали. Да и под арестом он тоже не скучал. Узников выводили из застенков в Люксембургском саду группами по 150–200 человек, связывали запястьем к запястью или локтем к локтю по четыре человека в ряд и, миновав городские укрепления, гнали по дороге к Версалю. Таким образом в течение нескольких дней туда перевели сорок тысяч заключенных.
Бок о бок маршировали старые бойцы, кто в военной форме, а кто в неряшливых рабочих блузах и штанах, в спешке натянутых на себя. Их лица испещрили скорбные морщины, на щеках горел лихорадочный румянец. Все они напоминали пьянчуг, что часто бывает, стоит щетине покрыть подбородки. Старики едва ковыляли, привязанные к хнычущим детям, к девушкам, еще недавно защищавшим баррикады с винтовками в руках и до сих пор одетым в диковинные мундиры, или к седовласым матронам, с трудом сохранявшим достоинство и сердито идущим рядом со служанками в ситцевых платьях и фартуках. Всех их сочли бунтовщиками, и неважно, сколько было тех, кто по ошибке оказался за решеткой. Взгляд то и дело цеплялся за людей в рединготах[146], подтянутых и спокойных мужчин с лицами ученых и художников, чьи прекрасные мечты об Утопии рухнули вместе с печальным концом Коммуны.
Эта колонна из обломков и отбросов медленно ползла в дорожной пыли под неистово палящим июньским солнцем. Их сопровождали всадники с заряженными ружьями на коленях, похожие на гаучо, что ведут скот на бойню. Останавливались ненадолго передохнуть только в Севре и Вирофле[147]. Затем входили в Версаль через Парижские ворота.
И тогда начинался самый жуткий отрезок путешествия. Людей гнали через королевский город Версаль, а по бокам стояла плотная толпа фанатиков, лишенная всякого чувства меры, лишенная жалости и разумения. Здесь, в городе богачей, толпа неистовствовала не меньше, чем в самых нищих кварталах Парижа. И потрясала кулаками — не грязными и мозолистыми, а туго обтянутыми перчатками, кружевными у демимонденок[148] и лайковыми у банкиров. Голоса завывали на хорошем французском: «Смерть, а не тюрьма! Казнить бандитов!» — и нарядно одетые люди рвались к колонне, не обращая внимания на конвоиров. Снобы и элегантные дамы не упускали возможности ударить, зная, что ответа не последует. Мужчины кололи тросточками, женщины размахивали изящными парасолями или стягивали перчатку и царапали длинными ногтями лица проходящих девушек. «Pétroleuse!»[149] — кричали они. И хотя лишь немногие из узниц действительно принимали участие в поджоге Парижа, всю эту тысячу с лишним женщин подозревали в том, что каждая из них спалила парочку дворцов. А шестьсот пятьдесят детей в глазах толпы выглядели настоящими демонами.
Но Эмар лишь посмеивался. «И тут оборотни! — ликовал он, не обращая внимания на град сыпавшихся на него ударов. — Мир полнится ими. И отчего мне когда-то верилось, что вервольфов раз, два и обчелся? Да меня самого эта участь не миновала, только я тогда не заметил».
Версаль не мог вместить всех пленников. Их загоняли во дворы, залы, погреба, под жерла пушек, а Тьер тщетно листал исторические труды, пытаясь понять, что же делать со всеми этими людьми. Длинными составами, в вагонах для скота, их вывозили в крепости на побережье и судили уже там. Не один десяток приговорили к пожизненному заключению, тысячи были высланы на тропические острова.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Как же мне завершить эту историю?
Она, не имеющая ни начала, ни конца, подобна невиданному цветку, беспрерывно распускающему лепестки.
Почему бы не остановиться здесь? Зачем вам знать, где сгинул именно этот оборотень, а не какой-то другой?
Полистайте на досуге журналы регистрации умерших. Были эти мужчины и женщины людьми? Или лишь масками, личинами, скрывающими безымянных чудовищ, теплым чревом для врага, который, вырвись он из их нутра на дневной свет, заставил бы вашу кровь заледенеть в жилах? Земля пожирает не мертвецов, но только их трупы, былые вместилища ненависти и преступлений. Однако само зло не похоронить, оно неуничтожимо: оно живет, внося в анналы каждого нового поколения все более скорбные записи.
Что вы хотите узнать? Участь Софи? В «Судебном вестнике» из архивов военного министерства мы читаем, что Софи де Блюменберг проходила по делу Барраля де Монфора и была приговорена к высылке из страны. Сам де Монфор, хромой и сухорукий после попадания пули в нерв на правой руке, также предстал перед трибуналом. Слезы текли из его единственного глаза. Второй больше не открывался: его съели мухи, когда Барраля бросили, как мертвого, в канаву у площади Вольтера.
Корабль «Даная» отплыл прямым рейсом в Новую Каледонию и через пять месяцев прибыл туда, но Софи на борту не было. Ее отец пустил в ход деньги и спас дочь от исправительной колонии.
Представьте его изумление, когда, вернувшись в Париж, он узнал о произошедшем. Ранее он получил лишь одно письмо. В нем тетка Луиза Херцог сообщала об исчезновении Софи. Она писала: «Барраль де Монфор не желает говорить мне, где Софи, хотя я вижу, что он знает».
Барон читал послание со смешанными чувствами. Поразмыслив над ним, он решил не гасить пламя. Вспомнив жену и саму Луизу Херцог, он невольно подумал: «А лед пусть остается льдом, раз ему так хочется. — И довольно ухмыльнулся. — Счастливчик Барраль. Мне бы на его место… Эх, ладно, жизнь бежит вперед. Пройдет несколько лет, а то и недель, и где мы все будем? Пусть девочка повеселится».
Сидя за столом, он взглянул в висящее напротив зеркало и отметил, что в изрядно поредевших волосах прибавилось седины.
Что до Софи, уж она-то повеселилась.
Она по-прежнему не знала, умер ли Бертран. Но ей стало все равно. Софи грезила о самоубийстве, но никак не могла набраться духу и встретить смерть. Ужас вечной ночи так мучил ее, что она больше не ложилась спать трезвой. И в одиночестве, если было с кем.
Барраль задыхался от боли, глядя на выходки Софи. Однажды, улучив момент, он мягко упрекнул ее:
— Все те мужчины… — с трудом выговорил он, — эти… как вы можете?
— А ты что, дурачок, растерялся? — весело воскликнула она и потянула его за собой на диван.
Он ушел домой в крайнем изумлении, потрясенный до глубины души: былая любовь пробудилась и вспыхнула в нем с удвоенной силой. Он простил Софи все.
И на следующий день умолял стать его женой.
— Зачем? — удивленно спросила она. И заплакала. — Мой верный, преданный Барраль. И это после всего, что я с тобой сотворила.
Они решили не откладывать и пожениться наутро, что дало ей столь необходимый стимул той же ночью отравиться газом.
И Барраль не повел ее под руку в мэрию для заключения гражданского брака, а проследовал за катафалком к Cimetière Israelite на Пер-Лашез. Ее отец беззвучно плакал, мать рыдала в голос. Когда на крышку гроба начали падать комья земли, Барраль не смог сдержать гнева. Он воздел здоровую руку к небесам и поклялся отомстить.
Эмара вскоре отпустили за отсутствием состава преступления, но вдруг опять вызвали в суд свидетельствовать против живописца Курбе. Этого лукавого гения обвиняли в том, что во время своей деятельности при Коммуне он приказал снести Вандомскую колонну, огромный бронзовый монумент, увенчанный статуей Наполеона. Пока колонну, под овации толпы, тянули вниз, Курбе произнес: «Эта колонна меня ненавидит. Клянусь, она мечтает свалиться мне на голову и раздавить». Она упала не на него, а точно в построенное инженерами ложе, но Курбе она все-таки раздавила.
Стоя перед судьями, Курбе утверждал, что действовал отнюдь не из ненависти к Маленькому Капралу[150], но из чисто эстетических соображений. «Эта грубая имитация колонны Траяна[151] всегда раздражала меня. Мне было стыдно при мысли, что гости столицы считали ее одним из славных достижений французского искусства. Те, кто ее возводил, совершенно не думали о перспективе, а статую Наполеона сделали в семь с половиной голов, потому что так полагается[152], позабыв об истинных пропорциях этого коротышки».
Председатель суда спросил:
— Иными словами, вами руководило одно лишь рвение художника?
И Курбе ответил:
— Выходит, так.
Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. А также велели возместить стоимость восстановления колонны, то есть более 350.000 франков. У Курбе не было столько денег, и поэтому у него конфисковали картины и распродали их на аукционе.
Сегодня за них можно получить невероятную сумму, как и в пору расцвета его популярности при жизни, но на тот момент его слава померкла. Вместе с картинами распродали и мебель, но даже после этого едва наскребли двенадцать тысяч. Салон[153] отказался выставлять его живопись, указав на моральное падение автора. Художник бежал в Швейцарию, но французские власти продолжали его преследовать, настойчиво требуя уплаты долга. Сердце не выдержало, Курбе скончался. Его смерть прошла незамеченной. Курбетизм с реализмом были тогда не в моде. В моду вошли импрессионисты.
Эмар навестил Бетрана в тюрьме Санте, как только освободился сам. Глава тюремной лечебницы сомневался, что заключенного выпустят.
— Физически он здоров, но с ним случаются приступы ярости. Тогда он ломает мебель или набрасывается на надзирателей.
Врачи не видели ничего загадочного в заболевании Бертрана. Для них он был просто очередным пациентом.
— Приступы ярости? — горько повторил Бертран вслед за Эмаром. — Почему бы и нет? Кто сохранит спокойствие в такой ужасной дыре?
— Кажется, стремление к смерти у тебя исчезло? — спросил Галье.
Бертран опустил голову, словно стыдясь нежелания умирать. В тюрьме он страстно желал одного — свободы и жизни.
— Дядюшка, пожалуйста, заберите меня отсюда, — взмолился он. — Со мной здесь отвратительно обращаются.
Эмар улыбнулся.
— Забрать? А отпустят? Ты вправду считаешь, что тебе можно на волю? Волков держат в клетках в зоологическом саду.
А потом подумал: «К чему запирать одного волка за его мелкие преступления, когда всеобщие злодеяния остаются безнаказанными? Когда толпа в любой момент может обратиться в волка и отпраздновать это фанфарами и барабанным боем, размахивая стягами на ветру? Почему бы этой собачонке тоже не порадоваться жизни?»
— Ты вспоминаешь о Софи? — спросил Эмар.
Бертран, точно от нестерпимой боли, закрыл глаза. И тут же пожал плечами.
— Софи. Да, Софи… Хотя для этого любая сгодится, — свирепо проговорил он.
— Женщин здесь по камерам не водят? — сострил Галье.
Бертран тяжело вздохнул.
— Ладно, — сказал Эмар. — Посмотрим, что можно сделать, но для начала скажи мне вот что. Ты… ну… действительно превращаешься?
Бертран опять поник головой.
— Нескромный вопрос? — усмехнулся Галье. — Это как девушку спросить о том самом… Что ж, понимаю.
Эмар, несмотря на жестокие и горькие слова, в душе жалел Бертрана. Недавно построенная тюрьма Санте считалась образцовой, но металл с камнем согреть не могут. Поговорив с начальником учреждения, Галье узнал, что перевод племянника в платную лечебницу, одобренную государственными органами, был при желании вполне осуществим.
Так Бертран оказался в санатории доктора Дюма в Сен-Назере[154]. Эмар лично посетил множество лечебниц для душевнобольных и выбрал это тихое заведение. Здесь, как нигде более, Бертрану будет удобно и о нем хорошо позаботятся.
Лечебница выглядела довольно приветливо. Мягкая трава лужаек тонула в тени раскидистых деревьев большого сада. Надежная, но не зловещая, старая кирпичная ограда поместья заросла плющом. За ней скрывался красивый главный корпус и несколько зданий поменьше. Окна просторных светлых комнат выходили в сад.
Пациенты вели себя очень мирно. Вероятно, в их головах вертелась все та же мысль, подобно тому, как медленно вращается шкив, с которого соскользнул приводной ремень. А может, они витали в стране иллюзий с ее неземной, своеобычной логикой, отрешившись от мира людей или погрузившись в вечное оцепенение.
Одни сидели в удобных креслах на террасе. Другие величаво разгуливали по газону, вообразив себя Шекспиром или Александром Великим. Третьи гонялись за несуществующими бабочками. Именно таких пациентов видели посетители, приходившие для осмотра заведения доктора Дюма. И лечебница представлялась им милым местом, эдаким садом с резвящимися там детьми.
Эти выставленные напоказ больные служили витриной. Предполагалось, что вид пациентов не должен отпугивать людей, ищущих пристанища для близких. Да, утерявшая способность управлять своим телом и контролировать мочевой пузырь и кишечник старушка-мать, которая уже не в силах самостоятельно поднести чашку ко рту, будет прекрасно чувствовать себя здесь.
— Вы их сможете вылечить? — частенько спрашивали у доктора Дюма.
Доктор отличался привлекательной внешностью: ладно скроенный, дышащий спокойствием, с окладистой бородой и лицом выдающегося ученого мужа — и славился уклончивыми, но вдохновляющими ответами:
— Все зависит от индивидуального течения болезни. Мы можем вылечить лишь некоторых. Но достойную жизнь можем дать всем. — Дюма кивал в сторону больных, сидящих в тени огромных каштанов, и рассказывал об их случаях. Этого хватало, чтобы посетитель перестал сомневаться и окончательно определился с последним жилищем для своей несчастной матушки. Сыновьям и дочерям нравилось повторять себе, что здесь ей будет удобнее, чем дома: «Мы сможем навещать ее по субботам дважды в месяц или в любое другое время, стоит только составить письменное заявление. Ну да, цены кусаются, но матушка достойна самого лучшего. Милая старушка. Здесь ее подлечат, и тогда мы приедем и заберем ее к себе».
Но лечебница не ограничивалась одним парком с чудаковатыми фиглярами, пускавшими пыль в глаза гостей. В некоторые палаты на верхнем этаже, например, никого из чужих не пускали. В дни посещений их даже запирали на ключ и на засов, не забывая закрывать глухие ставни. Если приезжали родственники тамошних обитателей, покорных больных поспешно мыли и приводили в пристойный вид, а буйных при необходимости накачивали успокоительными, после чего с ними можно было повидаться в специально отведенной для встреч комнате на первом этаже.
— Да, — повторял доктор Дюма, — я вижу улучшения. Но у меня медицинское образование… — А когда родня отправлялась восвояси, предупреждал: — Пожалуйста, не надо появляться здесь так часто. Это слишком расстраивает больных. Если мы стремимся достичь положительного результата, нельзя нарушать тщательно спланированный нами распорядок.
На верхнем этаже держали больных с отвратительными, животными симптомами. Тех, кто марал белье, страдал непристойными тиками или вступал в спор, а то и в схватку с невидимым врагом. И таких, кто грозил убить себя и тем самым вероломно лишить доктора его законного гонорара.
Заглянем в палаты и мы. Вот перед нами на полу распластался бедолага, лихорадочно старающийся вцепиться в доски ногтями: его терзает смертельный страх упасть на потолок. У несчастного заболевание внутреннего уха, лишившее его чувства ориентации, отчего он теперь не понимает, где право, а где лево, и не отличает верх от низа. Он не может ходить, не может лежать. Равновесие покинуло его. Но доктор Дюма уже три года не пускает к нему смерть.
В соседней палате находится женщина, не способная не только есть, но и делать что-либо иное без посторонней помощи. Она из аристократической семьи. Карлица-монголоид[155]. За сорок с лишним лет своей жизни она поменяла множество лечебниц. Вреда от несчастной никакого, но вид у нее отталкивающий. За всеми ее нуждами не уследишь. Санитар кидает ее уродливое тельце в ванну, стягивает с него вонючие тряпки, моет горемыку и приводит ее в комнату для посещений только в те дни, когда к ней в роскошном ландо приезжает седовласый отец, что бывает отнюдь не часто. Старик бросает на дочь мимолетный взгляд, вручает чек и покидает заведение. Он наслушался историй о том, как люди годами платят врачам за давно переместившихся в лучший мир пациентов, и не желает, чтобы и его таким же образом водили за нос.
В какую палату на верхнем этаже ни заглянешь, везде или издающие ужасные крики беснующиеся эпилептики, или больные с сирингомиелией[156], чьи мышцы иссохли, незаметно умертвив конечности, или меланхолики, цепи на которых призваны предотвратить самоубийство, или еще более опасные сумасшедшие без диагнозов, являющие собой настоящих зверей, к сожалению, порожденных женщиной и потому якобы наделенных человеческой душой: таких держат в клетках, ибо запертые комнаты, куда им швыряют еду — не что иное, как клетки.
Бертрану, как благовоспитанному и приятному молодому человеку, доктор Дюма поначалу выделил хорошую комнату на втором этаже. Пациент остался чрезвычайно доволен. И в первую же ночь попытался сбежать оттуда. Но доктора Дюма было сложно провести. Он всегда предоставлял новичкам кажущуюся возможность побега, желая посмотреть, на что они способны. Санитар по имени Поль, дюжий молодец, закаливший мускулы в кузнице, стоял на страже. В полночь он заметил, как Бертран спрыгнул с балкона и помчался сквозь кустарник. Поль побежал ему наперерез и схватил, намереваясь с легкостью повалить на землю. Однако Бертран неожиданно оказался проворнее, чем выглядел, и обладал невероятной для своего телосложения силой. Мало того, он пустил в ход зубы, порвав клыками плотную ткань куртки санитара и оставив на руке глубокий укус. Поль взвыл от боли, но не отпустил противника.
На подмогу подоспели еще два санитара, и Бертрана наконец удалось скрутить.
— Вот вы, значит, какой, — сказал доктор Дюма. — Так я и думал. Ладно, придется за вас взяться. Переведите его на верхний этаж. В угловую палату… Когда научитесь себя вести, поселим вас опять сюда.
Бертран быстро понял, что променял свою чудесную камеру в больнице тюрьмы Санте на ад кромешный. Вся обстановка новой палаты состояла из узкой койки, стула да столика. Встав на столешницу, едва удавалось дотянуться до подоконника единственного окошка, овального oeil-de-boeuf[157] с решеткой на нем.
Некоторое время Бертран успешно подавлял негодование. Он поклялся себе, что еще доберется до этого Поля. А когда доберется, не сносить негодяю головы. Бертран кровожадно провел языком по зубам, подумав об этом. И, конечно, к нему придет Эмар, все узнает и обязательно настоит, чтобы Бертрана перевели в палату получше.
Впрочем, в чем смысл полмесяца ждать посещения дядюшки? Ему нужно просто написать. Правда, нет ни пера, ни бумаги. Бертран позвал санитара. Тишина. Он постучал в дверь. Стены оказались слишком толстыми, и стука почти не было слышно. Бертран вспомнил, что третий этаж отделялся от остальной лечебницы дверьми при входе на него и у выхода с лестницы на второй этаж. К тому же, шум здесь представлялся делом обычным: когда санитарам случалось оказаться наверху, они привычно не обращали никакого внимания на крики, стук и любые другие звуки, производимые пациентами.
Безуспешные попытки до кого-нибудь докричаться привели Бертрана в ярость. Он швырял стул в дверное полотнище до тех пор, пока тот не разлетелся на куски. Потом в клочья изорвал покрывало с койки. И затих со слезами на глазах, пообещав себе впредь быть умнее. Держать себя в руках, надеть маску юноши с хорошими манерами: еще в тюрьме Санте он понял, что так скорее достигнет цели.
Щелкнул засов круглого оконца-бочонка в двери. На встроенной полочке появилась еда. Санитар в палату не зашел.
Неужели к нему так никто и не заглянет? Закроют его тут навечно, а дяде скажут, что умер. Да, теперь он понимал, как хорошо жилось ему дома, взаперти. Разве ему стало лучше после побега? Единственное достижение — ухитрился в Санте угодить. А оттуда попал сюда. Из огня да в полымя.
Приближалась вторая суббота, а с ней и надежда поведать о своем горе дядюшке. Бертран строил планы. Вечером он очнулся на койке. В палате было прибрано. Белье тоже оказалось свежим. Сам Бертран пытался вынырнуть из лекарственного дурмана, сквозь который всплыло смутное воспоминание о посещении дяди.
Кажется, это Поль отвел его вниз. Точно, Поль! Перед глазами Бертрана возникла комната для гостей: напротив него сидит дядюшка и о чем-то спрашивает, а он оцепенел и может лишь улыбаться в ответ.
И тогда Бертран окончательно сорвался. Бросался на стены, громил палату, завывал. После, обессиленный, упал на пол и уснул. Когда он проснулся, его била дрожь, тело затекло. Он застонал, поняв, что снова остался один и что выхода нет.
Затем прислушался: в соседней палате кто-то был. Оттуда доносились тихие звуки. Это карлица-монголоид ворковала сама с собой. Но Бертран того не знал, и нежный женский голос заворожил его, как пение сирен. Он кинулся к стене.
— Женщина! — завопил он, колотя кулаками и царапая побелку. Все напрасно. Между ними была не перегородка, а несущая стена из полнотелого кирпича под толстым слоем штукатурки.
Его крики, очевидно, перепугали соседку. Бертран упал на колени.
— Прошу, спойте еще! Пожалуйста… пожалуйста… Я не буду шуметь.
Но соседка умолкла.
Бертран так страстно желал вновь услышать ее голос, эту единственную его связь с миром женщин, что научился обуздывать себя, особенно по вечерам, когда начинал звучать однообразный, ровный и нежный напев. Тембр лишь слегка напоминал красивый и богатый голос Софи, но Бертран стал беспрестанно думать об этом голосе и говорить с ним, как говорил бы со своей возлюбленной.
— Спой мне, Софи, — повторял он. — Спой. Помнишь, как мы гуляли с тобой по вечерам, держась за руки? Помнишь?..
Карлица тихонько мычала свою мелодию, аккомпанируя его воспоминаниям.
Надежда на свидание с дядей также помогала ему держать себя в узде. Он разгадал секрет лекарства. Конечно, его подмешали в пищу. Всего-то и надо, что аккуратно вести счет проходящим дням и не есть в субботу.
Его уловка сработала. В день посещений он, несмотря на голод, не притронулся к еде и спокойно ждал. Наконец за дверью зазвучали шаги. Ключ скрипнул в замке, и дверь распахнулась.
Пришел Поль, тот самый здоровяк-санитар, что месяц назад не дал Бертрану сбежать из лечебницы.
И тут Бертран совершил ужасающий промах. Ему бы, словно под воздействием лекарства, покорно пойти за Полем и уже потом, внизу, излить свои беды Эмару. Вместо этого ослепленный жаждой мести Бертран набросился на ошеломленного санитара и наверняка убил бы его, если бы крики жертвы не привлекли внимание другого санитара, тут же кинувшегося на помощь товарищу. Сообща им удалось скрутить и связать пациента.
Послали за доктором Дюма. Всего лишь одна подкожная инъекция — и кроткого, тихого, глупо улыбающегося Бертрана переодели в чистое и повели вниз.
Когда действие успокоительного закончилось, Бертран понял, что опять упустил свой шанс. Следующего, возможно, не будет. Разозленный и разочарованный, он впился зубами в ножку стола и расщепил дерево. Покончив с мебелью, Бертран накинулся на постельное белье. После сжевал кожу снятых с ног башмаков и расправился с пуговицами на одежде. Согнул и завязал в узел ложку, единственный оставленный ему столовый прибор, и сокрушил оловянную тарелку.
И через две недели оказался с легкостью одурманен лекарством, хотя начал отказываться от пищи с четверга. Бертран выл от голода. В животе урчало. Он то и дело погружался в дрему и, очнувшись, понимал, что ему снилась еда. А потом в дверном оконце возник поднос с обильным и аппетитным обедом. Бертран знал, твердо знал, что сегодня суббота и нельзя есть ни крошки, однако не сумел устоять. Проглотил все до последнего кусочка.
Будто сквозь темное стекло, он увидел, как в палату вошел ухмыляющийся Поль.
Погром в комнате привел доктора Дюма в негодование.
— Больше никаких простыней и одеял. И как только свидание закончится, разденьте его догола. Пусть посидит так. Еду бросайте прямо на пол. Хватит с него тарелок!
Суп на пол не кинешь, а вот кусок мяса вполне для этого подходит. Так санитары обнаружили страсть Бертрана к мясу. Это стало их любимым развлечением: поморить его денек голодом, а потом бросить внутрь кость с остатками мяса на ней. Вооружившись кнутами и дубинками, они толпились в дверном проеме и смотрели, как Бертран набрасывается на пищу, и жует ее, распластавшись на полу, и заглатывает мясо большими кусками, и с хрустом разгрызает кость, добираясь до мозга. Чтобы стало еще веселее, они подкидывали ему кости потверже. Как-то бросили ему толстую бедренную кость лошади. Скрежет клыков, впивающихся в нее, прозвучал особенно зловеще. Санитары вздрогнули и в ужасе отступили в коридор. А дверную ручку они и без того никогда не выпускали из рук, готовые захлопнуть дверь при малейшей опасности.
В том, что пациент опасен, они не сомневались: бывало, Бертран, растревоженный их смехом или взбудораженный аплодисментами, внезапно кидался на них. Однажды ему даже удалось выставить голову наружу, и прижатая санитарами дверь чуть не сломала ему челюсть. В другой раз он успел вцепиться в штанину Поля и разорвал ее зубами, но не добрался до плоти.
Полю все это окончательно надоело. Он давно мечтал о мести. Когда доктору Дюма случилось уехать из лечебницы, Поль сразу отправился на конюшню за тяжелым кнутом. Бертрана одурманили успокоительным и хлороформом и привязали к койке. Тело бессознательно обмякло в путах. Его били по очереди то тонким концом кнута, то толстым кнутовищем. Бертран тихо стонал.
Но так и не пришел в себя, хотя кровь хлестала из рассеченной и посиневшей кожи спины. Потом он несколько недель круглые сутки мучительно страдал от боли.
Санитарам отчего-то больше всего нравилось издеваться именно над ним. В те дни, когда Бертрана намеренно не кормили, прежде чем одурманить, они собирались под дверью палаты и слушали его неистовое завывание. Это их забавляло. Когда же под действием лекарства он больше не мог сопротивляться, они находили странное удовольствие, избивая свою жертву.
Бертран стал послушен, как больное дитя. В ванной санитары изо всех сил терли его, бросали ему в глаза пригоршни мыльной пены и дергали за нос. Он лишь глупо улыбался в ответ. Один из санитаров придумал особенно изощренную шутку. Он вбил в подошвы башмаков Бертрана гвоздики остриями внутрь. Оглушенного болью пациента провели по коридору и вниз по лестнице в комнату для свиданий, где его ожидал Эмар.
Бертран не ответил на приветствие дядюшки. Просто угрюмо стоял, пока тот силой не усадил его. Галье попытался расспросить Бертрана, как ему живется в лечебнице, но тот только злобно глядел в пустоту. А когда его лицо исказила бессмысленная улыбка, Эмар встревожился еще сильнее.
Он попробовал быть поласковее:
— Ответь. Ответь мне. Пожалуйста, Бертран, поговори со мной. Посмотри на меня, Бертран. Ты на меня сердишься? Неужели я желал и желаю тебе плохого? Ни один отец так не боролся за собственного сына. А ведь между нами, в конце концов, нет ничего общего. Я не связан родственными узами ни с твоей матерью, ни с твоим отцом. Но ты попал ко мне, и я тебя полюбил и почувствовал, что обязан о тебе заботиться. Ты стал моим, как прибившаяся к прохожему дворняжка, не желающая отставать.
Бертран улыбнулся.
— Молодец, улыбаешься, — продолжал Эмар. — А ведь это на меня обрушились вся боль и разочарование. Это я сейчас должен обижаться на твою неблагодарность.
Улыбка исчезла с лица Бертрана. Он нахмурился.
— Ладно, сердись, если хочешь. Потом сам об этом пожалеешь. Прощание близко. Из Ватикана пришла диспенсация, и я вскоре приму сан. И тогда меня могут куда-нибудь послать. В Китай, в Южную Америку. А ты останешься здесь. Ты мне хотя бы писать будешь? Думаю, что нет. Ты не ответил ни на одно мое письмо. Зверь в тебе поглотил все, чему я так долго тебя учил. Помнишь, как мы запоминали алфавит, вырезая буквы из цветной бумаги, а ты потом думал, что все красные буквы — это А, потому что у нас А была красной?
Итак, ты не желаешь простить меня за то, что оказался здесь, хотя тут тебе определенно лучше, чем в тюремной больнице? Это прекрасная, дорогая лечебница, в ней ты можешь прогуляться по саду, здесь о тебе заботится знаменитый врач, он вылечит тебя, если излечение осуществимо, что вряд ли, но вдруг…
Да поговори же ты со мной! Ответь мне! Или ты онемел? — Эмар вскочил и прокричал это в бесстрастное лицо воспитанника. Галье размахивал руками, увещевал, умолял.
Затем смахнул со лба пот. «Я сам схожу с ума, — подумал он. — Видно же, что бедный мальчик витает где-то далеко».
Эмар вышел в коридор и позвал санитара.
— Прощай, Бертран. Кто знает, увидимся ли мы вновь.
Бертран, больше не взглянув на дядюшку, покорно позволил отвести себя наверх.
Эмар постучался в кабинет Дюма. Доктор с улыбкой приветствовал его.
— Входите, месье Галье. Располагайтесь. Выпейте со мной стаканчик портвейна.
Эмар был счастлив для разнообразия посидеть и поговорить с нормальным человеком. Доктор Дюма действительно казался добрым и умным, с ним было по-настоящему легко.
— Как там ваш племянник, месье Галье?
Эмар пригубил портвейн и печально ответил:
— Боюсь, его состояние оставляет желать лучшего. — Он покачал головой и вздохнул.
— Что поделаешь, — сказал врач, — сами понимаете, такие случаи чертовски тяжело лечить. Необходимо подавить животную сторону пациентов, мешающую им наслаждаться жизнью. Они же, в свою очередь, начинают злиться на весь мир, мрачнеют или смеются над вами, стоит лишь отвернуться… Позвольте-ка наполнить ваш стакан.
После нескольких стаканчиков портвейна Эмар размяк.
— Меня чрезвычайно беспокоит, нет, ранит в самое сердце то, что он не желает даже поговорить со мной. И почему он не отвечает на мои письма?
— Ох, месье Галье, с этим нужно просто смириться. Благодарности и среди здоровых не сыщешь. На меня он и вовсе волком смотрит. Однако вы сами понимаете, сколько сил и заботы мы здесь вкладываем в своих подопечных. Какую жизнь ведем — забываем о себе, жертвуем всем, стремясь облегчить страдания…
— Дорогой мой доктор, вам надо гордиться своим благороднейшим занятием. Избавлять тем или иным способом мир от зла… К слову сказать, я скоро приму сан.
— Неужели? — поразился доктор, но мгновенно поправился: — Тогда позвольте мне вас поздравить. Могу ли я поднять бокал за ваше будущее? Нет ничего лучше пути священнослужителя. Сам я не из породы наглецов-медиков, бесстыдно поносящих Церковь. Будучи ученым, я стараюсь смотреть на все без предубеждения, а как человек, исследующий души, я не сомневаюсь в истинном могуществе религии.
Эмар был польщен. Он столько времени тайно лелеял подобные мысли. Неужели он может довериться доктору Дюма?
— Мне вот что интересно. Конечно, я знаю, что перед вашими пациентами, если они того пожелают, служат мессу, но насколько… упорядоченно вы пытаетесь открыть их сердца Богу? Ну, к примеру, вы учите их молиться?
— Вам, месье, удалось затронуть одну из волнующих меня тем. Я медленно, но верно работаю над этим.
— В былые дни я сам пренебрегал делами духовными, — продолжал Эмар, — но ужасы последнего года убедили меня в необходимости вернуться к простой вере наших предков, к тому, что в нынешней премудрости и гордыне нашей зовется грубыми предрассудками.
Доктор Дюма понимающе кивнул и наполнил стаканы.
— Мне хочется кое о чем вас спросить, — обратился к нему Эмар.
— Пожалуйста.
— Вы внимательно наблюдаете за моим племянником?
— Откуда сомнения, месье?
— Я спрашиваю это не в порядке критики, — поспешил заверить Эмар, — но вам, конечно, известно, что он долгие годы находился под моим попечением.
— Да.
— Вы когда-нибудь видели, как он меняется?
— Меняется? О чем вы?
— Превращается в волка.
— В волка?
— Ну да. Вы же, безусловно, поняли, что он страдает ликантропией?
— Определенно, но ликантропия — это только название психического заболевания.
— Простите, однако это настоящее превращение.
— Оставьте, месье Галье. Ваш племянник просто находится в плену самообмана. Надеюсь, вы не пытаетесь меня убедить в обратном? Видите ли, его заболевание довольно распространено. Я, честно говоря, изучал его. Перевернул кипы свидетельств, оставшихся после средневековых судов над оборотнями. И все они подтверждают одно: никому и никогда не доводилось увидеть вервольфа собственными глазами, в то время как обвиняемые признавались, что лишь чувствовали себя волками.
— Что бы там ни писали, — ответил Эмар, — я не готов с вами согласиться, потому что тоже углублялся в изучение вопроса и ничуть не сомневаюсь, что мой племянник как превращался в волка, так до сих пор в него и превращается.
— Вы сами видели, как он это делает? — улыбнулся доктор.
— Нет. Но все равно убежден, что так оно и есть.
— Вы видели волка? — не сдавался доктор Дюма.
— Нет, но…
— Тогда вы, кажется, отличаетесь легковерностью.
Раскрасневшиеся от выпитого собеседники постепенно повышали голоса. Доктор больше не мог притворяться, что уважает религию — и принялся ругать католическую церковь за сожжение оборотней. Эмар Церковь защищал, настаивая, что костры были чем-то вроде санитарной обработки во время распространения инфекции. Каким-то образом разговор перескочил на Д. Д. Хьюма[158]. Доктор Дюма вспомнил, что тот давал сеансы императрице Евгении[159], и они немного отвлеклись на обсуждение сего факта. Хьюм заставлял губную гармонику подниматься в воздух, и та сама собой наигрывала мотив.
— Вы верите в это? — спросил доктор.
— Церковь говорит, что сие есть происки лукавого, хотя подобные явления описаны в житиях святых. В любом случае, я бы предпочел увидеть это своими глазами.
— Хорошо, — согласился доктор Дюма. — Все именно так. Но мы-то с вами тоже обсуждаем явление, которое никто не видел своими глазами. И вы не видели!
— Верно, волка мне увидеть не довелось. Но у меня имеется сколько угодно доказательств. К примеру, у меня есть, точнее была, серебряная пуля, которую выпустил в волка наш деревенский лесничий, после чего я извлек ее из ноги племянника. Я видел, что Бертран творил. Знал про его сны. Собственными глазами смотрел на оставленные им отпечатки лап — и не я один. Слышал его дыхание и фырканье.
Есть и более необычные вещи. Хотите, расскажу об одной из них? Стоит ему сорвать с себя одежду, когда он ощущает, что вот-вот перевоплотится, он чувствует непреодолимое стремление помочиться. Он сам поведал мне об этом. Посему я вас спрашиваю: неужто мой больной ликантроп читал Петрония и иные, менее распространенные источники, из которых узнал об этой общей для вервольфов черте, предшествующей метаморфозе, и откуда появилось его желание соблюдать описанный иными людьми порядок? Чепуха получается.
— Я не совсем понимаю, к чему вы ведете, месье. Не отрицаю, делюзия и ее симптомы присутствуют у всех жертв заболевания. Даже не так: симптомы у всех одинаковые. Если мочеиспускание считать одним из них, то, конечно, все больные будут мочиться, как тряслись бы в лихорадке, будь у них дизентерия. Сам же акт мочеиспускания легко объясняется тем, что обнажившийся человек сразу начинает мерзнуть. Понижение температуры естественным образом приводит к желанию организма избавиться от излишнего количества жидкости, какое требовалось бы в тепле. Это сродни внезапной конденсации паров в атмосфере, приводящей к выпадению осадков.
— А почему бы не свести это к внезапному стремлению избавиться от излишка жидкости по причине того, что в волке ее вообще меньше? Господи, доктор, вы полагаете, что я двадцать лет прожил бок о бок с этим созданием и не рассмотрел каждую мелочь со всех сторон? Десятилетия не хватит, чтобы вкратце пересказать всю историю происхождения и таинственной природы сего существа. Я, как и вы, всей душой противился фактам. Я по натуре недоверчив.
— Приму это утверждение, не требуя доказательств. Только я никак не возьму в толк, что именно могло вас столь сильно изменить. С чего вы вдруг решили, что он действительно превращается в волка? Это абсурдно per se![160]
— Решил по определенным причинам. Многим, иногда малоприметным, но все вместе они слились в неопровержимое доказательство, заставившее меня изменить точку зрения. Взять хотя бы его появление на свет в канун Рождества.
— Не сомневаюсь, статистические данные покажут, что тысячи людей, рожденных в этот день, ничем не отличаются от остального человечества, — охотно подхватил мысль Дюма. — Может, еще и к астрологии прибегнете?
— Пока нет, — ответил Эмар. — Но наука до сих пор не в силах объяснить множество особенностей человеческой личности и эмоций.
— Так вы желаете установить границы для науки? — возмутился Дюма. — Человек состоит из химических элементов, и когда-нибудь ученые выведут химическую формулу любви!
— Вздор! — огрызнулся Галье. — Человек — это союз духа и материи. Скажите, что именно покидает тело в тот миг, когда человек находится между жизнью и смертью? Неужто химический элемент?
— Нет, но химия тела при этом изменяется.
— Ха, ха! Здесь мы сталкиваемся с существенным изменением формы.
— Что вы имеете в виду?
— То, что переход человеческой формы в волчью недалеко ушел от изменений при переходе из жизни в смерть.
— Месье, это пустая риторика!
— Вам нечего больше ответить? Не можете привести научные доказательства?
— Приятель, — взревел Дюма, — подумайте, что вы несете: человек может превратиться в волка! В волка, поймите, в животное без потовых желез, чьи кости и зубы, то есть твердые тела, построены совершенно по-другому, как и каждая клеточка, каждый волосок и нерв…
— Почему не может? — сказал Галье и взмахнул бокалом. — Разве подобных перемен нет в природе? Вы никогда не видели, как вода превращается в лед?
— Ох, хватит уже.
— Вам не доводилось наблюдать, как два газа неожиданно преобразуются в снежную взвесь?
— Да, но…
— А как гусеница становится прекрасной бабочкой?
— Да, но на это требуется целый месяц.
— Неужели время тут имеет значение? И разве его бесконечность неделима? Если колесо способно вращаться один раз в год, неужели не сможет оно совершить миллион оборотов в секунду? Жизнь некоторых созданий длится мгновение, тогда как другие живут и по сотне лет.
— Тут я с вами спорить не буду, — медленно произнес Дюма, — однако вы упомянули бабочку. Вы когда-нибудь видели, как она опять превращается в гусеницу?
— Нет, но если, как вы сказали, жизнь — это химическая реакция, то имеются ли у нас доказательства, что эта реакция необратима?
— Нет, — протянул доктор, начиная вспоминать правила профессиональной осторожности. Никогда не стоит спорить с пациентом. Он принялся медленно менять позицию, постепенно начиная соглашаться с Эмаром.
— А еще у него сросшиеся брови, — настаивал Галье.
— Да, я заметил, но принял это за признак наследственного сифилиса.
— Это не сифилис, — сказал Эмар. — А его ногти?
— В этом точно ничего необычного нет.
— Зубы плотно пригнаны друг к другу и даже заходят один на другой.
— Есть такое, но строение челюстей человека весьма разнообразно.
— А волосатые ладони?
— Вот это и вправду странно.
— Однако не должно нас удивлять, если посмотреть не на каждый признак отдельно, но на все вместе. Кажется, что из него то тут, то там проглядывает зверь. Хотя убедительнее всего не внешность, а его поведение.
— Хм, знаете, месье Галье, вы говорите невероятно интересные вещи. Ваша теория необъяснимых проявлений темной и выходящей за грани психологии обладает размахом и новизной. Вторжение, полное или частичное, низших форм жизни в человека. Однако, пусть ваши идеи и выглядят весьма привлекательными, я не моту безоговорочно согласиться с вашими выводами. Но я намерен изучить этот вопрос.
С этой минуты диалог начал принимать все более и более односторонний характер и все больше льстил Эмару. Наконец он, оставив всякие сомнения в том, что лечебница доктора Дюма является идеальным местом для Бертрана, собрался уходить. Однако же, он вдруг слегка испугался за самого врача.
— Надеюсь, доктор Дюма, у вас получится излечить его, но хочу дать вам маленький дружеский совет. Будьте осторожны. Он опасный преступник. Не теряйте бдительности. Если захотите к нему подойти, не забудьте перекреститься.
— Благодарю за рекомендацию, — ответил доктор. — Обязательно ею воспользуюсь. Желаете ли вы получать известия о результатах моих наблюдений?
Он стоял на пороге кабинета, глядя, как Эмар, хромая сильнее обычного, уходит прочь.
— В этой семейке пациентов-то двое, — тихо хмыкнул он вслед посетителю.
В те минуты, когда ярость или дурманящие средства не застили разум Бертрана, он находил радость жизни лишь в двух вещах — в пении Софи и в надежде отомстить Полю. Но вот о жалобах дядюшке теперь не стоило мечтать даже во сне. Стало ясно, что Эмара ни за что не пустят на верхний этаж, как и ему не дадут спуститься вниз без лекарства, которое либо подмешают в пищу, либо введут уколом. Написать письмо тоже не было никакой возможности: у него не имелось ни пера, ни бумаги, ни чернил. И даже если удастся что-то написать, то как отправить?
Нередко, когда Бертран принимался горевать о своей несчастной судьбе, из-за стены раздавалось тихое пение Софи. И тогда его печаль светлела. Глаза наполнялись слезами. «Софи, — повторял он про себя, — Софи». И бросался на голый матрас, лежащий теперь на полу, потому что ни мебели, ни белья в палате уже не было, и представлял Софи в своих объятиях. Ее черные кудри щекотали ему лицо, мягкие, влажные губы прижимались к его губам, тонкие руки ласкали его тело. Видение исчезало, как только смолкало пение. И тогда он молил: «Спой еще, Софи. Спой опять». Случалось, властные, протяжные ноты начинали звучать вновь, и Бертран почти не сомневался, что девушка знает о его присутствии в соседней комнате, знает, как сильно он хочет услышать ее пение.
Вскоре ему стало мало лишь слушать, лишь мечтать о Софи. Он был просто обязан пробраться к ней. Но как? В голове его роились сотни дерзких планов, но он отверг их все. У него, однако, вдруг получилось прыгнуть к овальному окошку, зацепиться за подоконник и почти сесть на него, упираясь пальцами ног в стену. Жаль только, что на стене не нашлось поддержки для них. И он процарапал штукатурку ногтями и обломком кости. Двух маленьких выемок оказалось достаточно, и наконец Бертран уселся на подоконник.
Ему сопутствовала удача. Рама и решетка окна были плохо закреплены. По всей видимости, рабочий, делавший над окном щель для постоянной вентиляции, чуть расшатал раму и поленился исправить свою ошибку. А может, само дерево ссохлось от времени. Во всяком случае, у Бертрана появилась возможность схватиться за прутья и вытащить переплет оконца целиком, как пробку. Убедившись, что окно поддается, он принялся лихорадочно ждать ночи.
Справа от оконца Бертрана находился скат крыши с выступающим мансардным окном. Оно, очевидно, вело в комнату Софи. С другой стороны тянулась глухая стена. Перелезть через нее вряд ли удастся, но до мансардного окна он добраться сможет. Крыша крутая и опасная, но он справится.
Дрожа от нетерпения, Бертран начал готовиться: скатал матрас длинной стороной в рулон и стал проталкивать его в окошко, пока тот не упал на землю в саду. «Мы спрыгнем на него, — решил он. — Либо угодим на матрас и сбежим вместе, либо вместе погибнем — недаром мы столько раз говорили о самоубийстве».
Так вышло, что ту ночь Полю захотелось провести с женщиной. К несчастью, пациентку, к которой он уже несколько лет наведывался, родственники недавно забрали из лечебницы. На этаже остались только две больные, но они считались, так сказать, собственностью других санитаров. Поль погрузился в раздумья: то ли предпочесть столкнуться с ревностью и гневом товарища, то ли тайком выбраться из заведения в деревню. И тут ему на ум пришла карлица. Он счел, что это будет забавно. Поль знал, как она любит конфеты. Он прихватил с собой сладости, не ожидая встретить сопротивление, — и, конечно, не встретил.
Однако его счастье оказалось быстротечным. За окном раздался шум. Едва Поль обернулся, как на него кинулось что-то черное. Борьба длилась мгновение. Из разорванной артерии санитара мощной струей брызнула кровь, растекаясь по полу. Потом давление спало. Кровь сочилась из шеи все более медленными толчками.
Насытившийся Бертран в неистовом восторге обессиленно лежал на полу. Наконец он поднялся и, с трудом приходя в себя, оглядел темную комнату. В свете луны он заметил странную смуглолицую голую карлицу с седыми космами. Она сидела на кровати и сосала леденец, и был он такой вкусный, что лакомка мычала от удовольствия.
Разум Бертрана отказывался это принять.
— Софи! — изумленно воскликнул он. — Что они с тобой сделали?
В коридоре послышались голоса. Без долгих размышлений, Бертран подхватил карлицу на руки, воскликнув:
— Давай же, Софи, умрем вместе!
Крепко сжимая ее в объятиях, он вскочил на подоконник и спрыгнул вниз, на матрас в саду.
— Самая прибыльная моя пациентка, — вздохнул доктор Дюма.
Расследования — вещь по меньшей мере досадная, и потому доктор Дюма, пока позволяло время, скрывал тройную смерть. В конце концов он заполнил соответствующие бумаги, проставил в них разные даты и похоронил покойников с промежутком в неделю. Церемоний провели только две. Дюма давно хотелось вскрыть умственно отсталую карлицу, и он испросил разрешения у маркиза, пообещав заплатить за труп обычную цену: «Старый скряга будет счастлив заработать пару франков».
Но старый скряга не согласился. «Останки маркизы де ла Рош-Ферран должны покоиться в семейном склепе», — гордо и твердо ответил он. И если подумать, то почему бы и нет? Живя в родовом замке, она доставляла бы одни неудобства. Но кого она могла потревожить или смутить в родовой усыпальнице?
Барраль де Монфор, разыскивавший Бертрана, опоздал в лечебницу всего на неделю — нужно было подлечить глаз. Услышав, что Бертран скончался, Барраль принялся проклинать судьбу. О, он так жаждал отомстить!
— Смерть, — горестно воскликнул он, — украла у меня мою любовь и мою ненависть!
Он захотел увидеть могилу. Санитар, соблазнившийся на взятку, отвел его на кладбище и указал на холмик.
Барраль склонился над свежим дерном и, разъярившись от постигшего его разочарования, злобно пробормотал:
— Вот бы тебя, пса, выкопать и плюнуть в лицо.
На этом наши пояснения к рукописи Галье завершаются.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приблизительно в описываемый здесь период, то есть в 1875–1880 годах, особую важность приобрел вопрос городской санитарии. Великие открытия в микробиологии и лучшее понимание причин возникновения заболеваний, а также достижения санитарно-технического строительства предъявили новые требования к муниципалитетам, обязав их следить за гигиеническими условиями в густонаселенных районах.
Среди прочих проблем бурно обсуждалось захоронение мертвых. Привычные процедуры были объявлены негигиеничными, и сторонники кремации тел требовали от государства не просто законодательно разрешить ее, но сделать единственно возможным вариантом. Давно сложившаяся и практиковавшаяся традиция бросать мертворожденных и эмбрионы в отхожие места и избавляться от них частным образом стала чуть не повсеместно считаться преступной.
История городского управления показывает, как мало внимания уделялось этим предметам до девятнадцатого века — хотя одни из первых попыток продемонстрировать, насколько вредоносны расположенные в пределах городской черты кладбища в больших городах, были предприняты еще докторами Фернелем и Улье Парижским[161], заявлявшим об опасности Кладбища Невинных, где с 1186 года хоронили парижских покойников. Там были огромные ямы, куда плотными рядами слой за слоем укладывались гробы, и яму не засыпали землей, пока в ней не погребали, точнее, складировали тысячи две мертвецов.
За время своего существования это кладбище, распухшее от прироста в два миллиона тел, поднялось на три метра над уровнем окружающей территории, а местами стало выше собственной ограды. Старые ямы частенько разрывали, кости выкидывали наружу, сгребая в большие кучи. Позже часть этой невероятной горы человеческих останков перенесли в парижские катакомбы, сеть подземных карьеров, где некогда добывался камень.
Хуже того, это поразительное кладбище окружала вместительная выгребная яма, в которую жители окрестных кварталов привыкли выбрасывать отходы. В те дни уборные располагались по большей части лишь на верхних этажах; когда их чистили, то сливали находившуюся в них массу в ров у кладбища, а тот крайне редко подвергался обработке.
Эта часть Парижа задыхалась от миазмов, и жители жаловались, что им даже птичку в клетке не завести — приносишь в дом, и бедняжка гибнет через неделю. В погреб невозможно было спуститься со свечой или лампой: пламя сразу гасло в отравленной атмосфере подвала. Там частенько располагались мастерские бочаров и других ремесленников, и у работающих в них людей случались сильнейшие приступы, едва не доводившие их до смерти. Постепенно население покинуло прилегающие к кладбищу улицы, особенно после того, как выяснилось, насколько ядовита скапливающаяся на стенах влага: от одного соприкосновения к ней на коже вздувались дурнопахнущие гнойные волдыри.
Несмотря на это, город всегда полнился бедняками, которые могли найти приют лишь около этого ужасного кладбища. Многие их них выкапывали там землянки, где и жили, хотя несложно представить, как это сказывалось на их здоровье.
Не исключено, что обычай хоронить людей в церквях был еще пагубнее. Ограниченность пространства и алчность, нередкая среди служителей культа, приводили к тому, что тела извлекались из склепов ранее их полного разложения и помещались где-нибудь в соседних помещениях, например, на чердаке.
В 1870 году работа де Фрейсине[162] по жилищно-коммунальной санитарии вкупе с необходимостью расширить парижские кладбища вызвала оживленную дискуссию по поводу создания безопасных захоронений. Недавно окончившаяся франко-прусская война также оставила после себя проблему гигиеничного погребения многочисленных жертв.
Нантский архитектор месье Купри-младший, среди прочих, запатентовал système Coupry[163], проект гигиеничного кладбища, и собирался построить собственное Cimetière de i'Avenir[164]. Его метод испробовали на одном участке кладбища в Сен-Назере. Некоторое количество тел захоронили там над особой конструкцией, позволяющей воздуху циркулировать под гробами и не дающей подземным водам затапливать их. Такое же количество покойников похоронили рядом так, чтобы это позволяло сравнивать результаты в течение нескольких лет. В системе Купри ядовитые газы проходили по подземным трубам и попадали в печь, где сгорали. Для большей эффективности покойников хоронили в простых деревянных гробах без применения антисептиков, бальзамирующих веществ и добавления стружек и угля, так как основным назначением системы было быстрое превращение трупа в скелет с полным исчезновением подверженной разложению плоти.
Конечно, широко известно, что Французская революция ввела практику запрета церковных захоронений, издав 23 прериаля XII года Республики[165] особый закон; также было запрещено устраивать новые кладбища в черте города. Стало нельзя ставить один гроб на другой, а за постоянное место начали требовать немалые деньги, иначе через пять лет в могилу помещали другого покойника. Власти вдобавок установили определенную глубину могилы, чтобы вредоносные газы не выходили на поверхность и не отравляли воздух.
С той поры во Франции, особенно в департаменте Сены, не прекращали заботиться об улучшении кладбищ и практически сразу создали комиссию по проверке системы Купри. Доклад с подробным отчетом был опубликован доктором Бруарделем и господином Дюменилем[166].
Для этих целей члены вышеупомянутой комиссии, назначенной Commission d'Assainissement[167] отдела здравоохранения департамента Сены, эксгумировали десять тел: пять, похороненных по системе Купри, и пять из контрольной группы — и произвели полный осмотр.
Вот отрывок из отчета:
«Господин С… (Батист), 53 года.
Умер 20 марта 1876 г. Похоронен 21 марта 1876 г. Эксгумирован 25 мая 1881 г. Эксгумирован повторно 9 июня 1891 г.
Длительность погребения — 5 лет. На неподготовленном участке кладбища.
Тело (см. фотографию)[168] в полной сохранности. Плоть превратилась в трупный жир. Зловонный запах.
Вскрытие произведено профессором Бруарделем.
Все внутренние органы в районе груди и живота истончились и сплющились. Лишь сердце сохранило некоторый объем и осталось узнаваемым.
Процесс разложения, судя по всему, прекратился. Очевидно, тело останется в таком состоянии на неопределенный срок.
В гробу обнаружено единственное насекомое из семейства стафилинидов[169] — Philonthus ebeninus».
Сравним с состоянием тела, извлеченного из экспериментального захоронения, где оно пребывало в течение года:
«Господин Б… 66 лет (см. фотографию)[170].
Умер 21 мая 1880 г. Похоронен 22 мая 1880 г. Гиперемия головного мозга. Длительность погребения — 1 год 18 дней.
Тело не было завернуто в саван.
Запах отсутствует.
Скелет практически освободился от плоти.
Голова отделена от тела.
Разложение плоти и мягких тканей завершено.
Внутри гроба многочисленные насекомые. Anthomysides, Ophira cadaverina и Lemostoma. Одна мушка, вполне жизнеспособная, только что вывелась из многочисленных личинок Ophira».
Впрочем, читателю этой книги едва ли интересны такого рода подробности[171]. Мы же привели отрывок из отчета, поскольку он имеет некоторое отношение к нашему повествованию.
Среди извлеченных из земли тел было и такое:
«Господин К… (Бертран). Внутримозговое кровоизлияние. (Фотография отсутствует).
Умер 9 августа 1873 г. Похоронен 10 августа 1873 г. Эксгумирован 10 июня 1881 г.
Длительность погребения — 8 лет и 2 месяца.
О данном случае сообщено кладбищенскому смотрителю, известившему отдел уголовной полиции. По всей видимости, имело место разграбление могилы или мрачная шутка fossayeurs[172].
Тела господина К… в гробу не обнаружено. Вместо него лежит собачий труп, разложившийся лишь частично, несмотря на восемь лет пребывания под землей.
Плоть и шерсть со шкуры превратились в сплошную жировую массу неопределенного состава (трупный жировоск), от которой исходит удушливый запах.
Насекомые отсутствуют».
ОБ АВТОРЕ

Писатель и сценарист Гай Эндор (наст. имя Самуил Гольдштейн, 1900–1970) родился в Нью-Йорке в семье бывшего шахтера, изобретателя и биржевого игрока Исидора Гольдштейна. Семья, жившая в Нью-Йорке и Питтсбурге, часто с трудом сводила концы с концами; мать писателя Малка Гальперн покончила с собой, когда маленькому Сэму было четыре года. После этого, сменив фамилию, отец поместил детей в методистский приют в Огайо. Удачно проданное изобретение принесло Исидору некоторые средства; решив воплотить в жизнь мечту покойной жены о хорошем образовании для детей, он отправил будущего писателя, его брата и сестер в Вену, где они провели пять лет под присмотром французской гувернантки-католички. Однако, когда средства отца исчерпались, а сам он исчез, дети были вынуждены вернуться в США и поселились в Питтсбурге.
Несмотря на финансовые трудности, Эндору удалось скопить достаточно денег, чтобы поступить в Колумбийский университет; по воспоминаниям писателя, порой ему приходилось «сдавать» свою койку более богатым студентам и самому спать на полу. В 1923 г. Эндор получил степень бакалавра, в 1925 г. — магистра (европейские языки).
В 1929 г. Эндор опубликовал перевод Альрауне Г. Г. Эверса. В том же году вышла его первая книга, биография Казанова: Жизнь известная и неизвестная. За ней последовали роман Человек из чистилища (1930), биография Жанны д'Арк Меч Господень (1933) и принесший автору славу Парижский оборотень (1933), ставший бестселлером — по мнению Б. Стэблфорда, «главный роман о вервольфах». Отметим, что в книге частично обыгрывается реальная история французского сержанта-некрофила Ф. Бертрана (1823–1878), подробно описанная, в числе прочих, Р. Крафт-Эбингом.
Заказ на новую книгу позволил Эндору провести некоторое время на Гаити за сбором материалов для антиколониального романа Бабук (1934), получившего прохладные отзывы критики.
Перебравшись со своей женой Генриеттой Португаль в Голливуд, Эндор с 1935 г. работал над сценариями и сценарными разработками многочисленных кинофильмов, начиная с классики кинематографа ужасов — Знака вампира Т. Браунинга (1935) и Безумной любви (Рук Орлака) К. Фрейнда (1935), американского дебюта Питера Лорре. За сценарий фильма История рядового Джо (1945) Эндор и его соавторы были номинированы на «Оскар». Триллер Эндора Мне кажется, леди (1946) лег в основу известной ленты О. Премингера Водоворот (1949) по сценарию Б. Гехта.
Эндор увлекался йогой, мистикой, теософией, вегетарианством, гипнозом, выступал с критикой вивисекции. Еще в университете он познакомился с левыми политическими идеями и всю жизнь оставался убежденным марксистом, а в голливудские годы состоял в коммунистической партии, писал статьи для левых изданий и публиковал памфлеты, резко критиковавшие расистские тенденции в американском обществе. В период «охоты на ведьм» Эндор привлек к себе внимание Комитета по расследованию антиамериканской деятельности, оказался в черном списке ряда киностудий и смог продолжать работу в Голливуде лишь под псевдонимом своего родственника Гарри Релиса. После публикации доклада Н. Хрущева о преступлениях сталинского режима (1956) писатель отошел от левого движения.
Шумный успех сопутствовал выходу книги Эндора Король Парижа (1956, переведена на русский) об отце и сыне Дюма.
В 1960-х гг. Эндор опубликовал романизированные биографии Вольтера и Руссо (Вольтер! Вольтер! 1961; переведена на русский как Любовь и ненависть) и де Сада (Святитель Сатаны, 1965), а также пьесу Зовите меня Шекспиром (1966). Писатель скончался в Лос-Анджелесе в 1970 г.
* * *
Переводчик приносит благодарность Е. Лаврецкой за ряд сведений, использованных в примечаниях к главам 1–6, а также перевод эпиграфа к книге.
Примечания
1
Элейна из Астолата — героиня Артурианы, а также баллады А. Теннисона (1809–1892) «Волшебница Шалот».
(обратно)
2
Люксембургский музей (фр.).
(обратно)
3
Музей Клюни, или Музей Средневековья.
(обратно)
4
De Rerum Natura («О природе вещей») — дидактическая поэма римского поэта и философа I в. до н. э. Тита Лукреция Кара, в которой излагается учение греческого философа-материалиста Эпикура.
(обратно)
5
Пламенная юность («Flaming Youth», 1923) — роман американского писателя и журналиста С. Адамса (1871–1958), написанный под псевдонимом «Уорнер Фабиан» и посвященный сексуальной революции «Века джаза». Вскоре после выхода в свет был экранизирован.
(обратно)
6
Вымышленная автором цитата, которая по недоразумению часто приписывается т. наз. «папирусу Присса» (ок. 1991–1783 до н. э.), хранящемуся в Национальной библиотеке Франции.
(обратно)
7
Грязные американцы (фр.).
(обратно)
8
Д. Хислоп (1854–1920) — американский философ, исследователь паранормальных явлений.
(обратно)
9
Празднование проводилось ежегодно 15 февраля в пещере Луперкал (лат. Lupercal) у подножия Палатинского холма, где, по преданию, волчица выкормила Ромула и Рема, основателей Рима.
(обратно)
10
Д. Д. Фрэзер (1854–1941) — британский антрополог, этнолог и культуролог, автор 12-томного труда «Золотая ветвь».
(обратно)
11
Штуковина (фр. арго).
(обратно)
12
Доброго дня, господа (фр).
(обратно)
13
Отдадим за пятерку, месье (фр).
(обратно)
14
Хорошо, за пятерку (фр).
(обратно)
15
Речь идет о предметах, обычно используемых в католическом обряде предания анафеме.
(обратно)
16
В этом месте на полях манускрипта чужим почерком написано: «Quel cauchemar!». «Какой кошмар!» (Прим. авт.).
(обратно)
17
Второй лейтенант (sous-lieutenant) — первичное офицерское звание во французской армии, присваивается по окончании военного училища.
(обратно)
18
Бой Демпси с Карпантье — «Бой столетия», боксерский поединок на звание чемпиона мира в тяжелом весе между французом Ж. Карпантье и американцем Д. Демпси (2 июля 1921), победу в котором одержал менее техничный, но более выносливый Демпси.
(обратно)
19
1848 год — год буржуазно-демократической революции во Франции.
(обратно)
20
В кельтских языках pit означает точку, место, а также пик. Питаваль и Питамон могут переводиться как «Вершина вниз по течению» и «Вершина вверх по течению» или же «Место в долине» и «Место на холме» (Прим. авт.).
(обратно)
21
Э. Виолле-ле-Дюк (1814–1879) — французский архитектор, искусствовед, историк архитектуры, автор 10-томного толкового словаря французской архитектуры XI–XVI вв.
(обратно)
22
Барбет — площадка под артиллерийское орудие на внутренней стороне бруствера.
(обратно)
23
Эй! Ну-ка! (фр.).
(обратно)
24
Ф. Гайо де Питаваль (1673–1743) — французский адвокат, известный тем, что первым начал публиковать сборники криминальных хроник и отчетов.
(обратно)
25
Не так давно, в 1903 году, в Германии вышла серия книг «Pitaval der Gegenwart» («Современный Питаваль»). А совсем недавно на книжных прилавках появился «Der Prager Pitaval», или «Пражские истории о преступлениях» (Прим. авт.).
(обратно)
26
Евангельская цитата (Лк. 18:16, Мф. 19:14).
(обратно)
27
Имеется в виду Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) — первый президент Французской республики, а позднее император.
(обратно)
28
«Солидарность» (фр.).
(обратно)
29
Благодаря этому заявлению о краже Фавру и стала известна вся история, которую он, вместе с другими подобными случаями, впоследствии включил в свой сборник — в главу под названием «Пустите детей приходить ко мне…» (Прим. авт.).
(обратно)
30
Здесь: «Это беспутство, разврат!» (фр.).
(обратно)
31
Родильный дом (фр.).
(обратно)
32
«Готский альманах» — наиболее известный справочник по генеалогии высшей европейской аристократии и царствующих домов, ежегодно издававшийся в 1763–1944 гг. в немецком гор. Гота.
(обратно)
33
Э. Лепеллетье (1846–1913) — французский литератор, публицист, по профессии адвокат. За выступления против режима Наполеона III был приговорен к тюремному заключению. Автор исторических романов, трехтомной истории Парижской коммуны (1911–1913). Далее в романе автор достаточно вольно обращается с его биографией.
(обратно)
34
Кенкет — комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже масляного резервуара.
(обратно)
35
Ad nauseam (лат. «до тошноты») — чрезмерно долго и подробно.
(обратно)
36
В то время власти жестоко преследовали разного рода политические клубы, что не мешало участникам их как бы случайно собираться в кафе (Прим. авт.).
(обратно)
37
Луи Огюст Бланки (1805–1881) — французский социалист, политический деятель, один из вдохновителей Парижской коммуны; как участник многочисленных заговоров и радикал, призывавший к насильственному захвату власти, неоднократно приговаривался к тюремным срокам и провел значительную часть жизни за решеткой.
(обратно)
38
Я? Меня она ничуть не волнует (фр.).
(обратно)
39
И. Конт (1798–1857), более известный как Огюст Конт — французский философ, родоначальник позитивизма и основатель социологии как научной дисциплины.
(обратно)
40
Basse-cour (фр.) — скотный двор с птичником и мелкими домашними животными.
(обратно)
41
Отец мой (фр.).
(обратно)
42
Болландисты — католическая конгрегация, состоящая преимущественно из ученых-иезуитов и занимающаяся собиранием, сочинением и изданием житий святых и манускриптов. Получили название по имени одного из основателей Ж. Болланда (1596–1665).
(обратно)
43
Здесь мне следует извиниться перед читателем за возможный анахронизм. Я не могу с уверенностью утверждать, к кому из адвокатов священник рекомендовал обратиться Эмару. Пьер-Поль Сгамбати открыл контору по указанному адресу пятью годами позднее описываемых событий (см. L'Observateur Catholique, Париж, 1857). Но это имя, попавшееся мне на глаза в ходе исследований, кажется наиболее вероятным (Прим. авт.). Дикастерия — итальянский термин, обозначающий ведомства Римской курии.
(обратно)
44
Имеются в виду 15 молитв, явленных в видении св. Бригитте Шведской (Биргитте Биргерсдоттер, 1303–1373), которым со времен Средневековья приписывалась сила индульгенции.
(обратно)
45
Диспенсация — в каноническом праве освобождение отдельного лица или группы лиц от обязательной нормы церковного закона или послабление в его исполнении.
(обратно)
46
Garde champêtre — лесничий, совмещающий обязанности егеря и полицейского (фр.).
(обратно)
47
Месье мэр (фр.).
(обратно)
48
Старина (фр).
(обратно)
49
Ох, Господи, вот беда, вот беда! (фр.).
(обратно)
50
Гандийоны — семья из четырех человек, проживавшая в департаменте Юра, обвиненная в оборотничестве и казненная в 1598 году.
(обратно)
51
Искаженное заглавие лондонского памфлета 1590 г. Автор допускает ошибку, т. к. согласно этому памфлету Штуббе (которого считают реальной личностью) был казнен в октябре 1589 г.
(обратно)
52
Бакалавриат во Франции соответствует законченному полному среднему образованию.
(обратно)
53
Бабенка… (фр.).
(обратно)
54
Да возрадуются благородные (лат.).
(обратно)
55
О. Верне (1789–1863) — французский художник и дипломат.
(обратно)
56
«Всецело Ваш» (фр.). А. Тьер (1797–1877) — виднейший французский политик, первый президент Третьей республики, историк.
(обратно)
57
Латинское крылатое выражение: арбитр изящества, законодатель мод.
(обратно)
58
В деталях, в подробностях (фр.).
(обратно)
59
Дом терпимости, узаконенный бордель (фр.).
(обратно)
60
Ничего особенного. Ступайте! Занимайтесь своими делами! (фр.).
(обратно)
61
Четвертого сентября 1870 г. во Франции произошел государственный переворот, ставший прямым следствием поражения во франко-прусской войне. В результате император Наполеон III был свергнут, что положило начало Третьей республике.
(обратно)
62
Пойдемте, мой милый гробовщик! В путь! (фр.).
(обратно)
63
Расследующий судья, следственный магистрат (фр.).
(обратно)
64
Перед нами, Густавом Леверье, следственным судьей, предстает Жан Робер, кучер из похоронного агентства (фр.).
(обратно)
65
Ну и погодка, ужас какой-то (фр.).
(обратно)
66
Уголовный кодекс (фр.).
(обратно)
67
Наказуется тюремным заключением и так далее (фр.).
(обратно)
68
Кассационный суд (фр.).
(обратно)
69
Galignani's Messenger («Вестник Галиньяни») — ежедневная либеральная газета, издававшаяся с 1804 г. в Париже на английском языке.
(обратно)
70
Сад Аклиматасьон — филиал зверинца Музея ботанического сада в Булонском лесу, предназначенный для акклиматизации животных для зверинца. Сейчас это парк развлечений.
(обратно)
71
Висамбур (Вейсенбург) — город близ границы Франции и Германии.
(обратно)
72
А. Шевро (1823–1903) — французский политик-бонапартист.
(обратно)
73
Ж. Э. Осман (1809–1891) — политик, сенатор, член Академии изящных искусств, градостроитель, перестроивший Париж.
(обратно)
74
Этьенн Жоффруа Сент-Илер (1772–1844) — французский зоолог. Автор эволюционной концепции в биологии, постулирующей, что причина эволюции — в целесообразных и наследуемых реакциях организмов на изменения среды. Изидор Жоффруа Сент-Илер (1805–1861) — сын Э. Жоффруа Сент-Илера, основатель теории научной акклиматизации.
(обратно)
75
Ну и ну, это же ты (фр.).
(обратно)
76
Жан-Луи-Арман Катрфаж (1810–1892) — французский зоолог и антрополог. Антуан Ришар дю Канталь (1802–1891) — французский агроном и политик.
(обратно)
77
Этот Жиродо снискал толику славы во время голода, когда сыр было невозможно достать ни за какие деньги: он носил его на галстуке, наколов крошечный кусочек бри на золотую булавку (Прим. авт.).
(обратно)
78
Л. М. Гамбетта (1838–1882) — французский республиканский политический деятель, премьер-министр Франции в 1881-82 гг. После седанской катастрофы провозгласил низложение Наполеона III и образование республики. Здесь речь идет об армии, организованной Гамбеттой в Туре вслед за тем, как он покинул осажденный Париж на воздушном шаре.
(обратно)
79
Л. Ж. Трошю (1815–1896) — генерал, председатель правительства национальной обороны (во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. (4 сентября 1870 — 13 февраля 1871).
(обратно)
80
По рецепту мэтра (фр.).
(обратно)
81
Примерно 230 грамм.
(обратно)
82
Трихинеллез (трихиноз) — вид заражения паразитическими червями.
(обратно)
83
Здесь, как принято в этой книге, нужно рассказать о том, что произошло дальше. Так как членам Общества Jardin d'Acclimatation становилось все сложнее и сложнее кормить вверенный им зверинец, его обитатели были проданы в мясные лавки и дорогие рестораны, а те в результате смогли предложить клиентам (безусловно, по самой высокой цене) такие редкие деликатесы, как мясо казуара, страуса, динго, тапира, кенгуру и так далее. Особый интерес представляет продажа двух слонов, Кастора и Поллукса, богатому мяснику Дебу за 27.000 франков. Эти гиганты, двадцать пять лет за пятьдесят сантимов катавшие на спине парижских детей и обожаемые ими, отправились к праотцам на тарелках Жокейского клуба и иных недешевых заведений. Перед лицом смерти слоны остались невозмутимы. Привыкнув к исключительно доброму к себе отношению, они не заподозрили ничего плохого, когда пришли люди и повели их на бойню. Никто не знал, как лучше убивать слонов. После обсуждения дюжий парень взял огромную киянку и со всей мощью своей внушительной мускулатуры замахнулся ею. Тяжелое дерево раздробилось о лоб одного из слонов. Животное покачнулось, рассеченная кожа окрасилась кровью. Слон недоуменно застыл на миг, но всего лишь на миг; потом многолетнее убеждение, что от двуногого зверя может исходить только забота и еда, вернулось. Вскоре убивать несчастных пришел нанятый стрелок. Мясо продавали по 142 франка за фунт (Прим. авт.).
(обратно)
84
Национальной гвардии (фр.).
(обратно)
85
Авторский анахронизм: Джек Потрошитель действовал в 1888 г.
(обратно)
86
Третья Французская республика — период в истории Франции с 4 сентября 1870 по 10 июля 1940 г.
(обратно)
87
Г. Курбе (1819–1877) — французский живописец, ключевая фигура французского реализма. Его картина «Купальщицы» вызвала скандал в Салоне 1853 года.
(обратно)
88
Падение (фр.).
(обратно)
89
Э. Рашель (1821–1858) — выдающаяся французская театральная актриса, прославившаяся ролями в классических трагедиях.
(обратно)
90
Трагическая актриса (фр.).
(обратно)
91
Здесь: еврейская часть кладбища (фр.).
(обратно)
92
Голубой балдахин (фр.).
(обратно)
93
Да, но как же так… (фр.).
(обратно)
94
Чертово дерьмо! (фр.).
(обратно)
95
Здесь: прямо как дикий зверь (фр.).
(обратно)
96
Онихогрифоз — деформация ногтевой пластинки в виде когтя грифона.
(обратно)
97
Имеется в виду роман Э. Сю (1804–1857) «Вечный жид» (1844–1845).
(обратно)
98
Прелиминарный франко-прусский мир от 26 февраля 1871 г. — двусторонний договор между Германией и Францией, заключённый за два месяца до Франкфуртского мира от 10 мая 1871 г., окончательно завершившего франко-прусскую войну. 1 марта германские войска вошли в Париж и заняли часть города; после получения известия о ратификации Национальным собранием Франции предварительного договора они были выведены 3 марта.
(обратно)
99
18 марта 1871 года солдаты, вместо исполнения приказа стрелять по толпе, расстреляли своего командующего, генерала К. Леконта, а также генерала К. Тома, бывшего командира Национальной гвардии, оказавшегося поблизости.
(обратно)
100
Брассери — тип французского кафе-харчевни.
(обратно)
101
Особняк, дворец (фр.).
(обратно)
102
Хозяйство (фр.).
(обратно)
103
О готовности Курбе торговать своим знаменитым реализмом ходят несколько анекдотов. Вот один из них: однажды известный мусульманин заказал Курбе реалистичный портрет женщины во время любовного акта. На картине, сохранившейся, как говорят, до нашего времени, пропущены все маловажные детали: голова, конечности, бедра, грудь и так далее — как не имеющие отношения к центральной теме (Прим. авт.). Под «известным мусульманином» подразумевается Халил Шериф Паша (Халил-Бей) (1831–1879) — турецкий коллекционер и дипломат, заказчик упомянутой картины «Происхождение мира» (1866). В период написания романа картина находилась в частном собрании и Эндор мог руководствоваться лишь слухами о ней.
(обратно)
104
Предметы искусства (фр.).
(обратно)
105
Клюзере был знаменитым наемником, сражавшимся и под знаменем Гарибальди, и за северян во время гражданской войны в Америке. Линкольн сделал его генералом. Клюзере участвовал во Франко-прусской войне, был членом Парижской коммуны, за что позже его приговорили к смерти. Тогда он сбежал в Мексику и пребывал там до амнистии. Затем вернулся во Францию, занялся политикой и некоторое время посвятил юриспруденции. Он также слыл талантливым живописцем (Прим. авт.). Здесь автор не совсем точен: Г. Клюзере (1823–1900) сбежал не в Мексику, а в Швейцарию, после чего оказался в Константинополе, где (за исключением краткого посещения Франции) оставался до 1886 г., зарабатывая на жизнь как художник и изготовитель фарфора.
(обратно)
106
Отель-де-Виль — здание городского совета на Гревской пл. в Париже.
(обратно)
107
Следует отметить, что в то время Риго собственно префектом полиции не являлся, а был делегирован Главным советом Коммуны в организацию, ранее носившую название префектуры полиции, так как печально известная имперская префектура к тому времени была упразднена. Однако правоохранительные органы продолжали действовать под новым названием, а Рауля Риго назначили руководить ими (Прим. авт.). Р. Риго (1846–1871) — французский революционер-бланкист, прокурор Парижской коммуны.
(обратно)
108
Винтовка Шасспо — игольчатая однозарядная винтовка, разработанная французским оружейником А. Шасспо в 1866 году. Использовалась во французской армии в 1866–1874 годах.
(обратно)
109
Ж.-А. Дюлор (1755–1835) — французский историк, археолог и политический деятель.
(обратно)
110
Кладбище Пикпюс существует и сегодня, оно открыто для туристов и действительно достойно посещения (Прим. авт.).
(обратно)
111
Карл V Габсбург (1500–1558) — король Испании и Германии, император Священной Римской империи. В конце жизни отошел от дел, удалился в монастырь и там, за полгода до смерти, инсценировал собственные похороны, использовав в том числе настоящие саван и гроб.
(обратно)
112
Journal Officiel, 21 мая 1871 г. (Прим. авт.).
(обратно)
113
Э. Каржа (1828–1906) — французский художник-карикатурист, фотограф, писатель и журналист.
(обратно)
114
П. А. Пьорри (1794–1879) — французский врач, изобретатель костяного плессиметра.
(обратно)
115
«Иисус Христос был рожден в хлеву, — писал Рошфор, журналист и известный острослов, — и посему для большинства верующих людей превращение церкви в конюшню не может быть оскорбительным» (Прим. авт.).
(обратно)
116
Валлори (Валлори) — в то время деревня в Приморских Альпах на юго-востоке Франции, ныне западный пригород гор. Антиб.
(обратно)
117
Служащий похоронного бюро (фр.).
(обратно)
118
Оборотень, вервольф (фр.).
(обратно)
119
Смесь цитат из книги пророка Исаии.
(обратно)
120
Понятно (фр.).
(обратно)
121
Не стоит благодарности (фр.).
(обратно)
122
Теперь моя очередь (фр.).
(обратно)
123
Вандомская колонна — каменная колонна с бронзовыми барельефами, воздвигнутая при Наполеоне в 1810 г. в честь побед 1805 г. 16 мая 1871 г. была повалена на землю по инициативе Г. Курбе.
(обратно)
124
«Гражданину Галье разрешается поговорить с гражданином Бертраном Кайе, ожидающим решения трибунала в тюрьме Шерше-Миди» (фр.).
(обратно)
125
Совершенно напротив (фр.).
(обратно)
126
Командир эскадрона (фр.).
(обратно)
127
О. Верморель (1841–1871) — французский журналист и политический деятель, член Главного совета Коммуны.
(обратно)
128
А.-Э. Бийоре (1841–1876) — французский художник и политический деятель.
(обратно)
129
Я. Домбровский (1836–1871) — русский, польский и французский революционер и военачальник.
(обратно)
130
Парижская коммуна 1789–1794 гг.
(обратно)
131
В 1871 г. бельвильские баррикады последними сдались версальцам.
(обратно)
132
Fédérés (федераты) — изначально добровольцы, вступавшие в Национальную гвардию во время Великой французской революции; позднее так называли коммунаров.
(обратно)
133
Отпускаю грехи твои (лат.).
(обратно)
134
Эти немыслимые цифры имеют логическое объяснение: тела заложников, мертвых и живых, грудами лежали перед палачами, стоны не умолкали. Солдаты не понимали, кто именно стонет, и им не оставалось ничего, кроме как стрелять и колоть до воцарения тишины (Прим. авт.).
(обратно)
135
См. Laronze, Histoire de la Commune, c. 625, и Vuillaume, Mes cahiers rouges au temps de la Commune, с. 116 и далее (Прим. авт.).
(обратно)
136
Зуавы — части легкой пехоты французских колониальных войск.
(обратно)
137
Церковь св. Марии Магдалины близ площади Согласия в центральной части Парижа.
(обратно)
138
«Неистощимый источник», государственное зернохранилище.
(обратно)
139
Пятидесятница — в католической традиции день сошествия Святого Духа.
(обратно)
140
М. Вийом (Вильом) (1844–1925) — публицист, автор мемуаров, посвященных Парижской коммуне.
(обратно)
141
Г. Курбе после полугодового тюремного заключения эмигрировал в Швейцарию, где и умер в 1877 г.
(обратно)
142
Л. Э. Варлен (1839–1871) — глава финансовой, а позже военной комиссии Коммуны.
(обратно)
143
Французский каламбур: подбитые заново башмаки, как говорится, «дважды новые» (deux fois neufs), что можно также понять как «дважды девять» или восемнадцать (Прим. авт.).
(обратно)
144
Мир вам! (лат.).
(обратно)
145
Верного пастыря (лат.).
(обратно)
146
Редингот — длинный сюртук, обычно носимый в аристократических кругах, некогда одежда для верховой езды.
(обратно)
147
Соответственно в 10 и 14 км от центра Парижа.
(обратно)
148
Демимонденка — женщина полусвета, часто содержанка.
(обратно)
149
Поджигательницы! (фр.).
(обратно)
150
Маленький Капрал — прозвище Наполеона.
(обратно)
151
Колонна Траяна — колонна в Риме, созданная архитектором Аполлодором Дамасским в 113 году н. э. в честь побед императора Траяна над даками.
(обратно)
152
Соотношение высоты головы к телу; пропорция 1:7.5 считается стандартной.
(обратно)
153
Парижский салон — официальная выставка Парижской академии изящных искусств.
(обратно)
154
Сен-Назер — французский портовый город в устье Луары.
(обратно)
155
Монголоидами в годы создания романа называли людей, страдающих синдромом Дауна. Термин «монголоид» был введен английским врачом Д. Л. Дауном в 1866 г. и оставался в ходу более века.
(обратно)
156
Сирингомиелия — хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором в спинном мозге образуются полости.
(обратно)
157
Окно в форме бычьего глаза (фр.).
(обратно)
158
Знаменитый американский спиритуалист и медиум (1833–1886). Его сеансы посетил лорд Крукс, прославленный физик, и посчитал себя убежденным в способности Хьюма левитировать и т. п. (Прим. авт.). Сэр У. Крукс (1832–1919), английский химик и физик, был президентом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.
(обратно)
159
Императрица Евгения (1826–1920) — жена Наполеона Третьего, последняя императрица Франции.
(обратно)
160
Само по себе (лат.)
(обратно)
161
Ж. Ф. Фернель (1497–1558) — математик, астроном, лейб-медик Генриха Второго и Екатерины Медичи; Ж. Улье (1498/1504-1562) — французский врач-гуманист, преподаватель, в 1546-7 гг. глава медицинского факультета Парижского университета.
(обратно)
162
Л. Ш. де Фрейсине (1828–1923) — политик, четырежды возглавлявший кабинет министров Франции.
(обратно)
163
Система Купри (фр.).
(обратно)
164
Кладбище будущего (фр.).
(обратно)
165
11 июня 1804 г.
(обратно)
166
См. экземпляр в библиотеке на 42-ой улице в Нью-Йорке (Прим. авт). Речь идет о кн.: Brouardel P., Du Mesnil. Assainissement des cimetières. Ville de Saint-Nazaire (Loire-Infèrieure): Système proposé par M. Coupry fils, architecte à Nantes. Paris, 1890. П. Бруардель (1837–1906) — президент французского общества судебной медицины.
(обратно)
167
Санитарной комиссией (фр.).
(обратно)
168
Мы не воспроизводим фотографию здесь. Читатель может увидеть ее в оригинальном издании доклада (Прим. авт.).
(обратно)
169
Стафилиниды — коротконадкрылые жуки, крупнейшее в мире семейство животных.
(обратно)
170
Не воспроизведена здесь. Читатель может увидеть ее в оригинальном издании доклада (Прим. авт.).
(обратно)
171
Исследователи не скрывали, что вопрос финансов здесь не менее важен, чем вопрос санитарии. Если тела, захороненные по системе Купри, превращались в скелеты за год, то пятилетний срок погребения можно было бы сократить до однолетнего, тем самым обеспечив более скорый оборот на кладбищах и, следовательно, приток средств в казну (Прим. авт.).
(обратно)
172
Могильщики, землекопы (фр.).

