| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Великие мужчины XX века (fb2)
 - Великие мужчины XX века (Великие «звезды» XX века) 17522K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Виталий Яковлевич Вульф - Серафима Александровна Чеботарь
- Великие мужчины XX века (Великие «звезды» XX века) 17522K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Виталий Яковлевич Вульф - Серафима Александровна ЧеботарьСерафима Александровна Чеботарь
Великие мужчины XX века
Театр и кинематограф
Чарльз Спенсер Чаплин

Великий Немой
Миллионы знают Чарли Чаплина как гениального американского актера-комика. Трогательный неудачник, смешной и нелепый, он, казалось, был любим всеми и всегда, распространяя вокруг себя радость и смех. Однако реальная жизнь Чарльза Спенсера Чаплина была совсем другой. Он не был американцем, не был неудачником, да и смешным он умел быть только на сцене или на экране. Все, чего он достиг, представляло такой же контраст с тем, с чего он начинал, как образ бродяги Чарли – с настоящим Чарльзом Чаплином, миллионером, франтом и ловеласом, рыцарем-командором Ордена Британской империи.
Чарльз Спенсер Чаплин родился в восемь часов вечера 16 апреля 1889 года в Лондоне. Его родители были артистами: отец, Чарльз Спенсер Чаплин-старший пел в мюзик-холлах, а мать, Ханна Чаплин, под псевдонимом Лили Харли выступала в ролях субреток в варьете. Чаплин, очень любивший мать, в своих воспоминаниях писал о ней: «У нее был прекрасный цвет лица, фиалково-голубые глаза и светло-каштановые волосы, падавшие ниже пояса, когда она их распускала. Мы с Сиднеем очень любили мать, и хотя, строго говоря, ее нельзя было назвать красавицей, нам казалось, что она божественно хороша. Те, кто знал ее, рассказывали мне потом, уже много лет спустя, что она была очень изящна, привлекательна и полна обаяния». Сидней – сводный брат Чарли – родился у юной Ханны от связи с неким лордом, с которым она в семнадцать лет сбежала в Африку. Вернувшись через два года в Англию, Ханна вышла замуж за Чарльза Чаплина, с которым у нее был роман еще до «африканской эпопеи», однако и с ним прожила недолго: уже через год после рождения Чарли она ушла от мужа, который слишком часто прикладывался к бутылке. Чаплин писал: «Отец, тихий, задумчивый человек с темными глазами, тоже был актером варьете. Мать говорила, что он был похож на Наполеона. Он обладал приятным баритоном и считался хорошим актером. Отец зарабатывал сорок фунтов в неделю, что по тем временам было очень много. Все горе было в том, что он сильно пил; мать говорила, что поэтому они и разошлись. Но в те времена актеру варьете трудно было не пить – во всех театрах продавали спиртное, и после выступления исполнителю даже полагалось зайти в буфет и выпить в компании зрителей. Некоторые театры выручали больше денег в буфетах, чем в кассах, и кое-кому из «звезд» платили большое жалованье не столько за их талант, сколько за то, что большую часть этого жалованья они тратили в театральном буфете. Так многих актеров погубило пьянство, и одним из них был мой отец». После разрыва с Ханной Чаплин-старший скоро завел новую семью и редко вспоминал про законную супругу и сына.
Поначалу Ханна, пользовавшаяся немалой популярностью, могла сама содержать себя и детей. Однако со временем у нее стал пропадать голос – ее главное сокровище. Именно из-за этого маленький Чарли впервые выступил на сцене: однажды на гастролях голос у Ханны сорвался, и чтобы хоть как-то утихомирить публику, директор труппы вывел к зрителям пятилетнего мальчика, который, совершенно не стесняясь, исполнил несколько популярных песенок. Это было первое выступление Чарли – и последнее его матери.
Лишившись основного дохода, семья Чаплинов все глубже погружалась в бедность. Постепенно растратив все сбережения, распродав все ценное, что было, и даже попытавшись – безрезультатно – через суд выбить алименты из Чаплина-старшего, Ханна с детьми впали практически в нищету. «Это было унылое, безрадостное существование. Матери почти невозможно было найти работу – кроме актерского ремесла, она ничему не была обучена. Маленькая, хрупкая, впечатлительная, она должна была бороться в трудных, непосильных для нее условиях викторианской эпохи, когда богатство и бедность достигли крайних пределов», – писал Чаплин. Иногда ей удавалось заработать, обшивая соседок, но денег катастрофически не хватало. Когда положение стало совсем отчаянным, Ханна решилась вместе с детьми уйти в работный дом.
Работные дома – заведения, где давали оплачиваемую работу и кров в обмен на подчинение весьма строгим правилам, – были созданы с целью помочь армиям нищих и безработных, однако в реальности они превратились в подобие тюрем для тех, кто не преступил закон. Чтобы добровольно поселиться в нем, нужно было дойти до последней степени отчаяния. К тому же детей там помещали отдельно, что для чувствительной и очень привязанной к детям Ханны было дополнительным источником страдания, однако другого выхода не было. В 1895 году Чаплины поселились в Лэмбетском работном доме, откуда через три недели Чарли и Сиднея перевели в Хэнуэлльский приют, расположенный в двадцати милях от города. Чтобы встретиться с сыновьями, Ханна шла на хитрость – заявляла об уходе из работного дома, целый день проводила вместе с детьми, а вечером просила принять ее обратно.
Чарли пробыл в Хэнуэлльском приюте больше года – по сути, это было первое образовательное учреждение, которое он посещал, хотя мать тоже по-своему заботилась об образовании сыновей. «Теперь, когда нас окружала бедность, мы неизбежно переняли бы корявую речь трущоб, если бы мать перестала за этим следить, – писал Чаплин. – Но она всегда внимательно прислушивалась к нашей речи, исправляла наши ошибки и давала нам понять, что мы не должны говорить так, как наши соседи… Несмотря на ту нищету, в которой мы были вынуждены жить, она уберегла нас с Сиднеем от влияния улицы и внушила нам, что мы не просто нищие, что мы – не такие, как все прочие обитатели трущоб, что у нас – особая судьба».
Со временем Ханне удалось покинуть работный дом и забрать сыновей к себе, однако этот период относительного благополучия длился всего год. Ханна снова отправилась в добровольное заключение, а дети – в приют, где им однажды сообщили, что их мать потеряла рассудок, и ее отправили в психиатрическую лечебницу.

Постоянный голод, стрессы и отчаяние подточили рассудок Ханны Чаплин. Она то впадала в буйство, то уходила в себя и переставала узнавать даже сыновей. Пока мать была в лечебнице, дети жили – по решению суда – у Чарльза Чаплина-старшего и его новой жены (к явному неудовольствию последней), а когда Ханна наконец вышла, она с сыновьями поселилась в маленькой квартирке на Кеннингтон-роуд. Чарли наконец стал ходить в школу, но вскоре учебу пришлось бросить ради работы: отец по знакомству пристроил восьмилетнего Чарли в детский ансамбль клогданса (похожий на чечетку танец, исполнявшийся в башмаках на деревянной подошве) «Восемь ланкаширских парней», где тому полагался стол, кров и еще полкроны в неделю. Ансамбль был весьма популярен, и нередко ребятам приходилось выступать по 2–3 раза за вечер. Репортер мюзик-холльной газеты Magnit описывал одно из выступлений «Парней»: «Этот яркий и живой номер, с крупицей истинной «соли», подарили театру-варьете «Восемь ланкаширских парней», чье мастерство переоценить невозможно. Уильям Джексон представлял публике восемь отлично обученных мальчиков, которые танцуют один из лучших клогдансов, какой только можно вообразить. Номер хорош своей необычностью, исполнители смело бросаются в море новизны. Каждый из «Ланкаширских парней» – прекрасный образец юноши, и все они дарят нам десять приятнейших минут…» Кстати, среди «Восьми парней» были две девочки – дочери Джексона, – но публика этого не замечала. Много времени ансамбль проводил в разъездах по провинции, и хотя Чарли старался посещать школы везде, куда заносила его гастрольная судьба, учебой это было назвать сложно: гораздо больше он узнавал, наблюдая из-за кулис за взрослыми актерами. На рождественские праздники «Парней» пригласили принять участие в пантомиме «Золушка», которая давалась в лондонском «Ипподроме»: Чарли играл кошку, и его ужимки и выходки немало веселили публику. В ансамбле он было выдвинулся в солисты, однако уже через несколько месяцев из-за начавшейся у Чарли астмы танцы пришлось оставить.
В мае 1901 года от водянки и алкоголизма умер Чарльз Чаплин-старший. После его смерти Ханне и сыновьям досталось всего полсоверена и его старый костюм.
Снова наступила нищета. Сидней был вынужден бросить школу и работать разносчиком телеграмм, Ханна зарабатывала шитьем, но этих денег еле хватало на жизнь. В конце концов Чарли тоже оставил школу: он продавал цветы и был рассыльным, работал в приемной врачей, в типографии и стеклодувной мастерской, был слугой и продавцом в магазине канцтоваров, но из-за юных лет и низкого роста нигде подолгу не задерживался. Наконец Сиднею удалось устроиться горнистом на пароход – его огромный для нищих Чаплинов заработок в два с лишним фунта в месяц позволил семье немного перевести дух. Но когда он заболел, и его ссадили на берег в Кейптауне, Ханна снова попала в психиатрическую клинику. Она так никогда и не поправилась, хотя Чаплин не жалел денег на врачей.
Удивительно, но даже в постоянной борьбе с нищетой Чарли не забывал о своей мечте. «Чем бы я ни занимался, я, как и Сидней, помнил, что все это временно и в конце концов я стану актером, – писал он. – Перед тем как поступить на очередное место, я начищал башмаки и костюм, надевал чистый воротничок и отправлялся в театральное агентство на Бэдфорд-стрит, возле Стрэнда». Когда Чарли было 12, мечта исполнилась: его взяли играть в самом настоящем спектакле. Когда ему вручили текст роли, Чарли больше всего боялся, что его попросят что-нибудь прочесть – увы, читать он мог еле-еле, и роль выучил с помощью брата, который зачитывал ему реплики вслух.
Первую пьесу, в которой играл Чарли, критики разгромили в пух и прах – однако похвально отозвались о Чарли: «Единственное, что спасает пьесу, это роль Сэмми – малыша-газетчика, этакого продувного лондонского уличного мальчишки, вызывавшая смех зрителей. Достаточно банальная и избитая, она была, однако, очень забавна в исполнении юного Чарльза Чаплина, способного и темпераментного молодого актера. Мне еще не приходилось слышать об этом мальчике, но я надеюсь в самом ближайшем будущем услышать о нем немало», – писал один из критиков. Зато следующий спектакль – «Шерлок Холмс» – с успехом игрался по всей Англии. С каждой новой пьесой Чарли набирался опыта, оттачивая врожденный талант в ежедневных спектаклях. Актерам варьете, каким был Чаплин, было необходимо многое уметь: кроме собственно актерской игры, они должны были петь и танцевать, владеть техникой пантомимы и импровизации, играть на музыкальных инструментах. Актеры обучались непосредственно на сцене, и те, кто прошел эту жестокую школу, закалялись снаружи и внутри.
По некоторым данным, в то время Чаплин впервые женился: ему было шестнадцать, его жене еще меньше. У супругов будто бы даже родился сын Сидней, который после развода – последовавшего довольно быстро – остался у Чарли. Характерно, что ни об этом браке – если он был, ни о сыне Чаплин в своей биографии не упоминает ни слова.
В феврале 1908 года Чарли получил ангажемент в театральной антрепризе Фреда Карно, ставившей пантомимы и музыкальные комедии для целого ряда мюзик-холлов по всей стране. Уже скоро Чарли играл ключевые роли во многих постановках и стал одним из самых популярных комиков на английской сцене. Во время гастролей Чарли влюбился в юную танцовщицу Хетти Келли – в своих воспоминаниях он называл ее своей первой настоящей любовью, – однако, по его собственному признанию, все закончилось на пятом свидании.
В 1910 году труппа Карно выехала на гастроли в США: полтора года прошли в разъездах по стране, от Восточного побережья до Западного, через все более-менее крупные города. Чаплин был очарован Америкой и с сожалением собирался возвращаться на родину. Перед отъездом он зашел к гадалке. «Она раскинула карты и внимательно стала их разглядывать, а затем посмотрела на мои руки», – вспоминал Чаплин. – «Вы сейчас думаете о дальнем путешествии, и вы уедете из Штатов. Но скоро вернетесь и займетесь новым делом, не тем, чем сейчас… Ну да, почти то же самое дело, а все-таки другое. И в этом новом предприятии у вас будет очень большой успех. Я вижу, вас ждет блестящая карьера, но что это за дело – я не знаю… Женитесь вы три раза. Первые два брака будут несчастливые, но конец вашей жизни вы проведете в счастливом браке… Да, вы наживете огромное богатство – такая рука умеет делать деньги».
Через пять месяцев после возвращения в Англию Чарли снова отплыл в США – на прославленном корабле «Олимпик», счастливом брате печально знаменитого «Титаника». Поначалу он играл в Балтиморе, но уже через несколько месяцев ему предложили работу на киностудии Keystone Film: два года назад один из основателей студии Мак Сеннет увидел Чарли на сцене и с тех пор мечтал поработать с ним.
Одна из первых американских киностудий, Keystone снимала типичные «полицейские» комедии-экспромты с погонями и драками, и Чарли поначалу не очень вписывался в довольно примитивные фильмы Сеннета. Однако именно в них – в комедиях «Невероятно затруднительное положение Мэйбл» и «Детские автомобильные гонки» – в 1914 году родился тот самый Чарли, который станет на несколько десятилетий любимцем публики по обе стороны океана.

Чарльз Спенсер Чаплин в своем кабинете, начало 1910-х гг.
Вот как сам Чаплин описывает этот момент:
На следующий день, после того как я кончил сниматься у Лермана, Сеннет вернулся с натурных съемок… Я был в своем обычном костюме и, не зная, чем заняться, встал так, чтобы Сеннет не мог меня не заметить…
– Тут нужно что-нибудь забавное, – сказал он и вдруг обернулся ко мне. – Ну-ка, загримируйтесь. Любой комедийный грим подойдет.
…По пути в костюмерную я мгновенно решил надеть широченные штаны, которые сидели бы на мне мешком, непомерно большие башмаки и котелок, а в руки взять тросточку. Мне хотелось, чтобы в моем костюме все было противоречиво: мешковатые штаны и слишком узкая визитка, котелок, который был мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но, вспомнив, что Сеннет счел меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики. Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью, но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и, когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился… Он очень разносторонен – он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад – но только под влиянием сильного гнева. Согласно одной легенде, образ Чарли родился в общей мужской гримерной: Чаплин схватил широченные брюки Фатти Арбакля, крохотный пиджак Чарльза Эйвери, огромные ботинки Форда Стерлинга, маленький котелок тестя Арбакля и усы, предназначавшиеся для Мака Суэйна, которые Чаплин подстриг щеточкой, а свою характерную походку Чаплин перенял у старика по прозвищу Чудила Бинкс.
Поначалу Чарли – в рабочих материалах студии он тогда значился как Чейз – выступает как жулик и ловелас, однако постепенно в нем проявляются те качества, за которые зритель так ценил героев Чаплина: человечность, теплота, трогательность и наивность. «Мой персонаж был непохож на образы других комиков и непривычен и для американцев, и для меня самого, – вспоминал Чаплин. – Но стоило мне надеть «его» костюм, и я чувствовал, что это настоящий живой человек. Он внушал мне самые неожиданные идеи, которые приходили мне в голову, только когда я был в костюме и гриме бродяги». После нескольких картин Чаплин упросил Сеннета дать ему возможность снимать фильмы самостоятельно, и его картины начинают пользоваться неожиданно большим успехом. Рекламные афиши студии гласили: «Готовы ли вы к чаплинскому буму? Еще никто не прославился так быстро, как Чарльз Чаплин, знаменитый комик Карно, в комедиях «Кистоуна»!» Когда срок годового контракта с Keystone истек, Чаплин перешел в Essenay Film, потребовав неимоверную сумму – $1 250 в неделю плюс $10 000 в момент подписания контракта (в Keystone он получал всего 150 долларов в неделю). По рассказам самого Чаплина, глава Essenay Джордж Спур ничего не знал о его фильмах, и был весьма рассержен тем, что его подчиненные подписали контракт на такую огромную сумму с каким-то англичанином. Однако, как только о контракте написали газеты, на него обрушилась волна поздравлений. Тогда Спур решил произвести опыт: «Он дал посыльному двадцать пять центов и велел ему пробежать по всему отелю, громко вызывая меня по имени: «Мистер Чарли Чаплин!» Немедленно начали собираться люди, и вскоре вестибюль отеля был забит народом. Сенсация, вызванная моим именем, явилась первым доказательством моей популярности», – вспоминал Чаплин. Вторым было то, что еще незаконченный фильм купили все кинопрокатчики страны.
Чарли Чаплин оказался как нельзя лучше подготовлен для американского кинематографа, немого и непрофессионального, создававшегося любителями-энтузиастами и случайными людьми. Его театральная выучка, отточившая его выразительность, комедийный талант и способность к импровизации не имели себе равных среди киноактеров того времени, а умение выстроить движение, найти ритм картины, выразить настроение и чувства минимумом средств было просто уникальным. Трюки в своих фильмах – драки, погони, столкновения – он ставил и репетировал, как хореографический номер. Недаром ни один из актеров, занятых в его фильмах, ни разу не получил травмы – за исключением самого Чаплина, однажды поранившего нос металлическим фонарем.
Кроме того, если большинство киностудий раз за разом эксплуатировали однажды найденный шаблон и снимали фильмы одного жанра и стиля, Чаплин не боялся ломать стереотипы и учиться новому. Для него, едва умевшего читать, а великие произведения литературы знавшего лишь по театральным афишам, учение всегда было необходимо, как воздух. «В мире существует своеобразное братство людей, страстно стремящихся к знаниям, – писал он. – И я был одним из них. Но мое стремление к знаниям было не так уж бескорыстно. Мною руководила не чистая любовь к знанию, а лишь желание оградить себя от презрения, которое вызывают невежды». Все свободное время он проводил у букинистов, где по дешевке скупал все книги подряд – от словаря латинских выражений до монографий по экономике. Кстати, именно благодаря чтению Чаплин без потерь пережил банковский крах 1929 года: прочтя в одной книге, что безработица ведет к сокращению прибылей, он за несколько месяцев до кризиса продал все свои акции. Друзья, которым он советовал сделать то же самое и которые не послушались его, сочли его либо гениальным мошенником, либо близким к правительственным кругам, из которых он и получил столь важную информацию…
Для Essenay Чаплин за год снял 12 фильмов – по одному в месяц. Звездой фильмов этого периода была Эдна Первиэнс – нашли ее, по рассказам очевидцев, совершенно случайно. Это сейчас каждую киностудию осаждают тысячи девушек, желающих сняться в кино, а тогда актрис приходилось искать самим студиям. Чаплин отсмотрел не один десяток актрис, хористок и танцовщиц, но так никого и не нашел. Наконец ему посоветовали заглянуть в одно кафе, где часто бывает очень хорошенькая девушка. Ею и оказалась Эдна, не только сыгравшая главные роли в нескольких лучших фильмах Чаплина, но и – на некоторое время – занявшая главное место в его сердце.

Чарли Чаплин и Эдна Первиэнс в фильме «Бегство в автомобиле», 1915 г.
К концу 1915 года Чарли Чаплин был уже невероятно популярен. Он вспоминал: «Длинные очереди у касс кинотеатров говорили о том, что в Лос-Анджелесе я пользуюсь успехом, но я еще не отдавал себе отчета, каких размеров достигала моя популярность в других местах. В Нью-Йорке, например, во всех универсальных магазинах и даже в аптеках продавались игрушки и статуэтки, изображавшие меня в роли бродяги. Герлс в ревю «Зигфелд Фоллис» показывали чаплиновский номер, уродуя себя усиками, цилиндрами, огромными башмаками и мешковатыми штанами, они пели песенку «Ах, эти ножки Чарли Чаплина». Фирмы, торговавшие книгами, готовым платьем, свечами, игрушками, сигаретами и зубной пастой, засыпали меня всяческими деловыми предложениями. Груды писем, приходивших от моих поклонников, стали для меня проблемой». Когда Чаплин – впервые в качестве кинозвезды – отправился в Нью-Йорк, на каждой станции его встречали как национального героя, а в самом Нью-Йорке собрались такие толпы, что полиция предпочла вывезти его в обход вокзала.
Его еще не узнавали без грима, но его героя в нелепом черном котелке, мешковатых штанах и растоптанных башмаках любили зрители по всей стране, чувствуя в нем родственную душу, видя в нем товарища по несчастью. В свои роли Чаплин вложил весь свой жизненный опыт и талант, воспоминания о нищете и детские мечты, умение бороться с обстоятельствами и желание смеяться несмотря ни на что. Его Чарли, смешной и нелепый, трогательный и несчастный, был в то же самое время удивительно стойким, добрым, светлым душой и мыслями, верящим в любовь и красоту мира. В годы, когда революции, войны и экономический кризис лишали людей душевного спокойствия и уверенности в себе, образ Чарли – всегда жертвы, всегда слабого, но все равно непобедимого, неуязвимого и радующегося – вселял в них надежду, радость и веру в счастье.
В Нью-Йорке Чаплин заключил новый контракт – со студией Mutual Films: на этот раз на 10 тысяч в неделю плюс 150 000 при подписании контракта: подпись была поставлена в присутствии журналистов, и уже вечером об этом узнала вся Америка. А уже через год он подписал контракт с First National Pictures на миллион долларов, став самым высокооплачиваемым актером того времени. Правда, сам Чаплин мало что получил от своей славы, кроме денег. Он не любил светские сборища, редко общался с публикой, у него было очень мало друзей. Он общался с братом Сиднеем (который, приехав в США следом за Чарли, заменил его в качестве ведущего комика Keystone), актерами Дугласом Фербенксом и Мэри Пикфорд и несколькими людьми, не имевшими отношения к кино. Отношения с женщинами у него тоже не складывались – вялотекущий роман с Эдной Первиэнс доставлял им обоим больше беспокойства, чем приятных эмоций, к тому же она все больше времени проводила не с Чаплином, а с актером Томасом Мейганом. Толпы восторженных поклонниц, готовых на все ради одной ночи с Чаплином, скорее пугали его, чем привлекали. Но в октябре 1918 года Чаплин женился: его супругой была шестнадцатилетняя начинающая актриса Милдред Харрис, а причиной брака – беременность невесты (правда, оказавшаяся ложной). Милдред все же родила в июле 1919 года сына Нормана Спенсера, однако прожил он всего три дня.

Милдред Харрис.
Сам Чаплин вспоминал о своем браке: «Я не был влюблен, но теперь, когда я женился, мне хотелось, чтобы я любил свою жену и чтобы наш брак оказался счастливым. Но для Милдред брак был приключением, столь же увлекательным, как победа на конкурсе красоты. Свое отношение к нему она вычитала из романов; она как-то не могла осознать, что это жизнь, а не беллетристика. Я пытался говорить с ней серьезно о наших планах на будущее, но до нее ничего не доходило – она жила, как в тумане… По натуре Милдред была не злой, но она была безнадежно зоологична. Я никогда не мог добраться до ее души – она была у нее забита каким-то розовым тряпьем и всякой чепухой. Она вечно была чем-то взволнована, вечно искала каких-то новых ощущений… Я возвращался к себе, находил на столе лишь один прибор и обедал в одиночестве. Случалось, что Милдред, ни слова не сказав, уезжала куда-нибудь на неделю, и я узнавал об ее отъезде, лишь увидев открытую дверь в ее опустевшую комнату».
Неудавшаяся семейная жизнь вымотала Чаплина, ему все труднее становилось придумывать сюжеты для новых комедий. Дело спас случай: однажды в варьете он заметил сына одного из танцоров, очаровательного мальчика Джекки Кугана, и решил, что фильм с ним будет великолепен. «Младенцы и собаки, – писал Чаплин, – лучшие актеры в кино. Посадите годовалого ребенка с куском мыла в ванночку, и, как только он начнет его вылавливать, это немедленно вызовет взрыв хохота в зале. Все дети в той или иной форме гениальны, – задача в том, чтобы эту гениальность выявить. С Джекки это было нетрудно. Ему надо было лишь преподать несколько основных правил пантомимы; Джекки овладел ими очень быстро. Он умел вкладывать чувство в действие и действие – в чувство и мог повторять сцену по нескольку раз, не утрачивая непосредственности».
Так родился «Малыш» – один из лучших фильмов Чаплина. Во время работы над фильмом, в 1920 году, его брак окончательно рухнул. Поначалу супруги разошлись вполне мирно; но репортеры сделали из развода сенсацию, и когда Милдред дала интервью, где обвинила мужа в «душевной черствости», – весьма невинное по нынешним временам обвинение – раздули целый скандал. Чаплин в ответ намекнул, что причиной его ухода стала измена Милдред с прославленной актрисой русского происхождения Аллой Назимовой, знаменитой не только своей исключительной игрой, но и пристрастием к молоденьким актрисам. В итоге за Чаплином охотились и адвокаты бывшей супруги, и юристы студии, пожелавшей урвать свой кусок от происходящего. Чтобы они не наложили лапу на отснятый материал, Чаплин вывез все 140 тысяч метров пленки в Солт-Лейк-Сити, где в местной гостинице – прямо на полу, втайне от всех – и смонтировал свой шедевр. Чаплин продал ленту кинопрокатчикам за полтора миллиона долларов – невероятная сумма! – и она окупилась меньше чем за год.
«Малыш» был одной из последних картин, сделанных Чаплином для First National Pictures. Еще в 1919 году он, вместе с Мэри Пикфорд, Дугласом Фербенксом и Дэвидом У. Гриффитом основали собственную студию United Artists, желая самостоятельно контролировать свою работу, свои доходы и свое будущее. Как только срок контракта истек, Чаплин расстался с First National и перешел к самостоятельной работе.
Дабы подогреть зрительский интерес, в 1921 году Чаплин отправляется в Европу – после десяти лет работы в Америке. Он отплыл в Англию на том же самом «Олимпике», что десять лет назад привез его в Штаты: правда, теперь он путешествовал не вторым классом, а в роскошной каюте-люкс. Корабль еще не прошел и половины пути, как Чаплина уже завалили телеграммами с приглашениями и просьбами, а британские газеты два раза в день публиковали отчеты о его продвижении – позже стали выходить и специальные выпуски, где подробно описывалось, чем именно Чаплин занимается на борту. «Чаплин возвращается победителем! Путь от Саутгемптона до Лондона будет напоминать римский триумф», – писали газеты. И они были правы: всюду, где бы ни появлялся Чаплин, его встречали восторженные толпы.
Та же история повторилась во Франции, где Шарло – именно так звали его героя в Европе – пользовался неожиданно огромной популярностью. Хотя его приезд в Кале не был анонсирован прессой, у причала стояла огромная толпа, и еще большая встречала Чаплина в Париже. Зато в Берлине, куда Чаплин заехал на три дня, его никто не знал: «Там моих картин еще не видели, – вспоминал Чаплин, – и для них я был всего лишь обыкновенное частное лицо, а этого было мало даже для того, чтобы получить приличный столик в ночном клубе. К счастью, меня узнал один американский офицер и с возмущением сообщил взволнованному владельцу ресторана, кто я такой… Забавно было наблюдать за физиономиями хозяев, когда они увидели, как вокруг нашего столика собираются узнававшие меня люди. Один из них, немец, который был в Англии в плену и видел там две-три мои комедии, вдруг громко завопил: «Шаарли!» – и, обернувшись к удивленным посетителям, пояснил: «Вы знаете, кто это? Шаарли!» И он бросился обнимать меня и целовать. Но его волнение не вызвало особого переполоха. И только когда Пола Негри, германская кинозвезда, на которую были обращены все взоры, передала мне приглашение пересесть за ее столик, это уже вызвало некоторый интерес и к моей персоне».
Вскоре судьба снова свела Чаплина и Полу Негри: когда та в 1922 году прибыла в Голливуд, между ними разгорелся бурный роман. Речь даже зашла о помолвке, однако Чаплин вовсе не собирался жениться, считая всю историю их отношений рекламным трюком, раздутым боссами Paramount, дабы прославить новую звезду.
Боссу студии, настаивавшему на их женитьбе, он в конце концов заявил, что если тот думает, что Чаплин способен жениться на ком-либо, чтобы спасти капиталовложения студии, то он сильно ошибается: «Не будучи акционером «Парамаунта», я не считал себя обязанным жениться на Поле. И мой роман с Полой оборвался так же внезапно, как и начался. Она мне больше не звонила».
Однако Чаплин никогда не оставался один. Женщины вешались ему на шею, и он по праву гордился своей славой покорителя женских сердец. Полу Негри сменила актриса Марион Дэвис – которая в тот момент уже была любовницей медиамагната Уильяма Херста. Говорили, что Чаплин был настолько увлечен ею, что даже сделал ей предложение, однако Марион предпочла остаться с Херстом – хотя тот был женат, Марион была с ним до самой его смерти. Впрочем, некоторые журналисты утверждали, что тайные отношения Чаплина и Дэвис продолжались еще десять лет.
Во время съемок первого фильма для United Artists — «Золотой лихорадки» – тридцатипятилетний Чаплин все же женился. Его супругой стала юная – на момент свадьбы ей едва исполнилось шестнадцать лет – начинающая актриса Лита Грей (настоящее имя Лиллита Луиза МакМюррей), а причиной свадьбы снова была беременность невесты. Лита очень удачно сыграла одну из главных ролей в «Малыше» и была приглашена в «Золотую лихорадку», а заодно и в постель Чаплина. По слухам, когда выяснилось, что Лита ждет ребенка, Чаплин сначала предлагал ей оплатить аборт, а затем обещал чек на немаленькую сумму, если она выйдет замуж за другого, однако Лита отказалась. Под угрозой судебного иска – по закону Лита была еще несовершеннолетней – Чаплину пришлось-таки жениться на ней: свадьба состоялась в Мексике под покровом тайны 24 ноября 1924 года. Через пять месяцев Лита родила сына Чарльза Спенсера-младшего, а еще через год – Сиднея Эрла. Однако настоящей семьи снова не получилось.

Чаплин и Лита Грей изучают сценарий фильма «Золотая лихорадка».
Все было не так с самого начала. У пары было крайне мало общих интересов, к тому же из-за беременности Лита не смогла сыграть в «Золотой лихорадке», и ей пришлось срочно искать замену – вместо нее сыграла Джорджия Хейл. Юная жена без царя в голове и с целым букетом капризов выводила Чаплина из себя, и он старался проводить дома как можно меньше времени, заменив Литу Джорджией не только на съемочной площадке, но и в постели. Неудивительно, что в конце концов Лита подала на развод: в ее исковом заявлении было 42 страницы, на которых она в подробностях описывала жестокость и аморальность супруга, перечисляя его любовниц и вспоминая все его выходки. Лита утверждала, в частности, что Чаплин неоднократно угрожал ей пистолетом, что он склонял ее к групповому сексу, и прочие нелицеприятные вещи. Так это было или нет, никому не было интересно – зато заявление миссис Чаплин ушлые газетчики перепечатали и продавали на улицах всем желающим по 25 центов. Развод состоялся в августе 1927 года: суд обязал Чаплина в качестве компенсации выплатить Лите более 600 тысяч долларов (плюс по сто тысяч на каждого из сыновей), не считая недвижимости – на тот момент это была рекордная сумма алиментов, а поднятая прессой шумиха сделала их развод самым громким скандалом конца 20-х годов. По мнению некоторых критиков, свой прославленный роман «Лолита» Набоков написал под влиянием истории Чаплина и Литы Грей.
После суда Чаплину пришлось лечь в клинику нервных болезней, откуда он вышел совершенно седым. Фильм «Цирк», который он тогда снимал, вместо задуманной легкой комедии вышел довольно мрачным и пессимистичным… Впрочем, Чаплин недаром любил повторять: «Только работа придает смысл жизни – все остальное суета». «Цирк» был номинирован на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и актерскую работу – однако по решению академии Чаплин получил специальный «Оскар» с формулировкой «За многогранность и гениальность в актерском, сценарном, режиссерском и продюсерском мастерстве».
Едва оправившись от тяжелого развода, Чаплин приступил к съемкам нового фильма «Огни Большого города». В то время уже появились первые звуковые фильмы, и кинопрокатчики стали отказываться от немых лент. Однако Чаплин был уверен, что только в жанре немого кино он может выразить себя в должной степени. «Меня удивляют высказывания некоторых критиков о том, что моя техника съемки старомодна, что я не иду в ногу со временем, – писал Чаплин. – С каким временем? Моя техника порождается моей мыслью, моей логикой и моим подходом к данному произведению; я не заимствую ее у других. Если бы художник обязан был идти в ногу со временем, то Рембрандт оказался бы давно устаревшим по сравнению с Ван Гогом… Я твердо решил по-прежнему делать немые фильмы – мне казалось, что для всякого рода зрелищ найдется место.
К тому же я был актером пантомимы, в этом искусстве я был единственным в своем роде и, скажу без ложной скромности, настоящим мастером».
Однако в работе Чаплин столкнулся с неожиданными трудностями: не только прокатчики, увлекшись звуковым кино, отказывались от немого – актеры, сыграв в звуковых фильмах, где чувства можно было выразить просто словами, разучились пользоваться мимикой. Опять очень долго искали актрису на главную роль: в итоге Вирджинию Черрилл, сыгравшую слепую цветочницу, Чаплин притащил на пробы прямо со стадиона, где они оба смотрели боксерский матч. Фильм был снят за два года и два миллиона долларов – хотя Чаплин всегда говорил, что ему «для того, чтобы сделать комедию, нужен только парк, полицейский и хорошенькая девушка», каждый новый фильм требовал все больших расходов на актеров, декорации и технику – и это при том, что всю техническую работу, от сценария и режиссуры до монтажа и написания музыки, Чаплин делал сам. До самой премьеры было непонятно, понравится ли фильм зрителю – однако премьерные показы прошли с таким оглушительным успехом, что все скептики, предрекавшие немому фильму провал, вынуждены были замолчать. Ради рекламы фильма в Европе Чаплин снова посетил Англию: «Второе посещение Англии было почти столь же ошеломительным и волнующим, как первое, но, несомненно, более интересным», – вспоминал Чаплин. В Лондоне он познакомился с Уинстоном Черчиллем и Бернардом Шоу, во Франции ему был вручен орден кавалера Почетного легиона, а в Берлине он гостил у Альберта Эйнштейна. Чаплин посетил также Сингапур и Японию. Как выяснилось много позже, в Японии он чуть не стал жертвой политических террористов: знаменитого актера предполагалось убить во время встречи с премьер-министром, дабы таким образом развязать войну с Америкой, однако в последний момент планы заговорщиков поменялись, и премьер-министра убили накануне его запланированной встречи с Чаплином.

Чарльз Чаплин и Вирджиния Черрилл в фильме «Огни большого города», 1931 г.
Вскоре после возвращения из турне Чаплин познакомился с Полетт Годдар – начинающей актрисой, только что приехавшей в Голливуд после развода с мужем-бизнесменом. «Нас связывало с Полетт одиночество, – вспоминал Чаплин. – Она недавно приехала из Нью-Йорка и еще никого не знала в Голливуде. Для нас обоих эта встреча была подобна встрече Робинзона Крузо с Пятницей». Уже скоро между ними вспыхнул страстный роман, и в конце концов Полетт переехала к Чаплину. Она сыграла главные роли в его прославленных фильмах «Новые времена» и «Великий диктатор». Журналисты изо всех сил старались разузнать подробности ее жизни с Чаплином – говорили, что они тайно поженились в апреле 1934 года на борту яхты Чаплина, что Полетт была неудачно беременна от него, а уж рассказов об их ссорах и расставаниях было чуть ли не больше реального количества их встреч. Полетт и Чаплин утверждали, что они поженились в 1936 году, вскоре после премьеры «Новых времен». Впрочем, никаких доказательств брака предъявлено не было: Полетт даже потеряла практически подписанный контракт на роль Скарлетт О’Хара в фильме «Унесенные ветром» из-за того, что не смогла доказать законность своего проживания вместе с Чарли. Нравы пуританской Америки становились все более и более серьезным фактором в кинобизнесе.

На съемочной площадке Чаплин легко менял свое амплуа.
Скоро и сам Чаплин столкнулся с набирающей силу властью идеологии. В 1938 году он приступил к съемкам нового фильма «Великий диктатор», в котором собирался высмеять надвигающуюся германскую угрозу и лично Гитлера. Идея фильма возникла из-за неоднократно замеченного журналистами и зрителями сходства между Бродягой Чарли и Гитлером – от формы усов до некоторых моментов биографии. Чаплина весьма беспокоили и сведения о преследовании евреев в Германии (о которых он узнавал от своих друзей, бежавших от нацизма в Америку, например, от Альберта Эйнштейна), и агрессивная политика нацистов. Однако Чаплин сразу же столкнулся лицом к лицу с тем нерадостным фактом, что фильм, высмеивающий Гитлера, никому не нужен – более того, ему обещали проблемы с цензурой, запрет на прокат в Европе и неприятности от различных прогерманских организаций, которых накануне войны было немало и в Европе, и в США. Однако как только Англия вступила в войну с Германией – это случилось 3 сентября 1939 года, – давить на Чаплина начали ровно наоборот: картину требовалось как можно скорее выпустить в прокат. «Великий диктатор» – первый звуковой фильм Чарли Чаплина, где он сыграл роли и сумасшедшего диктатора Аденоида Хинкеля, и похожего на него еврея-цирюльника, – вышел в 1940 году; он получил пять номинаций на «Оскара» (правда, ни одной так и не удостоился). Фильм демонстрировался в Лондоне во время битвы за Британию и, как сообщалось, способствовал поднятию боевого духа. По некоторым данным, видел картину и сам Гитлер; Чаплин, услышав об этом, сказал: «Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме». «Великий диктатор» был последним фильмом, где Чаплин использовал прославивший его образ Чарли-бродяги.

Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор», 1940 г.
Далеко не все были довольны картиной: одни обвиняли Чаплина в разжигании войны между США и Германией, другие говорили, что он слишком мягко отзывается о таком ужасном человеке. На него сыпались письма с угрозами и предупреждениями, «доброжелатели» обещали, что в кинотеатрах во время демонстрации фильма будут взрывать бомбы со слезоточивым газом или устроят стрельбу. Финальная речь, которую произносит в фильме принятый за Хинкеля цирюльник, вызвала наибольшие споры – в ней видели выражение политических взглядов самого Чаплина, явно не совпадающих с точкой зрения правящих кругов страны. Нью-йоркская газета Daily News даже писала, что Чаплин «тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем». Деятельностью Чаплина заинтересовалась Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, а ФБР завело на Чаплина дело, которое к концу сороковых насчитывало более 1900 листов.
Вскоре после премьеры фильма Чарли и Полетт разошлись, сумев, правда, остаться друзьями. В 1958 году Полетт вышла замуж за писателя Эриха-Марию Ремарка и навсегда покинула США. На склоне лет Полетт, как и Чаплин, жила в Швейцарии, однако виделись они редко: «Мы живем на разных горах», – говорила она.
Успех «Великого диктатора» лишь подогревал недовольство Чаплином в определенных кругах. Журналисты, прежде относившиеся к актеру с уважением, стали все активнее полоскать его грязное белье, отыскивая или выдумывая новые и новые жареные факты. А когда он, выступая на митинге в поддержку открытия Второго фронта (выступать должен был бывший посол США в России Джозеф Дэвис, однако он заболел, и в последний момент попросили Чаплина), начал свою речь со слова «Товарищи», его окончательно записали в «коммунисты». Недоброжелатели обвиняли его в непатриотизме (за почти три десятка лет жизни в США Чаплин так и не стал американским гражданином), и в аморальном поведении, и даже в том, что он – еврей, несмотря на очевидное англо-саксонское происхождение.
На этом фоне разгорелся новый скандал, ставший для Чаплина роковым. В 1941 году Чаплин познакомился с актрисой Джоан Берри: «Мисс Берри была крупной, красивой женщиной лет двадцати двух, с хорошей фигурой, с могучими округлостями груди, которые весьма соблазнительно представлялись для обозрения в слишком глубоком вырезе летнего платья и не могли не возбудить в пути моего интереса», – писал Чаплин. Некоторое время они были вместе: Чаплин даже планировал взять ее на роль в своем новом фильме, для чего оплатил ей обучение в актерской школе. Но вскоре Берри своим неуравновешенным поведением и завышенными требованиями утомила Чаплина. Она могла ворваться к нему в дом посреди ночи, пьяной ездить по шоссе, а позже била окна, устраивала публичные скандалы и требовала денег – пока, наконец, Чаплин не дал ей несколько тысяч долларов в обмен на обещание уехать в Нью-Йорк и оставить его в покое.
В поисках актрисы, которая могла бы заменить Джоан, Чаплин познакомился с начинающей актрисой Уной О’Нил – семнадцатилетней дочерью знаменитого драматурга Юджина О’Нила. «Я приехал довольно рано и, войдя в гостиную, увидел молодую девушку, сидевшую у камина, – вспоминал Чаплин. – Она была одна. Я представился, сказав, что, очевидно, имею честь говорить с мисс О’Нил. Она улыбнулась, и мои мрачные предчувствия сразу развеялись. Я был пленен ее сияющей прелестью и каким-то особенным, ей одной присущим обаянием». Практически сразу же между ними вспыхнул роман, постепенно переросший в нечто большее: «Чем больше я узнавал Уну, тем больше изумляли меня ее чувство юмора и терпимость – она всегда с уважением относилась к чужому мнению. Я полюбил ее и за это, и за многое другое. К этому времени ей едва исполнилось восемнадцать, но я видел, что она не подвержена капризам этого возраста. Уна была исключением из правил, но вначале меня все-таки пугала разница в возрасте. Однако Уна была настроена решительно, как будто она точно знала, что надо сделать. Мы решили пожениться, как только закончим съемки».
Но тут в жизнь Чаплина снова ворвалась Джоан Берри. Сначала она по телефону заявила дворецкому актера, что беременна, затем лично явилась в дом Чаплина и затеяла скандал. Чаплин вызвал полицию – однако газеты подали эту историю совершенно по-другому: «Чаплин, отец неродившегося ребенка, добился ареста матери, которую оставил без средств к существованию», – гласили заголовки. Джоан подала иск о признании отцовства: и хотя Чаплин доказывал, что давно не встречался с Джоан, иску был дан ход. Кроме этого, власти воспользовались моментом и обвинили Чаплина в нарушении «закона Манна»: по нему мужчина, пересекший границу штата в компании женщины и позже вступивший с нею в интимные отношения, мог быть наказан тюремным заключением до пяти лет за каждый случай. Когда-то этот закон был принят, дабы положить конец «белой работорговле», но в XX веке, после запрещения публичных домов, потерял свою актуальность и использовался лишь в крайних случаях для дискредитации неугодных лиц.
В этих обстоятельствах Уна повела себя достойнейшим образом, всячески поддерживая любимого. Они поженились – умудрившись сохранить свои намерения в тайне от репортеров до последнего момента – 16 июня 1943 года. Узнав о браке Уны, ее отец порвал с нею всякие контакты.
В октябре 1943 года Джоан родила сына; по настоянию адвокатов Чаплина был проведен анализ крови, который доказал, что Чаплин не является отцом ребенка. Суд присяжных полностью оправдал актера; однако вскоре иск о признании отцовства был подан вторично, уже без участия Берри: и несмотря на очевидные доказательства, суд обязал Чаплина выплачивать Джоан денежное пособие на ребенка!
Уна уже ждала ребенка; она призналась мужу, что не хочет больше сниматься в кино – ее призвание быть просто женой и матерью. Наконец-то у Чаплина была жена, которая не хотела самоутверждаться за его счет!
После окончания судебной эпопеи Чаплин приступил к съемкам нового фильма «Мсье Верду» – комедии о серийном убийце, который убивает женщин из-за любви к своей больной супруге. После долгих мытарств с цензурой и комитетами по защите морали фильм вышел на экраны в 1947 году и вызвал очередной скандал – что, правда, не помешало ему быть номинированным на «Оскара» за лучший сценарий.
Однако в прокате фильм провалился – в основном из-за того шума, который подняли вокруг него различные консервативные общества типа «Католического легиона», объявившего фильму прямой бойкот. Рядом с кинотеатрами, где осмеливались продолжать показ фильма, стояли пикеты с лозунгами «Чаплин – попутчик красных!», «Вон из нашей страны чужака!», «Чаплин слишком долго загостился у нас!», «Чаплин – неблагодарный! Он прихвостень коммунистов!», «Выслать Чаплина в Россию!» ФБР даже пыталось вызвать актера «на ковер», однако Чаплину до поры до времени удавалось избежать допросов. Говорят, глава ФБР Эдвард Гувер считал его своим личным врагом: известно, что в деле Чаплина стоит его резолюция «Не дайте ему отвертеться!»
Несмотря на тяжелую атмосферу, Чаплин снял еще один фильм под названием «Огни рампы», повествующий о творчестве и судьбах творческих людей. В сентябре 1952 года он с семьей – у них с Уной к тому времени было уже четверо детей – отправился в Англию на мировую премьеру ленты, однако прямо на корабле его застало сообщение о том, что ему закрыт въезд в США, а для получения визы ему придется предстать перед комиссией департамента иммиграции и ответить на ряд обвинений – как политических, так и касающихся морального облика актера. Гувер добился своего.
Оскорбленный Чаплин поселился с семьей в Швейцарии – он купил дом в маленьком городке Корсье-сюр-Веве. Они с Уной жили на редкость счастливо – сбылось пророчество гадалки, предсказавшей когда-то Чаплину успех в кино и удачный брак на склоне лет. Уна была ему идеальной женой: «Он помогал мне взрослеть, а я помогала ему оставаться молодым», – признавалась она. У нее и Чарли было восемь детей – младшего, Кристофера Джеймса, она родила, когда Чаплину было 72 года. В Швейцарии Чаплин общался с друзьями – среди них была королева Испании, кинозвезды и литераторы, писал музыку к своим старым фильмам и был счастлив.

Чарльз Чаплин и Уна с детьми.
Уна смогла вывезти из США все состояние супруга. На эти деньги он основал в 1956 году студию «Аттика-фильм», однако поздние фильмы Чаплина – «Король в Нью-Йорке», где Чаплин сыграл главную роль, и «Графиня из Гонконга», где блистали Марлон Брандо и Софи Лорен, уже не имели прежнего успеха. Последний раз Чаплин появился на экране в 1967 году, сыграв роль старого стюарда в «Графине из Гонконга».
С тех пор, как он отплыл от берегов Америки в сентябре 1952 года, Чаплину единственный раз разрешили вернуться в США: в 1972 году киноакадемия присудила ему второго «Оскара» – «за неоценимое влияние, оказанное им на превращение кино в искусство XX века». Ему дали ограниченную визу – зато овации, сопровождавшие его награждение, были самыми долгими в истории премии. В 1975 году королева Елизавета возвела Чарльза Чаплина в рыцарское звание, присудив ему звание рыцаря-командора Британской империи.
Фильмы Чаплина еще при его жизни стали легендой кинематографа, обретя статус культовых. Образ Маленького Бродяги Чарли до сих пор является одним из самых узнаваемых и тиражируемых в истории культуры XX века: ему подражали везде, от Индии до Южной Америки, от Раджа Капура до знаменитого советского клоуна Карандаша. Ежегодно по всему миру проводились конкурсы двойников Чарли Чаплина: по одной из легенд, в одном из таких конкурсов принял участие сам Чаплин, однако победить не смог, заняв то ли второе, то ли третье место…
Его не стало в сочельник 1977 года – он тихо скончался во сне, пока его семья праздновала Рождество. Но уйти спокойно ему было не суждено: через три месяца гроб с телом актера был похищен, а за его возвращение потребовали 600 тысяч франков. Оказалось, Чаплин предчувствовал такой поворот событий и велел жене не идти на поводу у похитителей. «Мой муж обитает на небесах и у меня в сердце, – заявила Уна. – А то, что попало к вам в руки, мне неинтересно». Через полгода преступники – и тело – были обнаружены. Чарли Чаплин был снова похоронен на кладбище в Веве – но на этот раз гроб поместили в бетонный контейнер…
Старейшина французского кино Рене Клер писал: «Он был столпом кинематографа всех стран и времен. Нет такого создателя фильма, кого бы он не вдохновил…»
Жан Маре

Роман с жизнью
У него было столько талантов, что, казалось, при его рождении феи дрались у колыбели за право вручить свой подарок. Актер, живописец, скульптор, писатель, каскадер, декоратор, наконец, просто красавец, атлет и необыкновенно достойный человек, вызывающий всеобщие уважение и любовь. Единственным, кто сомневался в том, что он достоин этой любви и этих даров, был сам Жан Маре. Впрочем, он, которого называли вечным ребенком, вполне мог помнить, что никаких фей у его колыбели не было…
Жан-Альфред Виллен-Маре родился 11 декабря 1913 года в нормандском портовом городке Шербуре.
Его родителями были ветеринар Альфред Эммануэль Виктор Поль Виллен-Маре, который предпочитал именовать себя просто Маре, и Алина Мария Луиза Вассор, называвшая себя Анриетта. У него был старший брат Анри, родившийся в 1909 году. Благополучие этой обычной буржуазной семьи разрушила война: разразилась Первая мировая, и Альфреду Маре пришлось уйти на фронт. Вернулся он только через четыре года: «Когда мой отец уходил на войну, мне было чуть меньше года, – вспоминал Жан Маре. – Когда он вернулся, мне было пять. Помню, я сидел верхом на сенбернаре и, увидев его в дверях, закричал: «Это что еще за верзила! Прогоните его, он мне не нравится!» Верзила – потому что ростом он был не меньше, чем метр девяносто. Он отвесил мне пощечину. Вскоре мои родители разъехались. Я и брат достались матери, а сенбернар – отцу».
Отделавшись от мужа, Анриетта взяла детей, мать и тетку и переехала в Париж. Она была очень красивой, остроумной, одаренной женщиной, с сильным характером, строгой и справедливой матерью, которая обожала детей и, по словам Маре, воспитывала в них мужество, стойкость и бесстрашие, и ко всему этому – авантюристкой и клептоманкой, не раз оказывавшейся в полицейском участке за попытки краж в роскошных магазинах. Правда, сыновья об этом не знали – когда мать в очередной раз пропадала на несколько дней, бабушка и ее сестра рассказывали им сказки о том, как проводит время Анриетта. Правду Жан узнал лишь много лет спустя и совершенно случайно…
Ребенком он обожал мать. Однажды она повела его на спектакль, где главных героев – страстно влюбленную пару – звали Розалин и Шабишу. С тех пор он стал называть мать Розалин, а она его – Шабишу.
Уже с четырех лет маленький Жанно знал, кем он хочет стать: конечно, актером, и никем иным! С того дня, как он впервые попал в кинотеатр, он буквально бредил этим искусством, без устали разыгрывая перед близкими
сцены из фильмов, только вместо любимых актеров были плюшевые мишки и солдатики. Его кумиром была Перл Уайт – «королева трюков» немого кино, прославившаяся ролями в приключенческих фильмах, полных погонь, падений и подвигов. Жанно был восхищен мужеством этой хрупкой актрисы – пока не узнал, что она уже давно не исполняет трюки сама: за нее это делала целая команда каскадеров. Тогда Жанно пообещал себе, что уж он-то будет сам исполнять все трюки в своих фильмах!
Но пока кинематографическая карьера была делом туманного будущего, Жанно научился актерствовать в настоящей жизни. Он быстро понял, что любят не за то, каков человек есть, а за то, каким он кажется, – и прикладывал все усилия к тому, чтобы оправдывать надежды окружающих. В семье, среди обожавших его женщин, он был милым и послушным. В школе же Жанно, чтобы вызвать уважение сверстников, был настоящим «маленьким чудовищем»: он воровал все, что плохо лежало, хулиганил, врал о своей семье и к тому же обожал жестокие розыгрыши, жертвами которых становились его одноклассники и учителя. Однажды он украл совершенно ненужную ему коробку с красками – и, решив извлечь из нее хоть какую-то пользу, начал рисовать. Случай быстро породил увлечение, а увлечение переросло в страсть, не оставлявшую Маре всю жизнь.
Из-за плохого поведения ему пришлось сменить не одно учебное заведение, пока однажды он не увидел одного школьника, бессовестно и беззастенчиво лгущего о своей семье, ее богатстве и своем роскошном доме. Это было настолько отвратительно, что Жанно поклялся больше никогда не врать, а заодно избавиться от всего, что было в нем отвратительно: от лени, тщеславия и жестокости.
В шестнадцать лет учебу пришлось бросить: семье нужны были деньги. Сначала Жан устроился в радиомастерскую, а затем поступил на завод Патэ, занимавшийся производством кинооборудования: хоть так, но Жан стал на шаг ближе к своей мечте. Следующим шагом была работа в фотоателье: хозяин ателье, кроме собственно мастерства фотографа, учил Жана живописи, а также снимал красивого юношу для рекламы своего заведения. Жан же рассылал карточки на все киностудии в надежде, что какой-нибудь режиссер вдохновится его лицом и предложит ему роль. Юного красавца нередко приглашали на пробы, но дальше дело не шло. На прослушиваниях Маре читал классические монологи и делал это с таким чувством, что однажды услышал в свой адрес: «Вам нужно лечиться! Вы истерик!»

Это отрезвило Жана: он понял, что одной внешности и желания недостаточно для того, чтобы стать актером, – нужно образование. Он трижды безуспешно пытался поступить на актерское отделение Парижской консерватории, пока, наконец, не был принят статистом в театр Atelier: эта работа, помимо бесценной практики, давала возможность почти бесплатно ходить на курсы актерского мастерства к прославленному педагогу Шарлю Дюллену – среди его учеников в разное время были, например, великий хореограф Ролан Пети, прославленный режиссер Жан-Луи Барро и знаменитый мим Марсель Марсо. Жан старательно учился, а по вечерам играл маленькие роли в спектаклях: например, в «Юлии Цезаре» он исполнял целых пять ролей. В 1963 году, отвечая на анкету журнала «Искусство кино», Жан Маре писал:
Когда я занимался на курсах Дюллена, одним из моих педагогов был Соколов, прекрасный актер. Он сам был учеником Станиславского и много рассказывал о его системе. Себя я тоже приобщаю к этой школе, имеющей огромное значение для кинематографа: она требует находить для самого сильного внутреннего чувства очень точное и сдержанное внешнее выражение.
С двадцати лет Жан Маре появляется и на киносъемочной площадке, но как это далеко от его мечтаний! Режиссер Марсель Л’Эрбье снял Жана в крошечных эпизодах в нескольких своих фильмах, а кое-где Маре указан в титрах и как ассистент режиссера. Говорят, Л’Эрбье намекал Маре, что если тот окажет ему некоторые вполне понятные услуги, то получит главную роль. Тот не поддался и продолжал сниматься в эпизодах – нередко роли были такие маленькие, что Жан с трудом находил себя на экране…
Самым знаменитым человеком в артистической среде тогдашней Франции был, без сомнения, Жан Кокто. Утонченный эстет, еще в молодости удостоенный прозвища «принц поэтов», названный единственным наследником Оскара Уайльда, он был талантлив и удачлив во всем: писал стихи, романы и пьесы, рисовал, ставил кинофильмы и балеты. Жан Маре вспоминал, что однажды в 1933 году зашел в гости к другу-художнику, и внезапно на одной из картин увидел лицо, удивительно похожее на его собственное. Под картиной стояла подпись «Жан Кокто». Тогда Маре пообещал себе, что когда-нибудь обязательно познакомится с ним. Однако ждать этого ему пришлось четыре года.
В 1937 году Жан Кокто собирался ставить в Atelier свою пьесу «Царь Эдип». Кто-то из занятых в спектакле девушек пригласил на репетицию Жана Маре – мол, у них не хватает мужчин. Маре пришел – и, как говорят, Кокто с ходу предложил ему главную роль. Однако труппа возмутилась, и роль отдали другому, а Маре досталась всего пара реплик. Зато Кокто заметил его и в следующей своей пьесе – «Рыцари Круглого стола» в Theatre de I’CEuvre — предложил ему роль еще до того, как какие-нибудь завистники смогли вмешаться. «Я был приглашен почти случайно, – писал Маре. – Спектакли «Эдипа» проходили неспокойно, публика свистела, а я бросал ей взгляды, полные ненависти. Я пытался устоять перед ее натиском. Кокто заметил мою смелость и был мне за нее благодарен». Конечно, Маре был неопытным новичком, дилетантом, но Кокто смог разглядеть в нем не только потрясающие внешние данные, но и немалый драматический талант, который только надо было вытащить на свет. Кокто натаскивал Маре, репетировал с ним, учил двигаться и разговаривать… По совету Кокто Маре начал курить – от этого его мягкий и немного высоковатый голос приобрел глубину и знаменитую хрипотцу. Про его голос много лет спустя в брошюре «Актер-поэт» Мишлин Менье написал:
Голос Жана Маре можно сравнить со звоном колокола под толщей воды, низким звуком поющего среди бури. Мне чудится в нем тягучесть музыки Дебюсси. Я очень люблю этот голос, мягкий, приятный, округляющий каждое слово, будто плетущий кружева. В интонациях этого голоса, несмотря на мужественность тембра, есть что-то детское…
Внимание мэтра к молодому красавцу не осталось незамеченным – за кулисами поползи слухи, за которые Маре сначала нередко давал в нос, а потом решил просто игнорировать. Однажды Кокто позвонил Жану: «Немедленно приходите, произошла катастрофа!» Тот немедленно примчался в дом Кокто.

Жан Маре и Жан Конто.
В освещенной мягким, затененным светом комнате, где прихотливая фантазия хозяина соединила игрушечную лошадку и магический кристалл, эскизы Пикассо и китайскую опиумную трубку, мэтр в белом махровом халате и шелковом шарфе на шее напряженно всматривается в лицо молодого дилетанта – своего слушателя, – писал Маре в воспоминаниях.
– Нервные, удлиненные пальцы пианиста рассеянно теребят вьющиеся волосы. И вдруг мэтр встает, подходит ко мне и произносит ошеломляющую фразу: «Это катастрофа! Я вас люблю!» Страх перед всемогущим режиссером и мгновенно мелькнувшие в мыслях блистательные возможности заставили меня пойти на маленькую ложь и чуть слышно ответить: «Я тоже». Эта ложь была маленькой еще и потому, что очень скоро она стала правдой… Я полюбил Жана.
Жан Кокто стал для молодого актера всем: отцом, учителем, любовником и другом. В нем Маре нашел все, чего ему так не хватало: понимание, нежность, поддержку, образованность и доверие. Маре всегда чувствовал себя недоучкой – и Кокто, который был прекрасно образован и эрудирован во многих областях, составлял для него списки книг, водил по музеям и обучал хорошим манерам. «Он родился красавцем от красивой матери, – писал впоследствии Кокто, – и ему требовалась соответствующая душа, чтобы носить этот прекрасный костюм. Все свои силы я вкладывал в то, чтобы развить в нем его лучшие природные задатки – благородство, мужество, щедрость души. В его сердце светит солнце, в его душе горит огонь». Кокто познакомил его со своими друзьями, среди которых были Коко Шанель, Эдит Пиаф, Лукино Висконти и Морис Шевалье. Он писал для него стихи – их поэтическая переписка вошла в анналы мировой поэзии, ставил пьесы и кинофильмы. Их союз, любовный и дружеский, продолжался двадцать шесть лет, и за это время они ни разу не поссорились. Их связывали творчество и родство душ. Недаром Жан Маре отмечал день их встречи как второй день рождения, повторяя, что Кокто сформировал его как личность, сделал из него актера, а актера превратил в легенду.
В 1938 году Кокто всего за восемь дней специально для Маре написал пьесу «Ужасные родители». Пьесу о непростых отношениях матери и сына поначалу никто не хотел ставить – Кокто даже собирался купить театр, но ему не хватало денег. Жан Маре вспоминал, что за недостающей суммой он отправился к «доброму ангелу» Кокто – Коко Шанель, но та отказала. Наконец пьесу, даже не читая, взяли в Theatre des Ambassadeurs. Партнершей Маре в спектакле была Ивонн де Бре – превосходная актриса, которая поразила Маре своим талантом и со временем стала ему второй матерью. Маре сильно переживал, что ему окажется не под силу исполнить очень сложную, глубокую и многоплановую роль Мишеля, и Кокто беспрерывно работал с ним. Маре вспоминал: «Я долго с ним боролся и этим глубоко ранил его. Я боялся стать механизмом, приводимым в движение Кокто, пешкой в его руках, что без него ничего не смогу сделать. Я боролся против его указаний и рекомендаций. Но однажды я сказал ему: теперь я почувствовал себя настолько сильным, что готов следовать твоим советам».
Спектакль готовился с большими трудностями, однако, когда он наконец вышел, его ждал неожиданно шумный успех, а Маре – восторженные рецензии в газетах и любовь зрителей. «После триумфальной премьеры «Родителей» настоящая радость входит в мою жизнь, – писал Маре. – Каждый вечер я шел в театр, как к любовнице. Я уходил оттуда, как уходят от нее, – блаженствуя и исчерпав себя до дна. Критики единодушно хвалили меня, пьесу, моих товарищей».

Жан Маре и Ивонн де Бре в фильме «Ужасные родители», 1948 г.
Кокто снял новую квартиру на площади Мадлен, и Маре переехал к нему. Маре вспоминал: «Моя комната была смежной с его. Нас разделяла дверь. Множество ночей под нее проскальзывали стихи. Утром я обнаруживал один или несколько маленьких листков, часто цветных, по-разному сложенных. Иногда в форме звезды. День, начинавшийся чтением этих маленьких лепестков, сулил мне счастье и удачу». Поначалу их союз вызывал немало толков, сплетен и даже насмешек, даже мать Маре грозилась порвать с сыном всяческие отношения, и ему стоило немалого труда убедить ее в том, что рядом с Кокто он по-настоящему счастлив. Заткнуть сплетников было проще – «два Жана» просто не обращали на них никакого внимания и скоро заслужили уважение и понимание даже среди самых завзятых недоброжелателей.
Кокто хотел перенести «Трудных родителей» на экран, но этим планам помешала война. Вспоминают, что, едва объявили о нападении, Маре тут же отправился на мобилизационный пункт. Там он услышал разговор двух офицеров, которые жаловались, что армии катастрофически не хватало автомобилей; Маре тут же предложил свой. Его призвали вместе с машиной; он служил шофером воинской части в округе Мондидье. Его положение – водителя личного автомобиля, к тому же известного актера (а среди воюющих быстро нашлись поклонники его таланта), – давало некоторые льготы, однако Маре редко ими пользовался.
Маре воевал несколько месяцев, а затем война для Франции прекратилась, и он вернулся. Жизнь в Париже затихла, «Трудные родители» были запрещены. Что мог сделать в условиях оккупации человек, который хотел только одного – играть? И Жан Маре решил обратиться к классике и сам поставить две пьесы прославленного Расина – «Британника» и «Андромаху».
Когда я ставил «Британника» и «Андромаху», – вспоминал впоследствии Маре, – я пытался добиться наибольшей естественности в декламации и ликвидировать напевность александрийского стиха. Это вызвало скандал. Мнения зрителей и прессы разделились. Однако мне не кажется, что все это вело к разрыву с традициями французского театра. Я хотел только обновить их, приспособить к нашему времени.
Постановки и правда были революционными: тяготы военного времени диктовали условия жесткой экономии, и из-за этого на сцене не было привычной роскоши – вся сценография, автором которой был сам Жан Маре, удивляла сдержанностью и выразительностью, достигнутой минимумом средств. Скандальный отказ от традиционной «певучести» декламации был сродни революции: французские трагедии испокон веку скорее пелись, чем проговаривались, а Маре заставил актеров именно говорить текст, утверждая: «Музыкальности хватит в самих стихах!» Говорят, при постановке «Андромахи» Маре впервые сделал актрисе прическу «конский хвост», с тех пор завоевавшую безграничную популярность.
В 1941 году Кокто ставит пьесу «Пишущая машинка», где Маре играет сразу две роли – Паскаля и Максима. За несколько дней до премьеры стало известно, что один из профашистских критиков Ален Лебро намеревается разнести постановку в пух и прах. Маре вспылил и пообещал, если такое случится, отстоять свою честь кулаками. Так и произошло: на следующий день после выхода разгромной рецензии Лебро Маре нашел его и избил. После этого телефон в квартире Кокто раскалился от благодарственных звонков всех, кому успел насолить Лебро, зато газеты, подвластные немецкой цензуре, поспешили объявить Жана Маре «самым плохим актером Парижа».

Жан Кокто.
В 1943 году против постановки пьесы Кокто «Рене и Армида» – волшебной сказки на сюжет из Торквато Тассо, написанной классическим александрийским стихом, началась настоящая кампания, вдохновленная, как считают, коллаборационистами: на Кокто и Маре лавиной обрушились обвинения как в творческой несостоятельности, так и в личных грехах. Обоим припомнили и гомосексуальность, и грехи молодости, и прошлые творческие неудачи, и увлечение наркотиками Кокто, и «карьеру через постель» Маре. Однако их поклонники остались верны своим избранникам – Маре стал настоящим символом сопротивления оккупантам, а пьеса, разошедшаяся «самиздатом» по рукам, приобрела необыкновенную популярность.
В том же году самый прославленный театр страны Comedie Frangaise пригласил Жана Маре войти в состав труппы. Правда, сотрудничества не получилось: в это время режиссер Марсель Карне пригласил Маре сниматься в своем фильме «Жюльетта, или Ключ к сновидениям» по пьесе Жоржа Неве, однако театр не отпускал Маре на съемки, и ему пришлось уволиться. Но и фильм так и не был снят – лишь через десять лет Карне все-таки поставит эту картину, но главную роль в ней сыграет Жерар Филипп.
Хотя съемки «Жюльетты» и были отменены, Маре не остался без работы. Французские режиссеры, не желая ни сотрудничать с немцами, ни прогибаться перед цензурой, дружно снимали костюмные исторические фильмы, детективы и экранизировали классику, и Маре – красивый, талантливый и к тому же обладавший определенной славой в патриотически настроенных кругах, пользовался большой популярностью. Только за первые годы войны он снялся в картинах «Рдеет вьющийся флаг» режиссера Жака де Баронселли, «Кармен» Кристиан-Жака, на съемках которого Маре научился верховой езде, и «Кровать под балдахином» Ролана Тюаля.

Жан Маре и Мадлен Солон в фильме «Вечное возвращение», 1943 г.
На натурных съемках «Кровати» Маре сблизился со своей партнершей Милой Парели, очаровательной и веселой девушкой: они изо всех сил старались держать свой роман в тайне, однако слухи о нем поползли довольно быстро, дойдя в конце концов и до Кокто. Однако тот, вместо сцен ревности, сделал Маре поистине роскошный подарок – сценарий фильма «Вечное возвращение». В его основу легла старинная легенда о Тристане и Изольде и их несчастной любви, только действие развивалось в современной Франции. Тристан стал Патрисом, а Изольда – Натали, но их трагическая обреченная любовь по-прежнему трогала сердца.
По настоянию Маре на роль матери Патриса была приглашена Ивонн де Бре. Вспоминают, что на съемках Кокто требовал, чтобы волосы Маре и его партнерши Мадлен Солон были одного цвета, но поскольку структура их волос была разная, а косметических средств в условиях войны не хватало, на самом деле волосы нередко получались голубыми, сиреневыми или даже зелеными, хотя на черно-белой пленке они выглядели одинаково. Фильм, который снял Жан Делануа, произвел фурор: Жан Маре в одночасье из просто знаменитого актера превратился в настоящего кумира. Его называли «воплощением красоты на Земле», хотя сам он никогда не считал себя красавцем и так и не смог поверить, что его считают красивым другие. «Когда я был ребенком, – писал он, – мать всегда говорила мне, что я некрасив. Я же не находил свою внешность такой уж дурной, но с тех пор красивым себя тоже не считаю». Ему ежедневно приходили сотни писем, на которые старательно отвечала Анриетта Маре: она успешно подражала почерку сына и даже составила картотеку его поклонниц, чтобы случайно не выслать одну и ту же фотографию или благодарственную записку дважды. В одночасье прославился даже Мулук – пес Маре, которого тот подобрал на военных дорогах. Вспоминают, что все мужчины Франции носили вязаные свитера с жаккардовым узором, как у Патриса, и учились говорить тем же хрипловатым голосом, что и Жан Маре. «Вечное возвращение» вознесло Маре к вершинам настоящей славы. Между тем было известно, что он находится в списках неблагонадежных лиц – несколько месяцев Маре каждое утро просыпался на рассвете, ожидая ареста…
Когда союзники освобождали Париж, Маре вступил в дивизию генерала Леклерка, став помощником водителя, а затем и водителем бензовоза, развозившего топливо для заправки танков. За мужество он даже был награжден военным крестом, однако в изложении Маре эта история была скорее похожа на анекдот, чем на подвиг: Маре ел варенье, сидя в кабине своего грузовика, и включил мотор, чтобы погреться, в тот момент мимо проходил кто-то из высших чинов. Оказалось, что только недавно был издан приказ, согласно которому шоферы в любой ситуации должны были оставаться в своих машинах, не глуша мотор. Маре наградили как пример смелости и верности приказам, он же мечтал о настоящих боевых подвигах, которых на его долю так и не выпало. Как он вспоминал впоследствии, на войне «я не бежал от героизма, однако героизм упорно бежал от меня».

Мила Парели, 1939 г.
Чтобы получить отпуск, Маре предложил своей давней подруге Миле Парели изобразить замужество – и она с радостью согласилась. Журналисты осаждали пару, засыпая их вопросами типа «как они могут жить вместе» и «не мешает ли прошлое их любви». Под «прошлым», видимо, имелся в виду Кокто – однако на прямой вопрос Маре тот ответил, что для него важнее всего его счастье. Всего Маре и Парели прожили вместе два года, пока Маре не понял, что он все же не создан для семейной жизни.

Жан Маре. Портрет Милы Парели, 1942 г.
Однако его сотрудничество с Кокто не прекращалось ни на минуту. В 1944 году он написал для Маре сценарий еще одного легендарного фильма «Красавица и Чудовище», снова обыгрывающий классический сюжет сказки мадам де Бомон, и взялся сам выступить режиссером. Красавицу должна была играть Жозетт Дей, а одну из ее сестер сыграла Мила Парели – хотя их отношения с Маре были уже в прошлом, они по-прежнему относились друг к другу очень тепло. Для участия в фильме Маре по особому разрешению генерала Леклерка отпустили с фронта, однако съемки не раз были под угрозой срыва: сначала киностудия отказалась от реализации столь странного сценария, затем сам продюсер хотел прекратить съемки, решив, что фильм про наряженного зверем человека не будет никому интересен. Кокто еле уговорил его снять на пробу одну из сцен фильма. Говорят, жена продюсера плакала на просмотре, и съемки были разрешены. Однако неприятности на этом не кончились: были перебои с электричеством, Мила Парели упала с лошади и чудом не получила серьезных травм, а у Маре началась жестокая аллергия на шерсть, которую клеили ему на лицо. Для образа Чудовища его гримировали пять часов – три часа на лицо наклеивали специальную маску, сделанную по заказу лучшим французским специалистом по парикам (а отдирать ее приходилось чуть ли не с кожей), и по часу уходило на каждую руку, а кроме этого специальной краской красили зубы и накладывали звериные клыки. Кожа под гримом ужасно чесалась, к тому же, из страха, что грим может отклеиться, Маре на съемках питался исключительно компотами и пюре. В то же время у Кокто тоже началось кожное заболевание – по мнению некоторых, это было проявлением его любви к Маре. На съемочной площадке ему приходилось работать, закрыв лицо листом бумаги с прорезями для глаз, который Кокто крепил скрепками к шляпе.

Жан Маре и Эдвиж Ферье в фильме «Двуглавый орел», 1947 г.
В военных условиях были проблемы с тканями, аппаратурой и пленкой, зато эскизы костюмов делали Пьер Карден и Кристиан Диор. Вспоминают, что Карден, у которого была очень схожая с Маре фигура, примерял его костюмы на себя – Маре потом шутил, что манекеном для него выступал сам Пьер Карден! Когда в конце концов фильм вышел, он имел огромный успех, неожиданно для самих авторов почти сразу приобретя статус легенды.
Следующей совместной работой Кокто и Маре стала пьеса «Двуглавый орел» – романтическая история трагической любви королевы и анархиста, посланного ее убить. Королеву играла Эдвиж Ферье – для Маре она навсегда останется образцом элегантности, женственности и профессионализма. Спектакль с необыкновенным успехом шел целый год, и хотя рецензенты писали в основном о том, как технично падает с высокой лестницы Жан Маре (а он делал это ежедневно, без страховки и дублеров), восхищения были достойны все участники спектакля. Через несколько лет Кокто перенесет этот спектакль на большой экран, и снова падение Маре в конце фильма будет вызывать аплодисменты. Вспоминают, что, когда снимали эту сцену, Кокто попросил Маре не шевелиться, чтобы без помех снять крупные планы, пока ему не скажут «стоп»: про кодовое слово забыли, и Маре, упав, лежал неподвижно так долго, что вся съемочная группа испугалась, не погиб ли он по-настоящему…
Конец войны Маре встретил национальным героем, кумиром поколения, воплощавшим в себе желания и мечты всей нации. Казалось, его детская мечта стать популярным сбылась: «Небо услышало мои молитвы и вняло им, – с улыбкой говорил Маре. – Как жаль, что я не догадался попросить Бога сделать меня большим актером. Может быть, я был бы им». В сороковых годах он много снимался – в 1946 году играл в адаптации Гюго «Рюи Блаз» (в советском прокате «Опасное сходство»), снятой режиссером Пьером Бийоном по сценарию Кокто, где Маре исполнил сразу две роли – студента Рюи Блаза и благородного главаря разбойников Сезара де Базана. Верный своему детскому обещанию, Маре сам исполнял все трюки, которых в фильме было немало, хотя у него была сильная близорукость (об этом мало кто знал, потому что Маре всю жизнь отказывался носить очки, считая, что они делают его смешным). «Если я готов рисковать, то это потому, что мне нравится преодолевать страх, – говорил Маре. – Если ты соглашаешься играть роль, где приходится подвергать свою жизнь опасности, значит, ты готов это сделать. И мне это кажется вполне естественным». Режиссер был категорически против, не желая рисковать здоровьем знаменитого актера, и оказался прав – во время съемок Маре чуть не утонул: снимали сцену, где герой
Маре переплывает бурную реку, актера затянуло головой вниз в стремнину, и он застрял между двумя валунами. Он едва смог выбраться на берег, на чем свет стоит проклиная всю съемочную группу, но режиссер тут же попросил его снова залезть в то же место, пока свет не ушел… Однако этот случай не охладил пыла Маре, и он продолжал сам исполнять все трюки. «Рюи Блаз» был поначалу прохладно принят публикой, однако позже приобрел популярность как первый из целой череды историко-приключенческих фильмов, в которых за свою жизнь снимался Жан Маре.
В ленте «Тайна Майерлинга» режиссера Жана Делануа – романтизированной истории самоубийства Рудольфа Габсбурга и его возлюбленной Марии Вечеры – Маре сыграл Рудольфа. Марию играла Доминик Бланшар, очаровавшая Маре, как ее героиня – Рудольфа. Пронырливые журналисты даже стали поговаривать о свадьбе, однако Маре заявил: «Я слишком люблю Доминик, чтобы пожелать ей такого мужа, как я». Они дружили многие годы. Делануа горел желанием снять еще один фильм с Маре – он чуть не ежедневно приходил в дом к Маре и Кокто и умолял их написать сценарий для нового фильма, однако Кокто отказывался. Тогда Делануа обратился к Неве, который по сюжету самого Делануа написал сценарий «Глазами памяти». Вместе с Маре снималась красавица Мишель Морган – Маре называл ее «единственной женщиной, которую я мог бы по-настоящему полюбить». Однако Мишель, которая прекрасно относилась к Маре как к другу, осталась равнодушной к нему как к мужчине – в то время она была увлечена актером Анри Видалем, за которого скоро вышла замуж. Она вспоминала:
Он говорил мне, что хочет на мне жениться, но в то же время был влюблен в кого-то еще. Жан был великолепен, обаятелен, но иногда впадал в ужасный гнев. Играть с ним было удовольствием. Всегда все обсуждали.
Никаких ссор, никакого соперничества. У него был священный огонь, у меня же не настолько. Он хотел уговорить меня играть на сцене, но я испытывала страх перед сценой. Позже мы играли с ним в «Священных чудовищах» и, каждый вечер встречаясь, радовались друг другу. Гастрольные поездки с ним были очарованием: вечерние прогулки, маленькие бистро… Я любила честность Жана Маре, его достоинство, его откровенность, его мужество. Он ничего не боялся. Он был способен даже применить силу. Он не отказывался признать себя гомосексуалистом, не делая из этого знамени. Да, я любила Жана Маре. Это была настоящая дружба. Маре еще раз встретится с Морган на съемках «Стеклянного замка», и они будут дружить до самой его смерти.
Наконец, в 1949 году Жан Маре снимается в фильме, который по праву считается как одной из главных вершин его кинокарьеры, так и высшей точкой его творческого союза с Кокто: в прославленном «Орфее». На роль Смерти, в которой Кокто хотел видеть черты своей давней возлюбленной Натали Палей, планировали сначала Грету Гарбо, потом Марлен Дитрих, и в конце концов остановились на Марии Казарес, прекрасной актрисе, прославленной сотрудничеством с Альбером Камю, за что ее даже называли «музой экзистенциализма». На съемках этого многопланового, насквозь пронизанного символами фильма Кокто проявил необыкновенную фантазию: он выстраивал декорации под необычными углами, придумал множество трюков с зеркалами, которые образуют настоящий волшебный лабиринт. В одном из кадров, где Орфей-Маре погружает руки в зеркало, роль стекла исполнял тазик с настоящей ртутью. Фильм моментально приобрел статус культового, да и сейчас по праву считается одной из вершин мирового кинематографа. Примерно в это же время личный союз Маре и Кокто окончательно распался, однако их дружба не прервалась – наоборот, она переросла в практически родственные отношения.

В конце сороковых Жана Маре снова пригласили в Comedie Frangaise, и он согласился при условии, что ему дадут снова поставить расиновского «Британника»: впервые в истории прославленного театра актер, которому не было и сорока, не только сыграл роль Нерона в спектакле, но и был его режиссером и художником-постановщиком. Его уже давно не воспринимали как «актера Кокто», никто уже не вспоминал, что поначалу его считали лишь талантливым протеже и красивым манекеном.
В пятидесятых годах Маре играет сразу в нескольких театрах, и к тому же много снимается, делая по несколько фильмов в год, и почти везде – главные роли, успех и признание критики. Он работал с такими режиссерами, как Жан Ренуар, который снял Маре в картине «Елена и ее мужчины», Саша Гитри, у которого Маре сыграл в ленте «Если бы нам рассказали о Париже», Лукино Висконти, доверивший Маре роль в киноверсии романа Достоевского «Белые ночи». Всемирную известность Маре принесла экранизация «Графа Монте-Кристо», снятая Робером Верни: после нее женщины всего мира стали мечтать о французском красавце.
На съемках «Спальни старшеклассниц» Маре познакомился с Жанной Моро, игравшей там небольшую роль. Он был очарован ее талантом и задумал поставить специально для нее «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Ради этой постановки он перешел в Theatre des Bouffes-Pa-risiens, где скоро стал художественным руководителем. Репетиции «Пигмалиона», где Маре снова был режиссером, декоратором и актером, он вел параллельно со съемками в картине Марка Аллегре «Будущие звезды»: несколько месяцев Маре спал всего по два часа в сутки, зато и фильм, и спектакль пользовались большим успехом, а Жанна Моро обрела настоящую славу. На постановке пьесы Уильяма Гибсона «Двое на качелях», где партнершей Маре была Анни Жирардо, Маре снова работал с Висконти, которого пригласил режиссером, – сам Маре не смог поставить спектакль: ведь в нем было всего две роли, и Маре решил, что он не будет разрываться напополам. «Театр был его миром, – вспоминал один из его друзей. – Он играл как жил, как дышал.
Он всегда репетировал и всегда был недоволен собой. Театр был смыслом его существования».
Конец пятидесятых Маре ознаменовал своей последней работой с Кокто – фильмом «Завещание Орфея», где сыграл Эдипа. Поэт – Кокто – вспоминает свою жизнь, пытаясь вернуть вдохновение и одержимость, и вместе с ним в кадре Серж Лифарь, Франсуаза Саган, Юл Бриннер, Шарль Азнавур, Пабло Пикассо, Мария Казарес…

Жан Маре в фильме «Завещание Орфея», 1960 г.
Примерно в это же время началось долгое сотрудничество Маре с режиссером Андре Юнебелем, который снял подряд сразу несколько костюмных исторических фильмов с Маре: «Капитан», «Горбун», «Тайны Бургундского двора» (в оригинале называвшийся «Чудо волков»), «Парижские тайны»… Эти фильмы, полные приключений и трюков, вывели популярность Маре на новый виток: теперь он был известен не как романтический герой-любовник своих прежних фильмов, страдающий и мучающийся, а как настоящий герой, шпагой и отвагой завоевывающий мир. По воспоминаниям, Юнебель пригласил Маре на съемки, когда увидел, как он лихо повторил сложный трюк во время циркового выступления. Он признавался: «Обычно актеры, целиком состоящие из мускулов, не обладают психологической глубиной. Нельзя требовать от Геркулеса из Чинечиты, чтобы он был даровитым исполнителем. Но Маре – о, с ним я держал в руках редчайшую птицу». Фильмы Юнебеля побили все рекорды по сборам, и до сих пор остаются невероятно популярными. Конечно, все трюки Маре исполнял сам, хотя дело никогда не обходилось без несчастных случаев: на съемках сцены из «Капитана», где герой Маре взбирается на высокую башню с помощью двух кинжалов, на одном из дублей он сорвался и упал с пятиметровой высоты. К счастью, обошлось без травм. Когда Маре спрашивали, как он готовит свои трюки, он отвечал: «Часто режиссеры приглашают каскадеров, чтобы исполнить тот или иной трюк.

Жан Маре в фильме «Капитан», 1960 г.
Они репетируют, я смотрю – и потом делаю трюк сам». На самом деле все трюки были тщательно отрепетированы вплоть до самого мелкого жеста. При этом Маре никогда не занимался спортом, ограничиваясь лишь лыжными прогулками зимой и плаванием летом.
Успех, награды и толпы поклонников не вскружили ему голову. Он по-прежнему не верил, что все восторги зрителей и критиков относятся к нему, и оставался тем самым добрым, радостным и честным парнем, которым решил когда-то стать. «Всегда доступный другим, он принимал, не протестуя, всех представителей прессы, кроме «дураков», не строил из себя важную персону, подобно другим известным актерам. Жан Маре был правдив по отношению к самому себе и по отношению к другим. Но он мог быть и жестоким, когда следовало заступиться за кого-либо из его друзей, плохо переносил, когда ему противоречили», – писал его биограф Кароль Вайсвайлер. Вместе с Фернанделем он основал и несколько лет возглавлял Общество помощи актерам, потерявшим трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Оно оказывало финансовую помощь, помогало в организации лечения или отдыха. Маре никогда не страдал «звездной болезнью», не относился к себе всерьез.
Я – лентяй, – писал Маре о себе, – и никогда этого от себя не скрывал. Все, что меня не забавляет, кажется мне смертельно скучным, а игра, насколько мне известно, не требует особых усилий – поэтому я всегда играл. Я играю в театре, в кино точно так же, как я играю, когда рисую, пишу картины, леплю, занимаюсь постановкой спектаклей, создаю декорации. Я играю до изнеможения то в актера, то в гончара. Я играю сам с собой, против самого себя, будучи одновременно ребенком, взрослым, стариком… Только разговоров о своей личной жизни он не любил. Когда известия о его связи с Кокто только начали распространяться, он получал множество гневных писем, и очень тяжело переживал любые скандалы вокруг своего имени, или вокруг своих друзей. Маре не скрывал свою сексуальную ориентацию, но никогда и не подчеркивал ее; говорил об этом без стеснения и без комплексов, но никогда не поддерживал шуток на эту тему. Как актер он чувствовал себя лучше в компании женщин.
Маре был пунктуален и требовал того же от других – однажды, например, один режиссер на две минуты опоздал на назначенную встречу, и рассерженный Маре заметил ему: «Если бы я был поездом, вы бы меня уже пропустили. Значит, я вам менее важен, чем поезд». Зато он умел быть щедрым, тактичным и деликатным. Рассказывают, что однажды в аэропорту он купил билет для женщины, которой не хватало денег на дорогу домой, а его подруги вспоминают, что такси, которое ждало их после обеда с Маре, всегда оказывалось заранее оплаченным – актер считал, что такси должен оплачивать мужчина.
Однако и Маре, который со стороны казался принцем из сказки, начинают настигать проблемы. Тяжело заболел его брат Анри, и Жану пришлось перевезти его к себе. Примерно в это же время Маре получил письмо из родного Шербура, в котором не бывал с детства, – оказывается, его отец, которого он не видел несколько десятилетий, тяжело болен и хочет с ним повидаться. Маре несколько раз ездил в Шербур на свидания, пытаясь хотя бы теперь узнать своего отца поближе, пока, наконец, Альфред Маре не скончался. Вскоре умер и Анри…
Через несколько месяцев к Жану Маре пришел один журналист, который сначала беседовал с актером о его ролях, а затем признался, что он – его двоюродный брат, племянник настоящего отца Маре Эжена Удая: Анриетта всю жизнь любила другого, однако тот был женат. Анриетта призналась, что У дай и правда был настоящим отцом всех ее детей – Альфред был бесплоден… Скоро Анриетта перебралась к сыну – она была стара, больна, к тому же постепенно теряла рассудок.
Наконец, его друг последних лет, танцовщик Жорж Райх, покинул актера. Почувствовав себя одиноким, Маре решается на серьезный шаг – по примеру Кокто, который когда-то усыновил Эдуара Дермита, он усыновил юношу-цыгана Сержа, с которым случайно познакомился в баре. Сержу было девятнадцать, у него не было родителей, профессии, увлечений – и Маре с энтузиазмом взял на себя ответственность за жизнь юноши. Он воспитывал его, пытался привить ему любовь к театру, занимал на съемках фильмов, где играл сам, нанял ему преподавателя по вокалу и даже договорился с композитором Жаниной Берти, чтобы она написала музыку к стихам, которые Кокто написал для самого Маре. Он хотел, чтобы Серж записал их на пластинку, однако его приемного сына больше интересовали женщины и гулянки, чем песни, которые он счел старомодными и непонятными. Пластинку Маре записал сам.
Со временем связь отца и его приемного сына все слабела. Серж жил отдельно и очень редко навещал Маре. Много лет спустя Жорж Райх вспомнил, что Маре говорил ему: «Если бы ты меня не оставил, у меня не было бы катастрофы – Сержа».
И словно этого было мало – тяжело заболевает Жан Кокто, человек, который был учителем, смыслом жизни и главной любовью Жана Маре. Он бросил все свои дела, снова переехал к Кокто и преданно ухаживал за ним до конца его дней. 11 октября 1963 года стало известно о смерти Эдит Пиаф, давней подруги Кокто. Узнав об этом, он сказал: «Это известие не дает мне дышать…» – и вскоре, готовясь зачитать по радио траурную речь, скончался от отека легких. По признанию Маре, это была самая тяжелая минута его жизни. В своеобразном письме-некрологе, адресованном Кокто, он признавался: «Жан, я люблю тебя. Ты сказал в «Завещании Орфея»: «Сделайте вид, что вы плачете, друзья мои, потому что поэт только делает вид, что он мертв». Жан, я не плачу. Я засну. Я засну, глядя на тебя, и умру, потому что с этих пор буду лишь делать вид, что живу»…
Еще через год, 15 сентября, скончалась мать Маре.

Жан Маре в образе Фантомаса.
После смерти Кокто Маре выполняет желание своего великого друга – ставит его последнюю пьесу «Ученик дьявола». Он снова играл, ставил, декорировал, шил костюмы… Спектакль не имел ожидаемого успеха, однако Маре был счастлив хотя бы тем, что пьеса Кокто увидела свет. По признанию его друзей, вся его жизнь вращалась вокруг Кокто, он делал все в его честь и ради его памяти. Говорят, именно по совету Кокто Маре начал сниматься в экранизации приключений Фантомаса – пародийном сериале по мотивам произведений Пьера Сувестра и Марселя Аллена. Успех этих фильмов был настолько предсказуем, что съемки второй и третьей частей начались еще до того, как был закончен монтаж первой. Маре, исполнивший в трилогии роли самого Фантомаса, его протагониста журналиста Фандора и еще кучу ролей, стал невероятно популярен во всем мире и так возненавидел эти фильмы, что вместо запланированных изначально пяти картин было снято всего три. По иронии судьбы, фильмы про Фантомаса стали фактически концом карьеры Маре в кино – с тех пор он появлялся на экране лишь эпизодически. «Мне не предлагали больше ничего, кроме приключенческих фильмов. Ловушка, которой я старательно избегал, захлопнулась. Я начал отказывать. А потом мне больше никто ничего уже не предлагал», – вспоминал Маре. Последнюю крупную роль он сыграл в 1970 году в «Ослиной шкуре» Жака Деми.
Актер, уставший от ролей романтичных красавцев и благородных дворян, практически полностью сосредоточился на работе в театре. «…Я ни с чем не могу сравнить то чувство полного счастья, когда я выхожу на сцену или же получаю роль, которая мне нравится, – признавался он. – К сожалению, эту страсть невозможно объяснить людям, не связанным с театром. Это одновременно и ужасно, и прекрасно». Он сыграл множество самых разных ролей в самых разных спектаклях – в «Тартюфе» Мольера и «Сиде» Корнеля, современных комедиях и «Короле Лире» Шекспира. Один из критиков писал: «Шекспир – это высоченная гора, убивающая слабых и самонадеянных, дерзнувших на покорение ее. И что же? Маре достиг вершины. Я не знаю сейчас равного ему в трагедии. Не знаю актера, у которого была бы такая же глубина чувства. Его Лир – глыба эмоций, вулкан, извергающий раскаленную лаву страданий и гнева».
Маре заново поставил пьесы Кокто – «Ужасные родители» (сыграв на этот раз отца) и «Царь Эдип». В 1972 году в спектакле Мориса Бежара «Памяти Жана Кокто. Ангел Эртебиз» он сыграл Поэта – образ, воплощавший душу Кокто, а в 1983 поставил в Theatre de VAtelier пьесу «Кокто-Маре», которую вместе с Жаном-Люком Тардье написал, основываясь на своей личной переписке с Кокто. С этим спектаклем он объездил полмира, отдавая дань уважения человеку, который стал для него смыслом жизни. Потом он поставит еще две пьесы Кокто – «Вакха» и «Священных чудовищ», напишет книгу воспоминаний о Кокто, возьмет на себя заботы о его творческом наследии. «Для меня он всегда был примером, – говорил Маре, – я старался быть похожим на него. Он был на недосягаемой высоте, и я пытался подняться на его уровень, и поэтому я не остался внизу, где был до встречи с ним. Для меня он не умер, потому что я продолжал думать о нем».
Последние двадцать лет он словно прожил в тени самого себя. Маре оставил Париж и купил дом на Лазурном берегу, в городке Валларис, который называл «Внутренний двор» и где жил очень тихо и уединенно. Друзья говорили, что он любил одиночество, как другие любят солнце. В Валларисе Маре смог, наконец, полностью отдаться рисованию, на которое раньше у него очень редко находилось время, а также заняться скульптурой и гончарным делом. Он познакомился с семьей гончаров Джо и Нини Паскали, которые сначала обучали его азам своего ремесла, а затем стали его ближайшими друзьями. Маре лепил женщин с глазами оленей, людей, слившихся вместе и превратившихся в деревья, или водопады, статуэтки животных с человеческими лицами. Говорят, Пабло Пикассо, увидев некоторые скульптурные работы Маре, удивился, как человек с таким талантом скульптора «тратит свое время на какие-то съемки в кино и работу в театре». А еще он рисовал иллюстрации к книгам и сочинял сказки, создавал костюмы к спектаклям и писал мемуары, даже пробовал себя в роли парфюмера.
В Валларисе Маре открыл небольшой магазин, где продавал свои работы – правда, далеко не все покупатели узнавали в благообразном седом бородаче когда-то знаменитого актера. А он не перестал ни сниматься, ни играть в театре: в 1994 году он сыграл в «Отверженных» Лелуша с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли, в 1996-м – в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи, а еще через год вышел на сцену в роли Просперо в «Буре» Шекспира. В день премьеры Маре оказался в больнице: «Меня изобразили каким-то божеством, восседающем на облаке, – говорил в одном из последних интервью актер. – А я в этот день был на краю смерти. Служанка нашла меня лежащим на полу ванной без сознания и с температурой за сорок. Приятель, по профессии гинеколог (я, кстати, обожаю рассказывать всем, что у меня есть собственный гинеколог), доставил меня в госпиталь, где я полтора месяца пролежал в реанимации с двусторонним воспалением легких. Представляете себе, если бы я помер при таких-то афишах по городу. Это было бы верхом актерства!»

Жан Маре. Памятник Марселю Эме.
Друзья говорили, что Маре до конца своих дней оставался ребенком, и всю жизнь прожил играя. Он писал своему другу, поэту Роберу Лабади: «Я делаю скульптуры не потому, что я скульптор, рисую не потому, что я художник, пишу не потому, что я писатель. Я только развлекаюсь, и вы это знаете. Снимите ваши искажающие очки. Я даже не знаю, являюсь ли я настоящим актером». До последних дней Маре был уверен, что все его удачи – «череда счастливых несправедливостей». «Мне никогда ничего не доставалось от жизни, кроме самого лучшего, – говорил он. – Это несправедливо».
Незадолго до смерти он сказал: «Я всегда прислушивался к своему сердцу, потому что оно – символ жизни. Я не боюсь смерти – наоборот, я хочу увидеть, как я умираю, чтобы понять, хорошо ли я сыграл все свои смерти на экране». Еще в 1988 году у актера обнаружили рак костного мозга, однако друзья отказались сообщать ему об этом. Он жил, считая свои недуги лишь спутниками старости, и лишь когда обострившиеся болезни не позволили ему поехать с театром в гастрольное турне, поверил в собственную смерть. «В моей жизни было столько счастья, что я не имею права жаловаться», – говорил он. В 1998 году он посетил вернисаж в Каннах, где выставлялись его работы, – он с трудом передвигался, однако был по-прежнему весел и шутил. «Я ожидаю свою смерть с крайним любопытством, – заявил он друзьям, – надо уметь подчиняться неизбежному». Он скончался 8 ноября 1998 года в больнице Канн от отека легких, как и Жан Кокто. Жана Маре похоронили на кладбище Валлариса, его могилу охраняют выполненные им львы с человеческими глазами.
Премьер-министр Франции Лионель Жюспен заявил по поводу смерти Маре, что «он создал за полвека свою актерскую вселенную, в которой талант выступил умноженным на мечту и на поэзию. Франция потеряла одного из самых выдающихся своих актеров и художников». Согласно его завещанию, все его имущество отошло супругам Паскали – верным друзьям его последних лет. Но Серж Маре оспорил завещание: все наследство Маре до сих пор находится под судебным арестом, и Серж бойкотирует все попытки примирения. Однако супругам Паскали удалось открыть в бывшем магазине Маре в Валларисе небольшой музей его памяти – в надежде, что когда-нибудь они смогут превратить его в настоящий мемориал.
Марлон Брандо

Американский Дикарь
В 1994 году в США на прилавки книжных магазинов лег толстый том – «Брандо. Песни, которые мне пела моя мать»; литературную запись книги помог осуществить Роберт Линдсей. В ней величайший актер Америки приоткрыл завесу своей внутренней жизни. Если Англия по праву гордится Лоуренсом Оливье, а Франция – Жаном Габеном, то в Соединенных Штатах Марлона Брандо считают одним из символов Америки.
Слава пришла к нему 3 декабря 1947 года, когда он сыграл на Бродвее в «The Ethel Barrymore Theatre» роль Стэнли Ковальского в знаменитой драме Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание"». Продюсер Ирен Селзник, дочь всесильного владельца голливудской студии Metro-Gold win-Mayer Луи Барта Майера и жена кинопродюсера Дэвида Селзника, настаивала на том, чтобы на роль Стэнли был приглашен уже известный молодой Берт Ланкастер, но он был занят – связан очередным контрактом в Голливуде. Тогда театральный критик Гарольд Клермен предложил на его место двадцатитрехлетнего Марлона Брандо. Это имя тогда мало кому о чем-либо говорило, и Ирен была против, однако решающее слово принадлежало автору пьесы.
Теннесси Уильяме пригласил Брандо к себе в гости, одолжил ему двадцать долларов, чтобы тот купил билет на поезд, – у молодого актера совершенно не было денег. Впоследствии Уильяме вспоминал:
Вдруг я получил телеграмму от Казана (режиссера Элиа Казана. – Прим. автора.) о том, что он открыл молодого актера, по его мнению, талантливого, и хочет, чтобы тот прочел мне роль Стэнли. Мы прождали два или три дня, но молодой человек по имени Марлон Брандо не появился. Я уже перестал ждать, когда он приехал вечером с молоденькой девушкой, почти ребенком. Удивившись, что в доме темно – не было света, – он немедленно починил электричество. Думаю, просто опустил пенни в световой предохранитель. Это был <…> очень красивый молодой человек, из тех, что редко встречаются в жизни. Он сел в углу и начал читать роль Стэнли. Я подавал ему реплики. Не прошло и десяти минут, как Марго Джонс (режиссер и близкий друг Ирен Селзник. – Прим. автора.) вскочила и закричала: «Немедленно звони Казану, он замечательно читает». Брандо слегка улыбнулся, но не выказал никакой приподнятости. Роль Ковальского была первой большой ролью, сыгранной им на сцене, все остальное – в кино. На сцене он обладал даром, который я видел только у Лоретты Тейлор, – властью над зрительным залом. Почему-то со мной Брандо был застенчив. На следующее утро он предложил мне погулять по берегу вдоль океана, мы прошли километры, но он не проронил ни слова. В молчании мы вернулись назад. Актер на роль Стэнли был найден.
Марлон Брандо никогда не забывал того, что для него сделал Теннесси Уильяме. Спустя десятилетия после смерти великого драматурга он писал: «Уильяме был экстраординарный писатель и прекрасный человек, удивительно скромный и нежный. Казан очень точно называл его «человеком без кожи»: он был беззащитный, ранимый, предельно честный, поэт с возвышенной душой, страдающей от глубоко сидящего внутри невроза, чувствительный, мягкий, обреченный разрушать самого себя. Никогда не лгал, никогда ни о ком не говорил дурно, был мудр, но изранен своей жизнью. Если бы у нас была культура, способная оказывать поддержку и помощь столь деликатному человеку, каким был Теннесси Уильяме, то он бы выжил. Что-то внутри сжигало его, мучило и в конце концов привело к смерти». Когда через много лет после их первой встречи Брандо хоронил Уильямса – он был в числе тех, кто нес гроб знаменитого драматурга, – он не скрывал своего горя.
С годами он стал закрытым человеком, «одиноким бунтарем», а в молодости отличался красотой, мужской притягательной силой и трагической обреченностью, которая просвечивала в его даровании. Уильяме это понял сразу, и Брандо это сразу оценил.
На склоне лет Брандо с удовольствием вспоминал Ким Хантер, игравшую Стеллу в «Трамвае «Желание», и Карла Молдена, исполнителя роли Митча в том же спектакле, актера, имевшего всегда ошеломляющий успех, а в жизни остававшегося очень скромным человеком. Что касается первой исполнительницы роли Бланш Дюбуа, то Брандо убежден, что Джессика Тэнди была замечательной актрисой, но мало подходила на роль Бланш. «Она была слишком прозаичной и визгливой, что не могло вызывать к ней симпатию или жалость», – вспоминал он через много лет после премьеры; Джессика Тэнди, в свою очередь, не очень жаловала Марлона – ей нелегко было пережить, что самый большой успех в спектакле выпал на его долю.

Теннесси Уильяме.
Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска. Отец его был мелким коммивояжером. В детстве он был тихим ласковым мальчиком, обожавшим животных и таскавшим домой раненых птиц, запаршивевших щенков и котят. Этот мальчик вырос в мужчину, который мог позволить себе спорить и ругаться с Джоном Кеннеди и Чарли Чаплином, стал независим и нетерпим, никого не боялся и никому не собирался уступать. Маленький Марлон боготворил свою мать, Дороти Джулию Брандо, и никогда не мог понять, почему она так старательно избегает общения с ним. Причина была проста: мать сильно пила. Чуть позже, когда Брандо исполнилось четырнадцать лет, это перестало быть для него тайной – ему не раз и не два приходилось искать свою пьяную мать посреди ночи по барам. Иногда владельцы заведений звонили им домой и сами просили забрать «Доди» – так в быту звали Дороти. Отец мальчика, Марлон Брандо-старший, был мрачным и нечутким человеком. Трое детей – помимо Марлона, в семье были еще две дочери, Фрэнни и Джойслин, – не знали, что такое ласковое слово, нежность, теплота.
Ему было 16 лет, когда его за плохое поведение выгнали из школы. Родители сразу же отдали Марлона в Военную академию, впоследствии он называл ее «военно-сумасшедшим домом» и ненавидел годы, проведенные в ней. Здесь молодой человек тоже отличался весьма трудным характером. Это уже в наши дни были опубликованы письма курсанта Брандо к родителям; в этих письмах много горечи: «Школа очень жестокая, и у меня много огорчений, пытаюсь играть в футбол, но не являюсь лучшим игроком, я постоянно чувствую себя избитым после футбольного поля. Хожу на танцы, но ничто не приносит радости. Господи, не могу дождаться, когда я вас увижу и когда получу от вас письмо». Родители редко писали ему, а он писал им каждую неделю. Одна из его сестер – Фрэнни – сохранила все его письма.

Весной 1943 года Марлон Брандо переехал в Нью-Йорк и поселился у сестры в Гринвич-виллидж. Сначала работал лифтером в огромном магазине, потом продавцом в магазине дамского белья. Позже стал официантом и делал гамбургеры в кафетерии. В кафе он случайно познакомился с двумя молодыми людьми, отметившими его техасский акцент. Это были Норман Мейлер, впоследствии ставший знаменитым писателем и драматургом, но тогда еще не печатавшийся, и Джеймс Болдуин – тоже в будущем знаменитый романист. Впоследствии Брандо очень подружился с ними.
Здесь, в Гринвич-виллидж, началась и его «мужская» жизнь. По соседству жила некая Эстрелита Роза Мария Консуэло Круэ, приехавшая из Колумбии, она была старше Марлона на десять-пятнадцать лет. Темнокожая, артистичная, великая мастерица готовить. Муж ее служил во флоте, и она подолгу бывала одна. Брандо называл ее Люк, она стала его первой любовью и первой женщиной. Роман длился несколько лет. Муж, узнав обо всем, оставил ее. После этого романа Марлона тянуло к темнокожим женщинам, все его четыре жены были цветные.
Вскоре он поступил в Новое училище социальных исследований и сразу попал в другой мир – студенты были в основном выходцы из Европы. Здесь любили читать книги и задавать вопросы. Здесь он впервые прочел Толстого, Фолкнера, Достоевского, Ницше, Канта, Руссо. Это училище плодило интеллектуалов, отсюда они поступали в университеты Принстона, Гарварда, Йеля. А он стыдился признаться, что мечтает стать танцовщиком и бегает в школу современного танца.
В конце 1943 года одна из сестер Марлона – Джойслин, – уже давно обосновавшаяся в Нью-Йорке и строившая свою карьеру на театральных подмостках, убедила его в том, что ему просто необходимо попробовать себя в театре. Для этого нужно было овладеть ремеслом, и Брандо поступил в Студию актеров, которой тогда руководил Эрвин Пискатор – знаменитый немецкий режиссер, с 1939 по 1947 год живший и работавший в США. В студии Марлон репетировал Пиранделло, Мольера, занимался философией, увлекся экзистенциализмом и впервые почувствовал, что встал на правильный путь. Пискатор был очень уважаемый человек, имел громкое имя в Германии, откуда бежал. Но для Марлона Брандо непререкаемым авторитетом становится режиссер и педагог Стелла Адлер. Она занималась со Станиславским, впервые познакомила американцев с приемами игры Московского Художественного театра и еще в 1931 году начала в театральном процессе движение, противостоящее коммерческому Бродвею. «Она учила по системе Станиславского, – вспоминает Брандо, – и меня, и остальных, и возникла целая диаспора актеров, по стопам которых пошли во всем мире. Этот стиль сформирован русскими… Сегодня во всем мире многие копируют этот стиль. Смешно – они считают, что имитируют американцев, а на самом деле имитируют русского – Станиславского!»
Впервые он вышел на сцену в летнем театре на Лонг-Айленд, где играл Себастьяна в «Двенадцатой ночи» Шекспира, а 19 октября 1944 года в «Мьюзик бокс тиэтр» сыграл в пьесе «Я помню маму» – это был хит, шедший два года подряд. Благодаря этому спектаклю Брандо заметили. Но особенный успех выпал на его долю в спектакле «Кафе на шоссе» по пьесе Максуэлла Андерсена. А потом, вместе с ролью Стэнли Ковальского в «Трамвае «Желание» пришла известность. То было счастливое время в жизни Марлона Брандо. Он стал зарабатывать – получал пятьсот пятьдесят долларов в неделю, что приблизительно равно нынешним пяти тысячам, к нему пришла слава, у служебного входа после спектакля его ждали десятки молодых девиц. Женщины обожали Марлона, и, естественно, его закружил вихрь романтических отношений. У него были десятки романов.
В «Трамвае «Желание» он перестал играть в 1949 году, а до того играл два года каждый день, кроме воскресенья, а по субботам и средам – два раза в день. Потом его заменил Энтони Куин. Перестав играть Стэнли Ковальского, Брандо уехал на три месяца в Париж и весело жил, наслаждаясь атмосферой полюбившегося ему города. Вернувшись, он получил приглашение в кино и вскоре уже снимался в фильме «Мужчины» у режиссера Фреда Циннемана.
Но не с этого фильма начинается слава Марлона Брандо как звезды американского кинематографа. Второй его картиной стал фильм «Трамвай „Желание"» с Вивьен Ли в роли Бланш. Брандо, конечно же, снова играл Стэнли. Фильм вышел на экраны в 1951 году, и о Марлоне сразу же заговорили. Знаменитое мужское магнетическое обаяние актера проявилось в фильме Элиа Казана во всю свою мощь. Критики писали, что Брандо с «абсолютной художественной легкостью сыграл все темное и дикое, что было свойственно его герою». Наверное, именно поэтому его художественную естественность многие приняли за дикарскую естественность самого актера. Это оскорбляло его, ему было горько читать, что необузданность эмоций и душевную неразвитость его Стэнли приписывают ему самому. Так начинался «миф Брандо».

На съемочной площадке фильма «Трамвай „Желание"», 1951 г.
В театре Брандо больше не играл, если не считать появления в 1953 году на сцене в пьесе Шоу «Оружие и человек». Его уделом стал мир кино. «Трамвай „Желание"» – классическая лента американского кинематографа, трагическая поэтичность Вивьен Ли и «дикарская цельность» мужественного, отвратительного и лиричного Стэнли – Марлона Брандо определили кассовый успех ленты, так и не поднявшейся до уровня пьесы, написанной Теннесси Уильямсом.
Марлон Брандо очень любил и высоко ценил Вивьен Ли. Он считал ее лучшей исполнительницей роли Бланш прежде всего потому, что «она сама была Бланш». Действительно, собственная жизнь Вивьен Ли – одной из самых прекрасных женщин мирового кинематографа – была во многом похожа на ту, которую вела «раненая бабочка», написанная пером Уильямса. Марлону нравилось в Вивьен все: ее тонкость, ее ум, ее элегантность. Он видел, как она медленно погибает – актриса пила, и пила очень сильно. Иногда она напивалась так, что теряла всякий контроль над собой, и тогда у нее начинались бесчисленные романы. Брандо влекло к ней, но он не мог позволить себе переступить некую границу – слишком велико было его уважение к Лоуренсу Оливье, который все знал о поведении своей жены, но ничего не мог с этим поделать, потому что безмерно любил ее и прощал ей все, что бы она ни творила. Этого романа, который вполне мог бы иметь место, так и не случилось. Однако случился другой, которого могло и не быть.

Марлон Брандо и Вивьен Ли на съемках фильма «Трамвай „Желание"».
Брандо жил тогда на углу Шестой авеню и 57-й стрит, неподалеку от Карнеги-Холла. Здесь же находилась Актерская школа Стеллы Адлер, которую продолжал посещать актер. По субботам множество молодых людей и девушек собирались в студии, обсуждали пьесы и роли, веселились, шутили. Особенное внимание Марлона привлекла очаровательная блондинка, одна из учениц знаменитого Ли Страсберга, всегда сидевшая в стороне, в углу и на различного рода вечеринках любившая наигрывать на рояле. Ее имя было Мэрилин – Мэрилин Монро.
Когда они познакомились, ее имя еще мало кому было известно. Брандо был покорен ее «эмоциональной интеллигентностью», они подружились и встречались до конца ее дней. Последний раз он говорил с ней за два-три дня до ее смерти. После того, как несчастье случилось, и газеты одну за другой на-гора выдавали все новые версии смерти звезды, Брандо защищал ее до самого конца. Он и впоследствии, спустя много лет, категорически отрицал возможность ее свидания с Робертом Кеннеди в предсмертные дни, и остался убежденным, что она не могла добровольно уйти из жизни: или она приняла излишнюю дозу наркотиков, или кто-то ее убил. Смерть Монро долго еще волновала его, он был привязан к ней душевно и после того, как они расстались.

Марлон Брандо и Мэрилин Монро.
В разные годы в газетах неоднократно появлялись сообщения, что Марлона Брандо упрекают в антисемитизме, и что он отвергает эти упреки. В книге «Песни, которые мне пела моя мать» Брандо подробно рассказывает о талантливой Стелле Адлер, не имевшей никакого шанса стать звездой. «Голливудские продюсеры никогда не нанимали актеров, если они выглядели слишком «еврейскими», – пишет Брандо. Они вынуждены были скрывать свою национальность или меняли имена. Юлиус Гарфинкль стал Джоном Гарфильдом, Марион Леви превратилась в Полетт Годдар, Муни Бейзенфред – в Поля Муни, только Барбара Стрейзанд гордо заявила: «Черта с два я буду менять свое имя. Я – еврейка и горжусь этим». Но это было уже в другие годы. Стелла Адлер научила Марлона актерскому искусству. Сегодня в Нью-Йорке рядом с Нью-Йоркским университетом существует знаменитая студия Стеллы Адлер. За годы после ее смерти она потускнела, учат в ней Бог весть как, но имя основательницы осталось как напоминание о временах, когда в США думали и заботились о развитии драматического искусства. Марлон Брандо был счастлив, что стал актером и учился у Стеллы Адлер.
Стелла Адлер весьма способствовала карьере своего молодого протеже. Она настояла, чтобы он получил роль в «Кафе на шоссе». Эту пьесу играли в «Беласко тиэтр» с февраля 1946 года, и жизнь Брандо сразу изменилась. Приглашения посыпались со всех сторон. Его приходили смотреть знаменитые Хелен Хейс и Линн Фонтейн. Муж Кэтрин Корнелл предложил ему роль в «Кандиде» Шоу. Он сыграл в пьесе «Родился флаг», которую ставил родной брат Стеллы Адлер. Это была хорошо сделанная инсценировка Курта Вайля. Ее главной мыслью было осуждение Великобритании за то, что Лондон препятствует въезду беженцев, вынуждая их оставаться в Палестине, ставшей к тому времени государством Израиль.
А в октябре начались репетиции драмы Уильямса «Покерная ночь», так поначалу назывался «Трамвай „Желание"». Впереди были успех и слава.
На седьмом десятке лет прошлое представлялось ему прекрасным. Слишком оскорбительными оказались сегодняшние будни. Богатейший человек, купивший в 1966 году атолл Тетиароа в Тихом океане, вот уже много лет живущий на Таити, он пережил немало драм, вокруг его имени – скандалы и сплетни.
В апреле 1990 года на вилле Брандо в Лос-Анджелесе было совершено убийство. Его сын от первого брака Кристиан убил любовника своей сестры Шеен, двадцатидвухлетнего богатого плейбоя Дага Дролетта. Брандо, несмотря на безмерную любовь к своему первенцу, лично позвонил в полицейский участок и сообщил о случившемся. Полиция приехала незамедлительно, и молодого человека арестовали. Сам Кристиан оправдывался тем, что все произошло совершенно случайно – он был несколько нетрезв и на взводе из-за каких-то личных неприятностей, но не собирался никого убивать. Он взял пистолет лишь для того, чтобы пригрозить Дагу, который якобы обижал Шеен. Между молодыми людьми завязалась драка, и пистолет выстрелил сам. Масла в огонь подлила сама Шеен: во время дачи свидетельских показаний она, уже выходя из кабинета следователя, вдруг обернулась и воскликнула: «Это был не несчастный случай, это было убийство!» Скандал был готов, газетам лишь оставалось разнести его по свету. Брандо-старший пустил в ход все свое влияние, чтобы приговор был как можно мягче, и Кристиан Брандо был приговорен к десяти годам тюрьмы, избежав страшного словосочетания «пожизненное заключение». Родители Дага остались крайне недовольны и обвинили актера в том, что он спровоцировал это убийство, поскольку у него самого были «странные отношения» с дочерью. Шеен в это время была беременна, и мальчик, которого назвали Туки, родился через несколько месяцев после убийства.

Марлон Брандо беседует с журналистами по поводу судебного процесса над его сыном Кристианом. Слева направо: Марлон Брандо, его сыновья Кристиан и Мико, 1990 г.
Затем, в 1995 году, семью знаменитого актера сотрясла новая трагедия: покончила жизнь самоубийством Шеен. Она сама сплела себе веревку и повесилась. Ее похоронили в столице Таити на кладбище рядом с отцом ее сына. Внук Брандо воспитывался у бабушки, бывшей жены великого актера (он был женат четыре раза), красавицы-таитянки. Сегодня Туки живет в Европе и вполне успешно работает в модельном бизнесе. От всех обрушившихся на него бед Марлон Брандо хотел бежать в Старый Свет и поселиться в Ирландии, но дальше намерений дело не двинулось.
В 1973 году Брандо получил «Оскара» за великолепное исполнение роли дона Корлеоне в фильме «Крестный отец», великом рассказе о гангстерской династии, снятом режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. «Крестный отец» имел потрясающий успех. Особенно кинокритики, да и рядовые зрители, отмечали роль Вито Корлеоне, замечательного семьянина, преуспевающего бизнесмена и главы мафиозного клана, человека, для которого убийство есть не более, чем неотъемлемая часть его бизнеса. Сам актер, когда уже в 1990-х годах вспоминал об этом фильме, писал: «Когда я впервые посмотрел «Крестного отца», то увидел, сколько сделал ошибок во время съемок, а спустя годы, посмотрев его по телевидению, решил, что это хороший фильм». Тогда же, в начале 70-х, дошло до того, что реальные главари преступных группировок стали копировать жесты и повадки героя Брандо – настолько он естественно и органично смотрелся в этой роли.

Марлон Брандо в роли Вито Корлеоне. Кадр из кинофильма «Крестный отец», 1973 г.
Когда Коппола решил снимать своего «Крестного отца» и подыскивал актеров на главные роли, Марлон Брандо уже жил на Таити, мирно потягивал кокосовое молоко, греясь в шезлонге на берегу океана, и морщился от одного упоминания о Голливуде. Однако, узнав о планах знаменитого режиссера, он сразу понял, что это – «его» фильм и «его» роль. Но Голливуд, столь нелюбимый актером, платил ему той же монетой – там прекрасно помнили, как «дикарь» умеет вести себя с режиссерами, актерами, продюсерами и представителями прессы. Коппола под давлением вынужден был отказать Брандо в роли. Тогда актер пошел на хитрость: на любительскую камеру он записал домашние пробы роли дона Вито и послал кассету в Лос-Анджелес. Говорят, что когда продюсеры посмотрели ленту, и в зале зажегся свет, эти мастодонты шоу-бизнеса утирали кулаками слезы. А один – самый молодой из присутствующих – выразил общую мысль: «Это – то, что надо, это – настоящий Вито Корлеоне. Кстати, а кто это?» Так Марлон Брандо получил роль дона Корлеоне.

На съемках «Крестного отца», 1972 г. Слева направо: Рэд Баттонс, Марио Пьюзо, Марлон Брандо.
Во время вручения «Оскара» произошел инцидент: на сцену вместо Брандо поднялась индианка по имени Шашин Маленькое Перо из племени апачей. Она сообщила об отказе Брандо от «Оскара» в знак протеста против дискриминации американских индейцев и прочла речь в защиту своих соплеменников. Америка наблюдала прямую трансляцию церемонии вручения главной кинопремии страны по телевидению. Впоследствии выяснится, что Шашин была актрисой, и ее нанял для этого демарша сам Марлон Брандо. Он же передал ей и текст речи, который она выучила наизусть и произнесла со сцены кинотеатра «Кодак», где проходила церемония вручения кинопремии. Но это будет потом. А в то время инцидент вызвал весьма бурную реакцию не только в киноакадемии, но и среди телезрителей. Одни были возмущены, другие – в восторге от поступка актера, и снова звучат слова – «беглец, бунтарь, дикарь».

На съемках кинофильма «Крестный отец», 1972 г. Слева направо: Аль Пачино, Марлон Брандо, Джеймс Каан, Джон Казале.
«Трамвай „Желание"» и «Крестного отца» разделяют двадцать пять лет. Годы труда, беспрерывных съемок, страстей, разрывов и подчинения себя искусству кино. Уже были созданы абсолютные шедевры: шериф Колдер в «Погоне» – роль, знаменовавшая собой переломный момент в творчестве Брандо, – Эмилиано Сапата в фильме «Вива, Сапата!» – за него Брандо был удостоен премии Каннского фестиваля 1952 года, Марк Антоний в ленте Джозефа Манкевича «Юлий Цезарь», роли в фильмах «Одноглазые валеты», «Бунт на «Баунти», «Кеймада». В 1954 году Брандо получил своего первого «Оскара» за исполнение роли в фильме «В порту» Элиа Казана. Режиссер Гарольд Клермен писал: «Мощью своего таланта Марлон Брандо, по моему глубокому убеждению, не уступает ни одному из самых выдающихся английских актеров наших дней. Но у нас нет театра, где он мог бы найти применение своему таланту, проявить его, как проявил свой талант Лоуренс Оливье, благодаря тому стимулу, каким была для него возможность сыграть за сравнительно короткий срок роли в пьесах Шекспира, Ионеско, Чехова, Стриндберга, Шеридана, Осборна».
Брандо уже безраздельно принадлежал миру кино. Вначале оно было для него только искусством, потом превратилось еще и в способ зарабатывания денег. А зарабатывал он миллионы долларов.
В ленте «Вива, Сапата!» по сценарию Джона Стейнбека он играл мексиканского революционера, неграмотного крестьянина, ничего не смыслящего в политической борьбе, но подчиняющего себя своей нравственной интуиции. Внутренняя раскованность и математический расчет. Непосредственные реакции и внутреннее напряжение. Отчетливая национальная характерность. Все сыграно безупречно, и в каждой работе – только ему принадлежащая индивидуальность.
В фильме «В порту» Брандо играл молодого докера Терри Мэллоя, вступающего в борьбу с гангстером. В его герое поначалу нет ни обаяния, ни душевной цельности. Но в его угрюмости и отрешенности проглядывает возможность пробуждения от душевной спячки. Эта роль Брандо стала художественным открытием. Критики отмечали странное свойство артиста: его мужская сила была соединена с человеческой хрупкостью, незащищенностью. Трагическое начало не отделялось от романтического, только романтизм был спрятан, потаен, словно боялся обнаружить себя.
Американские звезды – Гэри Купер, Джеймс Стюарт, Керк Дуглас, Грегори Пек, Роберт Тэйлор, Хэмфри Богарт, Джозеф Коттон – на экране играли победителей. Марлон Брандо, никогда не игравший героев Хемингуэя, был создан для них, потому что только в его индивидуальности просматривалась та трагическая обреченность, которая составляет характерную черту персонажей этого автора. Недаром один из рассказов знаменитого американского писателя называется «Победитель остается побежденным». Тема, близкая искусству Брандо.
«Одинокие бунтари» появились на американском экране в 1950-е годы. Брандо сыграл этот тип в своем пятом фильме «Дикарь», а наиболее знаменитым исполнителем ролей «бунтарей без цели» тогда был Джеймс Дин. Сюжет ленты основан на реальной истории: банда мотоциклистов терроризировала маленький фермерский город в Калифорнии. Брандо был крайне удивлен, узнав, что майки, джинсы и кожаные куртки стали символом протеста. Сценарий фильма написал Джон Пэкстон, продюсером был Стэнли Крамер, режиссером – Ласло Бенедек. Смысл ленты: показать «одиноких бунтарей», совершавших преступления, потому что оказались никому не нужными, оттесненными на обочину жизни людьми. Сам артист любит вспоминать слова Теннесси Уильямса в письме к Элиа Казану: «Не бывает плохих или хороших людей. В каждом есть что-то хорошее и что-то дурное, и никто не сознает зла, что творит. Слепота, мешающая людям достучаться друг до друга, происходит из того, что все поступают, исходя только из собственного «я».

Марлон Брандо в образе Джонни из кинофильма «Дикарь», 1953 г.
Брандо не стал «мифом» 1950-х годов, как это произошло с Джеймсом Дином, но его Джонни из фильма «Дикарь» оказался символом целого поколения. Его герой искал повод, чтобы восстать, его не устраивала американская послевоенная жизнь и система ценностей. Все спрятанные чувства и желания аккумулировались в образе Джонни. За его маской непросто было разглядеть подлинное лицо. Брандо появляется в кадре в темных очках, врываясь из-за поворота на шоссе на своем мотоцикле. Бесстрастное лицо, наглухо застегнутая куртка, руки в кожаных перчатках, сапоги, фуражка, надвинутая на лоб. Воплощение энергии и отрешенности. Сколько потом появилось подобных лент и подобных героев, а запомнился Брандо с его чувством безнадежности и скрытой надежды, что где-то есть другая жизнь. Сквозь маску равнодушия на мир смотрело лицо человека, мечтающего о любви. Маска оказывалась сброшенной, когда из преследователя он превратился в преследуемого. Джонни не защищался, когда жители городка, дорвавшись до мести, били его смертным боем. Его лицо в слезах, с застывшей на нем страдальческой улыбкой – один из самых впечатляющих кадров фильма.
Пройдут годы, и Брандо напишет, что по окончании этой работы он стремился поскорее вернуться к друзьям, забыть кошмар съемок и то насилие, которое он сам принес на экран. Вот тогда ему попалась в руки пьеса Шоу «Оружие и человек», и он сыграл ее в Новой Англии.
Родителям своим он писал в июле 1953 года: «Я думаю, что стал счастливее, чем был долгие годы прежде. Мама, ты должна писать мне гораздо чаще, чем ты это делаешь, в этом обязанность матери, и должен сказать вам, что люблю вас обоих». То было последнее длинное письмо родителям. С годами Брандо становился более независимым и одиноким. Мысли о театре волновали его, он с завистью думал о том, что Лоуренс Оливье «помог стабилизировать британскую культуру», хотя и искренне считал, что лучшее, что сделал Оливье, было сделано в конце его жизни, а в Америке это невозможно.
Брандо всегда подчеркивал, что актерская игра – это его работа, способ жизни, не более того, и избегал громких слов по поводу искусства. Однако, в отличие от многих знаменитостей, всегда умел ценить других. Стелла Адлер приучила его к вниманию к русской школе, и Брандо ищет ее следы всякий раз, как сталкивается с русской фамилией. Посмотрев фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Сбежавший поезд», о побеге двух заключенных, с Джоном Войтом и Эриком Робертсом, Брандо заметил: «Хотя фильм имел весьма средний кассовый успех, я был ошеломлен им, умением режиссера выстраивать характеры, и мне показалось, что в том, что делал Джон Войт, было и мое влияние».
Его влияние на искусство кино было сильным, но сам Брандо очень часто снимался в «проходных» лентах, зарабатывая деньги: «Чайный домик августовской луны», «Сайонара», «Уродливый американец». Не получилось шедевра и из фильма «Графиня из Гонконга» Чарли Чаплина. Чаплина Брандо боготворил, но когда встретился с ним в работе, великому комику было уже семьдесят семь лет, и характер у него стал невыносимым. Лента не имела никакого успеха, хотя снимались Софи Лорен и Марлон Брандо. В воспоминаниях Брандо пишет, как Чаплин третировал во время съемок всех, особенно своего сына Сиднея, безропотно переносившего все издевательства отца, и как однажды Брандо восстал и потребовал, чтобы Чаплин извинился перед сыном, иначе он покинет съемочную площадку. Чаплин извинился – характер Марлона Брандо вызывал уважение.
В эти годы начинается его увлечение социальными и гражданскими проблемами. В 1965 году Брандо впервые посетил резервацию индейцев в Аризоне и, увидев своими глазами жизнь индейцев, стал защитником их гражданских прав. Он был во власти мысли снять фильм об истреблении американских индейцев в период завоевания Запада. Его четкая гражданская позиция, выношенные убеждения были в основе того поступка, который так поразил американскую общественность, – отказа от награды «Оскара» в знак протеста против дискриминации индейцев. Очень образованный человек, Брандо находит общее между политикой американцев по отношению к индейцам и немецких фашистов к евреям, Сталина – к лучшим представителям народов его великой державы, Мао Цзэдуна – к населению его страны в годы культурной революции. Он ставит в тот же ряд уничтожение вьетнамцев в период вьетнамской войны; не может забыть и того, что эта война унесла жизни пятидесяти восьми тысяч американцев.

Чарльз Спенсер Чаплин и Марлон Брандо на съемочной площадке кинофильма «Графиня из Гонконга», 1967 г. Чаплин объясняет мизансцену.
В 1975 году Брандо присоединился к лидеру американских индейцев Денису Банкету и выступал вместе с ним на митингах под лозунгом «Действие или смерть». В этот же период вместе с Полом Ньюманом, Тони Франсиоза и другими своими друзьями Брандо принимал участие в маршах за гражданские права негров и поддерживал Мартина Лютера Кинга. Еще в 1963 году Брандо выступал на митинге в негритянской церкви в штате Алабама. После смерти Мартина Лютера Кинга и убийства Роберта Кеннеди мэр Нью-Йорка обратился к Брандо с просьбой отправиться вместе с ним в Гарлем для успокоения негритянского населения. И тогда Брандо столкнулся с яростью «черных», не имеющих работы и доведенных до последней черты. Именно после этой встречи Брандо начал поддерживать партию «черных пантер», стал собеседником Бобби Сила и Элдриджа Кливера, руководителей этой партии.
Взрыв «негритянской революции» в 1960-х годах был свидетельством острого кризиса в области национальной политики США. В 1966 году был выдвинут лозунг «черной власти» как символа, вокруг которого объединялись ультрареволюционные и реакционно-националистические группировки. «Черные пантеры» призывали к радикальному решению национальной проблемы – разрыву с «белой Америкой». Они считали, что само слово «негр» вызывает у белых ряд ассоциаций: биологическое начало, секс, сила, дикарь, животное, грех, дьявол. Все это приводило к яростному протесту со стороны негритянской интеллигенции. Брандо был целиком на ее стороне. Но «черный революционаризм» пугал и его. Он видел, как впавшие в отчаяние негры приходят к крайнему экстремизму.
Общественная активность Марлона Брандо поражала Америку. Он хоронил семнадцатилетнего мальчика Бобби Хаттона, погибшего во время стычки «черных пантер» с полицией, обращался с петициями к правительству вместе со своим другом писателем Джеймсом Болдуином и одновременно продолжал сниматься в кино. В одних фильмах снимался только ради денег, в других, как в «Кэнди», – если кто-то из друзей его об этом просил. В «Кэнди» он был неотразим, наверное, потому, что в его игре выражалось его подлинное естество. Любовь обычно преображала его героев.
Его любимыми режиссерами стали Элиа Казан, Бернардо Бертолуччи и Джино Понтекорво. В 1968 году Понтекорво снял фильм «Кеймада», его мало кто видел. Брандо всегда считал, что это одна из самых серьезных его работ. Он играет в нем роль некоего сэpa Уильяма Уокера, английского эмиссара, приезжающего на остров Кеймада с целью поднять его население на борьбу против португальских властей. Уокер верит в благородство своей миссии, он хочет принести дикарям цивилизацию и пробудить в них чувство собственного достоинства; но, спустя годы, вновь оказывается на Кеймаде – на этот раз, чтобы усмирить «дикарей», теперь выступающих против новых колонизаторов.
Критик Ян Березницкий подметил, что бунтари-жертвы, киногерои Марлона Брандо, несли в себе тему Христа. В Уокере же нетрудно различить тему Пилата. Для этого персонажа Брандо характерно горькое понимание справедливости протеста островитян и его трагической обреченности. В «Кеймаде», кроме того, отчетливо прослеживается тема вьетнамской войны.
Фильм снимали в Колумбии, в тропиках, условия были тяжелейшие, температура на солнце достигала 40 градусов. Но Брандо наслаждался общением с Джино Понтекорво. Впоследствии он вспоминал: «Джино был красивый человек с темными волосами и голубыми глазами. Его брат – физик – имел сталинскую и Нобелевскую премии, сестра была миссионером в Африке. Джино умел работать с актерами. Я не говорил по-итальянски, он плохо говорил по-английски, репетиции шли на французском языке. Он был мастер и на все смотрел с марксистской точки зрения, что не мешало ему жестоко эксплуатировать рабочих и массовку, ее он набирал на месте. Я сохранил к нему по сей день чувство глубокого уважения. Только Бертолуччи мог сравниться с ним по силе воздействия».
С Бернардо Бертолуччи Брандо сделал «Последнее танго в Париже» – фильм, имевший грандиозный зрительский успех, не меньше, чем «Крестный отец». И было бы наивно объяснять этот успех только тем, что в ленте значительное место уделено теме секса. Вопрос гораздо глубже: режиссера и актера привлекает показ человеческих переживаний, душевного дискомфорта, разлада с собой, и они ищут нетрадиционные, способные вызвать взволнованную зрительскую реакцию, формы их выражения. Партнершей Брандо в этом фильме была блистательная Роми Шнайдер, игравшая молодую француженку Джин. В работе над картиной повторилась та же история, что при съемках «Кеймады»: Бертолуччи плохо говорил по-английски, Марлон Брандо не знал итальянского языка, съемки шли на французском. Успех дался нелегко – после съемок Брандо был вконец обессилен.

Марлон Брандо и Бернардо Бертолуччи.
О чем этот фильм? На этот вопрос Брандо ответил: «Не знаю – о жизни и муках».
Потом было еще очень много лент: «Апокалипсис», «Сухой белый сезон», «Формула», «Супермен».
«Апокалипсис» снимался летом 1976 года на Филиппинах. Фильм о войне во Вьетнаме, сценарий был написан по роману Джозефа Конрада «Сердце темноты». Брандо вспоминает, что, прилетев на съемки, он застал режиссера Копполу в подавленном состоянии: у того были нелады с оператором, он не знал, как выстроить фильм, считал, что сценарий ужасен. Брандо решил вернуть его к роману Конрада. В сценарии роль Уолтера Куртца состояла из 30-ти страниц сплошных диалогов, в романе – это был образ почти мифологический, и дело было не в словах. Коппола пошел навстречу предложениям Брандо. На экране возник герой, символизирующий всю ирреальность кошмара, который принесла вьетнамская война.
Но актер играл и комедии. В фильме «Первокурсник» он придумал какое-то подобие того, что делал в «Крестном отце», только роль была сыграна с острым сатирическим уклоном.
Вскоре наступили годы простоя – не вынужденного, а потому, что Брандо не хотел сниматься. Он не приходил на съемочную площадку девять лет. Жил на Таити, на своем острове Тетиароа. Гулял, плавал, занимался рыбной ловлей, играл с детьми, смеялся, шутил, часами молча смотрел на воду. Пил. Толстел. Алкоголиком не становился. Ему казалось, что он может уйти от американской жизни, он ее не любил, а таитянином не стал. «Я многому научился у индейцев, черных, евреев, впитывал их культуру, но пульс у меня – американский», – пишет Брандо.
В 1988 году ему предложили сценарий фильма «Сухой белый сезон» – ему предстояло сыграть роль адвоката, защищающего негра в Южной Африке. Гонорар – три миллиона триста тысяч долларов плюс одиннадцать процентов от проката. Брандо вылетел на съемки в Лондон. Режиссер ему показался «неофитом» и, несмотря на то, что в фильме снимался Дональд Сазерленд, Брандо ничего хорошего от фильма не ждал. Потом у него была маленькая роль в «Супермене», которая, тем не менее, принесла ему четырнадцать миллионов долларов за три недели съемок. В деньгах больше не было нужды. Были мечты, травмы и поиски себя.
После девяти лет жизни на Таити Марлон Брандо вынужден был вернуться на континент. У него оставалось еще около двадцати миллионов долларов – сумма достаточно большая, чтобы жить безбедно в течение многих лет. Однако «Дикарь» продолжал демонстрировать свой буйный нрав. В результате многочисленных судебных исков Брандо потерял все деньги и в последние годы вынужден был существовать на пособие, скрываться от кредиторов и прятать от них свои кинонаграды.
В конце июня 2004 года, за несколько недель до своей смерти, актер принимал гостя – своего старого друга Джека Николсона, с которым они познакомились двадцать или тридцать лет назад, когда Брандо купил огромный дом на Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе. Его соседом как раз оказался Николсон. В этот день не было огромной виллы – лишь небольшое бунгало, с одной узкой кроватью в спальне. Почти двухсоткилограммовый Брандо лежал на кровати, и оба собеседника знали, что он умирает – ожирение, слабое сердце и целый букет других болезней медленно, но верно сводили его в могилу.
Брандо попросил Николсона быть распорядителем на его похоронах, несколько сценариев для которых он лично надиктовал на магнитофонную пленку. Он очень хотел, чтобы все прошло так, как он задумал: никаких слез, никакого траура, никаких репортеров. Прах актера должен был быть развеян над океаном. Конечно же, Николсон согласился. Но случилось так, что за несколько дней до смерти Брандо переменил решение.
Марлон Брандо умер 1 июля 2004 года. На его похоронах не было Джека Николсона, не было никого из голливудских знаменитостей, только родственники. Узнав о смерти актера, Аль Пачино, знавший его еще с 1970-х годов, когда они вместе работали на съемках «Крестного отца», отреагировал всего одной короткой, но емкой фразой: «Бог умер…»
Юл Бриннер

Король и Ковбой
На его похоронах не было никого из друзей: ни Фрэнка Синатры, ни Элизабет Тейлор, ни Керка Дугласа. Только агенты, продюсеры, служащие студий. Даже Майкл Джексон, с которым он особенно подружился в последнее время, не приехал. Прах его развеяли. Спустя три месяца после похорон в одном из театров Бродвея был устроен вечер его памяти. Проникновенно говорил кинорежиссер Сидней Люмет. Народу было мало. Все его огромное состояние – двадцать миллионов долларов – было завещано последней жене, молоденькой танцовщице, с которой он познакомился в Лондоне за два с половиной года до смерти, – она участвовала в английской постановке мюзикла
«Король и я» – и сразу женился. Дети не получили ни копейки. После смерти Бриннера вдова начала распродавать его коллекцию картин, фарфора, кинокамер. Друзья удивлялись, почему она занимается распродажей и не делится с детьми. У них не осталось даже сувенира на память об отце.
Он был человек несентиментальный и всегда «отрезал» себя от людей – сначала от матери и отца, потом от сестры и жен, от часто меняющихся любовниц, друзей, а в конце жизни – от детей. В 1981 году, находясь в Англии, он выделил средства для учреждения специальной стипендии его имени, которую могли бы получать талантливые студенты, а своей кузине, ухаживавшей за ним перед смертью – он умер от рака легких, – не оставил ни цента.
В сущности, он тридцать лет играл одну и ту же роль – короля в мюзикле «Король и я». В январе 1985 года он вновь вышел на сцену Бродвея в этом мюзикле. Критики писали, что в 1977 году, когда он в последний раз показывал его на Бродвее, было интереснее, и он казался значительнее. У него и тогда было непроницаемое лицо, но жизнелюбия было больше. Однако зрительский успех не угасал. В апреле решили пролонгировать выступления до июля. Бриннер сначала согласился, потом очень сожалел: его мучила боль в спине, он едва доходил до сцены, а после спектакля не мог пошевелиться и подолгу сидел у себя в гримуборной, не двигаясь. Никто не видел, как телохранители – их штат был очень велик – выносили его к машине. В середине июня он получил премию Топу Award за исполнение этой роли, а 30 июня 1985 года сыграл свой последний спектакль – 4633-й по счету. Билет в этот день стоил 75 долларов, включая плату за бокал шампанского, который зрители могли выпить, – всех приглашали на прием после окончания мюзикла.

Юл Бриннер с женой Кэси Ли.
У него было чувство, что он уже не жилец, – желаний не было никаких, только боли и бессонница, против которых ничто не помогало. Король был его единственной великой ролью, столь удавшейся, может быть, потому, что он начинал ее тогда, когда хотел завоевать женский мир. Это ему удалось. Теперь ему хотелось уехать во Францию, где у него был замок, – актера раздражала новая роскошная квартира с окнами на Истривер. Он с Кэси Ли (так звали его жену, хотя ее настоящее имя Кэси Йам Чу) вылетел в Лос-Анджелес к врачу, тот прописал ему только морфий и порекомендовал немецкого специалиста. Но никто и ничто уже не могли помочь. Он катастрофически терял вес и целые дни лежал в постели. В Нью-Йорк они вернулись в начале сентября, рядом с ним все время была его кузина Ирэн, и он часами, когда отпускала боль, шепотом разговаривал с ней на языке своего детства – по-русски. 10 октября 1985 года он умер, ему было шестьдесят пять лет.
«Надо было быть сумасшедшим, чтобы вообразить, что Юл может стать Юлом Бриннером», – сказал о нем Жан Кокто в годы расцвета его карьеры. Дед Юлия, Юлий Иванович Бриннер, был владельцем серебряных копей, жил во Владивостоке. Детей было шестеро, мать особенно любила Бориса – он был очень красив. После окончания гимназии мальчики Бриннеры уезжали в Петербург учиться. Там Борис получил высшее образование и стал специалистом по горным минералам. Вернувшись во Владивосток, он страстно влюбился в дочь местного врача – Марию Благовидову. Благовидовы были не столь богаты, как Бриннеры, но занимали заметное место среди владивостокской интеллигенции. Мария тоже училась в Петербурге, в консерватории, у нее было высокое сопрано. Борис настаивал на том, чтобы она отказалась от карьеры певицы, и во имя любви к нему она это сделала, несмотря на то, что ей сулили большое будущее. В 1914 году Маруся Благовидова, как ее звали в семье, вышла замуж за Бориса Бриннера, а ее родная сестра за родного брата Бориса – Феликса. Через два года у Бриннеров родилась дочь Вера, all июля 1920 года во Владивостоке родился сын, его назвали Юлием. Почти одновременно в семье Феликса Бриннера родилась дочь Ирина, двоюродная сестра Юлия. Спустя шестьдесят пять лет у нее на руках умрет Юл Бриннер.
Семья осталась жить во Владивостоке, надеясь, что власть большевиков – временная. На всякий случай были приготовлены паспорта, свидетельствующие, что они – «граждане Швейцарии», поскольку Юлий Иванович Бриннер был наполовину швейцарец, наполовину – русский. У Бриннеров была концессия в Тетюхе, неподалеку от Владивостока. После отмены концессий все Бриннеры покинули Советский Союз и осели в Харбине. Транспортная фирма «Бриннер и К°» была очень разветвлена, ее отделения находились в Шанхае, Дайрене, Харбине, Пекине. Во главе фирмы стоял Борис Юльевич, отец Юлия.
В 1924 году, приехав в Москву, он познакомился с актрисой МХАТа Второго Катериной Ивановной Корнаковой и влюбился в нее. Корнакова была одной из замечательнейших актрис Москвы, ее любили, она играла в Первой студии Художественного театра, а затем во МХАТе Втором. Ее роли в комедии Алексея Толстого «Любовь – книга золотая», в «Закате» Бабеля, в «Бабах», сделанных по двум пьесам Гольдони – «Любопытные» и «Бабьи сплетни», и особенно в «Человеке, который смеется» Гюго, где она играла Джозиану, долго еще вспоминали в Москве. После знакомства с Бриннером Корнакова не сразу покинула Москву, не сразу оставила мужа (она была в те годы женой Алексея Дикого), тогда как Борис Юльевич уже в 1924 году сообщил жене, что полюбил и хочет оставить семью.
К тому времени семья Бриннеров только-только устроилась в Харбине, первые четыре года маленький Юлий провел во Владивостоке, где семьи Бориса Юльевича и Феликса Юльевича жили все вместе в домике на окраине. После развода родителей все изменилось. Маленький Юлий рано поступил в харбинскую гимназию. Он был мальчиком спортивным и очень самостоятельным. В четырнадцать лет он был уже вне материнского контроля.
Корнакова переехала в Харбин только в начале 1930-х. В ее доме было уютно, богато, по местным стандартам, и непривычно. Она все пыталась играть в любительских спектаклях, никак не могла отвыкнуть от московской жизни, вспоминала своих друзей – Лидию Дейкун, Софью Гиацинтову, Серафиму Бирман, Михаила Чехова, которого обожала. «Актриса. Ничего другого не умела, ничем другим не интересовалась. Она, конечно, этого про себя не знала, когда решилась, выйдя замуж за Бриннера, уехать с ним. Очутившись в положении дамы, жены богатого человека, растерялась, не зная, чем занять себя, не понимая, как теперь жить», – писала о ней Наталья Ильина. В Лондоне Корнакова встретилась с Михаилом Чеховым. «Обнялись мы с Мишей, и ревели так, что остановить нас не было никакой возможности!» – вспоминала Корнакова. «Сколь бы вы ни ездили по свету, куда бы судьба вас ни закинула, помните – таких людей, как в Москве, не найдете нигде, в других местах таких не водится», – говорила она Наталье Ильиной, оставившей о ней интересные воспоминания в своей книге «Дороги и судьбы».
Советская Россия 1920-х и начала 1930-х годов для Корнаковой была сосредоточена в театре, домах друзей, в Знаменском переулке, где после развода с Диким Катерина Ивановна поселилась вместе с Бриннером.
Отца Юлия тянуло к людям искусства, он пропадал во МХАТе. Между прочим, сам пел и играл на гитаре. Широкоплечий, коренастый, спортивный, он казался очень здоровым человеком, а умер рано – в 1949 году, всего двумя-тремя годами пережив свое пятидесятилетие.
У Юлия с мачехой сложились очень добрые отношения. Они познакомились, когда Юлий вместе с матерью приехал в Шанхай в 1939 году из Парижа, спасаясь от войны. В Шанхае жил Борис Юльевич с Корнаковой и приемной дочерью. Они вместе путешествовали по Китаю, Корнакова рассказывала ему о Художественном театре, о Станиславском, о Михаиле Чехове, который в это время был в Англии. Это был период, когда Юлий становился ближе к отцу, чем к матери.
Сам он был уже учеником Жоржа Питоева, но мечтал поступить в театр-студию Михаила Чехова в Дартингтон-холле в Англии. Катерина Ивановна, конечно же, дала ему рекомендательное письмо.
Начиналась Вторая мировая война. Чехов уезжал из Англии в США, он писал Корнаковой, что собирается поселиться неподалеку от Дэнбери, штат Коннектикут. Юлий решил, что и ему надо переезжать в США. Там жила сестра, вышедшая замуж за пианиста, там могут помочь матери, которая была серьезно больна, – у нее нашли рак крови. В 1941 году Юлий приехал в США, ему был двадцать один год.

Вера Бриннер, 1937 г.
Парижская жизнь – они переехали туда из Харбина в 1934-м – дала ему знание людей и актерские навыки. В Париж тянула его мать, она хотела, чтобы дочь училась в Парижской консерватории – у Веры был замечательный голос, сопрано, как у матери, и она была очень хороша собой. Русское искусство в начале 1930-х годов было в моде. Еще пел Шаляпин, процветали Жорж и Людмила Питоевы, Стравинский, Серж Лифарь. Спектакли русского балета с Ольгой Спесивцевой, Верой Немчиновой и Татьяной Рябушинской пленяли публику. Друзья матери были близки с Лифарем, Вера даже прошла увлечение им, хотя и знала о его бисексуальности. Юлий сразу попал в атмосферу искусства и русской западной жизни. В Париже увлекались русскими кабаре, ночными ресторанами. Однажды секретарь Лифаря привел Юлия в кабаре, где пел известный цыганский хор, возглавляемый Иваном Дмитриевичем, певшим в России еще Распутину. Юлию нравился сам воздух русских кабаре. Он был еще мальчик, но природная мужская стать предназначила его на роль прожигателя жизни. У него был обаятельный ум и циничные насмешливые глаза. Опыт он стал приобретать очень рано.
Сначала мать отдала его в один из самых привилегированных лицеев – Монселль, он проучился в нем два года. Ему с трудом давались языки, он владел только родным, русским, и немного знал китайский. Отец высылал деньги нерегулярно, и мать вынуждена была перевести его в обычную школу. Рос он замкнутым, грубоватым, увлекался плаванием, гимнастикой, коньками. Знакомство с цыганами имело на него большое влияние. Он подружился с Алешей Дмитриевичем, младшим сыном Ивана, и стал учиться игре на гитаре. Ему не было еще полных пятнадцати лет, когда Иван Дмитриевич позволил ему выступить с пением-декламацией на эстрадных подмостках в ресторане. Мальчику Иван дал полезный совет: «Всегда, когда поешь с гитарой в руках, помни, что ты должен чувствовать себя мужчиной, и будь откровенным в своих желаниях».
Юлий запомнил и этот день 15 июня 1935 года, и этот урок. Сексуальное мужское начало в нем стало проявляться очень рано. Уже летом 1935 года, живя с матерью в Довиле, он завел шумный роман с пятнадцатилетней девочкой, и матери пришлось потратить немало денег, чтобы последствия этого романа были устранены. Вернувшись в Париж, Юлий стал ночами работать в ресторане. Он рано научился следить за собой, хорошо одевался, был немногословен и демонстрировал слишком рано приобретенный опыт. Он твердо усвоил, что главное – не дать себя поработить чувствам, если дать им волю – можешь погибнуть.
Кроме ночного кабаре Ивана Дмитриевича было еще одно место, которое влекло юношу, – цирк. Он подружился с акробатами и постоянно толкался за кулисами. Его умение петь и играть на гитаре было использовано в одном из утренних представлений – его одели в костюм клоуна и выпустили на арену, он тогда уже работал на летающей трапеции вместе с одной французской парой и стал как бы частью труппы. Ни мать, ни сестра не знали, что он ведет двойную жизнь. Когда Юлию исполнилось шестнадцать, он решился пригласить мать и сестру на утреннее представление. На арене он пел насмешливые песенки и исполнял номер на летающих трапециях, его тело было на редкость натренированным. За кулисами его любили, особенно молоденькие акробатки – муж одной из них однажды чуть не зарезал его, пришлось вызывать полицию. Он рано научился бередить сердца.

Порочности не было на его мужественном лице, но склонность к наркотикам проявилась рано. У него теперь часто болела спина после цирковых выступлений – он падал несколько раз, приходилось обращаться к врачам, они прописывали морфий. Сначала морфий помогал как лекарство, потом он втянулся, без морфия не мог прожить и дня. После одного из выступлений в русском ресторане к нему подошел элегантный худощавый человек, представился и, угадав в нем морфиниста, спросил, где он достает «дозу». Это был Жан Кокто, в те годы увлекавшийся наркотиками и даже издававший журнал «Опиум – лекарство». Юлий оказался в орбите Жана Кокто и его друзей. Они вместе посещали Колетт, Жана-Луи Барро, Марселя Марсо. Юноша не раз наблюдал, как Кокто одной рукой делал карандашный набросок лица Колетт, а другой рисовал самого Юлия. В те давние годы он познакомился и подружился с Сальвадором Дали. Жан Маре, спутник и самый близкий человек Кокто, стал его другом на долгие годы. Но боязнь стать наркоманом была в нем сильна, слишком участились его прогулки в доки, где у вьетнамских матросов они с Жаном Кокто покупали опиум.
Юл Бриннер с юных лет не был слабонервным, наоборот, подчеркивал свою брутальность, хотя апологетом грубой силы не был никогда. В 1937 году мать отправила его в Швейцарию к двоюродной сестре. Семья Феликса Юльевича жила в Лозанне, там Юлий сблизился с Ириной, той самой Ирэн, с которой в конце жизни прославленный Юл Бриннер будет проводить последние дни, поверять все тайны и которой не оставит ни цента из своего громадного состояния.
Феликс Юльевич поместил семнадцатилетнего Юлия в клинику для наркоманов, где юноша прошел длительное лечение. Выписавшись, он остался у них и провел у «тети Веры» спокойный год.
Вернулся в Париж здоровым и веселым, темперамент бил через край, глаза горели дьявольским нетерпением. Он решил посвятить себя театру.
У Жоржа и Людмилы Питоевых нашлось место ученика, и он поступил к ним. Репетировали «Чайку» Чехова, Людмила Питоева играла Нину, Жорж – Тригорина. Это был один из последних спектаклей Питоева, премьера состоялась в январе 1939 года в помещении театра «Матюрен». Юлий присутствовал на всех репетициях. В Европе сгущалась политическая атмосфера, «Чайка» Питоева несла ее след. Тригорин – Питоев был личностью, жаждущей действия, не лишенной творческого порыва. Отсюда его ожесточенность и жажда самоутверждения, которую он искал в интриге с Ниной Заречной. Аркадину играла замечательная русская актриса Мария Николаевна Германова, подчеркивая несостоятельность своей героини. «Чайка» была преисполнена трагизма, но утверждала веру в человека, говорила о его творческом начале и нравственной силе.
Юлий был под сильным впечатлением от спектакля, но огорчался, что никто не занимается им, а он понимал, что ему надо учиться. Питоевы после «Чайки» решили ставить Ибсена. Жорж начал репетировать «Доктора Штокмана». Ученики допускались на репетиции, но их в расчет никто не принимал, и Юлий решил уехать в Англию к Михаилу Чехову. Нужно было рекомендательное письмо, и тут он вспомнил об отце и его новой жене. Мать начала болеть, очень боялась войны, и, когда начался «бег» из Парижа в США, она с сыном уехала в Китай.
В Шанхае он чаще бывал в доме отца, чем у себя. Ему нравилась Корнакова, ее рассказы, ее элегантность, заразительность, увлеченность искусством. Последний раз он встретился с ней в 1948 году, когда отец с Корнаковой прилетал в США повидать детей, за год до смерти. Близости с отцом не было. Детство, Владивосток, Харбин, Шанхай были от Юлия уже далеко. Он не испытывал к отцу прежних чувств. Катерине Ивановне было тогда пятьдесят с небольшим, а на вид можно было дать все шестьдесят. Ничего не осталось от элегантно одетой актрисы, перед Юлием стояла пожилая опустившаяся женщина в бесформенном, чуть ли не бумазейном халате, в шлепанцах. «Лицо постаревшее, обрюзгшее, в каких-то лиловых прожилках – и тусклые, погасшие узкие глаза», – писала Нина Ильина об этом периоде ее жизни.
Борис Юльевич умер скоропостижно и не успел сделать нужных распоряжений. После смерти мужа Корнакова переехала в Англию, жила в Лондоне бедно, средств к существованию практически не было, она пила. Катерина Ивановна умерла в августе 1956 года от рака. Как пишет Ильина со слов общей знакомой, «когда Катерина Ивановна заболела, нечем было заплатить за отдельную палату, лежала в общей, страдала от этого. В то время в Лондоне жил Юлий, то ли фильм какой крутил, то ли так приехал. Я хотела бы пробиться к нему в отель Claridge просить, чтоб дал денег на отдельную палату, – что ему стоило сделать благородный жест, великодушие проявить к мачехе, в память отца хоть бы…». Но Корнакова запретила обращаться к нему, просила только, чтобы, когда она умрет, не оставил бы девочку, о девочке бы позаботился. Юл не приехал на похороны, и с приемной дочерью отца так никогда и не встретился и не помогал ей. Он уже тогда научился отсекать от себя все, что мешает, что не нужно его карьере.
Приехав в США, он оставил мать на попечение друзей, а сам сразу отправился в Риджфилд, недалеко от Дэнбери, к Михаилу Чехову. Письмо Корнаковой сыграло свою роль. Чехов, или, как называл его Юлий, «профессор», принял его и с осени 1941 года начал заниматься с ним и Георгием Ждановым. Английский язык Юлий знал слабо, и ему с трудом далась роль Фабиана в «Двенадцатой ночи» Шекспира, хотя текста было – кот наплакал. Чехов не находил в нем больших актерских способностей. По его мнению, чувственный рот и хорошо тренированное тело плюс приятный голос скорее могли бы пригодиться в кино. Тем не менее он поставил его имя на афишу спектакля, сыгранного в Нью-Йорке 8 декабря 1941 года с известной актрисой Беатрис Стрейт в роли Виолы: Фабиан – Юл Бриннер. Так появилось это имя, вместо привычного в семье Юлий.
Почти полтора года прожил Юл в Риджфилде, наезжая к матери в Нью-Йорк. Все время были нужны деньги – платить за учебу, за лекарства, за сиделок, матери становилось все хуже и хуже. Кем только он не работал! Швейцаром, официантом, в цирке, рабочим на бензоколонке. Он с лихвой испытал на себе, что значит быть иммигрантом с плохим знанием языка – английский давался с трудом. Иногда он находил работу в русских ресторанах: пел под гитару цыганские романсы, особенно имел успех «Окончен путь», иногда пел в дорогих ночных клубах типа «Голубого ангела». Его часто приглашали на всякого рода вечеринки. У него были дерзкие глаза и обещание в голосе, противиться которому было нельзя. Непроницаемость и внешняя бесстрастность отличали созданный им имидж, на самом деле в нем бурлили страсти.
В начале 1942 года он влюбился в молодую актрису кино Вирджинию Джилмер, она была старше на год, и имя ее уже становилось известным. Вирджиния была возлюбленной кинорежиссера Фрица Ланга, приехавшего из Германии, он был старше ее лет на тридцать. Она дружила с Бертольдом Брехтом, увлекалась его мужественной поэзией и драматургией. По совету Ланга Жан Ренуар, приехавший в Голливуд в 1941 году, снял ее в фильме «Болото». Студия, где хозяином был Самуэль Голдвин, называла ее «американской красавицей, способной сочинять поэмы». Она снималась с Гэри Купером в «Гордости янки», с Робертом Янгом в «Западном Союзе» и Цезарем Ромеро в «Высоком, темном и красивом». Пресса называла ее «звездой» фильмов «второго сорта». Она была честным и глубоко порядочным человеком. В Голливуде у нее была своя квартира, в ней стал бывать Юл Бриннер. Влияние на него она имела громадное, отучила от наркотиков, к ним он больше никогда не прикасался и избавился от этого влечения навсегда.

Юл Бриннер и Вирджиния Джилмер, 1944 г.
В 1943 году умерла его мать, последний год ее жизни он был внимательнее к ней, чем прежде – она ревновала его к Корнаковой. Теперь, после кремации, Юл сразу улетел в Голливуд повидать Вирджинию. Газеты писали, что Вирджиния Джилмер везде появляется в сопровождении какого-то «цыгана», за которого собирается выйти замуж. Студия The 20th Century Fox предупредила ее, что она лишится работы, если станет его женой. Юл Бриннер на всю жизнь запомнил эту угрозу и никогда не снимался на этой студии, впоследствии неоднократно приглашавшей его. 6 сентября 1943 года они поженились. Молодожены вскоре переехали в Нью-Йорк, где Вирджиния дебютировала на Бродвее в комедии «Дорогая Рут». Она по-прежнему зарабатывала тысячи, а Юл по-прежнему не имел постоянной работы, еле-еле говорил по-английски, хотя самоуверен был до крайности.

Юл Бриннер. Фото 1946 г.
В конце 1945 года он, при содействии жены, получил приглашение сыграть роль молодого крестьянина, впервые попадающего в город, в мюзикле «Песнь Лютни», сделанном по известной китайской пьесе. Премьеру сыграли в декабре, а спектакль удержался на сцене до февраля следующего года. Пресса назвала Юла Бриннера «самым обещающим актером 1946 года». Но для театрального мира он оставался лишь мужем Вирджинии Джилмер, не более того. Вирджиния после комедии «Дорогая Рут» была немедленно приглашена Элиа Казаном сыграть главную роль в пьесе Максуэлла Андерсона «Кафе на шоссе», ее партнером стал молодой актер, приехавший из штата Небраска, Марлон Брандо. Вирджиния была прикована к Нью-Йорку, а Юл все время гастролировал – то с мюзиклом «Песнь Лютни», то со съемочными группами телевидения, входившего в обиход каждого американца. На рождество 1946 года Вирджиния родила сына, при рождении мальчика отца рядом не было, а до молодой жены все время доходили слухи о его романах. То случилось его короткое увлечение Джоан Кроуфорд, то он влюбился в Джуди Гарланд. Джуди была замужем, ее девочке – Лайзе Минелли – исполнился год, но это не остановило знаменитую «звезду» Америки, с ее помощью Юл был назначен на роль, когда-то сыгранную Рудольфе Валентино в фильме «Шейх», римейк которого начинала снимать студия Metro-Goldwin-Mayer. Только настойчивость мужа Джуди Гарланд, режиссера Винсенто Минелли, заставила ее уйти от Юла Бриннера, которому было 26 лет, и о чьей мужской магии распространялись легенды.
То был период, когда съемки в Голливуде еще не заполнили актера, он заключил контракт с телевизионной компанией и почти год должен был прожить в Нью-Йорке. Песенки в исполнении Юла Бриннера становились широко известны. Рос сынишка, мать настояла, чтобы его называли не Юл, как хотел отец, а как-то иначе, она почему-то боялась, чтобы отец и сын имели одно имя, ей казалось, что это недоброе предзнаменование. Мальчика назвали Рокки.
В 1948 году Борис Бриннер вместе с Корнаковой приехал в Нью-Йорк, они поселились у Юла. Это была последняя встреча с отцом. Вскоре старшие Бриннеры уехали в Китай, где Борис Юльевич умер спустя год, а Корнакова переехала в Англию. Связи с семьей отца были оборваны. Теперь Юл Бриннер жил в Нью-Йорке, вращаясь в артистической среде. Ребенок был на попечении няни, негритянки Хейзел, проживавшей в доме, впоследствии Юл обвинил ее в том, что она украла у него деньги, хотя на самом деле он просто забыл, куда их положил. Ему ничего не стоило обидеть человека, история с Хейзел оставила след в сознании Рокки, привязанного к няне, воспитавшей его. Он не простил отцу обиды, нанесенной ей.
В это время на экранах Америки с успехом шел фильм «Анна и сиамский король» с Айрин Данн и Рексом Харрисоном. По мотивам этой картины композиторы Роджерс и Хаммерстайн написали мюзикл «Король и я». На главную женскую роль была приглашена
Гертруд Лоуренс. Ставил мюзикл Джон Ван Друтен, хореографом спектакля был Джером Роббинс, роль Короля была отдана Юлу Бриннеру.
Гертруд Лоуренс появилась на Бродвее в 1926 году, ее имя было широко известно, она пела Somebody’s watching те в знаменитом мюзикле Джорджа Гершвина «О’кей!», играла на Бродвее в мюзикле «Леди в темноте» Курта Вайля вместе с Денни Кей, а в 1945-м прославилась при возобновлении «Пигмалиона». Она была очень удивлена, когда вернулась из Англии на Бродвей, что ей предлагают выступить в мюзикле с малоизвестным исполнителем.
Его имя всплыло по совету Мэри Мартин, известной бродвейской певицы тех давних лет. Претендентами на роль были Джеймс Мейсон и Роберт Монтгомери. Композиторы хотели видеть в роли Короля Рекса Харрисона. Но появился Юл Бриннер с гитарой, высокий, красивый, мужественный, молодой, с чуть раскосыми глазами, сильным голосом, очень гибкий – и вопрос был решен. Тогда мюзикл стоил на Бродвее немного – 250 тысяч долларов, Джером Роббинс получал только 350 долларов в неделю, Юл – еще меньше. Цена таланта определялась, как обычно, гонораром, типично американская традиция, в которой коммерческая ориентация всегда главенствует.
Сюжет мюзикла очень прост: обычная любовная история, без намека на историческую точность. Скажем к примеру, что реальный сиамский король умер намного позже, чем его похоронили авторы либретто. Все сводилось к тому, что некая леди Анна была приглашена в качестве европейского учителя для детей сиамского короля. Под ее влиянием меняются привычки двора, а на фоне этих изменений разгорается роман между Анной и сиамским королем. В роль, которую Юл Бриннер играл более тридцати лет, он внес загадочность Востока, усвоенную им с детства, опыт исполнителя цыганских романсов, акробата, свою физическую привлекательность и спортивную натренированность, и, прежде всего, актерские уроки, полученные у Михаила Чехова. В образе восточного монарха Юл Бриннер стремился сыграть человека с душой ангела, пытающегося изгнать зверские инстинкты, обуревавшие его. Премьера состоялась 26 февраля 1951 года в Shubert Teatre в Нью-Хейвене.
Юлу было очень трудно избавиться от русского акцента, он не освободился от него до конца дней. Его отличал дерзкий темперамент, прямой контакт эротики и музыки, могучий инстинкт помогал разрушить привычный стереотип героя, сложившийся в американском мюзикле. Он долго работал над гримом, разрисовывая лицо и тело и добиваясь экзотического облика.
Песни из мюзикла – Hello, Yung Lovers («Привет, молодые любовники»), I Whistle a Happy Типе («Насвистываю счастливую мелодию») и We Kiss in a Shadow («Поцелуй в тени») – включил в свой репертуар даже Фрэнк Синатра. Он пел их гораздо лучше, чем это делал на сцене Юл Бриннер, но в Бриннере была сила и особая мужская привлекательность, он изумлял не голосом, а образом взрывного человека, знающего, что такое страсть.

Кадр из фильма «Король и я», 1956 г.
«Король и я» вначале шел на Бродвее (после премьеры в Нью-Хейвене) около двух лет, потом его возобновляли неоднократно. Успех принес ощущение стабильности, но семейная жизнь Юла разлаживалась на глазах. Вирджинии был тридцать один год, она еще могла сниматься, играть на сцене, от искусства ее оторвали ребенок и постоянные волнения, связанные с похождениями Юла. Она начала пить, а он упивался своим успехом, за кулисы пожать его руку приходили Элеонора Рузвельт, голландская королева Юлиана, генерал Макартур. Даже Михаил Чехов приезжал на спектакли. В 1953 году Чехов опубликовал свою книгу «О технике актера» на английском языке, посвященную Георгию Жданову, с ним много лет работал Юл Бриннер. Эта книга стала настольной для актера. Сохранилось письмо Юла Бриннера, написанное Михаилу Чехову 23 июля 1952 года:
Дорогой мистер Чехов, мой дорогой профессор! Впервые я увидел Вас на сцене в Париже еще в конце двадцатых годов, когда Вы играли «Ревизор», «Эрик Четырнадцатый», «Двенадцатую ночь», после спектаклей я вышел с глубоким убеждением, что только Вы способны научить меня актерскому искусству, о котором мечтал в детстве. Вы – единственный, кто знает, что такое техника актера, этот конкретный и осязаемый путь к постижению ускользающего таинства, получившего название – «техника»… Я пытался присоединиться к Вашей группе в Дарлингтоне в Англии. Когда я услышал, что Вы переезжаете со своей группой в Коннектикут, я принял все меры, несмотря на мировые события, чтобы попасть в США с единственной целью – стать вашим учеником. Пианисту, чтобы стать мастером, надо иметь дома инструмент для упражнения пальцев, творчески настроенный артист, чтобы выразить себя, должен иметь инструмент в себе, свою физическую и эмоциональную способность, которую Вы помогли мне развить… Преданный Вам, Ваш Юл Бриннер.
У Чехова занимались в Голливуде Грегори Пек, Мерилин Монро, репетировавшая с ним Корделию в «Короле Лире». Она подарила Чехову фотографию с надписью: «Когда я училась в школе, я обожала больше всего Линкольна. Теперь я обожаю Вас».
Уже после смерти Михаила Чехова, узнав, что покойный просил когда-то Юла Бриннера написать предисловие к его книге при ее издании на английском языке (она очень плохо продавалась в США, несмотря на высокий авторитет среди американских «звезд»), Мерилин Монро обратилась с просьбой к Юлу Бриннеру дать ей несколько уроков.
Стал ли Юл Бриннер настоящим актером – сказать трудно, но «звездой» он стал. Его отличали и страсти, и низменные интересы, он всегда заботился прежде всего о себе, часто влюблялся и любил жить в свое удовольствие. Его бурный роман с Марлен Дитрих в начале 1950-х годов, казалось, должен был окончательно сломать его жизнь с женой, но его это мало заботило. Он приехал в Голливуд, получив приглашение сняться в фильме «Фараон». Когда-то его сюжет был использован в немом кино и в ленте «Король и я».
Юл становился модным. Когда знаменитый кинорежиссер Сесил де Милль пригласил его в свою картину «Десять заповедей», Юл Бриннер немедленно согласился, он был обуреваем идеей совершенствовать свое мастерство. Человек скрытых страстей, он был наделен недюжинным умом и понимал, что его яростный, воспаленный нрав может помешать ему стать профессионалом. В те годы он еще жаждал учиться и был польщен, что Сесил де Милль выбрал его на главную роль. После окончания Второй мировой войны на экране блистали имена Берта Ланкастера, Энтони Куина, Керка Дугласа. Юл Бриннер был гораздо скромнее по дарованию. Его успех напоминал скорее успех Рудольфе Валентино, на зрителей действовали манеры, взгляд красивых глаз и загадочность, распаляющая зрительское воображение. В нем было что-то экзотическое, ничего прозаического, бытового, казалось, что его герои способны своротить горы. Он умел воспламеняться, хотя на экране проглядывала тайная горечь, как бы говорящая о том, что надежды обманули его. С годами его «агрессивность» оказалась привычной экранной краской.

Юл Бриннер. Кадр из кинофильма «Десять заповедей».
«Фараон» не стал большой удачей, съемки ленты «Король и я» вселяли большие надежды, и они оправдались. На экране это был самый большой успех Юла Бриннера. На роль Анны была выбрана Дебора Керр, она не умела петь, вместо нее это делала за кадром Марни Никсон, но зато в ней было что-то радостно-легкомысленное, что не мешало ей отдельные сцены играть остродраматично. Музыкальна была ее пластическая форма, ее внутренний ритм. Газеты очень хвалили Юла. «В каждом жесте Юла Бриннера, – писала The New York Gerald Tribune, – чувствовалось, что Король – человек страсти и животного энтузиазма, он умеет распалять себя и нас».
Особенно радовались успеху Юла его сестра и тетка. Вера стала певицей, в 1950-е годы она прославилась исполнением главной партии в опере Менотти «Консул» и партии Кармен в знаменитой телевизионной постановке оперы Бизе. Тетя Вера, сестра его матери, после смерти мужа переехала с дочерью Ириной в Сан-Франциско. Все они были счастливы, что их «Юлик» стал «звездой», все время вспоминая родителей, которые не дожили до его славы. Ирина Бриннер, двоюродная сестра Юла, оставалась самым близким для него человеком до конца его дней.
Фильмы «Десять заповедей» и «Король и я» сделали имя Бриннера известным во всем мире. Критики писали, что по своей внутренней сути и внешней подвижности Юл Бриннер насыщен электричеством, особенно ему были подвластны короткие взрывы чувств, на экране он был резок и импульсивен.
В середине 1950-х годов Бриннер переезжает во Францию, он получил приглашение от Анатоля Литвака сыграть роль в фильме «Анастасия». С Вирджинией Джилмер он все никак не мог расстаться, по-своему он сильно любил ее, и жизнь с ней то налаживалась, то разлаживалась снова. Во Франции они всем семейством поселились в местечке Сен-Жан-де-Люс на юге. Рядом жили Ирвин Шоу, Ингрид Бергман и Анатоль Литвак. Литвак и Юл часами по-русски обсуждали сценарий.
Часто ездили в Париж, где Юл как-то встретился с Жоржем Питоевым и пригласил его на эпизодическую роль в фильме «Анастасия». Он всегда, снимаясь в картине, брал на себя моральную ответственность за то, что происходит на съемках. Литвак ему абсолютно доверял. Жили дружно, Юл возился с сыном – мальчику было уже девять лет. В роли Анастасии снималась Ингрид Бергман.

Юл Бриннер. Портрет Ингрид Бергман в зеркале, 1958 г.
Впоследствии Бриннер писал, что съемки в «Анастасии» давали ему «ощущение солнечного дня в зените», актриса изумляла его. Они много времени проводили вместе, и после увлечения Марлен Дитрих роман с Ингрид Бергман был, может быть, самым серьезным романтическим приключением Юла Бриннера.
В Париже летом 1956 года он встречался с Жаном Кокто, Пабло Пикассо, познакомился с Джеймсом Болдуином и Хемингуэем, не пропускал концерты Эдит Пиаф, Ива Монтана и Марселя Марсо, с которым был дружен с юношеских лет.
Хемингуэй однажды обмолвился, что Юл мог стать идеальным героем приключенческого жанра в кино, он действительно обладал формальной структурой положительного героя. Все ленты, в которых он впоследствии снимался, как бы заимствовали у Хемингуэя модель поведения его мужских персонажей, ищущих справедливости вне рамок закона. Когда Юл Бриннер снимался в «Великолепной семерке» или спустя десять лет, уже постаревший, в «Возвращении семерки», где играл все того же Криса, его герой оказывался в той же ситуации – группа смельчаков-аутсайдеров самоотверженно пытается защищать мирных жителей мексиканской деревни от бандитов.
Как заметил советский киновед Ян Березницкий в своих «Отблесках времени», «производственно-прокатная одиссея «Семерки» не окончилась ее «Возвращением». Она появилась на экране третий раз в «Револьверах великолепной семерки» и четвертый – в картине «Скачет великолепная семерка». Скачка эта происходила в год Уотергейта, когда «шерифизированный» страж законности и порядка стал одной из ведущих фигур американского экрана, и Крис (теперь его играл Ли Ван Клифф) превратился на этот раз в стража законности – шерифа». Но не злободневное содержание экранного сюжета играло главную роль, а зрительская настроенность на нее, подсознательная готовность воспринять сюжет как злободневный, что особенно обострялось благодаря участию в фильмах Юла Бриннера, слывущего одним из главных носителей амплуа героя.
«Синдром» Бриннера возродить никому не удалось. Безотносительно к перипетиям содержания Юл Бриннер нес в себе человеческую значительность. Хемингуэевской темой «победитель не получает ничего» определена была суть его экранных созданий. Тот человеческий тип, который он воплощал с поправкой на массовость киноискусства, коммерческий характер фильмов и невысокий уровень исходного сценарного материала, восходил рядом своих черт к хемингуэевскому герою, хотя снимался он в вестернах и чаще всего играл ковбоев. Список человеческих добродетелей, составленный в назидание грешному человеческому роду, получил в лице Юла Бриннера безупречное и точное воплощение.
Свой образ-маску актер нес идеально, особенно в «Великолепной семерке», снятой Джоном Стерджесом. Десять заповедей ковбоя включают в себя понятия: ковбой не может совершить бесчестный поступок, обмануть доверие, он всегда говорит правду, всегда ласков с детьми, стариками и животными, лишен расовых предрассудков, протягивает руку помощи каждому, кто попал в беду, хороший работник, чистоплотен, уважает женщин, родителей и законы своей страны, ковбой – патриот. Крис, герой «Великолепной семерки», был идеальным рыцарем во всем, что касалось его личной безупречности и профессионального умения. На экране – образцовый аутсайдер, всем чужой, у него никого нет. «Кто мы такие?» – спрашивал он себя и произносил монолог, который мог бы стать речью в устах любого героя нового вестерна: «Жен, детей – нет! Постоянного дома – нет! Людей, которых хотелось бы избежать, – нет! Отдыха – нет! Друзей – нет! Врагов – нет! Врагов – нет? Живых врагов – нет!» Крис стал как бы нарицательным именем для обозначения того, что жаждал увидеть «средний американец». Не знаю, насколько Юл Бриннер стал кумиром «молчаливого большинства», но его эстетический идеал воплощал, отыгрывая штамп американского приключенческого фильма. Лицо Бриннера таило в себе мужскую загадку, никакой утонченности, откровенно сексуальное начало, что сделало его «секс-символом». В середине 1950-х годов критики писали, что «Мерилин Монро – символ женского секса, Юл Бриннер – символ мужского».

Юл Бриннер и Стив Маккуин. Кадр из фильма «Великолепная семерка», 1960 г.
1956 год – пик его кинокарьеры, студии рвали его на части. Ричард Брукс предложил сниматься в фильме «Братья Карамазовы» в роли Мити, в роли Грушеньки снималась тогда еще мало известная Мария Шелл, в роли Катерины Ивановны – Клер Блум.
Идейные пласты гениального романа Достоевского Голливудом были отброшены, на экран вышел эффектно-занимательный, откровенно иллюстративный фильм. Юл Бриннер был стремителен и горяч, и это единственное, что роднило его с героем Достоевского, его Митя не был рабом бешеной ревнивой страсти, унизительной и эгоистичной.
Фильм был по-голливудски роскошен: снега, цыгане, романс «Иноходец» пел Алеша Дмитриевич по подсказке Бриннера (он знал этот романс с середины 1930-х годов), пляски, шубы, кутежи. Центральными стали кадры в Мокром, кутеж Мити, полный дикого разгула. Но в ленте не было и тени того жуткого беспокойства, ожидания близящейся катастрофы, которыми наполнен роман Достоевского. Фильм был лишен психологической правды и простоты, хотя режиссером на первый план выдвинута была история Мити, его заблуждений и просветления. Юл Бриннер много читал о постановке Художественного театра, о Леонидове в роли Мити, знал, что Леонидов дал один из немногих образцов трагического исполнения в русском театре начала века. Ему хотелось, как он писал сыну, «сыграть человека, сорвавшегося с петель, выбитого из колеи, находящегося в отчаянии, отравленного жизнью», и сам понимал, что ему это не удалось.
В конце 1950-х годов Бриннер переезжает в Швейцарию. Он стал миллионером и мог позволить себе жить в стране, где поселились Чарли Чаплин, Ноэль Коуард и Уильям Холден. В 1958 году он разводится с Джин, как он звал Вирджинию Джилмер, остается один и покупает дом неподалеку от Женевы. Может быть, если бы Джин не пила, расставания бы не случилось, слишком долго их связывали ненависть и любовь, неприязнь и дружба. В марте 1960 года он женится на Дорис Клайнер, богатой женщине моложе его на десять лет, и принимает решение «остепениться». В этот период он начинает сниматься в «Великолепной семерке», фильм имеет громадный успех, приносит Юлу миллионы долларов и не меньшее количество почитателей. Лицо его печатается на рекламных щитах сигаретной фирмы «Мальборо». Стив Мак-Куин и Юл Бриннер, исполнители главных ролей, оказываются героями дня.
Юл ведет активную светскую жизнь, знакомится с президентом Кеннеди, часто бывает в доме Фрэнка Синатры, живет то в Париже, то в Швейцарии, то в США, испытывает душевный подъем и ждет новых ролей. Но, как ни странно, после «Великолепной семерки» начинается спад его популярности и успеха. Довольно долго он живет в ожидании новых работ, и только когда Голливуд решил снимать «Тараса Бульбу» по Гоголю, получает приглашение на главную роль. Сомнительно все было с самого начала: режиссер Ли Томпсон, сценарист, пришедший на смену Говарду Фасту, отказавшемуся писать сценарий в последнюю минуту, а главное, что лента делалась не на Тараса, а на его сына Андрия, которого играл молодой Тони Кертис. Кертис был «звездой» «Тараса Бульбы», и, может быть, впервые Юл Бриннер испытал на себе, что значит быть на втором месте. Фильм оказался неудачным, неувлекательным, мрачным, и весь его недолгий кассовый успех строился на том, что молодым американкам просто очень нравился Тони Кертис. Финальные кадры, в которых Тарас – Юл Бриннер – демонстрировал острую выразительную пластику (так он считал), были вырезаны. В центре ленты осталась тема романтической любви Андрия к прекрасной панночке. Все, что искал Юл, работая над ролью, – суровую силу, пластическую «кряжистость», мощь – все оказалось ненужным. Увидев фильм, Бриннер пришел в отчаяние, он потерял сон, и с этого момента бессонница мучила его до конца жизни.

Одри Хепберн, Юл Бриннер и Дорис Клайнер.
По странной иронии судьбы неудача Бриннера в фильме происходила на фоне огромного успеха его бывшей жены, игравшей на Бродвее вместе с Генри Фонда в комедии «Выбор критика» в постановке Отто Преминджера. Когда у Вирджинии была работа, она не пила.

Бриннер в роли Тараса в фильме «Тарас Бульба», 1962 г.
После неудачи в «Тарасе Бульбе» Бриннер улетел в Японию. В аэропорту в Токио его ожидали толпы, реклама подчеркивала, что Юл Бриннер – единственный человек, пришедший из «страны Востока», который победил Голливуд. Еле живой, он вырвался из аэропорта в сопровождении полиции. Киото, Иокогама и Токио были заклеены афишами «Великолепной семерки». Пройдет много лет, и в 1973-м в Японии взорвется такая же волна любви к нему, когда будет объявлена премьера его очередной ленты «Мир Дальнего Запада», снятой Майклом Крайтоном, – гротескный, фантастический вестерн, достаточно неожиданный по сюжету. Место действия – увеселительный парк, разбитый на три сектора – античный, средневековый и сектор Дальнего Запада. В парке живут роботы, ничем не отличимые от обычных людей. Посетитель платит тысячу долларов и может по своему желанию прожить целый день или в Древнем Риме, или в западном городке XIX века, испытав множество приключений. В секторе Дальнего Запада собраны роботы – персонажи вестернов: шерифы, бандиты, ковбои. В парке происходят дуэли, драки, кулачные бои, победителем все равно останется клиент. Ночью роботов чинят, если их успели изувечить, и вновь пускают в дело. Всем управляет электронный мозг. В секторе Дальнего Запада есть робот по имени Крис – абсолютная копия знаменитого Криса из «Великолепной семерки», его играет все тот же Юл Бриннер. Богатый, скучающий адвокат однажды приходит в парк и заявляет, что он хочет погрузиться в атмосферу Дальнего Запада. Вместе с приятелем он бродит по парку, задирает всех встречных роботов и побеждает во всех стычках. Адвокат убивает Криса, но в электронном мозгу происходит какая-то поломка, и роботы поднимают бунт. Оживший Крис вскакивает и начинает преследовать убийцу, при этом гибнут сотни людей, но адвокат спасается.
Как заметила Елена Карцева в книге «Голливуд: контрасты 70-х», фильм безусловно входит в рубрику фантастических картин, соединяя в себе одновременно два бунта – и человекоподобных роботов, и компьютера, но точно так же его можно отнести к вестерну, хотя и изрядно приправленному авторской иронией». Мысль режиссера – героем человек теперь может стать не в силу личных качеств, а за деньги. Японцы, как и американцы, восторженно встретили на экране Юла Бриннера, постаревшего и изрядно уставшего. Но в этом была заслуга режиссера, иронии как раз не хватало актеру. Это сказалось, когда начала уходить молодость.
Бриннер снимался много, то в Мексике, то в Японии. От второго брака у него родилась дочь Виктория. У него был богатый дом, он стал собирателем картин, купил Пикассо, Утрилло, Дюфи, Модильяни, получил в подарок от Жана Кокто серию его набросков, рисунки; Дорис коллекционировала фарфор, драгоценности, а удовлетворения не было. Фильмы, в которых он снимался, были второсортными. Когда он однажды посмотрел, зайдя в кинотеатр, «Короли солнца», то высидеть до конца не смог. Он был слишком умный и трезвый человек, чтобы не понимать, что большинство его киноролей сделаны в очень плохих фильмах. Но из кино он не уходил, хотя с середины 1960-х годов было очевидно, что его время кончилось. Его мужская привлекательность, сила, красота выглядели теперь неуместно. Он часто пел в небольших залах своим сильным голосом в забытой манере – неагрессивно, нерезко, пел любимые цыганские романсы на английском или французском языке, который знал лучше, чем английский, хотя русский акцент чувствовался все равно.
В 1965 году он впервые поехал в Израиль для участия в съемках фильма «Оставляя великую тень», в главной роли снимался Керк Дуглас. Для Бриннера удачей фильм не стал. Он все равно чувствовал себя гораздо лучше, когда снимался в вестернах, и с радостью согласился сниматься в фильме «Возвращение семерки» вместе со Стивом Маккуином, Чарльзом Бронсоном и Джеймсом Коберном. Судьбе явно было угодно, чтобы в самих сюжетах «Великолепной семерки» и «Возвращения семерки» сыграл мотив заповедей ковбоев, мотивы эти были обращены к молодому поколению. «Возвращение семерки» – в сущности двойник «Великолепной семерки», хотя снимался как продолжение предыдущей ленты. Те же смельчаки, те же аутсайдеры, те же герои, тоска по которым была особенно обострена в годы тревог, смуты и неустойчивости, – фильм снимался в 1966 году.
Играя роль немецкого аристократа в фильме Теренса Янга «Тройной крест», Бриннер надолго застрял в Англии, где начал увлекаться The Beatles и The Rolling Stones — его тянуло к молодым. Никогда прежде он так не интересовался молодежной культурой, «звездами» рока, его волновали судьбы молодых, бегущих из стран социализма. Ему даже пришла в голову мысль усыновить Рудольфа Нуреева, которому было тогда 26 лет, для того, чтобы ускорить получение им иностранного паспорта.
Его раздражала Дорис с ее привычным мирком, привязанностью к консервативному стилю жизни. В 1967 году они разошлись. Это был тяжелый год для Бриннера. Умирала его единственная родная сестра Вера. У нее был рак. Юл часами просиживал около нее. Он не хотел, чтобы кто-нибудь видел его добрые порывы, демонстрировать благородство было не в его натуре. Они с сестрой мало виделись в последние годы, он часто не подавал о себе вестей, но, узнав об ее приближающейся смерти, бросил все дела и примчался в ее старую маленькую нью-йоркскую квартирку неподалеку от Центрального парка. Соседи дежурили у дома, чтобы взглянуть на самого Юла Бриннера, он выходил из дому, резко хлопнув входной дверью, хмурый и раздраженный посягательством на его личную жизнь. После смерти сестры (она умерла в декабре 1967 года) Юл ни к кому уже не проявлял ни тепла, ни душевной чуткости.
1968-й – год великих перемен на Западе. После гибели Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди казалось, что убийства стали нормой. Май 1968-го стал апогеем «молодежного бунта». Знаменитый Вудстокский фестиваль оказался колыбелью левацких настроений, «молодежность» – неотъемлемым атрибутом движений 1960-х годов. Агрессивный негативизм молодых стремился противопоставить себя миру взрослых. Элвис Пресли пожинал плоды своего триумфа в Лас-Вегасе, The Beatles распались, началась девальвация традиционных ценностей. Длинные волосы, песни под гитару, война в далеком Вьетнаме, ощущение собственной юности находили искренний, но поверхностный отклик. Большая часть молодежной контр-культуры, связанная с темами сексуальной революции, влилась в русло порнографического бизнеса, но исходный пафос гражданской ответственности за будущее, стремление к переменам слышались за грохотом молодежной культуры.
Надо было вписываться в новый социально-культурный пейзаж. Участие в фильме «Сумасшедшая из Шайо» по пьесе Жироду с Кэтрин Хёпберн в главной роли не принесло ему дополнительной славы. Романтизм и непроницаемость его героев становились вне моды. Кинематограф больше не предлагал ему «крупный план», и Юл решил уйти в частную жизнь.
В 1971 году он женился в третий раз на богатой француженке, Жаклин де Круассе, и поселился в Париже. Съемок не было, он пел в кругу друзей, записывал пластинки, которые расходились с большим успехом – в основном цыганские романсы. По-прежнему были поклонницы, истерические энтузиастки следовали за ним по пятам. Но ему захотелось семейной жизни, в пятьдесят лет он поверил, что семейное лоно может стать тихим оазисом, прибежищем от треволнений. В письме к сыну Рокки он писал: «Я становлюсь настоящим американцем, поскольку знаю, что идиллия домашнего очага – самый лирический из американских символов». Фразу эту он вычитал в книге Макса Лернера «Америка как цивилизация». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – писал Лев Толстой. Семья не состоялась, в доме не было детских голосов. Рокки было уже двадцать шесть, он вел самостоятельную жизнь, дочь осталась у Дорис.

Юл Бриннер, Жаклин де Куассе и их дочь Миа, 1974 г.
Юл и Жаклин решили поехать во Вьетнам. Воздействие Вьетнама было всепроникающим, истребление беззащитных вьетнамцев приводило не только к понятию о «маленькой грязной войне», но и к желанию самоустраниться, искупить грехи политиков. «Бунтарско-интеллектуальный» настрой пронизывал дух творческой американской и европейской интеллигенции. В 1974 году, прилетев во Вьетнам, Бриннеры немедленно решили заняться поисками малышей, которых они могли бы принять как своих детишек. В первую же неделю жизни в Сайгоне они удочерили двух крошечных девочек, одну назвали Миа, в честь Миа Фарроу, а другую – Мелоди. Дом сразу наполнился смехом, шумом, детскими играми. Но без работы Юл начал увядать, он никак не мог найти себе применения. Вдруг увлекся белыми пингвинами, собрал их у себя в поместье, построил для них «дом» и пересчитывал по утрам. Их у него было около ста. В его замке в Нормандии было много животных, которые стали объектом его душевной отдачи. Но созданное им «гнездо» не удерживало его.
С годами он становился неуживчив, своенравен, по-прежнему был склонен к эпатажу, не признавал никаких авторитетов и традиций; самоуверенность не покидала его. Снимался он теперь редко. Последний его фильм, «Последний воин», где его партнером был Макс фон Сюдов, оказался незначительным, он винил режиссера Роберта Клузе.
Мужская сила, сексуальная притягательность, скупость в выражении чувств стали чертами его экранного облика. Только если у Марлона Брандо за его суровой сдержанностью был виден внутренний мир, обнаженная ранимая душа, то у Юла Бриннера было очевидно равенство между тем, что он играл, и им самим. В мюзикле «Король и я» он был на редкость человечен, в последних лентах в его героях поселился «зверь». Теперь он играл или роботов, или убийц. Все его кинороли мерились Королем в «Король и я», но далеко не все выдерживали эту меру. Что-то ожесточенное появилось в нем, он был неспособен к состраданию, резко отделился от мира неблагополучия и только на смертном одре осознал цену проигрыша своего эгоцентризма.
Георгий Семенович Жданов, ближайший сотрудник Михаила Чехова, учитель и наставник Юла Бриннера в те годы, когда он еще был Юлик, обратился к нему с просьбой сыграть Отелло в спектакле, который ставился в Лос-Анджелесе. Жданов нуждался в деньгах и работе, ему было очень важно участие Юла Бриннера, имя актера было гарантией интереса к «Отелло». Поначалу Юл согласился, но в этот момент получил приглашение на роль в мюзикле «Одиссей», гонорар был, естественно, значительно больше, и он отказался буквально за несколько дней до начала репетиций. Отношения с Ждановым были прерваны навсегда. Георгий Семенович был потрясен тем, что Юл не нашел нужным даже позвонить ему, объяснить причину отказа.
В 1974 году после длительного перерыва Бриннер вернулся на театральную сцену. В декабре премьера мюзикла «Дом приятного мудреца» (так переименовали «Одиссея») состоялась в Вашингтоне, а в январе 1975-го его сыграли на Бродвее. Спектакль прошел один раз, хотя текст писал Эрик Сигал, а музыку Митч Ли, тот самый, кто написал знаменитый мюзикл «Человек из Ла-Манчи», рецензии были уничтожающие. Спектакль повезли по городам США, маленьким, провинциальным, публика собиралась посмотреть «живого» Бриннера. В роли старого нищего он был хорош, пел, не замечая убожества того, что творилось на сцене. В сущности, это была очередная историко-художественная клюква, но для него было важно, что он вернулся на сцену.
В мае 1977 года прошла премьера возобновленного мюзикла «Король и я». Волна «ретро-искусства» привела на Бродвей музыкальные комедии, которые, казалось, канули в Лету. Прошлое становилось идеалом. Особенно большой успех имел мюзикл «Энни», хотя в данном случае был возобновлен не мюзикл сорокалетней давности, а история девушки, попавшей в приют и пытающейся разыскать с помощью миллионера-филантропа, ФБР и Франклина Делано Рузвельта своих родителей. Об этом много писали в газетах сорок лет назад. Замысел «Энни» относится к 1972 году, когда, по словам либреттиста Томаса Миэна, героиня «могла быть воспринята как воплощение отваги, нравственности, невинности и оптимизма, противостоящее цинизму и пессимизму». И хотя премьера мюзикла состоялась уже после ухода президента Никсона, «послание надежды, содержащееся в «Энни», уже не противостояло господствующим в стране настроениям, а становилось отражением их».
Ушел Никсон, но эпоха «нового консерватизма» не кончилась ни в общественно-политической жизни, ни в искусстве. Ностальгия культивируется в Америке по сей день. Романтизм вестерна и идеальная мелодрама всегда были центром притяжения «средних американцев». И хотя пришла «диско-эра», старые сентиментальные мюзиклы не ушли со сцены.
После премьеры «Король и я», а он шел на Бродвее более четверти века, газета The New York Times писала: «Юл Бриннер – великий актер или, по крайней мере, его сценическое присутствие – необыкновенно, не потому, что он играет замечательно, а потому, что он – поразительная личность. Невидимые нити привязывают зрительское внимание к нему, когда он стоит на сцене – его жесты, голос, манера, грация танцовщика, тело, словно вырезанное из кости, шарм, ухмылка, обжигающий мужской магнетизм». После бесчисленных «проходных» фильмов, после затянувшихся пауз, после победного оптимизма своих киноперсонажей Юл Бриннер, крепкий, решительный, точный в движениях, вновь сыграл своего Короля, доказав Америке, что он по-прежнему ни перед кем не изливал душу, говорил мало и чаще с самим собой, чем с другими. Он знал, что о нем идет молва как о человеке непроницаемом и грубоватом, холодном и сдержанном. Наверное, он и был таким. Но удивляли обаяние и предельная простота выразительных средств. Сюжетные узелки не играли никакой роли. Каждый вечер толпы поклонниц, в основном из предместий, приезжали в Нью-Йорк посмотреть Юла Бриннера, чаще всего это были дочери тех, кто увлекался им в 1951 году, когда он впервые сыграл Короля на сцене.

Юл Бриннер и Фрэнк Синатра на гольф-поле, 1970-е гг.
Теперь он с Жаклин, Миа и Мелоди переселился в Нью-Йорк, арендовав дом, где прежде жил Генри Фонда. «Король и я» шел восемь раз в неделю, спектакль длился три часа, и все держалось на нем, а он был полон энергии и сил, человек невероятной собранности и выдержки. Вневозрастная победительность не угасала, он все еще был привлекателен и неотразим. Жил широко и роскошно: замок в Нормандии, дом в Нью-Йорке, лимузины, дорогие рестораны, загородные прогулки, коллекции картин, скульптур и фарфора, казалось, он добился всего, чего хотел. Он был героем приемов, празднеств, автомобильных гонок, с не меньшим азартом заводил короткие романы и был окружен сборищем людей славных, равнодушных, неискренних, благожелательных – словом, тех, кого он называл «мои друзья».
Теперь он одевался во все черное, это стал его любимый цвет, он вообще любил одеваться, во все поездки брал с собой по восемьдесят пар брюк. Выдерживать его характер могла лишь Жаклин. Они прожили вместе четырнадцать лет, она не всегда ездила с ним на гастроли, не любила Лондона, и в Лондоне он бывал один.
Там он подружился с членами королевского дома – его всегда тянуло к королям. Испанский король Хуан-Карлос и король Иордании Хусейн были его друзьями, он сам ощущал себя королем и обожал монархию, считая ее лучшей формой государственного правления. В Англии после возобновления «Король и я» вновь вспыхнула на него мода. Скупость в проявлении чувств импонировала англичанам. С Жаклин ему было проще, чем с другими женами, она была меланхоличным человеком, привыкла к его невниманию. На ней он не срывал свою злобу и по отношению к ней не был агрессивен, хотя что-то «дикое» всегда было в нем. Это и помешало ему разгадать загадку Жаклин, которая интриговала его с первого дня знакомства.
Последние годы его жизни прошли под знаком мюзикла «Король и я». В пять часов он обедал, уезжал в театр в сопровождении телохранителей, два часа гримировался и в половине девятого шел на сцену. Этот ритм стал привычен, он переезжал из города в город, стараясь не замечать тех физических мук, которые испытывал от болей в ногах и позвоночнике. Его горделивая надменность исчезала, лишь когда он стоял на сцене. Мерилом жизни был успех, он имел его и любил его. Сохранились фотографии: зал приветствует его стоячей овацией, на лице его блаженство.
«Миф Бриннера» – это история, его судьба – скорее символ человека, достигающего цели, не знающего метаний в искусстве, которое занимало его гораздо меньше, чем собственный успех. За его экранной и сценической маской легко угадать подлинное лицо: холодное, со скрытыми страстями. Наглухо застегнутый человек, властно глядящий в лицо собеседнику. Его герои в кино иногда наводили ужас и страх, реже – возмущали, но всегда притягивали к себе.
В апреле 1983 года он женился в четвертый раз на танцовщице, ей было двадцать шесть лет. На свадьбе из друзей присутствовал только Митч Ли, с ним Юл Бриннер объединил свои капиталы для создания фирмы. В день 4000-го представления мюзикла «Король и я» он узнал, что у него рак.
Жить оставалось недолго. В Париже он еще раз встретился с дочерьми Миа, Мелоди и Викторией, был с ними нежен, вспомнил о первой жене, Вирджинии Джилмер, но не решился встретиться с ней, она умерла через полгода после его смерти. Вызвал к себе Ирину Бриннер, двоюродную сестру, и не отпускал от себя. Понимая, что скоро конец, он разговаривал теперь только по-русски, требовал русских блюд, хотя есть уже почти не мог.
Как пишет его сын, он все время оглядывался назад. Чувства вины ни перед кем у него не было, он считал, что проблемы «правых и виноватых» вообще не существует. Бриннер понимал, что мечта стать «звездой» осуществилась, но художником он не стал. Исключительную жизнь ему помогли прожить природные мужская красота, притягательность, голос и врожденное чувство ритма. Разрушение самого себя он начал давно: способствовали нетерпимость и редкий, невиданный эгоцентризм.
Умирая на руках Ирины Бриннер, он ни на секунду не задумался обеспечить ее будущее; имея четверых детей, он ни на минуту не подумал об устройстве их жизни. Всегда был сосредоточен только на себе. Америка приучила его думать о делах, раздвоенность не присуща стране, где он прожил жизнь. Но по рождению он был русским человеком, и это сказывалось, когда он тосковал и чувствовал свою несостоятельность.
В кино остались найденные им маски, знакомые нам по «Великолепной семерке», на сцене – роль Короля в мюзикле «Король и я», и за кадром – мотив разлада с собой, осознанный тогда, когда жизнь уже едва теплилась в нем. Но американцы любят вспоминать Юла Бриннера и его мужественных, сильных героев, этих неулыбчивых конформистов, чья «суперменистость» заслоняла порой их художественную ценность.
Сцена
Фрэнк Синатра

Мистер Голос
Он был уникален. Таких никогда не было и больше уже не будет. Суперзвезда, обладавшая талантом, завоевавшим ему известность, и властью, пришедшей с известностью. Он был певцом, актером, шоуменом, политиком, секс-символом – да что говорить, он просто был Фрэнком Синатрой. Его называли Мистером Голубые глаза, Патриархом, Итальянским королем Америки и, наконец, просто – Голос. Голос, певший нескольким поколениям американцев, которые никогда не перестанут его слушать…
Хотя его судьба была уникальной, начало ее было весьма банальным. Единственный сын итальянских эмигрантов, которых их родители еще детьми привезли на новую «землю обетованную», Синатра появился на свет в городке Хобокен в штате Нью-Джерси: не такая уж глухая провинция, всего-то через Гудзон от великого Нью-Йорка, но тем обиднее было жить вечно на другом берегу. Отец Фрэнка Энтони Мартин Синатра, уроженец Сицилии, в молодости работал сапожником, но основные деньги зарабатывал на ринге, где выступал под именем Марти О’Брайена (итальянцев на профессиональные бои пускали с большой неохотой). Впрочем, боксером Тони Синатра был весьма посредственным, и к тому же не умел ни читать, ни писать и страдал астмой. Несмотря на все это ему удалось очаровать одну из самых красивых и умных девушек округи – Натали Деллу Гаравенту по прозвищу Долли, то есть «куколка». В день святого Валентина 1914 года влюбленные тайно обвенчались в Джерси-Сити, поскольку родители Долли были категорически против союза их дочери с неграмотным боксером. Единственный сын Тони и Долли Синатры, названный Фрэнсис Альберт, родился 12 декабря 1915 года. Говорят, ребенок был таким крупным, что пришлось накладывать щипцы, оставившие на личике мальчика заметный след. Позже Фрэнк будет называть этот шрам «поцелуем Бога».
После тридцати профессиональных матчей Тони пришлось бросить спорт из-за травм, и он стал работать в доках, а когда его оттуда уволили из-за астмы, Долли помогла ему устроиться в местную пожарную бригаду. Со временем он дослужился до капитана, а свое боксерское прошлое увековечил, открыв на пару с женой таверну под названием «У Марти О’Брайена». Долли, девушка образованная и с сильным характером, пользовалась заметным авторитетом в округе и даже возглавляла местное отделение Демократической партии, а на жизнь зарабатывала тем, что делала на дому подпольные аборты, за что ее не раз арестовывали и даже дважды судили. Этот своеобразный жизненный парадокс – за деньги можно делать то, что запрещено религией и государством, – сильно повлиял на юного Фрэнки, который навсегда уяснил себе простую мысль: тот, у кого есть деньги, имеет право делать все.
Фрэнки рос обычным мальчиком из итальянской колонии, то есть хулиганом и сорванцом, не ведающим других авторитетов, кроме обожаемой – и обожающей его – матери. Драки, мелкие кражи и прочие опасные шалости заполняли дни, не оставляя времени на школьные уроки: впрочем, Фрэнки был очень осторожен и всегда старался беречь одежду, купленную ему матерью, – таких красивых костюмов больше не было ни у кого в районе. В старшей школе Фрэнки не проучился и пятидесяти дней, когда его исключили за плохое поведение, и на этом он счел свое образование законченным. Долли удалось пристроить сына курьером в редакцию местной газеты The Jersey Observer — работа редакции так впечатлила мальчика, что тот возмечтал стать репортером. Однако редактор доходчиво объяснил Фрэнки, что ему, мягко говоря, не хватает образования. Тот не обиделся – и немедленно поступил в школу секретарей, где выучился машинописи и стенографии. Скоро мечта сбылась: его спортивные репортажи – а Фрэнки, верный сын своего отца, был заядлым посетителем боксерских матчей – стали появляться на страницах газеты.
Однако у Фрэнка было еще одно увлечение: он с детства любил петь. Уже с тринадцати лет он выступал по местным барам с популярными песенками, аккомпанируя себе на укулеле – маленькой гавайской гитаре. Мальчишка пользовался успехом – даже среди голосистых от природы итальянцев Фрэнк выделялся какой-то необыкновенной проникновенностью и мягкостью пения. Побывав на концерте Бинга Кросби, Фрэнк окончательно решил, что станет певцом. Уже в семнадцать лет его приглашали выступать на радио, а потом – не без помощи Долли – Фрэнки взяли вокалистом в местное трио The Three Flashes, которое отныне стало называться The Hoboken Four. Поначалу Синатру воспринимали как обузу; однако вскоре квартет – во многом благодаря его голосу и обаянию – выиграл радиоконкурс молодых талантов Major Bowes Amateur Hour, наградой в котором было полугодовое турне по стране и выступления на радио. Гастроли прошли с неожиданным успехом, но едва тур закончился, Фрэнк распрощался с группой и вернулся в Хобокен.

Долли устроила звезду радиошоу в дорогой ресторан в Нью-Джерси, где Фрэнки за 15 долларов в неделю пел, развлекал публику разговорами и комедийными сценками и к тому же работал официантом. Работа хоть и была тяжелой, зато выковала из Фрэнка настоящего профессионала: теперь он мог петь при любой публике и в любом состоянии, умел держать аудиторию между песнями и ничего не боялся. У него появились деньги, достаточные для того, чтобы начать самостоятельную жизнь.
В феврале 1939 года он женился: его избранницей стала девушка из Джерси по имени Нэнси Барбато, которая была его первой любовью – хотя далеко не первой женщиной. Все же жизнь настоящего итальянца даже в Америке должна быть с ранней молодости полна вина, развлечений и женщин, и Фрэнк не был исключением. В марте он сделал в студии свою первую запись – песню с романтичным названием Our Love, которую посвятил Нэнси.
Уже в июне 1940 года у пары родилась дочь, названная Нэнси Сандра. Через четыре года на свет появился сын Фрэнк Синатра-младший, а в 1948 году – младшая дочь Тина. Фрэнк никогда не был примерным семьянином: он редко бывал дома, почти не общался с детьми и к тому же был искренне убежден, что, если поклонницы сами прыгают к нему в постель, этим обязательно надо воспользоваться.
А поклонниц у него становилось все больше. Летом 1939 года Синатру услышал продюсер и джазовый трубач Гарри Джеймс, который собирал свой джаз-банд: он предложил Фрэнку годовой контракт на 75 долларов в неделю, и тот с радостью согласился. С Джеймсом Синатра сделал свою первую коммерческую запись From the Bottom of My Heart — было продано восемь тысяч экземпляров, и сейчас тираж является библиографической редкостью. Имя Синатры даже не было указано на обложке; через несколько лет, когда он стал уже по-настоящему знаменит, диск был переиздан под его именем и пользовался огромной популярностью.
В ноябре того же года на одном из концертов Синатра познакомился с Томми Дорси, тоже возглавляющим джазовый ансамбль, но гораздо более знаменитым. Его вокалист как раз решил начать сольную карьеру, и Дорси предложил Синатре занять место. Синатра принял предложение; хотя контракт с Гарри Джеймсом еще не истек, тот решил отпустить певца. За это Синатра был благодарен ему до конца жизни: «Он тот человек, благодаря которому все это стало возможным», – скажет он много лет спустя, имея в виду свою оглушительную карьеру.
Участие в ансамбле Дорси стало тем трамплином, который быстро привел Синатру к славе. Впервые он выступил с ансамблем в январе 1940 года, и всего через пару месяцев его имя стали писать на афишах первым номером – знак особого признания. Говорят, вхождение в коллектив не прошло гладко для молодого итальянца, который не привык никому подчиняться: он постоянно ссорился с коллегами и даже однажды разбил о голову ударника стеклянный графин – впрочем, потом они вместе напились и стали друзьями на всю жизнь. Фрэнк не без труда смирился с тем, что ему приходится вкалывать на репетициях почти без отдыха, зато уже летом одна из его песен три месяца возглавляла американские чарты. Задушевная манера исполнения, обаятельный бархатный голос и репертуар, состоящий из красивых романтичных песен, пришлись как нельзя кстати для предвоенной Америки. Вскоре Синатра стал настоящим идолом: в то время как большинство певцов работали для зрелой аудитории, Фрэнка слушала в основном молодежь. Юные девушки – так называемые «бобби соккерс», носившие короткие юбки и закатанные носки, – буквально осаждали Синатру: каждая мечтала прикоснуться к нему, а его одежду просто рвали на части – клочки поклонницы разбирали на память. «Пять тысяч девушек дрались за возможность хотя бы взглянуть на Фрэнка Синатру!» – писали газеты. После каждого концерта певца забрасывали любовными записками, а самые отчаянные просто пробирались к нему в номер и ложились в кровать. Он никогда им не отказывал – зачем обижать поклонниц?
Фрэнк сорил деньгами, соблазнял девушек и покорял одну вершину за другой. Он давал концерты, постоянно участвовал в радиошоу и записывал песни – всего около сотни. В 1941 году его пригласили в Голливуд на съемки в мюзикле «Ночи Лас-Вегаса» – пока лишь просто исполнить песню. Говорят, жил Фрэнк в номере у молодой актрисы Элоры Гудинг, а на сте не его гримерки висел список самых сексапильных кинокрасоток: Фрэнк покорял их одну за другой, а затем вычеркивал из списка.

В 1941 году Синатра был признан певцом года: он сместил с пьедестала своего кумира Бинга Кросби и удерживал это звание несколько лет подряд. Успех опьянил его: он решил оставить Дорси и начать сольную карьеру. Однако по контракту, который наивный Синатра подписал с Дорси, тому полагалась – пожизненно – треть всех доходов от творчества Синатры. Эти кабальные условия сильно повредили их отношениям. Говорят, чтобы разорвать контракт, Синатре потребовалась помощь главарей мафии, с которой он уже в то время начал общаться: итальянец всегда поможет итальянцу. На самом деле контракт Синатры перекупила – за огромные по тем временам деньги – студия МСА. Самому Синатре были обещаны поистине золотые горы в размере 60 тысяч долларов в год и сам Джордж Эванс в качестве агента – а это был человек, раскрутивший Дина Мартина и Дюка Эллингтона. Эванс нанимал клакеров, раздавал бесплатные билеты, проплачивал рекламу – но в кратчайшие сроки вывел Синатру из знаменитостей в суперзвезды. У Синатры появилось собственное шоу на радио, где он пел и разговаривал со слушателями, а 31 декабря 1942 года он отработал целое отделение в нью-йоркском The Paramount Theater — одной из престижнейших площадок страны. Всего за год по всей стране возникло 250 фан-клубов, а сольные записи Синатры, которые он делал на студиях МСА с лучшими музыкантами, расходились огромными тиражами. Он купил роскошный дом в Калифорнии и перевез туда семью, – однако с тех пор, как говорили злые языки, почти перестал там появляться.

Фрэнк Синатра с женой Нэнси и дочерью Нэнси, 1943 г.
Даже забастовка звукозаписывающих студий, начавшаяся в середине 1942 года, не остановила победное шествие Синатры по чартам: хотя он не сделал ни одной новой записи, студия Columbia, с которой он подписал новый сольный контракт, переиздала все его старые работы – и они побили все рекорды популярности. Его продвижение вверх могла остановить разве что военная служба: Синатру призвали в конце 1943 года, однако комиссовали из-за поврежденной барабанной перепонки – последствия все тех же акушерских щипцов. Впрочем, пресса, которая откровенно невзлюбила Синатру за неконтактность и грубое поведение с журналистами, не упустила случая распустить слухи, что певец откупился от армии за кругленькую сумму. Тогда Фрэнк сам отправился в Италию выступать перед действующими войсками – и даже удостоился аудиенции у папы римского. Тем не менее эпизод с призывом ему будут припоминать еще не одно десятилетие – но даже ФБР, имевшее на певца пухлое дело, не смогло найти никаких доказательств того, что Синатру признали негодным к службе за взятку.
Один из солдат, побывавших на военных концертах Синатры, вспоминал, что Фрэнк «был самым ненавистным человеком в то время – его ненавидели даже больше, чем Гитлера». Еще бы – он вернулся на родину, где зарабатывал кучу денег, и к тому же постоянно был окружен красивыми девушками. Однако в этой фразе была лишь доля правды – записи Синатры пользовались среди солдат не меньшей популярностью, чем у их оставшихся в США подружек. Он воплощал собой все, о чем они мечтали, и за это ему могли простить очень многое. Осень 1944 года была его звездным часом: в сентябре президент Рузвельт пригласил Фрэнка Синатру на чашку чая в Белый дом – честь, о которой итальянский мальчишка из Нью-Джерси не мог и мечтать. А в октябре, когда Синатра снова пел в Paramount, 35 тысяч его фанатов перекрыли движение на Таймс-сквер и Бродвее, пытаясь прорваться в здание, разбив несколько витрин и затоптав – слава Богу, не до смерти – несколько особо хрупких девушек.

Джин Келли и Фрэнк Синатра в фильме «Поднять якоря», 1945 г.
В следующем году он снялся с Джином Келли в музыкальном фильме «Поднять якоря» – первом из целой серии подобных лент, в которых принял участие этот блистательный дуэт. Фильм стал лидером проката, Келли получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Синатра – за песню I Fall In Love Too Easily. В том же году он снялся в антирасистской короткометражке «Дом, в котором я живу», получившей почетного «Оскара» и «Золотой Глобус». А в 1946 увидел свет первый сольный альбом Фрэнка, скромно названный The Voice of Frank Sinatra, который весьма нескромно занимал первую строчку хит-парада целых два месяца. Некоторые исследователи называют эту пластинку первым концептуальным альбомом – и хотя эта точка зрения является достаточно спорной, все равно огромное влияние Синатры на культуру звукозаписи нельзя оспорить. The Time писал о нем:
Он, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 1929 года. У него яркие, неистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинящую сталь; он говорит сквозь зубы. Он одевается с супермодным блеском Джорджа Рафта – носит богатые темные рубашки и галстуки с белым рисунком… Согласно последним данным, у него были запонки, стоившие примерно 30 000 долларов… Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос.
В середине сороковых годов Синатра был, без сомнения, самым популярным мужчиной страны. Радио-шоу и бродвейские мюзиклы, роли в кинофильмах и концертные туры, миллионы проданных дисков, миллионы поклонников, миллионы дохода – и все для простого итальянского парня, который лишь с помощью специальных педагогов смог избавиться от итальянского акцента. Неудивительно, что у Синатры голова пошла кругом.
По воспоминаниям, он тратил тысячи долларов на выпивку и дружеские попойки, на которых всегда платил за всех, скупал все, на что падал взгляд, любил в день по несколько женщин, в карманах носил только стодолларовые купюры и давал на чай столько, что официанты теряли дар речи. «В жизни я хочу испытать все, пока еще молод и крепок, – твердил Фрэнк друзьям. – Чтобы потом не пришлось жалеть, что того не успел, этого не попробовал…»
В то же время Синатра обзавелся весьма рискованными знакомствами – сам он позднее говорил, что дружил с ними исключительно потому, что они тоже были уроженцами Италии, однако спецслужбы утверждали, что это были главари мафии – Сэм Джанкана, Багси Сигел, Сальваторе Лучано по прозвищу Лаки и даже племянник знаменитого Аль Капоне Джо Фишети. Синатра пел на их вечеринках и выпивал с ними за одним столом, принимал от них услуги и дарил им подарки (известно, например, что Лучано, в свое время крупнейший сутенер Нью-Йорка и основатель «большой семерки» бутлегеров, выпущенный в 1942 году из тюрьмы за сотрудничество, носил при себе портсигар с надписью «Моему другу Лаки от Фрэнка Синатры» – впрочем, Лучано официально уже не считался гангстером). Слухами о его мафиозных связях были полны газеты – не приводящие, однако, ни одного доказательства, кроме нескольких случайных фотографий, которые могли быть сделаны и при совершенно невинных обстоятельствах. Неудивительно, что Синатра ненавидел журналистов, а точнее, то, что они пишут о нем. На каждой пресс-конференции он устраивал скандал, ругаясь как итальянский сапожник и угрожая побоями неугодным. Многих он и бил – сначала сам, а позже с этим всегда справлялись «неизвестные». Женщин Синатра, истинный рыцарь, никогда не трогал, ограничиваясь в их адрес словесными оскорблениями.

А к концу сороковых слава стала сдуваться, как старый воздушный шарик. Время слащавых романтических песен, свинга и джаза прошло, наступали времена кантри и рок-н-ролла. Синатра терял в рейтингах строчку за строчкой, на его концертах едва собирался полный партер (балконы, с которых раньше люди чуть не падали от тесноты, оставались полупустыми), диски раскупались все хуже. На афише к новому фильму с Джином Келли «По городу» его имя впервые было написано вторым – фильм собрал прекрасную кассу, но Фрэнк был раздавлен. И хотя он по-прежнему постоянно мелькал на радио, и его даже начали приглашать на телевидение, все понимали, что время Синатры подходит к концу. А сам Фрэнк, вместо того чтобы новыми песнями отвоевать потерянные позиции, не нашел ничего лучшего, как влюбиться.
Впервые он увидел красавицу Аву Гарднер, знойную брюнетку с кошачьими глазами, в 1945 году, однако она тогда была замужем за Арти Шоу – знаменитым кларнетистом и руководителем джазового оркестра. Снова он встретил ее в 1949 году и был сражен наповал. «Как только мы оказались вместе, я просто голову потерял, – восхищенно вспоминал Синатра. – Как будто она мне чего-то в стакан подсыпала…»
Они вместе пришли на премьеру мюзикла «Джентльмены предпочитают блондинок», потом были свидания в ресторанах, прогулки по пляжу и даже короткий отдых в Мексике. Едва вернувшись в Америку, влюбленные оказались в эпицентре скандала: репортеры преследовали их так настойчиво, что Фрэнк неоднократно был вынужден пускать в ход кулаки, а Аве пришлось в клинике подлечить нервы. Но роман был слишком заметен и слишком скандален, чтобы оставить их в покое. После двух неудачных браков репутация у Авы была хуже некуда: «самое сексуальное животное Голливуда», как ее называли, славилась своим вольным поведением, а Фрэнк, хоть и увлекался противоположным полом, все же был женат.
То было время безусловных семейных ценностей, хотя бы на словах, и вся американская пресса единым фронтом ополчилась на Аву и Фрэнка: ее называли распутницей, разрушительницей семей и непотребной девкой, католические общества требовали запретить ее фильмы, а тех, кто все же стоял в очередях в кинотеатры, забрасывали гнилыми помидорами. В адрес Синатры сыпались эпитеты еще хуже – в конце концов, он несколько лет безнаказанно оскорблял журналистов, и теперь за это расплачивался. Но если Аве сексуальный скандал был лишь на руку – она снималась в амплуа сексуальной агрессорши и роковой женщины, и такие истории только поддерживали ее экранный образ, – то для Фрэнка он обернулся трагедией. Звукозаписывающая компания расторгла с ним контракт, студии отказывали ему в записи, агенты отказывались иметь с ним дело. В довершение всего из-за недолеченной простуды у него на нервной почве начались проблемы с голосом. 26 апреля 1950 года он выступал в знаменитом нью-йоркском клубе Copacabana, однако стоило ему открыть рот, и оттуда, по его собственному выражению, «вылетело лишь облачко пыли». Синатра был в таком отчаянии, что даже пытался покончить жизнь самоубийством. Единственным смыслом его жизни осталась Ава. Фрэнк, про которого актриса Лана Тернер однажды сказала, что «этот сукин сын не умеет любить», влюбился не на шутку. Говорили, что у него в кабинете была целая коллекция фотографий Авы – на столе, на стенах, на полках…
Они и правда очень подходили друг другу – оба темпераментные, независимые, страстные, любящие жизнь здесь и сейчас. Оба любили итальянскую еду, секс, виски, боксерские бои и отсутствие обязательств. Об их эскападах ходили легенды – то они вдвоем носились в открытом автомобиле по ночным улицам, чередуя выстрелы по витринам с поцелуями и выпивкой, то устроили драку в баре – пока Фрэнк чесал кулаки о какого-то парня, который посмел криво посмотреть на Аву, она тоже свернула челюсть какому-то зеваке.
Ава ни в чем не была похожа на прежних женщин Фрэнка – она не была покорной, не была послушной, она не умоляла его о любви, а наоборот, могла прогнать самого Синатру – мечту каждой американки, если ей что-то не понравится. Она требовала, чтобы он не связывался с мафией, рассорилась с его агентом, который требовал бросить Фрэнка, и устраивала Синатре бешеные сцены ревности, когда ей казалось, что он флиртует с поклонницами или просто девушками в баре.
Но и он не мог расслабиться ни на минуту – в конце концов, она была Авой Гарднер, и ее хотел любой мужчина, включая самого Говарда Хьюза – самого богатого американца в кинобизнесе. На съемках в Мадриде, куда ее от греха подальше услала киностудия MGM, она закрутила роман с тореадором Марио Кабре – рекламные агенты немедленно ухватились за эту новость и стали во всех газетах расписывать, как красиво Кабре ухаживает за мисс Гарднер – пусть видят, что Ава больше не заводит романов с женатыми! Фрэнк немедленно бросил все и помчался в Испанию, где вручил Аве роскошное колье из бриллиантов и изумрудов – как раз к ее глазам, – и устроил бешеную сцену, закончившуюся не менее бешеным примирением. Через пару недель в Лондоне они уже вместе были представлены английской королеве. Вернувшись в США, Фрэнк немедленно заявил, что намерен развестись с Нэнси и жениться на Аве.
Много лет спустя его дочь Тина вспоминала: «Я никогда не воспринимала Аву как женщину, которая лишила нас отца. Впервые я увидела ее, когда мне было четыре года, и мне показалось, что ей действительно нравится общаться с нами, ведь своих детей у нее не было. Сейчас я понимаю, что они с отцом были созданы друг для друга».
Поначалу Нэнси была уверена, что это лишь очередная интрижка, – пройдет немного времени, Фрэнк одумается и, как и раньше, снова вернется к ней. Однако скоро она поняла, что ошиблась. К тому же пресса, прежде бывшая целиком на ее стороне, постепенно прониклась сочувствием к влюбленным, доказавшим свои чувства друг к другу. Нэнси сдалась: 31 октября 1951 года их брак с Синатрой был окончательно расторгнут.
Свадьба Фрэнка с Авой была назначена через неделю – он хотел немедленно, но формальности следовало соблюдать даже ему. Накануне они чуть не разругались: Ава приревновала Фрэнка к какой-то девушке в ресторане и бросила ему в лицо обручальное кольцо с бриллиантом в шесть каратов, а позже он, придя к ней домой извиняться, в пылу объяснений выбросил в окно золотой браслет, подаренный Аве Говардом Хьюзом. Друзьям с трудом удалось помирить их; наконец 7 ноября в Филадельфии они все же стали мужем и женой. Гражданская церемония была весьма скромной; среди гостей преобладали журналисты. В качестве свадебного подарка Фрэнк преподнес Аве норковый палантин с сапфировыми застежками, а она ему – золотой медальон со своей фотографией. Торопясь отделаться от журналистов, молодожены так быстро уехали, что даже забыли свой багаж. Они дожидались его в Майами, гуляя по пустынным в это время года пляжам, – и не было пары счастливее их…

Свадьба Фрэнка Синатры и Авы Гарднер, ноябрь 1951 г.
Однако спокойной их семейная жизнь не была: ссоры и примирения следовали одна за другой, сцены ревности сменялись страстными признаниями в любви. «Нам было хорошо в постели, но проблемы начинались уже по дороге в душ», – признавалась позже Ава. Основным поводом для ссор – хоть и неявным – было то, что Ава была на вершине славы и получала баснословные гонорары, в то время как сам Фрэнк имел лишь то, что осталось от его состояния после развода. Для настоящего итальянца, которым всегда считал себя Фрэнк, было невыносимо, что жена зарабатывает больше него – и он, как мог, пытался хотя бы в собственном доме держать над ней вверх. Он запрещал ей встречаться с другими мужчинами, выходить из дома в чересчур откровенных, по его мнению, нарядах и к тому же весьма неодобрительно относился к ее участию в съемках. Когда Аве предложили роль в «Снегах Килиманджаро» – она должна была сниматься в Кении вместе с Грегори Пеком, – он был готов запереть ее дома, и его с трудом удалось уговорить отпустить Аву на съемки. Говорят, он изводил ее телеграммами и даже нанял частного детектива, чтобы тот присматривал за ветреной Авой.
Годовщину свадьбы отмечали в Кении, куда Фрэнк прилетел на самолете кинокомпании: он преподнес супруге роскошный бриллиантовый перстень (который тайком оплатил кредиткой самой Авы), а она радостно шутила перед журналистами: «Я уже дважды была замужем, но никогда это не продолжалось целый год». Новый год отмечали в Уганде, где Ава снималась с Кларком Гейблом и Грейс Келли в картине «Могамбо». Фрэнк привез индеек и шампанское и устроил для всей съемочной группы импровизированный концерт. Когда пару представляли британскому губернатору страны, режиссер Джон Форд сказал: «Ава, объясни губернатору, что ты нашла в этом недомерке весом всего в восемьдесят фунтов?» На что Ава, не долго думая, ответила: «Двадцать фунтов мужчины и шестьдесят фунтов мужского достоинства!»
Фрэнк рассказал жене, что мечтает получить роль в ленте Фреда Циннемана «Отныне и во веки веков»: роль итальянского солдата Анджело Маджио была словно специально написана для него! Он умолял режиссера вызвать его хотя бы на пробы, говорил, что согласен сниматься практически бесплатно, но все было напрасно. По воспоминаниям, Ава позвонила Гарри Кону, боссу Columbia Pictures, и заявила ему: «Вы обязаны дать эту роль Фрэнки, иначе он убьет себя». Кон не посмел отказать Аве Гарднер.
Фильм «Отныне и во веки веков», повествующий о нелегкой военной службе накануне налета на Перл-Харбор, пользовался оглушительным успехом. Критики особенно хвалили Синатру, исполнившего роль Маджио – строптивого солдата, забитого в тюрьме старшими по званию. «Многие могут быть поражены этим доказательством многообразия таланта Синатры, – писал журнал The Variety, – но оно не стало неожиданностью для тех, кто помнит те несколько раз, когда у него был шанс показать, что он способен на большее, чем быть просто эстрадным певцом». The New York Post отмечал, что Синатра «доказал, что он настоящий актер, сыграв несчастного Маджио с каким-то обреченным весельем, искренне и безмерно трогательно», a The Newsweek добавлял: «Фрэнк Синатра, который давно уже превратился из эстрадного певца в актера, знал, что делает». Возможно, в роли Маджио Синатра выразил себя – всю ту боль, разочарование и страх, которые он испытал за последние несколько лет.
Помимо множества других наград, картина выиграла восемь из тринадцати номинаций на «Оскара», включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру. Синатра получил награду академии за исполнение роли второго плана. Ава Гарднер, в том же году номинированная за роль в «Могамбо», проиграла юной Одри Хепберн.

Возвращение Синатры в шоу-бизнес было поистине триумфальным. Его карьера снова пошла в гору – он не просто вернулся, а вернулся победителем. Он снова смог петь – причем теперь его голос стал более зрелым, глубоким и мужественным. Его постоянно приглашали выступать, сниматься, сделать записи – и все ему удавалось. Он был занят в детективном радиосериале «Рокки Форчун» – еженедельное шоу с огромным успехом шло полгода, и в конце каждого эпизода Синатра в память о своей звездной роли вставлял фразу «Отныне и во веки веков». Он подписал контракт со студией Capitol Records и выпустил несколько превосходных альбомов вместе с самыми лучшими музыкантами, за что был назван «лучшим певцом» сразу тремя престижнейшими музыкальными изданиями. Его альбом Young at Heart стал альбомом года, а пластинка Frank Sinatra Sings for Only the Lonely возглавляла чарты 120 недель. Журнал The Time называл его «одним из наиболее замечательных, сильных, драматических, печальных и порой откровенно пугающих личностей, находящихся в поле зрения публики», a The New York Times писала, что «за исключением, может быть, Хью Хефнера, основателя журнала Playboy, никто не мог так воплотить в себе мужской идеал 50-х годов». Синатра снялся в череде прекрасных фильмов, где показал себя великолепным драматическим актером, обладающим тонким чувством и редкой убедительностью. Сам Синатра особенно ценил свою роль наркомана Фрэнки в картине «Человек с золотой рукой», вышедшей на экраны в 1955 году.
Самоутвердившись в карьере, Синатра снова вернулся к прежним привычкам: стал устраивать вечеринки, на которых было море виски и толпы женщин, от хористок до самой Мэрилин Монро, которая отходила от тяжелого развода с Джо Ди Маджио в доме Синатры. Газеты с удовольствием писали о его загулах, регулярно публикуя фотографии Фрэнка в компании очередной красотки.
Ава переносила все это с огромным трудом. Она была оскорблена, обижена, раздавлена… В ответ на ее упреки Фрэнк взрывался, кричал, что все это ложь, затем долго просил прощения. «За свои оправдания он мог бы быть номинирован на «Оскар», – говорила она, но прощала. После очередного примирения Ава забеременела, а после очередной ссоры у нее случился выкидыш. Впрочем, много лет спустя она признавалась: «Мы не могли позаботиться даже о самих себе. Как бы мы смогли заботиться о ребенке?»
Разгульный образ жизни Фрэнка, который, тем не менее, не желал оставлять ее в покое, приставив к ней детективов и постоянно устраивая сцены ревности, выводил ее из себя. Она все охотнее соглашалась сниматься как можно дальше от него, и хотя оба по-прежнему бешено любили друг друга, всем было понятно, что вместе они жить больше не смогут. «Наверное, если бы у меня получалось делиться Фрэнком с другими женщинами, мы действительно были бы счастливее», – признавалась Ава. Когда она уехала в Рим, где начинались съемки фильма «Босоногая графиня», Синатра был на грани самоубийства. После ее отъезда он написал песню I’m a Fool to Want You — во время записи он смог допеть ее лишь один раз, а потом разрыдался и выбежал из студии… Позже он выпросил себе на память статую Авы, сделанную для съемок «Графини», и установил ее в своем саду.
Его друг как-то заметил: «Ава научила Фрэнка петь сентиментальные песни о несчастной любви. Она была величайшей любовью его жизни, и он ее потерял». Еще несколько лет они жили параллельными жизнями, не озаботившись официально развестись, – Ава жила то в Испании, то в Италии, где у нее были романы с тореадорами и танцорами, изредка снималась и делала вид, что счастлива.
Потеряв ее, Фрэнк словно сорвался с цепи: говорят, в его объятиях побывали Мэрилин Монро, Анита Экберг, Грейс Келли, Джуди Гарланд, Ким Новак, жены политиков и многочисленные старлетки, подозрительно похожие на Аву. «Фрэнку просто недоступен оригинал, поэтому он довольствуется бледными копиями», – язвила она. Он сделал предложение Лорен Бэколл, и та немедленно согласилась («Мне следовало посомневаться по крайней мере тридцать секунд», – позже говорила она), но Фрэнк сделал вид, что он просто пошутил. Бэколл, которая уже заказывала визитки на имя миссис Синатры, еще долго не могла ему этого простить.
Он пытался забыть Аву, и обычно у него это получалось. Но иногда Синатра бросал все и прилетал к ней. И хоть оба понимали, что вместе их уже ничего не удерживает, лишь в середине 1957 года они решились наконец расторгнуть брак. Вспоминают, что после официальной процедуры Фрэнк устроил вечеринку, на которой разорвал любимую фотографию Авы – но уже через несколько минут ползал по полу, собирая обрывки и плача оттого, что не может найти одного кусочка. Рассыльный, случайно обнаруживший потерявшийся фрагмент, получил в награду золотые часы.
В конце 1950-х годов Синатра нередко выступал в лас-вегасском казино The Sands — «Пески», долей которого он владел. «Пески» были поистине золотоносными: прибыли певца исчислялись цифрами со многими нулями. Он и его друзья, выступавшие с ним в одном шоу – певцы и актеры Дин Мартин, Питер Лоуфорд, Сэмми Дэвис и Джо Бишоп – чувствовали себя настоящими королями мира: ведь к их услугам было все, о чем только можно мечтать. Легенды об их развлечениях, включавших лучший алкоголь и лучших женщин, – но никогда наркотики – с восторгом передавались из уст в уста, а билеты на их концерты бывали раскуплены на месяцы вперед. Они называли себя «кланом», а их называли «крысиной стаей» – по аналогии с возникшим в Голливуде десятилетием ранее клубом прожигателей жизни, куда входили Хэмфри Богарт, Лорен Бэколл, Джуди Гарланд, Кэри Грант, Микки Руни и другие. В Лас-Вегасе «стая» была главной достопримечательностью, привлекавшей туристов, и вместе с тем реальной силой: именно благодаря «стае» в казино были сняты многие ограничения для чернокожих, существовавшие в то время по всей стране (ведь Сэмми Дэвис был мулатом), а позже и вовсе отменена сегрегация.
В 1960 году на экраны вышел фильм «Одиннадцать друзей Оушена» – своеобразный дружеский капустник, запечатлевший для истории всю компанию, включая «крысиные талисманы», как называли «прибившихся к «стае» женщин – Ширли Маклейн и Энджи Дикинсон. Все они снимались, не переставая выступать в шоу, иногда выбегая на киноплощадку в перерывах между номерами. История об ограблении пяти казино (одним из которых были те самые «Пески») стала невероятно популярна – вместе с недавним ремейком Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» считаются лучшим фильмом о Лас-Вегасе всех времен.
У «стаи» было все: деньги, власть – недаром об их дружбе с мафией ходило столько восторженных слухов, – и даже связи в высших кругах. В 1954 году Лоуфорд, сын английского лорда, женился на дочери знаменитого Джо Кеннеди Патриции. Говорят, на свадьбе тот произнес тост: «Что может быть хуже дочери замужем за актером? Дочь замужем за английским актером!» – однако всецело способствовал карьере зятя, требуя, правда, ответных услуг. Когда сын Джо, сенатор-демократ Джон Фицджеральд Кеннеди, собрался покорить Белый дом, вся «стая» выступала в его поддержку. Кеннеди даже пел вместе со «стаей» на сцене «Песков». «Крысы» и Джон Кеннеди были очень похожи – все любили жизнь, развлечения, женщин и все же не забывали о своем деле. Неудивительно, что, когда Кеннеди был избран президентом, они все почувствовали себя причастными к высокой политике. Синатра даже был приглашен провести банкет в честь инаугурации, он уже мечтал о назначении послом в Италию, однако этим мечтам не суждено было сбыться.
Известно, что для успеха своей предвыборной кампании Кеннеди не брезговал использовать связи мафии – например, в Чикаго он выиграл только благодаря Сэму Джанкане. С ним же его связывали и более пикантные обстоятельства – они оба любили одну женщину, Джуди Кэмпбелл. Однако, поселившись в Белом доме, Кеннеди понял, что такие связи могут быть весьма опасны. Его брат Роберт, ставший генеральным прокурором, поклялся извести мафию на корню и взялся за дело с неприятным для многих усердием. Он быстро объяснил Джону, что тому не стоит иметь дело ни с мафиозными боссами, ни с теми, кого могут заподозрить в связях с ними, – и Джон послушался. Планировалось, что в марте 1962 года президент Кеннеди проведет уик-энд в доме Синатры в Палм-Спрингс: польщенный певец отремонтировал и перестроил дом и даже оборудовал посадочную площадку для вертолетов, истратив на все около пяти миллионов долларов. Однако в последний момент Кеннеди передумал и решил остановиться по соседству, у Бинта Кросби, не запятнавшего себя связями с мафиози.

«Крысиная стая» в полном составе.
Весть об этом Синатре передал Питер Лоуфорд. Фрэнк был в ярости. Больше Синатра никогда не будет разговаривать с Лоуфордом; больше никогда Лоуфорд не будет членом «крысиной стаи».
В том же году разгорелся еще один скандал: пресса докопалась, что частью акций принадлежащего Синатре курорта Cal Neva Lodge владели мафиозные боссы.
Курорт, расположенный на озере Тахо, находился ровно на границе между штатами Калифорния и Невада: пограничная линия проходила прямо по территории, деля бассейн на две половины. Прелесть была в том, что на невадской части были разрешены азартные игры, и этим активно пользовались отдыхающие, среди которых было много тех, кто принадлежал к организованной преступности. Известно, что в Cal Neva Lodge Мэрилин Монро приезжала за неделю до ее смерти, и оттуда в коме ее доставили прямиком в госпиталь. Говорят, в ночь, когда Мэрилин умирала, на ее проигрывателе играла пластинка Синатры… Как бы то ни было, едва ФБР смогло доказать, что Сэм Джанкана, глава чикагского Синдиката, был совладельцем Cal Neva Lodge, поднялась неимоверная буря.
Как говорил сам Синатра, 1963 год был ужасен. У него отозвали лицензию на Cal Neva Lodge, и ему пришлось продать свою долю в «Песках». В ноябре погиб Джон Кеннеди – для Синатры, который продолжал числить себя среди близких ему людей, хотя бы по духу, это был чудовищный удар. В декабре того же года неизвестные похитили его сына, Фрэнка Синатру-младшего, и за его жизнь требовали четверть миллиона долларов. Удивительно, но в один день Синатре пообещали помощь и генеральный прокурор Роберт Кеннеди, и Сэм Джанкана. Похитители получили свой выкуп и тут же были задержаны. Даже Жаклин Кеннеди, которая запрещала Синатре появляться в Белом доме, кроме как на концертах (ведь именно он познакомил ее мужа с Мэрилин Монро, и она об этом прекрасно знала) послала ему открытку со словами сочувствия.
Все эти события едва не добили Синатру. Он был испуган – если люди, которые находятся на вершине власти, на вершине жизни, могут так легко эту жизнь потерять, – что же говорить о нем? Он почувствовал себя старым и больным, из такого состояния он знал лишь одно лекарство – любовь. В июле 1966 года он женился на юной Миа Фэрроу – ему было пятьдесят, а ей двадцать один. Семья Синатры отнеслась к этому союзу весьма неодобрительно: ведь их новоиспеченная мачеха была моложе двух из троих детей Фрэнка. Старшая, Нэнси, заметила журналистам: «Если мой отец женится на этой девчонке, я никогда больше не буду с ней разговаривать». Но Фрэнк был влюблен и ничего не хотел знать. Миа была хрупкой, большеглазой блондинкой с короткой стрижкой – говорят, когда Ава увидела в газете их свадебную фотографию, она лишь заметила: «Я всегда знала, что Фрэнк закончит в постели с мальчиком».

Свадьба Фрэнка Синатры и Мии Фэрроу, июль 1966 г.
Фрэнк снова пытался настоять на своих правах главы семьи: он не хотел, чтобы его супруга снималась в кино – достаточно было того, что она была миссис Синатра. По его требованию Миа ушла из сериала «Пэйтон Плейс», где с успехом играла одну из главных ролей, и должна была сидеть дома, пока Фрэнк по своему обыкновению развлекался в мужской компании. Когда она согласилась сыграть роль в «Ребенке Розмари», Синатра настаивал, чтобы она вместо этого снялась с ним в картине «Детектив». Миа решительно отказалась: она уже давно поняла, что быть миссис Синатра ей не нравится. Синатра привез документы о разводе прямо на съемочную площадку. Их брак продлился всего год и четыре месяца…
Фрэнк вернулся к прежней жизни: записи, киносъемки, премии, вечеринки, ругань с журналистами и преклонение поклонников. Он был вынужден продать «Пески» Говарду Хьюзу, из-за чего перестал там выступать, но взамен подписал еще более выгодный контракт с казино Caesars Palace. Ему на пятки наступали Элвис Пресли и The Beatles, но Синатра по-прежнему был на высоте: он даже записал альбом современных песен Cycles, разошедшийся тиражом в полмиллиона копий. В 1969 году астронавты Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз, отправлявшиеся на Луну, потребовали дать им прослушать песню Синатры Fly Me То The Moon («Отправьте меня на Луну»). С этого момента он стал не просто самым популярным итальянцем на планете, но настоящим символом этого мира.
Его дочь Нэнси говорила о нем: «Он не был счастлив, но не хотел бы ни с кем поменяться, даже для того, чтобы быть счастливым». В 1971 году, отметив свой пятьдесят пятый день рождения, Синатра объявил о своем уходе со сцены.
Однако Синатра не умел сидеть без дела. Он поддерживал Рональда Рейгана, баллотировавшегося на пост губернатора Калифорнии, а весной пел в Белом доме для Ричарда Никсона: оба политика были республиканцами, но Синатра уже давно не доверял демократам. Уже через два года он вернулся – сразу с альбомом и телешоу, причем оба назывались Ol’Blue Eyes Is Back — «Мистер Голубые Глаза вернулся». Говорят, одним из поводов возвращения Синатры был знаменитый фильм «Крестный отец», вышедший на экраны в 1972 году. В Джонни Фонтейне – актере, с помощью мафии получившем вожделенную роль (помните голову лошади?), – слишком многие узнали Синатру и то, как неожиданно ему досталась роль в фильме «Отныне и во веки веков». Сам Синатра – да что, даже сам Марио Пьюзо, автор романа, – всячески опровергали сходство Синатры и Фонтейна, но тем активнее были слухи. Синатра даже хотел подать в суд, но адвокаты его отговорили. Кончилось тем, что на одном из приемов Синатра наорал на Пьюзо и пригрозил как-нибудь его избить, а потом добавил: «Пожалуй, я не буду этого делать из уважения к вашим преклонным годам» (Пьюзо был на пять лет моложе Синатры).
Коппола рассказывал, впрочем, что Синатра мечтал сам сыграть дона Вито Корлеоне, однако режиссер видел в этой роли только Марлона Брандо и ни о ком другом слышать не хотел. Злопамятный Синатра не простил ни Копполу, ни Брандо, с которым когда-то был дружен и даже вместе снимался. В конце концов, это был уже третий раз, когда Брандо получал роль, о которой мечтал Фрэнк: сначала тот сыграл в картине «В порту», затем в ленте «Парни и куколки» Марлон получил роль, которую хотел исполнить Синатра (и тому пришлось довольствоваться ролью второго плана), и теперь – Вито Корлеоне. Синатра называл Брандо «самым переоцененным актером в мире» – он считал, что имеет на такое мнение полное право…
Оставшиеся ему годы он провел относительно спокойно: редко выпускал альбомы (за все восьмидесятые – всего три сборника, зато один из них содержал прославленный New York, New York — один из главных американских хитов всех времен), редко снимался и очень много выступал. И хоть Синатра всегда предпочитал Лас-Вегас, он объездил с гастролями весь мир, и не один раз. Он занялся благотворительностью – щедро жертвовал на больницы, в фонды по борьбе с раком и комитеты помощи бедным. Подсчитано, что всего он пожертвовал около миллиарда долларов! Он пел на инаугурации Рейгана в 1981 году и на концерте в честь приезда королевы Елизаветы II в 1983-м. А на следующий год был удостоен высшей награды страны – президентской медали Свободы.
Возраст, как и прежде, не был помехой для сердечных увлечений. В 1975 году Синатра, которому было уже шестьдесят, увлекся знаменитой Памелой Черчилль Хэйуорд – бывшей невесткой Уинстона Черчилля, самой сексапильной англичанкой двадцатого века, и чуть было не женился на ней, однако в последний момент испугался ее скандальной славы. Вместо Памелы он в июне 1976 года сочетался браком с Барбарой Маркс, бывшей супругой знаменитого комика Зеппо Маркса, в прошлом – танцовщицей варьете. Говорят, Долли Синатра была категорически против, но когда Фрэнк в последний раз слушал свою мать? На бракосочетании присутствовали Рональд Рейган, Керк Дуглас, Грегори Пек и еще несколько знаменитостей, но никого из семьи Синатры: его дети так никогда и не признали ее. Барбара была избалованна и глуповата, но она прекрасно понимала, какое это счастье – стать женой Синатры. Она умела быть понимающей и ласковой, терпела все его выходки, утешала, когда через полгода Долли погибла (она летела на выступление сына, и самолет потерпел крушение; Фрэнк был раздавлен и еще долго не мог спокойно выходить на сцену), прощала все его загулы и грубости. Однако ее хватка была поистине железной: в 1978 году он даже обвенчался с нею, предварительно добившись церковного развода с Нэнси. Газеты иронизировали: «Может, Фрэнк сделал предложение, от которого Ватикан не смог отказаться?» Барбара ограничивала его общение с детьми и друзьями, вынесла из дома все фотографии Авы и даже велела убрать ее статую, простоявшую в саду двадцать лет. Она хотела остаться единственной женщиной в жизни Синатры.

Фрэнк и Барбара Синатра, конец 1970-х гг.
Или хотя бы последней. Но избавиться от Авы ей так и не удалось: хоть та давно уже жила в Лондоне, отгородившись от всего света, Фрэнк никогда не прекращал с ней общаться: постоянно звонил и периодически прилетал в гости. Она тяжело болела – Фрэнк оплачивал все счета, безропотно выкладывая сотни тысяч долларов, и был счастлив просто тем, что она не выгоняла его вон, как раньше. Ава Гарднер скончалась в январе 1990 года: по воспоминаниям дочери Синатры, когда в новостях сообщили о ее смерти, Фрэнк упал на пол и разрыдался. Синатра организовал похороны, однако сам на них так и не явился – говорили, что он не смог выйти из лимузина, который несколько часов простоял перед входом на кладбище: его душили слезы, болело сердце… На венке, который он прислал к ее гробу, было написано: «Со всей моей любовью, Фрэнсис».
В декабре он с помпой отметил свое семидесятипятилетие: вышло полное собрание его песен в подарочном боксе – целых семь дисков, разошедшихся полумиллионным тиражом. Он уже давно жил в статусе священного патриарха: говорить плохо о Синатре считалось дурным тоном, даже о его пресловутых связях с мафией старались не упоминать. Годы брали свое: на концертах он забывал слова, и зал подсказывал ему хором, даже в иноязычных странах. Он еле передвигался, плохо выглядел. Лишь голубые глаза его были по-прежнему яркими, да шутки по-прежнему злыми. После одного из концертов кто-то из журналистов заметил: «Синатра – как Колизей. Частично разрушен, но по-прежнему завораживает». Его последний диск Duets вышел в 1994 году: на нем старые песни Синатры вместе с ним пели новые герои – от Барбары Стрейзанд и Шарля Азнавура до Боно из U2. «Дуэты» стали самым популярным альбомом в дискографии Синатры, трижды завоевав платиновый статус. В день его восьмидесятилетия Эмпайр-Стейт-Билдинг был освещен голубыми прожекторами – под цвет его знаменитых голубых глаз.
Свой последний концерт, который состоялся 22 октября 1994 года, он закончил словами: «Я желаю вам дожить до ста лет, и чтобы последний голос, который вы услышите, был моим». Сам он не дотянул до столетнего юбилея: его не стало в ночь на 15 мая 1998 года. Он скончался от сердечного приступа в лос-анджелесской клинике «Синайские кедры». На следующий день газета The San Francisco Chronicle вышла с некрологом: «Смерть Синатры – повод отпраздновать его жизнь. Нальем рюмку, поставим пластинку!»
Фрэнка Синатру похоронили рядом с его родителями на кладбище Desert Memorial Park в городке Кафедрал Сити недалеко от Палм-Спрингс. На его могиле написана строчка из его песни: The Best Is Yet to Come — «Лучшее еще придет»…
Элвис Пресли

Звезда и смерть Короля
Со дня его смерти прошло не одно десятилетие, но имя Элвиса Пресли по сей день известно во всем мире. «Фабрика» певца работает с небывалой мощностью, принося его потомкам и владельцам авторских прав более двадцати пяти миллионов долларов в год, – вот уже несколько лет он не покидает первого места в списке умерших знаменитостей, получающих наибольшие гонорары… Тело Элвиса нашли в ванной комнате, он не дышал. Все попытки вернуть его к жизни были тщетны. Это случилось 16 августа 1977 года на вилле Грейсленд, неподалеку от Мемфиса. Руки крепко сжимали книгу «Научные поиски Иисуса». Он очень любил читать в ванной. Весть о его смерти разнеслась с быстротой молнии; толпы стекались к дому, десятки тысяч человек устремились в Грейсленд. В спальне рыдала бабушка, отец и дочь были рядом. Вечерние газеты на первых страницах сообщали: «Кончилась одинокая жизнь Элвиса Пресли», хотя он сам всегда приговаривал: «Это люди думают, что я одинок, а я просто люблю одиночество». Казалось, солнце всегда светило ему надежно, но это только казалось.
Он был первым, кто понял роль рок-культуры в социальной жизни второй половины XX века. По сути, она начинается с него, с Элвиса Пресли, певца «массового искусства», внутри которого он был уникален, этот сегодня уже старомодный максималист, кумир и идол миллионов.
Элвис Аарон Пресли родился 8 января 1935 года в Ист Тупайло, в штате Миссисипи. Он появился на свет вторым из двух близнецов, но его брат родился мертвым, и Элвис оказался единственным и беспредельно любимым ребенком в семье. Отец его, Верной Пресли, не имел никакого образования, но знал плотницкое дело и кормил семью случайными заработками. Мать, обожаемая сыном Глэдис Пресли, происходила из ортодоксальной еврейской семьи и была на четыре года старше мужа. Единственный ребенок в семье был смыслом ее жизни. Когда Элвису было три годика, отца арестовали за подделку чека и приговорили к трем годам тюрьмы. Для матери это было унизительной пыткой, особенно потому, что ей пришлось жить на пособие. Правда, Вернона выпустили раньше за примерное поведение, но Элвис, став взрослым, старался никогда не вспоминать вслух о том, что случилось с его отцом.
Он рано узнал нищету. Джинсы долгое время были единственной одеждой, которую он мог себе позволить. Став старше, он не терпел, когда кто-нибудь из его окружения надевал голубые джинсы.
Родители мечтали дать мальчику образование и рано отдали его в школу. Бедность преследовала семью, но, поняв, что сын увлекается музыкой, они купили гитару, когда ему исполнилось девять лет. Он был удивительно музыкален и любил играть – гитару он часто носил с собой даже в школу, а мать провожала его и встречала на школьном дворе. Там в окружении малышей он пел песенки, подслушанные на радио или в церкви, куда очень любил ходить.
В 1945 году Элвис завоевал вторую премию на детском конкурсе исполнителей песен, устроенном содружеством штатов Алабама и Миссисипи. Его песенка о мальчике и собачке пользовалась особым успехом.

Маленький Элвис с родителями.
Вскоре родители переехали в Мемфис, там отцу легче было найти работу. Город был большой, тогда в нем жило триста тысяч человек. Бабушка, мать отца, переехала к ним; она умерла в возрасте восьмидесяти шести лет и пережила и сына, и внука. Элвис перешел в школу в Мемфисе и в 1953 году окончил ее. То были трудные годы, родителям приходилось торговаться из-за грошей. Мать пошла работать, переменила множество профессий: была швеей, официанткой, нянькой в больнице. Верной работал грузчиком на красильной фабрике. Элвис после окончания школы поступил работать в кинотеатр контролером. На заработанные деньги он стал покупать яркую кричащую одежду, особенно ему нравился магазин «Бейнски Бразерс» – там на витрине красовались черные широкие штаны и блестящие цветастые рубашки. В таком виде, с длинными развевающимися волосами, своей стремительной легкой походкой он будоражил молодых ребят на улицах Мемфиса. Над ним смеялись, иногда нападали на него, устраивали драки. Уже тогда у него появились телохранители. Один из них, Джордж Клейн, в будущем известный диск-жокей, сидел с ним за одной партой и стал его другом на всю жизнь.
Работа в кинотеатре оплачивалась плохо, и Элвис сел за руль грузовика. Днем водил машину, а вечером пел друзьям под гитару. Его стиль пения был основан на нескрываемом чувстве, эмоции он тратил нещадно, поминутно воспламенялся, вдохновляясь музыкальным городским фольклором. Однако серьезной мысли сделать пение своей профессией у него не возникало.
Все изменилось однажды в субботу в июле 1953 года, когда Элвис решил отправиться к Сэму Филлипсу, владельцу Memphis Recording Service, у которого любой желающий мог записать свою собственную пластинку всего за четыре доллара – ему очень хотелось подарить матери такую пластинку. Элвис записал «Мое счастье» и «Когда начинаются удары сердца» – эти две песенки впоследствии стали очень популярны благодаря негритянскому квартету «Инк Спотс». В то утро Элвиса услышала Марион Кайскер, ассистент Сэма Филлипса, и он произвел на нее сильное впечатление. «Кому вы подражаете?» – спросила она. И услышала в ответ: «Я пою, как никто не пел».
Марион Кайскер убедила своего босса вызвать Пресли и прослушать его. Но Сэм Филлипс не торопился. Он был занят поисками «белого» певца, способного петь сверхэмоционально, как поют, по его мнению, только негры. Марион подумала, а может быть, Элвис и есть тот самый певец?! Наконец встреча состоялась. Пресли исполнил весь свой репертуар, он пел около двух часов, и сразу же по окончании прослушивания Филлипс предложил ему репетировать в студии с тогда еще никому не известными музыкантами Скотти Муром и Биллом Блэком.

5 июля 1954 года Элвис Пресли выпустил свой первый хит, начинавшийся блюзом «Все о’кэй!». Пластинка произвела в Мемфисе сенсацию. Через пять дней после выхода она дебютировала на радио в программе «Красное и голубое раскаленное шоу». Запись была включена в передачу в субботу поздно вечером. Элвис так волновался, что спрятался от всех в кинотеатре, где когда-то работал, и сидел там в темноте и одиночестве все то время, пока его голос шел в эфире. А потом родители нашли его в кинозале и сообщили, что Дайвью Филлипс, владелец радиокомпании, ждет его, поскольку хочет взять у него интервью.
В песнях Элвиса была страстность, угар, мощь, неотразимость, возбуждающая сексуальность. Одна мемфисская газета определила новую местную «звезду», написав: «Он есть секс!» Пламенеющие страсти жгли зал, который неистовствовал, когда Элвис пел. Пришли первые концерты, первые интервью, первые рецензии.
Песни Элвиса Пресли были не просто шлягерами, они эмоционально окрашивали повседневное существование молодых – в его творчестве слышалась позиция: «Я против них, кто бы они ни были». Принцип противостояния носил экзистенциальный характер. Магия рока завоевывала мир, хотя вся Америка еще завоевана не была. Все было впереди. А пока песенка Билла Хейли Rock Around the Clock дала название новому музыкальному стилю, который открыл Элвис Пресли.
Поначалу были и неудачи. Один менеджер даже посоветовал Элвису вернуться в гараж и сесть за руль. Но Скотти, Билл и Элвис – «Лунные мальчики», как их называли фанаты, – уже имели огромный успех и гастролировали по южным штатам. Пластинки Элвиса «Таинственный поезд» и «Я забыл вспомнить, что тебя надо забыть» в сентябре 1955 года стали хитом номер один. Их пели повсюду.
Гастроли, естественно, отвлекали Элвиса от дома, мать очень волновалась, она волновалась всегда, когда его не было рядом. До нее доходили слухи, что на его концертах публика буйствует. Действительно, в мае 1955 года на концерте в Джексонвилле, штат Флорида, зрительный зал безумствовал. Рок-н-ролл только входил в моду. Очень скоро Элвиса назовут «королем рок-н-ролла». В музыку, очень простую, варьирующую мотивы фольклора, знаменитых блюзов, шлягеров, вносились элементы эпатажа. Ритм музыки Элвиса бил по нервам. Настойчивое повторение одного и того же элемента входило в эстетику его исполнения, как и постоянное раскованное общение с залом, тем же отвечали ему и слушатели. Обаяние Пресли было основано на сочетании музыки и через нее воспринимаемой атмосферы молодости, задора, чувства солидарности, простоты и духа свободы. Вскоре демонстрации фанатов Элвиса Пресли на его концертах стали обычным явлением. Единство мироощущения, острый живой ток восприятия остается и по сей день существенным признаком рок-музыки. Элвис становился кумиром. За ним гонялись, его преследовали, обожали, рвали его одежду, целовали землю, по которой он ступал. Все это было до того, как мощное техническое оснащение стало внутренне необходимым компонентом творческого процесса. Легкость и простота восприятия музыки Элвиса Пресли были не только его преимуществом. Для культуры в целом это было и бедой, если исходить из того, что внутренняя подготовленность слушателя есть составная часть культуры.

Пресли ввел в оборот понятие «коллективный характер эстетического переживания». Разговоры, хождение, гомон, грохот стали неизбежны на его концертах. В залах, где он выступал, стоял рев, заглушавший и голос певца, и аккомпанемент. Впечатление от его концертов сохранялось на всю жизнь.
Долгое время у Элвиса не было менеджера. Сначала всеми деловыми вопросами занимался Скотти Мур, потом мемфисский диск-жокей Боб Нил. Потом все взял в свои руки полковник Том Паркер. Он убеждал родителей Элвиса, что сделает его богатым, и выполнил свое обещание. Глэдис не любила Паркера и не доверяла ему, считая его выскочкой, но в августе 1955 года Элвис все же подписал с ним свой первый контракт. Полковник Том Паркер сыграл огромную роль в подписании контракта с фирмой RCA Records, одной из самых крупных американских компаний, производящих в области электроники все: от штепсельных розеток до ракетного оборудования. Отделения фирмы и по сей день имеются и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. За сорок тысяч долларов – сумма по тем временам астрономическая – компания приобрела у Сэма Филлипса права на пять еще не распроданных пластинок Элвиса Пресли; отныне Элвис будет петь только в студиях RCA Records. Сам певец получил пять тысяч долларов и сразу же купил матери подарок – розовый «форд».
В январе 1956 года Пресли дебютирует на телевидении в программе «Дорсей бразерс стейдж шоу». Пресса назвала этот год годом вторжения Элвиса Пресли: в течение двух месяцев он шесть раз появляется на телевизионном экране, тинейджеры раскупают его пластинки, журналы и газеты печатают массовыми тиражами его фотографии. Его цветные портреты украшают жилища молодых людей в возрасте от тринадцати до девятнадцати лет. Теперь Элвис Пресли – это слава, молва и баснословные гонорары. По всему миру возникают клубы его поклонников. Помешательство дошло до того, что подростки собирают «на память» в конвертики пыль с его автомобиля.
Молодой красивый парень, простой водитель грузовика, оказавшийся талантом и «звездой». Его усмешка, привлекающий взгляд, манера пожимать плечами стали объектом подражания. Песенная природа его дарования множилась на мужское обаяние, веселость и удивительную чистоту.
В 1950-е годы только складывалась та атмосфера концертов рок-певцов, которая сегодня стала уже почти обязательной: предельная громкость музыки, подсветка, дым, фантастическая одежда, грим и бешеный ритм. Удивительное сочетание раскованности и простоты. Тогда, в 1950-е, на концертах Элвиса Пресли на зрительный зал действовали его энергия, новизна рок-н-ролла и соблазн. Искусство Пресли становилось все совершеннее. В 1958 году он в последний раз в том десятилетии показался на телеэкране.
Весной 1958-го Элвис был призван в армию, где находился до конца 1960 года.
Конец 1950-х годов для Элвиса – это миллионы дисков, миллионы, если не миллиарды долларов прибыли и сотни изданий о нем. В быту он – мягкий, хорошо воспитанный парень, на эстраде – рок-звезда: презрительный взгляд поверх голов, сводивший с ума подростков, взгляд в туманную даль.
Элвис великолепно исполнил навязанный ему стереотип: надрыв и пластическая четкость, крик во всю мощь его легких и атмосфера праздника. Потребность вырваться из повседневности, за пределы диктата и запретов, за пределы регулируемой и монополизированной государством официальной культуры была велика. Элвис Пресли возвращал этой самой культуре простое, непосредственное человеческое содержание. «Жить на всю катушку» – вот к чему он призывал. Жить сегодня, сейчас, не думая о завтрашнем дне, доказать самому себе, что живешь, как надо, с трепетом, топотом, свистом, воплями. После его концертов тинейджеры возвращались домой обессиленные. Прокричав на выступлении два часа подряд, разломав мебель в зале, они теперь безразлично и равнодушно глядели на окружающий мир. Созданная рок-н-роллом альтернатива оставалась в рамках культуры, внося в художественную и общественную жизнь молодой, живой, задорный и острый тон контркультуры.

Имя Элвиса вырезали на машинах, партах, домах, даже татуировали на собственной коже. Он сумел изменить образ мира и свой собственный в глазах миллионов подростков. Его признавали повсеместно. Ему потребовалось всего девять месяцев, чтобы стать миллионером.
В феврале 1957 года Элвис отправился в Голливуд сниматься в фильме «Любя тебя». Родители, естественно, поехали вместе с ним – их можно увидеть в массовке в одной из сцен. В марте он покупает огромную виллу из двадцати трех комнат и тринадцать акров земли в местечке Уайтхевен в предместье Мемфиса. Поместье называлось Грейсленд.
Это должно было стать самым счастливым временем для Глэдис, но она была в депрессии. Злоупотребление диетическими таблетками, постоянные переживания за сына, который теперь не мог выйти из дома, чтобы на него не набросились фанаты, сделали свое дело. Но главное – Глэдис пила, хотя это и тщательно скрывали. Элвис впоследствии всю свою жизнь люто ненавидел алкоголиков.
Драматизм ситуации проистекал из того, что, казалось, Элвис дал семье все, что только возможно, кроме… самого себя. Теперь он много снимался в кино. В конце 1957 года закончились съемки его четвертого фильма «Креольский король» (одна из любимейших лент самого Пресли). А через несколько месяцев – в конце марта 1958-го Элвис поселился в небольшом домике в форте Худ в Техасе. Службы в армии вполне можно было избежать, и полковник Паркер не раз и не два настойчиво предлагал это своему подопечному. Но Элвис был непреклонен: он ничем не лучше других. Однако эта мысль не помешала ему жить в части в окружении своих родителей, бабушки и одного из двух лучших друзей Ламара Файка.
Глэдис болела. Она вынуждена была вернуться в Мемфис, ее положили в больницу, и 14 августа она умерла. Это было самым страшным горем в жизни Пресли. «Я жил ради нее, Господи, зачем ты забрал единственное, что я имел?!» – кричал он у гроба. Элвис был в отчаянии. После похорон матери ему нужно было вернуться в Техас, а вскоре его часть перевели в Западную Германию, где он и окончил военную службу в 1960 году. Родственники и друзья, конечно же, отправились в Европу вместе с ним.
Он вернулся в США, когда ему было двадцать пять лет. Компания RCA Records продолжала тиражировать и распространять его диски. Теперь рок-н-ролл танцевали все, от девчонок до королевы Англии – британские газеты подробно сообщали, как Елизавета Вторая танцевала рок-н-ролл на балу в честь своего кузена герцога Кентерберийского. Рок-н-ролл звучал даже во время богослужений.
Пройдет немного времени, и появятся мюзиклы «Волосы», «Обещания, обещания», рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», докатившаяся в 1990 году до Москвы и с успехом шедшая на сцене Академического театра им. Моссовета в своем упрощенном варианте в постановке Павла Хомского. В этой знаменитой рок-опере используются хоралы, электронная музыка, джаз, блюзы, оперные мелодии, хард-рок, а сам Иисус предстает в виде «первого в мире хиппи». В конечном итоге рок окажется частью не только молодежной культуры, но все это будет потом: возникнут новые волны – арт-рок, джаз-рок, фолк-рок, романс-рок, театрализованный рок. Их исполнение будет основано на оглушающей, невероятной громкости или, наоборот, подчеркнутой изысканности и камерности. Эпоха концертов-«радений» заканчивалась. Тогда, в 1950-х, тинейджеры упивались тем, что находили в рок-н-ролле возможности самовыражения, собственный особый язык. С годами рок-музыка становилась серьезнее, приобретала социальное звучание.
Вернувшись из армии, Элвис задумался: стоит ли продолжать выступать? Он исчез со сцены в марте 1958-го. Прошло два года, он оставался «королем», но понимал, что появились новые идолы, а старые, возникшие рядом с ним, исчезли, что исходная этическая заповедь рока – «мы» против «них» – толкнула рок-движение на путь активной борьбы с господствующей моралью, нарастающим милитаризмом. Захотят ли его фанаты увидеть его вновь – этот вопрос очень волновал Пресли. Он жил весной 1960-го в Мемфисе, в семье, и общался только с узким кругом друзей. В его жизнь вошло новое увлечение – Присцилла Белью, с которой он познакомился в Германии, когда ей было всего четырнадцать лет. Она прибыла в США вместе с Элвисом и теперь тоже жила в Грейсленде.

Элвис Пресли в Германии, 1959 г.
Он теперь часто уезжал в Голливуд, где проводил по несколько месяцев в году, но оставался там чужим. Глэдис, побывав в Голливуде однажды, возненавидела его и внушила сыну, что это враждебный мир. Она все время ощущала себя на краю катастрофы, а Элвис всегда помнил, что говорила ему его мудрая мать. Он привык жить интенсивно, но в своем мирке, боялся чужих людей и чужих мнений. Вся компания, окружавшая его, – двоюродные братья Билли и Джин Смизы, армейские друзья Джо Эстепозито и Чарли Ходж, верные Ламар Файк и Ален Фортас – получили в Голливуде прозвище «мемфисская мафия». Они жили все вместе, их считали пришельцами, провинциалами, чужаками, но они боготворили своего кумира, знали, что могут на него положиться, и изумляли окружающих своей преданностью ему.
Элвис был очень домашним человеком. Рок с его установкой на шокинг, силу и яркость был, в сущности, противоположен его ценностному миру. Этот кумир миллионов, бог и символ рока, по своим привязанностям никак не согласовывался с искусством, которое представлял. Он любил дом, семью, бабушку Минни – его друзья прозвали ее «Доджер», «Хитрюга». Он страдал, когда отец вскоре после смерти Глэдис женился на женщине с тремя детьми и даже отказался прийти на свадебную церемонию, хотя и поселил отца с новой семьей рядом с собой, в соседнем доме. Он, прославившийся тем, что умел повелевать толпой и приводить ее в экстаз, был, в сущности, очень старомоден.
Талант спасал и защищал его, и это понимал его отец. Верной был человек неразговорчивый, сына, как в детстве, называл «Эвис», всегда помнил, что тот спас их от нищеты, был религиозен и с детских лет прививал мальчику любовь к церкви; только впоследствии, когда духовные искания Элвиса целиком заполонили его, стал противиться этому и жил в постоянной тревоге за сына. Они были очень привязаны друг к другу. Этот красивый малообразованный работяга был человеком с добрым сердцем. Больше всего его волновали взаимоотношения Элвиса и Присциллы. Элвис любил ее, она резко отличалась от «старлеток», с которыми он общался в Голливуде. Несмотря на разницу в годах, она приносила ему чувство стабильности и в его глазах была существом высоких моральных правил. В конце концов любовь завладела им, и 1 мая 1967 года он женился на Присцилле.
Церемония, которая проходила в зале отеля «Алладин» в Лас-Вегасе была пышной и многолюдной. Элвис заказал огромный свадебный торт, украшенный желейными сливочными слезами, которые должны были символизировать слезы его поклонниц. Один этот торт обошелся, как писали тогда газеты, в три с половиной тысячи долларов.
Элвис и Присцилла разошлись в 1972 году, прожив вместе пять лет и произведя на свет дочь.

Свадьба Элвиса и Присциллы 1 мая 1967 года.
В 1960-х годах Пресли много снимался в кино. Три фильма в год. Домой он приезжал редко, отсыпался, запершись у себя в комнате, и набрасывался на еду. Две страсти сжигали его помимо музыки: еда и автомобили. Аппетит у него был чудовищный. Только молодость, регулярные занятия карате, диета и витамины удерживали его от потери формы. В те годы его еще можно было снимать.
Очистив свои концерты от эпатирующего любительства, от простоватости и эксцессов, он продолжал развивать высокий профессионализм рока, возвращая его в лоно художественной традиции. Это и приводило к тому, что его искусство вызывало массовое поклонение. Это он приучил молодежь предпочитать музыку словесно-идеологическим формам самовыражения, хотя сам раскрывался в самых неожиданных проявлениях.
Элвис обожал делать подарки: друзьям, семье, поклонникам, случайным встречным. Он очень любил своих «братьев» – Дэвида, Рика и Билла, детей второй жены его отца. Он одаривал их как мог. В нем непонятным образом переплетались вместе доброта и горькое знание жизни. Красивый, привлекательный, он подчас озадачивал своими поступками: вдруг увлекся иудаизмом, выучил иврит, стал посещать синагогу, решил на могилу матери, куда часто ездил, возложить звезду Давида. Отец был смущен: христианский памятник и звезда Давида? Но раз Элвис хочет, пусть так и будет.
В 1964 году Пресли поселился в Голливуде. Он снимался в очередном фильме – их у него было уже семнадцать, хотя он и не был великим актером, не был даже хорошим. Сам он любил сниматься в музыкальных картинах, требующих его вокального мастерства – голос у него был поистине уникальный: «величайший голос столетия», писали газеты.
К кинематографу Элвис относился как к работе: приезжал на съемки, снимался и возвращался к себе. Великих фильмов после него не осталось, а его музыкальные альбомы живут. В кино он легко, весело и непринужденно включался в игру банальных сюжетов всегда с юмористическим курсивом, а в музыке он был и остается по сей день по-настоящему великим. Его мелодии просты и демократичны, в их надрыве – игровая обреченность, в голосовых модуляциях – нарочитая брутальность, ограниченная урбанистическим регистром. Вся рок-культура, все, что создано Элвисом Пресли, возникло из сознания невыносимой отчужденности, связанной с голосом голливудских низов и ярмарочно-скоморошеской традицией. Рок – это не только музыка, это тип поведения, жизненная позиция. Так – у миллионов слушателей, но не у самого Элвиса Пресли.
Его образ, в который были влюблены миллионы, создавался не столько визуальным, сколько звуковым путем. О нем, о его времени, нам говорит его голос, услышанный всеми без исключения; мощный и покоряющий, он звучит и сегодня. В его форсированной фразировке, в его яростном пении сохранились страсть к жизни и призывы к любви, которой он был обделен.
С Присциллой отношения складывались сложно, роман с маленькой киноактрисой Энн Маргарет – он познакомился с ней на съемках фильма «Вива, Лас-Вегас» – длился недолго. Элвис ежедневно получал тысячи любовных посланий и писем. Девушки объяснялись ему в любви, а он знал, что влюблены они не в него, не в Элвиса Пресли, а в его образ, в имидж, хотя мечтал о том, чтобы любили его.
Его горестные песни о любви завораживают сегодня больше, чем его веселая голосовая динамика. Его художественный язык никогда не утяжелялся, и масштаб его влияния всегда оставался непомерным. Он, как никто, умел создавать на своих концертах атмосферу безумия, а ведь то были годы, когда электронное звучание еще не имело современных возможностей. Это он, Элвис Пресли, задавал тон рок-культуре, а сам пытался понять через великих «звезд» прошлого природу воздействия на массовую аудиторию.

Элвис, читающий письма поклонниц.
Учиться он умел. Его кумирами были Энрико Карузо, Хэнк Уильяме и Рудольфе Валентине После проката фильма «Великий Карузо» с Марио Ланца в главной роли Элвис стал собирать пластинки Карузо. Он восхищался его манерой петь, его мастерством, его искусством покорять. Он собрал о Карузо большую библиотеку, выискивая факты о том, как Карузо мог удерживаться на волне славы, как умел менять привычки, уклад жизни. Элвис задумывался о преемственности – не в сфере музыки, а в силе влияния на толпу. Безраздельно преданный законам «массовой культуры», он выдвигал внутри нее свои требования, одно из которых – необходимость быть уникальным, не похожим ни на кого, поскольку понимал, что любое повторение, любое тиражирование приводит к истощению дара.
Элвиса занимала судьба Хэнка Уильямса, «звезды» американской фолк-музыки, неизвестного у нас в стране. Хэнк Уильяме умер в новогоднюю ночь 1953 года от разрыва сердца. Ему было двадцать девять лет, он нещадно пил и принимал наркотики. Выросший на ферме, в нищете, он сам выбился в люди и, начав концертную деятельность, резко выступал против морали окружающего его мира. Задолго до появления первых рок-групп Хэнк Уильяме выдвинул лозунг: «Долой их мораль!» В быту это обернулось аморальностью. Злоупотребление наркотиками, алкоголизм, сексуальные излишества, любование разгулом впоследствии вошло в стиль быта рок-богемы. Хэнк Уильяме усвоил этот стиль значительно раньше. Элвис был ошеломлен, узнав, что Хэнк погиб от наркотиков. Он выискивал людей, которые были знакомы с Хэнком, поначалу немного даже подражал ему и часто горестно восклицал: «Погибнуть от наркотиков! Это трагедия!»
Но особенно он интересовался Рудольфе Валентине, звездой американского немого кино, секс-символом 1920-х годов. Элвис усматривал нечто общее между собой и им, любил по много раз пересматривать его старый фильм «Шейх», и в картине «Легкомысленный» пользовался тяжелым темным гримом и костюмом, делавшими его немного похожим на знаменитую кинозвезду прошлых лет. Элвиса занимала не только легендарная слава Валентино, он хотел понять, в чем заключалась сила его влияния на женский пол, почему после смерти культ Рудольфе Валентино не угасал, почему на его могиле женщины кончали жизнь самоубийством, а свежие цветы в день его смерти появлялись на ней вплоть до 1949 года, хотя он скончался в 1926-м.
Элвис Пресли был застенчивым человеком. Несмотря на свою провоцирующую красоту и славу, несмотря на то, что он ежедневно получал сотни любовных писем, Элвис редко воспламенялся. Его нравственное воспитание, полученное им в семье, не позволяло переступать некие границы. Он был очень богат. Богатство привалило к нему благодаря полковнику Паркеру, который выполнил свое обещание и сделал своего подопечного самой высокооплачиваемой звездой Голливуда. Элвис получал миллион долларов за фильм, плюс пятьдесят процентов с проката. Он приезжал на студию в своем роскошном «роллс-ройсе», гримировался рядом с гримерной Генри Фонда и уходил в боковую дверь, избегая ожидавших его толп девочек и мальчиков, с утра до вечера поющих его песни, танцующих рок-н-ролл и обожающих рок как таковой. Это сегодня рок-культура утратила романтический ореол гонимости, а тогда, в начале 1960-х годов, она была не только «товаром», она родилась из потребности в противостоянии и всегда жила этим, а реализовала себя в «простодушных и внешних формах бытового поведения, эпатажа, организации специальной среды».
С Паркером Элвиса связывали сложные отношения. Оба они как бы выполняли одну миссию, хотя судьбы у них, естественно, были разные. Оба восхищались друг другом и ненавидели друг друга одновременно, и их объединяло одно: любовь к власти. Паркер отказывал Элвису в том, что было ему жизненно необходимо, о чем он тосковал и что жаждал иметь: признание его серьезным артистом. Вместо этого Пресли снимался в фильмах, которые его биографы сегодня единодушно считают хламом, играл глупые роли в пошлых и пустых картинах, от которых ничего не осталось, и они ушли бы в небытие, если бы в них не снимался он, Элвис Пресли, с его уникальным голосом и уникальным драйвом, сила которого приводила в экстаз тинейджеров своего времени.
Может быть, он и смог бы стать хорошим артистом, но не стал им и следовал своему призванию, которое позволило ему быть звездой эстрады, кумиром, а ныне и классиком рока. Паркер стоял между Элвисом и теми возможностями, которые возникали у Пресли в Голливуде. Сам Элвис мечтал о больших режиссерах и часто говорил об этом, обвиняя Паркера в неустроенности своей судьбы. Песенная природа его таланта была для него узка, а Паркеру было важно пение Пресли на эстраде и перенесение этого его искусства на экран. Задачи были ограниченные, но выполнимые.
Элвис Пресли умер, так и не узнав, что полковник Том Паркер был совсем не тем человеком, за которого себя выдавал. У Глэдис давно были подозрения, что Паркер получил свое звание не за военные доблести, она была убеждена, что какой-то закадычный друг пожаловал ему его по-свойски. В 1981 году, когда ни Элвиса, ни его родителей уже не было в живых, выяснилось, что Том Паркер был вовсе не полковник и даже вовсе не Том Паркер. На самом деле это был Андреас Корнелис Куйик, эмигрант, нелегально приехавший в США из Голландии в 1929 году и только в 1953-м занявшийся шоу-бизнесом. До этого он сменил множество профессий, два года служил в армии, часто находился на грани краха, и печать пережитого лежала на нем. Кем он только не был! Работал на кладбище и занимался торговлей, прежде чем стал менеджером певца Эдди Арнольда.
Когда Паркер подписывал контракт с Пресли, Элвису не было еще и двадцати, и он не сразу понял, что оказался в ловушке. Продюсер крепко держал певца и знал все его сильные и слабые стороны: чувство гордости, старательно скрываемое, рождавшееся не только в результате успеха, а и от сознания хорошо выполненного дела, фантастическое обаяние, резкость, увлечение религией. Паркер имел поистине гипнотическое влияние на Элвиса, а тот был смыслом его жизни. Продюсер прекрасно осознавал, что предлагаемые его подопечному сценарии мало чего стоят, но они приносили огромные деньги и славу. Он был достаточно интеллигентным человеком, чтобы понимать стремление Пресли к интеллектуальному кинематографу, но у Элвиса сложилась сказочная судьба, и построил ее Том Паркер. Может быть, ему не хватало морального стержня, который бы удержал его от циничного взгляда на складывающиеся обстоятельства, но он был умен, обладал гипнотизмом, и они мгновенно понимали друг друга – один телефонный звонок Паркера значил для Элвиса гораздо больше, чем длительные уговоры родных и друзей. Элвис верил ему, хотя и для него Паркер во многом оставался загадкой. А Паркер, в свою очередь, весьма трезво и реально оценивал возможности Пресли.
В тридцать лет Пресли был в расцвете своего таланта: все еще «король рок-н-ролла», обладатель многих миллионов долларов, он не искал перемен; или замыкался на семью, тогда был очень нежен с Присциллой, а в доме было весело – у Элвиса было великолепное чувство юмора, или вел светскую жизнь, ежевечерне посещал вечеринки, не пил, не употреблял наркотиков и отчаянно боялся прессы, стараясь не давать повода для скандальной хроники. Когда после его смерти журналисты стали описывать оргии, в которых Элвис принимал участие, хорошо знавшие его люди только пожимали плечами. Энергия его искусства продолжала питать рок-культуру: он оставался неповторимым.

Вернон Пресли, Элвис Пресли, полковник Том Паркер.
Он чтил моральные принципы, которые ему привила мать. Несмотря на то, что вся рок-культура с самого начала несла в себе принцип противостояния и возникла из обострившейся ситуации отчуждения и потребности преодолеть его, у ее истоков стоял Элвис с его мощным талантом и, как ни странно, приверженностью традиционной культуре и традиционной морали.
Рок-культура как бы унаследовала отчуждение человека от морали официализированной культуры и плебейский протест против нее. В результате отрицание истеблишмента в роке обернулось связью с ним и принятием его форм, таких, как успех, вкус к богатству, ориентация на имидж.
Ларри Геллер, написавший в соавторстве с Джоэл Спектор и Патрицией Романовски книгу об Элвисе Пресли, уделяет особое внимание теме наркомании, увлекшей в свои тенета знаменитого рок-певца. «С годами столько написано о его пристрастии к наркотикам, – пишет Геллер, – но никто не касается вопроса, почему он начал их употреблять. Все это уходит корнями в сложность его натуры и увлекательность его образа жизни». Избыточно уплотненный стиль существования Элвиса увеличивал власть наркотиков над ним. Он пытался держать в секрете, что принимает их. Съемки в Голливуде изнуряли его. Каждый раз он не хотел возвращаться в Лос-Анджелес. «Я не хочу делать еще один дурацкий фильм. Я хочу быть дома со своими книгами, своими мыслями, подальше от этого сумасшедшего мира», – говорил он. Но Голливуд с холодной безжалостностью диктовал свои законы, и разрушить жестокий стереотип Элвису дано не было. Его взрывной характер и непроницаемый взгляд были маской; в сущности, он был очень мягким, искренним и правдивым человеком. Возникнув в Голливуде из атмосферы массовых празднеств, из возбуждения людских толп, из сложного ансамбля, казавшегося импровизацией, он болезненно переживал свой внешне респектабельный конформизм. Когда-то, в начале своего появления, он был символом стремлений и разочарований тех социальных сил, которые впервые выходили на арену, а оказался в рамках той самой культуры, того самого истэблишмента, против которых протестовал.
Вначале наркотики Элвису прописывали врачи. Он страдал от бессонницы, болей и изматывающего ритма. Ему внушали, что мир нуждается в нем, что Бог вложил в него талант, и он не имеет права остановиться. А он грезил уйти в монастырь, стать монахом и читать религиозные книги. С 1961 по 1965 год у Пресли не было ни одного открытого концерта, только съемки и записи – пластинки Элвиса по-прежнему были самым ходовым товаром в американском шоу-бизнесе.
За эти годы рок-культура претерпела множество изменений. Появились «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Сегодня не уменьшается число обществ, культивирующих память и Элвиса Пресли, и «Битлз», и «Роллинг Стоунз», тысячи групп подражают им. Да и не только сегодня – конец 1980-х годов отмечался невероятным взлетом популярности «родителей» рока. В сентябре 1989 года на стадионе в Филадельфии собралось около шестидесяти тысяч человек на концерт «Роллинг Стоунз», и Мик Джаггер пел свои песни с тем же успехом, что и двадцать лет назад, когда многих из его нынешних слушателей еще не было на свете. Только агрессивная экспрессия Мика в 1960-х годах казалась воплощением яростного нонконформизма, а ныне он стал процветающим мастером коммерческой «массовой культуры».
«Время пришло сражаться на мостовых!» – вопил он за двадцать лет до того; «О, секс – это потрясающе!» – пел он в 1989-м, подчеркивая куплет: «Да оставьте меня в покое, дайте мне спокойно состариться!» Экстравагантная вычурность пришла на смену гражданской страстности и буйству 60-х годов. В октябре 1988 года, в день рождения Джона Леннона, общенациональное телевидение США посвятило этому событию специальные программы. Американские радиостанции передавали по несколько раз в день монтаж малоизвестных записей, сделанных в частных студиях, отрывки музыки Джона Леннона и обрывки разговоров первых «битлов».
В середине 1960-х огромный успех сопутствовал и «Битлз», и Бобу Дилану, и «Роллинг Стоунз», а Элвис размышлял о своей судьбе. Что его ждет? Глупейшие фильмы? Еще одно мировое турне? Когда он попадал на концерты Бинга Кросби и Руди Вейли, певших тот же репертуар, что и двадцать-тридцать лет назад, Пресли удивлялся – как они не чувствуют, что становятся похожими на карикатуры на самих себя? «Пятидесятилетние мальчики» – так он называл прежних звезд американской эстрады, потерявших ощущение времени. «Не дай бог, чтобы это случилось со мной», – говорил он Ларри Геллеру.
Элвис восхищался «Роллинг Стоунз», пением Мика Джаггера – его «Удовлетворение», впервые прошумевшее по Америке в том же 1965 году, сводило всех – и Элвиса в том числе – с ума. Миллионы поклонников находили Мика «сексуальным», а Элвис ценил его прежде всего за особую манеру исполнения, которую Мик принес на эстраду. Пресли любил песни Боба Дилана, даже записал в 1966 году «Завтра – это долго ждать», но звука его голоса не выносил. Встретив как-то в Лос-Анджелесе Джуди Гарланд, Элвис воскликнул: «Я ваш почитатель!», на что она немедленно ответила: «А я – ваш». Соединение интимного стиля с экспрессией Джуди Гарланд вдохновляло его. Пресли нравилась также и манера Фрэнка Синатры, хотя его репертуар казался ему банальным.
Он держал в голове десять тысяч мелодий, а пел лишь те, которые были ему близки. Элвиса влекло пение Тома Джонса, он удивлялся его свободной раскованной и естественной манере исполнения. В вокальном мастерстве Тома присутствовали жест и танец, как и у Мика Джаггера. Элвис и Джонс всегда держали друг друга на примете и внимательно слушали друг друга. Их концерты устраивались в Лас-Вегасе, привлекая толпы поклонников, специально приезжавших в город, чтобы послушать их. Оба никогда и нигде музыке специально не учились. Джонс, как и Пресли, вышел из самых низов общества – его отец был шахтером.
Это не случайно, что рок-певцы пришли из среды разнорабочих. Их общественное положение было ими осознано и подчеркивалось в манере речи, во внешнем облике, в самой атмосфере концертов. Даже стиль исполнения у них был общий. Огрубленная редакция «Не будь жестоким» Элвиса Пресли и «Желтая подводная лодка» Леннона-Маккартни – очень простые мелодии, варьирующие мотивы популярных шлягеров и городского фольклора, сближают их как по смыслу, так и по значимости. Хотя «Желтая подводная лодка» вводила культ наркотиков, для популяризации которых «Битлз» сделали очень много. Пресли обожал негритянскую музыку и не любил джаз и оперу, хотя голос у него самого был вполне оперный.

Элвиса Пресли и музыкантов из «Битлз» связывала тесная дружба. Даже тогда, когда последние были окружены стеной предубеждения и дурной молвой. В августе 1965 года «битлы» приехали в Лос-Анджелес, чтобы дать там свой «исторический» концерт. Том Паркер договорился с продюсером «Битлз» Брайеном Ипстейном, и 27 августа состоялся совместный концерт Элвиса Пресли и «Битлз». Джон Леннон и Пол Маккартни не могли поверить своему счастью – вся четверка просто благоговела перед Элвисом. Впоследствии Служба иммиграции и натурализации хотела выслать Джона Леннона из США, поскольку в Англии он был осужден за хранение наркотиков. С 1970 года пять лет подряд Леннон боролся за получение права на постоянное жительство в Америке, его биографы считают, что активное участие Джона Леннона в антивоенном движении сделало его опасной для властей фигурой, но Элвису
Пресли было все равно – он помогал другу во время всего этого сложного периода.
«Битлз» действительно сыграли немаловажную роль в левом молодежном движении; в его поэтике, апокалиптическом провидении неминуемого рока, нависшего над всей социальной системой и над миром; в его убеждении, что молодые призваны сыграть вселенскую мессианскую роль. Элвис Пресли стыдился того, что жил в Мемфисе – городе, где был убит Мартин Лютер Кинг. Дружба с «Битлз» открыла ему понимание, что наркотики есть та дань, которую они платят за лихорадочную жизнь, эти мастера вызывать безумие толпы.
Начиная с середины 1960-х годов в жизнь Элвиса входят наркотики и религиозный компонент. Увлечение религией традиционно присуще американским течениям радикального бунтарства. У Пресли оно сопровождалось напряженным богоискательством – от увлечений восточными культами до «Движения Иисуса». Это религиозно-мистическое движение отвергает институциональное христианство во имя «нового христианства», основным догматом которого является непосредственное личное общение с Богом и экстатическое озарение как единственный путь постижения истины.
Элвис увлекся «Движением Иисуса»; чем больше хаоса было в его душе, тем упорядоченнее казались ему постулаты этого религиозного направления. Его настольной книгой стала «Безличная жизнь», образ Христа, символизирующий нравственный идеал и жертвенность во имя спасения страждущего человечества, оказался весьма созвучен его эстетическим устремлениям.
Еще до того, как увлечься «Движением Иисуса», Пресли прошел увлечение оккультизмом, восточными религиями. Буржуазно-мещанской обыденности, в которой жил, он хотел противопоставить некую утопию, отчетливо сознавая утопический характер своих надежд и обреченность своих устремлений. Сначала он изучил «Автобиографию Йоги», принял его учение и принципы.
В Голливуде распространились слухи о том, что Пресли берет уроки у знатоков йоги, что он ушел в мистицизм, а он уходил в свое душевное подполье. Для него духовные занятия стали частью его духовной эволюции; он верил в перевоплощение, в загробную жизнь, был убежден, что встретится с матерью на «том» свете, считал, что если человек совершает злые поступки, то он вернется на землю не человеком, а ящерицей, что, когда сам он умрет, он окажется с теми, кого любил.
Потом он увлекался космологией, читал «Введение в мир», «Пятое измерение» – работы, пытающиеся с помощью древней философии понять современный мир, верил в телепатию, в исцеление, в экстрасенсов.
Духовные верования Пресли питали его. В этот период он насыщает свои записи евангельскими текстами, библейская грандиозность языка и образов вносит в его творчество мотив страдания. Пресли получил три высшие премии Grammy Awards (лучшие пластинки): за альбом евангельских гимнов в 1967 году, за вдохновенное исполнение «Ты коснулся меня» в 1972-м и в 1974 году за песню «Как велико твое искусство», сверкающую иллюминацию религиозной мысли. В 1971 году он получил премию Бинга Кросби, специальную награду «за признание его артистического творчества и его влияния на слушателей и исполнителей, чьи музыкальные горизонты он обогатил своим искусством».
Он пел о любви к Богу. Первый альбом религиозных песен выпустили в 1960 году. Это был хит, называвшийся «Твоя рука во мне». А в 1965 году появилась пластинка «Плач в часовне», самая сенсационная запись Пресли периода 1960-х годов.
Он по-прежнему изумлял своим талантом, вел упорядоченную жизнь, никаких перемен: смерть матери, служба в армии – все было позади, агрессивные эмоции не разрушали его, а удовлетворения не было. Слишком остро он ощущал свою зависимость от RCA Records, Тома Паркера и Голливуда. С невероятным упорством он отстаивал в частной жизни свой идеал, воплощая его в исполнении религиозных песен. Под знаком евангелия искусство его становится все более драматичным.
В быту у Элвиса меняется стиль. Теперь он еще более богат, чем раньше, увлекается лошадьми и купил ранчо со ста шестьюдесятью тремя акрами земли, заплатив за него более миллиона долларов. Друзьям он делает дорогие подарки: кому сапфиры, кому «Кадиллаки». Голливуд раздражает его своей суетностью, но он по-прежнему снимается – его двадцать пятый фильм «Пикник на морском берегу» был, пожалуй, самым скверным из тех, что когда-либо делались в Голливуде. Сдвиг певца в мистику уже перестал быть «сдвигом» – она буквально наполняла его.
В 1968 году у Элвиса и Присциллы родилась дочь, которую назвали Лайза-Мари.
Казалось, и в своем творчестве он достиг цели: радиостанции ежедневно передавали в эфир его записи, по телевидению шла специальная передача «Час Элвиса Пресли», трон «короля рок-н-ролла» он так никому и не уступил. После восьмилетнего перерыва Элвис вернулся на эстраду: 26 июля 1969 года состоялось его первое выступление в зале отеля «Международный» в Лас-Вегасе, отмеченное всеми телерадиокомпаниями США.
Он начал концерт с песни «Если я могу мечтать». Черные брюки с зелеными лампасами, широкий ремень и «американские» бутсы. За спиной Элвиса – оркестр из тридцати пяти человек. И снова, как десять лет назад, он поет свои знаменитые «Ботинки из синей замши». Английский журнал «Обсервер» писал: «Элвис Пресли сохранил свою раскачивающуюся походку. Он подпрыгивает во время своих выступлений, как водитель в «джипе», мчащийся по проселочной дороге. Глядя на его самоуверенную усмешку, сразу вспоминаешь, что его «фабрика» работает с прибылью в миллионы долларов». К этому времени Элвис был уже обладателем пятидесяти «золотых» дисков – пятьдесят его пластинок были проданы тиражом более миллиона экземпляров. По данным на 1972 год, в мире было продано четыреста миллионов пластинок с записями Элвиса Пресли.

Присцилла Пресли с дочерью Лайзой-Мари.
В 1960-е он безраздельно отдавал себя кино, а теперь вернулся на эстраду. Духовная конъюнктура менялась, наступала эпоха «нового консерватизма», которая потребовала от рок-музыки изменения стиля. Одни по-прежнему нажимали на слово «контр», другие стали постоянным элементом эстрадной и телевизионной деятельности, третьи «заслонились от времени длинными волосами и потертыми джинсами, давно утратившими знаковый, а, следовательно, и культурный смысл». Выжили те, кто сосредоточился на высокой художественной традиции, те, кто оказался способен сохранить верность контркультуре, черпая энергию противостояния в новом осмыслении Времени.
Элвис высказывался до конца, он искал способы воздействия на умы и сердца, в его песнях были насмешка и печаль, откровенность и энергия, снайперски действовавшие на зрительный зал, сходивший с ума от его великого таланта. Его фанаты обожали его, а он любил их, это было единственное, что согревало его и держало на земле. Его триумфальное возвращение на эстраду оставило след в американском сознании не только в записях и его эстрадных триумфах. В 1970-м на экраны выходит документальная лента «Элвис – его путь, каков он есть», снятая во время его концертов в Лас-Вегасе, городе, который Пресли никогда не любил. Два года спустя появляется другой документальный фильм – «Элвис на гастролях».
Имя Элвиса не сходит со страниц печати. В 1971 году его называют в числе самых выдающихся молодых людей Америки. Его «Подозрительные мысли» становятся хитом номер один. Шоссе по дороге в Грейсленд переименовывают в Бульвар Элвиса Пресли.
Теперь он часто дает интервью. На вопрос о том, как он относится к своей великой славе, на пресс-конференции перед началом своих концертов в Мэдисон-Сквер гарден, он ответил: «Люди любят мой имидж, но имидж и человеческая жизнь редко совпадают, а соответствовать своему имиджу всегда очень трудно». Стремительный и яростный на эстраде, он где-то в глубине своих интонаций и обостренных нервом звуков сохранял удивительную человеческую грацию, которую люди в зале неизменно чувствовали.
В феврале 1972 года Присцилла ушла от Пресли к Майку Стоуну, его инструктору по каратэ, – Элвис сам познакомил их несколько лет назад. После смерти матери это был самый сильный удар, который ему пришлось пережить. Теперь он за пределами сцены ведет уединенный образ жизни, читает книги Елены Блаватской, его очень интересует биография этой русской писательницы, основавшей в Нью-Йорке Теософическое общество. Ее историко-этнографические очерки «Из пещер и дебрей Индостана» становятся его любимым чтением в этот период. Мистическая доктрина Блаватской – это соединение мистики буддизма и иных восточных учений с элементами оккультизма и неортодоксального христианства. Она помогает Пресли совершать паломничество в глубины своей души, в скрытые недра сознания. Соблазн этого мистического бегства окажется для него ловушкой. Теперь он строит свои отношения с внешним миром по собственным законам: в нем выросла готовность принести себя в жертву, но эта жертва никому не нужна – так ему, по крайней мере, казалось.
После возвращения Пресли на эстраду гигант звукозаписывающей индустрии фирма RCA организует концерты Элвиса за границей. Снова полосные рекламы в газетах и журналах, плакаты с перечислением кинолент, реклама по радио и телевидению. Печатаются миллионы календарей с его портретами, огромные цветные фотографии. Как и в 1969-м, когда состоялся его дебют в Лас-Вегасе, плакаты с портретами Пресли расклеивались даже на бортах грузовых машин. Фигуры Элвиса в натуральную величину, вырезанные из фанеры и вмонтированные в специальные ящики, выставляются в витринах супермаркетов. Концерты певца прошли в Австралии, Японии, по всей Европе. Программа «Элвис на Гавайях» транслировалась в сорока странах, и день 14 января 1973 года запомнился любителям рок-музыки как «великий день».
Концерты Пресли посмотрели более миллиарда человек. Он был в расцвете: худощавый, бледнолицый, динамичный, по-прежнему пленительный, он пел рок-н-ролл, баллады, песни в стиле «соул», и его лирический бас-баритон с диапазоном в две с лишним октавы позволял ему петь все, что он захочет. Он был сам по себе – ни на кого не похож и демонстративно прекрасен. В его голосовых судорогах, в его жестком ритме была воля, которой в жизни у него не было. Его белый жилет был усыпан бриллиантами, и на золоченой накидке позванивали долларовые монеты. Он выходил на просцениум и широко раскрывал объятия, как бы желая обнять весь мир. Нет, его возвращение – это не случайность, не счастливая игра судьбы, это игра таланта, его искусство рождалось так, что не опишешь и не расскажешь: миг торжества и призыв к жизни. 4 апреля 1973 года программа «Элвис на Гавайях» была повторена в Нью-Йорке, и успех был потрясающий. Было очевидно, что он – певец поколения, которое жаждало изменить ценностный мир, хотя находились критики, писавшие, что Пресли уже звучит не как исполнитель рока, что, скорее, он напоминает певца, который поет эстрадные песни в сопровождении больших оркестров. Менялся сам рок, возникали нити к эстетизации насилия, которым изначальный рок с его неприятием конформизма и зла, с его демократичностью и отвращением к насилию был прямо противоположен. Приближалась эпоха панков.
В конце 1974 года за кулисы во время концерта Пресли в Лас-Вегасе пришла знаменитая Барбара Стрейзанд и пригласила Элвиса сниматься в фильме, который она вместе со своим другом тех лет, Джоном Петерсом, собиралась делать. Она предложила ему в фильме «Звезда родилась» роль популярного рок-певца, уходящего в мир наркотиков, после того, как жена затмила его на сцене. В роли жены должна была сниматься сама Барбара Стрейзанд.
Сам факт приглашения со стороны суперзвезды льстил Элвису. Стрейзанд была серьезной актрисой, и ленты с ее участием были не похожи на те пустые глупые фильмы для тинейджеров, в которых снимался он сам. Но Том Паркер – его личный Мефистофель – убедил певца, что он не способен сотворить в кино то, что делает на эстраде, и приложил все усилия к тому, чтобы затея не удалась. Да, Элвис не достигал в кино высот своего пения, но как раз в это время задумывался о возвращении в Голливуд, созвонился с Полом Ньюманом, предлагал себя в его следующий фильм. «У меня в 50-х были хорошие ленты: «Любя тебя», «Креольский король», «Люби меня нежно», «Тюрьма – пристанище Рока», – говорил он. – Я мог бы стать великим актером, дайте мне эту возможность».
Постепенно Пресли утрачивал свою прежнюю мощь, в его жизнь, как и в его искусство, входил страх.
В день своего тридцативосьмилетия Элвис официально развелся с Присциллой. Один он не был, с ним все время находилась Линда Томпсон – прелестная женщина, с которой он познакомился летом 1972 года, но разлад с самим собой преследовал его. В доме поселилось драматическое напряжение. Пресли страдал, что мало видится с дочерью – естественно, большую часть времени она проводила за пределами Грейсленда. Элвис болел, его мучили головные боли, высокое давление, глаукома, сахар в крови, он постоянно прибегал к наркотикам. Вокруг него сгущались тучи. В атмосфере Грейсленда ощущалось поразительное сочетание опасности и покоя.
Трансляция концерта Пресли с Гавайских островов в сорок стран мира не снизила интереса к нему, наоборот – воодушевила его почитателей. Прямое соединение ритма, музыки и эротики безошибочно воздействовало на массы. Но груз психологических проблем давил на него: к нему стали обращаться подозрительные бизнесмены – близким он боялся даже пересказывать беседы с ними.
У него требовали денег. В США стали возникать первые приметы рокофобии: куклуксклановцы сжигали пластинки Элвиса (в 1980-е они будут сжигать пластинки и портреты «Битлз»), возникла идея о введении цензурных ограничений на записи рок-певцов. Идеология «стопроцентных американцев», тоскующих о временах суда Линча и политики Маккарти, уверенно набирала силу.

Элвис Пресли и Линда Томпсон, середина 1970-х гг.
Элвиса страшил распоясавшийся терроризм. Он не мог забыть историю, приключившуюся с рок-певцом негром Сэмом Куком. Сэму было тридцать три года, он был на вершине славы, пел госпел, открыл собственную фирму, увлекался йогой. В декабре 1964 года его убили в одном из мотелей Лос-Анджелеса. Официальная версия происшедшего гласила, что негритянка средних лет, хозяйка мотеля, выстрелила в Сэма Кука три раза после того, как к ней в офис вбежала молодая женщина, которую якобы хотел соблазнить музыкант. Все в этой истории выглядело весьма подозрительным, и Элвис был убежден, что Кука убили потому, что он пытался стать самостоятельным, хотел вырваться из рук тех, в чьей власти находилась индустрия рок-музыки.
История убийства президента Джона Кеннеди, заговоры, убийство Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга пугали Элвиса, он искал внутренние мотивы этих преступлений века. Агрессивная воля обезоруживала, энергия его души иссякала. Он боялся за дочь, что ее украдут, усиливал собственную охрану. В Грейсленде воцарилась тягостная атмосфера. После похищения Патти Херст в начале 1974 года Элвис стал крайне осторожен. Происки консервативных сил и погромной рокофобии ставили его в тупик.
Однажды он получил записку: «В вас могут выстрелить из зала во время шоу». Во время концерта вооруженные телохранители встали у входа за кулисы и никого не пропускали. Звуки щелкающих ружей дополняли звучание сильного голоса Пресли, певшего в тот вечер с яростным отчаянием. Барри Хилтон, сын владельца отелей «Хилтон», предложил Элвису отменить концерт, который шел в зале отеля, и сократить количество намеченных выступлений. Элвис ответил: «Мистер Хилтон, если кто-то собирается меня убить, они меня убьют не сегодня, так завтра. Я готов встретить их лицом к лицу, но концерт не отменю. Я живу для того, чтобы петь». Но с этого момента певец всегда выходил на сцену в пуленепробиваемом жилете, спрятанном под костюмом.
Дома было неблагополучно. Отец болел. Он разошелся со второй женой, прожив с ней около десяти лет. Ее дети остались на попечении Элвиса. У него самого разладились отношения с Линдой Томпсон. Он был благодарен ей, что в трудное время, когда его покинула жена, она была с ним, но теперь Линда ушла от «короля» к его оператору-телефонисту. Элвис часто ложился в клинику, жил на снотворных таблетках, страдал воспалением печени, сердечными приступами, стал стремительно толстеть, лицо его обрюзгло, по утрам он не мог поднять голову с подушки, полнота мешала застегнуть молнию на ботинках. Наркотики успокаивали на некоторое время, но не помогали справиться со всем этим.
Паузы между концертами стали большими, хотя финансовое положение певца по-прежнему оставалось устойчивым – только в начале 1973 года он получил за концерты более четырех с половиной миллионов долларов. На нем наживались – его импресарио, все тот же Том Паркер, заработал за этот период более шести миллионов. Он видел, что Элвис находится на грани небытия, но старался поддерживать его дух, понимая и художественную, и прочую ценность Пресли. То было время, когда об Элвисе писали много вздора, на сцену он выходил изредка, большую часть времени проводил дома – читал. С ним рядом всегда находился доктор Никопулос, с которым певец познакомился еще в 1966 году.
И вдруг все изменилось. В ноябре 1976 года Пресли познакомился с двадцатилетней Джинджер Олден и влюбился в нее. Теперь, приезжая в роскошные номера отеля «Хилтон» в Сан-Франциско или Лас-Вегасе, он посылал за ней один из своих двух самолетов. Слава его по-прежнему была непомерной. Когда в начале декабря 1976 года он приехал в Лас-Вегас, город казался вымершим, даже в казино было пусто – все были на концертах Пресли.
Гастроли должны были начаться через несколько дней. Повсюду висели гигантские афиши, изображавшие сапоги Элвиса, были расклеены его цветные фотографии, на прилавках лежали значки, сувениры, запонки с именем Элвиса, в Лас-Вегасе не было ни одной стены, ни одной витрины, где гигантскими буквами не было бы написано имя певца – город был заполонен одним человеком. За день до начала гастролей поклонники стали стекаться в Лас-Вегас со всех концов Америки, чтобы попасть на его концерты. В программе были религиозные песнопения – столь любимые Пресли госпел. Госпел появились еще в 1920-х годах. Первым исполнителем был негр Джорджия Том, знаменитый певец блюзов из Чикаго. «Госпел» в буквальном переводе значит «добрые вести о Христе», а сюжетами песен служат библейские сказания и притчи. Эти песни обычно исполняют в церквах солисты хора, а прихожане в этот момент притопывают в такт и хлопают в ладоши. Госпел, как и спиричуэле, – песни современные, влияние их на рок-культуру огромно, рок-н-ролл и нынешний рок основаны на госпел. Элвис замечательно их исполнял.

Джинджер Олден, 1977 г.
Он выходил на сцену со своей электрогитарой; звук ее выкристаллизовывался из экзотических и местных звуков, из стона-молитвы и сдавленного плача блюза и превращался в солирующий инструмент – эта знаменитая гитара Элвиса была выставлена в свое время в американском павильоне на международной выставке в Монреале. Он пел с подъемом, казалось, свежие силы наполняли его мощное тело, его отличал непривычный лиризм. Зрительские толпы были воспламенены, и из этой массовой истерики Лас-Вегас извлек огромные финансовые дивиденды. Возбужденные зрители получали удовольствие, а Элвис Пресли привлекал в город их сердца и капиталы.
На его декабрьских концертах 1976 года в Лас-Вегасе в зале было много его знаменитых поклонников: Лайза Минелли, Глен Кэмпбелл, Уэйт Ньютон. На концерты Элвиса приезжал даже президент Джимми Картер. Залы безумствовали. Концерты закончились лишь в середине декабря. Молоденькая Джинджер, которую Элвис возил с собой на все приемы после выступлений, оказалась умной женщиной. Она видела, как нагнетается рекламой атмосфера коллективного психоза, но талант ее друга, показавший, наконец, свой подлинный масштаб, производил на нее неизгладимое впечатление.
Наступал 1977 год, последний год жизни Элвиса Пресли.
В феврале были намечены его гастроли по южным штатам. Они прошли триумфально, как обычно, и после их окончания Пресли вылетел в Гонолулу. Недолгий отдых, и он снова возвращается в США. Гастроли продолжались: Аризона, Оклахома, Луизиана, а самочувствие Элвиса по-прежнему было скверным. Начали трястись руки, слабели ноги; близкие друзья Пресли понимали, что он продолжает принимать наркотики. Гастроли прервались. В апреле ему стало еще хуже. Он еле ходил. Глаза его, обычно сверкающие особым блеском, потеряли цвет и теперь постоянно были полузакрыты. Большую часть времени он проводил в постели, прислушиваясь к звукам работающего телевизора. С бледным лицом, без улыбки, сжигаемый каким-то внутренним недугом, он теперь редко говорил, все больше молчал и был преисполнен серьезности, хотя всегда предпочитал хорошую шутку и веселый задорный смех. Теперь Элвис оживлялся лишь когда Питер Селлерс на телевизионном экране пародировал знаменитого актера кино Хэмфри Богарта – он ценил их обоих. Но доктор Никопулос умел выводить его из этого состояния, и 22 апреля Элвис уже был в своем самолете «Лайза-Мари» и летел в Детройт.
Снова выступления. Первое – в Гринсборо, штат Северная Каролина. В конце шоу он сел за рояль и под собственный аккомпанемент спел «Уходящую мелодию» и «Нельзя помочь влюбленному». Слова этих песен были важны для него – он хотел, чтобы они вошли в его новый альбом «Элвис Пресли». На следующий день был назначен концерт в Детройте, потом в Чикаго. Зал безумствовал, а друзья понимали, что что-то случилось. В его пении были слышны рыдающие ноты. Физическое и психическое недомогание съедало Элвиса.
Не все вокруг сознавали, что он находится на грани жизни и смерти. В начале мая Элвис вернулся в Грейсленд, но то были не последние его гастроли. После короткого отдыха Элвис Пресли снова вылетел в двухнедельный тур по стране.
Он хотел, чтобы Джинджер была с ним, но она не всегда понимала его состояние и не собиралась следовать за ним повсюду, а он страшился одиночества, даже боялся оставаться один в номере отеля. В кого он влюбился? В свою мечту, в идеал или в реального человека? Этот вопрос мучил его. В его последних концертах были непривычная нежность и печаль, не было борьбы и призывов к жизни. Иногда он высмеивал самого себя.
29 мая Элвис вышел на сцену в Балтиморе, тринадцатитысячный зал приветствовал его. Он еле держался на ногах, его шатало, кто-то в зале крикнул: «Он пьян!» Пресли подошел к рампе и с трудом подбирая слова, обратился к публике: «Здесь, на сцене много талантливых людей, и я попрошу моего друга Шерри Нелсона спеть для вас мою любимую песню «Парнишка Дэнни». Элвис был близок к коллапсу. За кулисами он пробыл более сорока минут. Вернувшись на сцену, извинился перед публикой, которая неистовствовала в зале, давая ему понять, что любит его и знает, что он болен. Элвис сел на стул и провел концерт сидя. Сегодня пишут, что это был один из его лучших концертов, что чуткое ухо могло уловить в его пении скрытый драматизм, что бодрящие ритмы завершались печальными мелодическими фразами.

17 июня началось пятое в том году турне Элвиса Пресли по городам Америки. Первый концерт в Спрингфилде, штат Миссури, затем Омаха, штат Небраска. Там телевизионная компания RCA должна была записать его концерт. Впервые после знаменитого вечера «Элвис на Гавайях» в 1973 году. Теперь было решено записать два его концерта: один – в Омахе, другой в Рэпид-Сити, штат Южная Дакота.
Нервы у Элвиса были напряжены. Он просил отменить гастроли, но Том Паркер убедил его этого не делать. Вечера прошли трудно. Он останавливался, забывал слова, садился, подолгу говорил с публикой, потом снова начинал петь. Зал кричал от восторга, а он был не в себе. Последний концерт состоялся в Индианаполисе. Наконец, все было кончено, и Элвис приехал домой.
Было ясно, что он обречен, – его отец, по крайней мере, это понимал. 16 августа Джинджер, которая была с ним, проснулась около девяти утра, увидела, что Элвис взял книгу и пошел в ванную. «Только не засни там!» – крикнула она ему вслед, и уснула сама. В час дня она нашла его в ванной комнате, он лежал на полу мертвым – наркотики и нервное истощение сделали свое дело. Официально было объявлено, что Элвис Пресли скончался от гипертонической болезни и коронарной недостаточности.
Похороны были грандиозные. На кладбище Форест Хилл, куда стекались несметные толпы народа, был приготовлен мраморный мавзолей, однако ему не суждено было стать последним пристанищем певца. Через некоторое время варвары-поклонники попытались похитить тело «короля», правда, безуспешно. Однако, чтобы впредь избежать подобных инцидентов, тело Элвиса перенесли и захоронили рядом с могилой его матери на территории Грейсленда, в месте, которое сам Элвис называл «Садом медитаций». Впоследствии здесь же похоронили и его отца, Вернона Пресли.
После смерти Элвиса было множество слухов: говорили, что у него был рак или лейкемия, что он покончил жизнь самоубийством или отравился наркотиками, хотя официальную версию никто открыто оспаривать не решился. Писали, что на последних концертах он прощался с публикой, с тем, что составляло его жизнь более двадцати лет.
Что осталось? Имя суперзвезды, классика рок-культуры, уникальная манера пения, миллионы пластинок, записи, документальные ленты, фильмы, в которых он снимался, книги, написанные о нем. Когда-то он был слишком наивен, потом – слишком уверовал в свою звезду, потом утешался мыслью, что личная жизнь – не самое главное, и отдал себя миллионам, которых любил и без которых не мог жить.
Рудольф Нуреев

Танец длиною в жизнь
Слухи о том, что Кировский балет собирается на гастроли в Париж, ползли по театру. Нуреев не верил, что его возьмут. Париж был мечтой. На дворе стояла весна 1961 года. Театр готовился к гастролям, говорили, что после Парижа поедут в Лондон. Все было неясно. Его любимую партнершу Аллу Шелест отстранили от поездки в самый последний момент. В ленинградской труппе он танцевал с Аллой Сизовой, Ириной Колпаковой, Нинелью Кургапкиной, Аллой Осипенко, но Алла Шелест была его божеством. С ней он танцевал «Жизель» и «Лауренсию». Недосягаемость ее виллисы и гордость Лауренсии вдохновляли его редкий дар. Лауренсию он танцевал и с Наталией Дудинской, первой балериной Кировского балета. Нуреев ценил мастерство большой актрисы и чутко воспринимал ее бесценные уроки, но танцевать любил с Аллой Шелест, в мире балета ее называли великой балериной.
Наталья Дудинская была женой Сергеева, первого танцовщика Кировского балета. По словам Нуреева, Сергеев его не любил. Во всяком случае, так он писал впоследствии в автобиографии, что не мешало ему заметить: «Оба они, Дудинская и Сергеев, были великолепные танцовщики, но им было около пятидесяти, и у них было мало шансов покорить парижскую публику». Это они понимали и, чтобы не рисковать, готовили к гастролям молодых.
Нуреев репетировал сергеевский и свой собственный репертуар: Альберта в «Жизели», Солора в «Баядерке», заглавную партию в «Дон-Кихоте», Голубую птицу в «Спящей красавице», Андрия в «Тарасе Бульбе». Удивительное соединение в его танце легкости и силы, стремительности и отточенного стиля не укладывалось в стереотип первоклассного танцовщика. От него многого ждали. Занимался с ним замечательный педагог Александр Иванович Пушкин. Нуреев был его любимым учеником. Усердие Нуреева покоряло Пушкина, как и его музыкальность. Перед отъездом в Париж Рудольф практически жил в семье своего учителя.
11 мая 1961 года труппа Кировского балета вылетела в Париж, Нуреев больше никогда не видел Александра Ивановича, хотя его уютную квартиру во дворе Хореографического училища помнил всегда. Это был дом, где его любили.
Спустя десять дней он впервые вышел на сцену парижской Grand Opera: шла «Баядерка», Солор – его любимая партия. Его божественную пластичность отметили сразу. «Кировский балет нашел своего космонавта, его имя Рудольф Нуреев», – писали газеты. Вокруг него толпились поклонники. Он подружился с Клэр Мотт и Аттилио Лабисом – «звезды» французского балета мгновенно оценили его редкий дар – и особенно с Кларой Сент, поклонницей балета, одной из завсегдатаев за кулисами Grand Opera. Именно ей суждено было сыграть особую роль в его судьбе. Она была помолвлена с сыном министра культуры Франции Андре Мальро, и связи ее в высших сферах были необъятны. Клару он прежде всего повел смотреть свой любимый балет – «Каменный цветок» в постановке Юрия Григоровича, сам он в нем не был занят. Григоровича в Париж не пустили, а Нуреев очень высоко ценил его балетмейстерский талант.
Вел он себя вольно, гулял по городу, засиживался допоздна в ресторанчиках на Сен-Мишель, в одиночестве отправился слушать Иегуди Менухина (он играл Баха в зале Плейель) и не считался с правилами, в рамках которых существовали советские танцовщики.

Рудольф Нуреев. Ленинград, 1950-е гг.
У Клары Сент случилась беда, Винсент Мальро, уехав на Юг на несколько дней, разбился насмерть в автомобильной катастрофе. Это еще больше сблизило ее с русским танцовщиком. Имея множество знакомых в Париже, Клара Сент была в сущности одиноким человеком: она бежала из Чили и всем своим существом понимала состояние Нуреева, странного, нелюдимого юноши родом из Башкирии, оказавшегося в центре вни ания парижской светской толпы. Все, что произошло в парижском аэропорту Ле Бурже в тот далекий день, 17 июня 1961 года, лучше всего описал сам Нуреев в «Автобиографии»: «Я принял решение потому, что у меня не было другого выбора. И какие бы отрицательные последствия этого шага ни были бы, я не жалею об этом». Газеты наперебой на первых страницах давали громкие заголовки: «Звезда» балета и драма в аэропорту Ле Бурже», «Прыжок в свободу», «Девушка видит, как русские преследуют ее друга». Этой девушкой была Клара Сент, которой он позвонил из полицейского участка. Она просила его не приходить, около ее дома шныряли советские агенты, их легко было узнать по одинаковым дождевым плащам и мягким велюровым шляпам.
Вначале Рудольфа поместили в доме напротив Люксембургского сада, в одной русской семье. Друзья навещали его. Газеты писали, что он «выбрал свободу», и детализировали события в аэропорту. Если бы ему не предложили улететь в Москву, ничего бы не произошло. Его решили наказать за слишком свободное, с точки зрения тех, кто был приставлен к артистам, поведение. Его вещи были упакованы и находились в багаже, отправлявшемся в Лондон. Что из этого вышло, теперь знает весь мир. Надо было начинать новую жизнь.
Борис Львов-Анохин в статье «Блудный сын русского балета» пишет: «Оставшись в Париже, он вступил в совсем новый для себя мир свободы, в мир танца, не ограниченного рамками классицизма и политическими требованиями так называемого «социалистического реализма». На деле «мир свободы» оказался удивительно сложен. Повсюду его сопровождали два детектива. Режим дня был расписан строго по минутам, опасались акций со стороны советских спецслужб: класс, репетиции, ленч в соседнем ресторанчике и дом.

Балетная труппа маркиза де Куэваса, принявшая его к себе, вселяла надежду, что он будет танцевать все, что захочет. Но ситуация, в которой он оказался, только способствовала депрессии, рядом не было Пушкина, не было занятий, к которым он привык, не было привычной дисциплины, создававшей жизнь тела, без которой нельзя было стать идеальным мастером танца. А он к этому стремился. Здесь царили посредственность и дурной вкус, хороших танцовщиков было мало.
Выяснилось, что он очень мало знал о западной жизни и западном балете. Ему казалось, что этот мир великолепен, теперь он столкнулся с реальностью: слабые школы, ремесленное исполнение. Молодой человек становился скептиком. Сразу был заключен шестимесячный контракт с труппой маркиза де Куэваса. 23 июня, через шесть дней после того, как он остался, он уже танцевал Голубую птицу в «Спящей красавице». Месяц назад он танцевал ее с труппой кировского балета на сцене парижской Grand Opera. На следующий день выступил в партии Принца в той же «Спящей красавице». Партнершей Нуреева была Нина Вырубова. То был пролог к будущему. Он становился гражданином западного мира, отрывая себя от того, что было позади. Здесь, в труппе маркиза де Куэваса, все было иначе.
Не было привычной атмосферы, традиций, которые раньше составляли его жизнь. Порой его охватывало отчаяние: не сделал ли он ошибки? Советское посольство переслало ему телеграмму от матери и два письма: одно от отца, другое от Александра Ивановича Пушкина. Пушкин писал ему, что Париж – декадентский город, что если он останется в Европе, то потеряет моральную чистоту и главное – техническую виртуозность танца, что надо немедленно возвращаться домой, где никто не может понять его поступка. Письмо отца было коротко: сын предал Родину, и этому нет оправдания. Материнская телеграмма была еще короче: «Возвращайся домой».
Пройдет двадцать семь лет, и прославленный во всем мире Рудольф Нуреев приедет в Уфу попрощаться с умирающей матерью. Потом, чувствуя приближение собственной смерти, уедет в Ленинград и на сцене Кировского театра станцует «Сильфиду». То будет уже новое время, Ленинград станет Санкт-Петербургом, Кировский театр – Мариинским. Публика в зале безумствовала, а танцевать он уже не мог, и овации относились к прошлому, ко всей его легендарной жизни на Западе, которая началась в тот жаркий июнь 1961 года. В «Автобиографии» Нуреев пишет:
После неприятностей в труппе маркиза де Куэваса я провел несколько дней на юге Франции и вернулся в раскаленный, пустой, прекрасный Париж. В августе мне предстояло танцевать в Довиле, а до этого жизнь была без всяких событий. Единственный человек, которого я встретил за это время, был американский фотограф Ричард Аведон, оставивший о себе неизгладимое впечатление. Он пригласил меня в свою студию и сделал несколько моих портретов. Когда я их увидел, то понял, что нашел настоящего друга, чувствующего мое состояние.
Он танцевал в Довиле, в Биаррице на маленьких сценах в маленьких театрах, вылетел во Франкфурт для выступления по телевидению и затем отправился в Копенгаген, чтобы взять уроки у Веры Волковой. Во Франкфурте он должен был танцевать «Жизель» и «Видение розы» в программе, подготовленной швейцарским балетмейстером Вацлавом Орликовским, партнером Иветт Шовире. На студии были убеждены, что ему знакома хореография фокинского балета, а он его никогда не видел.
Балет, созданный Фокиным во время «Русских сезонов» в театре Монте-Карло в 1911 году, в Советском Союзе увидели только в 1964 во время гастролей национального балета Кубы. Естественно, Нуреев оказался в телевизионной студии в трудном положении. Ему показали несколько фотографий Нижинского и с помощью друзей, объяснивших порядок движений, он станцевал «Видение розы».
Вера Волкова прежде жила в России, в детстве училась в одном классе с Александром Ивановичем Пушкиным у Николая Густавовича Легата (среди его учеников были Фокин, Карсавина, Ваганова, Федор Лопухов), а потом занималась с Вагановой. Волкова была Рудольфу необходима, он мучился, танцуя на маленьких сценах, ему нужны были занятия с теми, кто знает секреты русской школы классического танца, и он отпросился у руководителя труппы маркиза де Куэваса, Раймондо де Лоррейна.
В Копенгаген его тянула мечта встретиться с Эриком Вруном, выдающимся танцовщиком, покорившим русского зрителя во время гастролей Американского балетного театра в 1960 году. Ирина Колпакова однажды в разговоре призналась, что никогда не видела столь совершенного классического танцовщика, как Эрик Брун. Нуреев был увлечен им, его манерой, элегантностью, классичностью его искусства, человеческими качествами. Эрик Брун был старше Рудольфа на десять лет. Фотография Эрика всегда стояла у него на столе. Даже после смерти знаменитого датского танцовщика Нуреев никогда его не забывал, слишком много он значил в его жизни.
Во время гастролей в Ленинграде Американского балетного театра Нуреев находился в Германии, но ему довелось смотреть фильм с участием Бруна. Нуреев говорил, что «Эрик достиг той точки, когда со своим телом можно обращаться как с музыкальным инструментом. Он отличался редкой чистотой танца и никогда не был доволен собой, всегда находясь в поисках новых средств выражения». Для Нуреева он оказался верным другом и помощником, особенно в начале его пути на Западе.

Рудольф Нуреев и Эрик Брюн в танцклассе, 1960-е гг.
Занятия с Верой Волковой разочаровали его, по-видимому, она занималась с Вагановой, когда знаменитый педагог только вырабатывала словарь своей системы. Для Рудольфа это был уже пройденный этап. Он очень ценил искусство Дудинской, Колпаковой, последней вагановской ученицы, с ней он танцевал «Жизель» и следовал урокам партнерш и учителей. От природы Нуреев владел большим шагом, мягкой выразительной пластикой и редкой гибкостью. Пушкин помог ему развить прыжок, укрепить координацию движений. «Пушкин был замечательный педагог, – говорил Нуреев. – Он был способен глубоко проникнуть в характер каждого из своих учеников. Чувствуя их особенности, он создавал для них комбинации движений, рассчитанные на то, чтобы вызвать у них страстное желание работать. Он всегда старался вытащить из нас все, что только было в нас хорошего, никогда не концентрировал внимание только на наших недостатках, не лишал веры в себя, не посягал на наши индивидуальности, не старался их сломать, подчинить или переделать. Он уважал в нас личность, и это давало нам возможность внести в танец собственные краски, которые отражали нашу внутреннюю жизнь. В конце концов, ведь именно личность артиста делает классический балет живым и интересным». Если говорить откровенно, то занятия с Волковой были далеки от того, что он уже использовал в своем танце. Но встреча с ней была полезна. Она была добрым и отзывчивым человеком, и Рудольф очень тепло вспоминал впоследствии о ней. Поначалу он очень нуждался во внимании к себе. Розелла Хайтауэр, болгарка Соня Арова, ставшая знаменитой английской балериной, и Эрик Брун, король мужского танца на Западе, в те годы заботились о нем. Брун подолгу занимался с ним.
Дружба с Верой Волковой привела его к встрече с Марго Фонтейн, ее ученицей. Однажды в квартире Волковой раздался телефонный звонок, Марго Фонтейн просила подойти к телефону Рудольфа и предложила ему приехать в Лондон выступить 2 ноября 1961 года в Королевском театре в гала-концерте. Марго Фонтейн вот уже несколько лет была президентом Королевской академии танца и, начиная с 1958 года, организовывала раз в год гала-концерт. Она мечтала пригласить Уланову, но Галина Сергеевна в декабре 1960 года в последний раз вышла на сцену Большого театра в «Шопениане» и от предложения Фонтейн наотрез отказалась. Теперь Фонтейн решила пригласить Нуреева. Он был польщен. Конечно, ему хотелось танцевать с ней, но она несла обязательства перед своим прежним партнером, английским танцовщиком Майклом Сомсом, и было решено, что Нуреев станцует соло, поставленное специально для него Фредериком Аштоном, и па-де-де из третьего акта «Лебединого озера» с Розеллой Хайтауэр.
Он вылетел в Лондон. Остановился в панамском посольстве – муж Марго Фонтейн был послом Панамы в Англии. «С первой секунды я понял, что встретил друга. Это был самый светлый момент в моей жизни с того дня, как я оказался на Западе», – писал он впоследствии. Лондон произвел на него сильное впечатление. Он приехал под вымышленным именем Романа Джасмина, спасаясь от прессы. В Королевской балетной школе представился как польский танцовщик, но его быстро узнали. В панамском посольстве был дан прием в его честь. Он показался замкнутым, самоуверенным и довольно обаятельным. Выглядел как мальчик, да и было ему 23 года. Выступление в Лондоне стало сенсацией. Это было начало его блистательной карьеры. В зале был «весь Лондон», все знатоки. Фредерик Аштон поставил для него соло на музыку Скрябина. Нуреев поразил энергией и чувственностью. Скрябин имел успех больший, чем па-де-де из «Лебединого озера».
Марго Фонтейн было в это время сорок два года. Когда-то она объявила, что уйдет со сцены в тридцать лет, но с годами это забылось. Теперь она была встревожена проблемой партнера. Майкл Соме ушел со сцены, Дэвиду Блэру, кого она избрала, было 29 лет. С ним она собиралась танцевать «Жизель» в феврале 1962 года. Посоветовавшись с мужем, она решила предложить партию Альберта Нурееву. Рудольф с радостью принял это предложение. Спектакль должен был состояться 21 февраля.
До этого знаменательного события Рудольфу необходимо было выполнить обязательства по контракту, подписанному им с труппой маркиза де Куэваса. Он по-прежнему танцевал в Каннах, ездил на гастроли в Израиль, который напомнил ему, как он писал в «Автобиографии», «южную Украину, было тепло и везде встречались русские, многие приехали совсем недавно». Тогда, в 1961-м, еще трудно было предположить, что эмиграция примет огромный размах. Танцевал он два, иногда три раза в неделю. Репертуар был невелик: «Спящая красавица» и третий акт «Лебединого озера». Его раздражало, что надо было танцевать в театриках-кабаре, расположенных в районе ночных клубов. Израиль сменился Германией. Он танцевал в Гамбурге, выбрав время, чтобы поехать в Мюнхен посмотреть Эрика Вруна, впервые танцевавшего Принца в «Лебедином озере». Сам он на гастролях в Германии встретился на сцене со знаменитой французской балериной Иветт Шовире. Они танцевали «Жизель». Он помнил ее по России, ее «Умирающий лебедь» был незабываем.
Все так складывалось, что ему приходилось танцевать с балеринами намного старше себя. Шовире было сорок три года, Фонтейн – сорок два, впрочем, ему было не привыкать, он танцевал с Дудинской «Лауренсию», когда ему было девятнадцать лет, а ей – сорок девять.

После «Жизели» с Шовире он выехал на гастроли в Италию: Турин, Генуя, Болонья. Стояла зима, в Северной Италии было холодно, неуютно, и ему хотелось поскорее расстаться с труппой маркиза де Куэваса. В Венеции он выступил с ней в последний раз. Город был ослепительно красив, но весь в снегу. Жил он в довольно средненьком отельчике, где не топили, спать приходилось в одежде. Будущее казалось неопределенным. Освободившись от своих обязательств, он стал свободен. Друзья образовали «союз четырех»: Эрик Брун, Соня Арова, Розелла Хайтауэр и Рудольф Нуреев. Концертная группа репетировала в Англии и начала танцевать в Каннах. Затем переехали в Париж, и тут Эрик Брун повредил ногу во время выступления, а ему нужно было вылетать в Нью-Йорк и танцевать с Марией Тачифф па-де-де из балета Бурнонвиля «Цветочный фестиваль в Чинзано» по телевидению. Нуреев его заменил. Он срочно выучил партию и вылетел в США впервые в жизни. Путь от Уфы до Нью-Йорка, в сущности, оказался довольно коротким, не прошло и полугода, как он остался на Западе, а уже сменилось столько стран и людей. Словно на роду ему было написано быть всегда в пути.
В Нью-Йорке его представили Баланчину. В России Нуреев видел его «Аполлона» и «Тему с вариациями», что привозила труппа Алисии Алонсо. В Париже он посмотрел «Симфонию до-мажор» на музыку Визе и «Ночную тень» на музыку Беллини. Спектакли произвели на него сильное впечатление, теперь в Нью-Йорке он увидел «Агон» и ранний «Аполлон Мусагет». Он был во власти искусства Баланчина, его поразило построение: солисты наедине с пустым сценическим пространством. Никакого зрелищно-декоративного ряда. «Строгая дисциплина эмоций» (выражение В.Гаевского). Нуреев сразу почувствовал, что хореограф очень уверен в своих идеях.
Во время своего короткого визита в Нью-Йорк он познакомился и с Джеромом Робинсом, чьи «Клетка» на музыку Стравинского и «Нью-Йорк экспорт опус джаз» своей экспрессией задели его очень сильно. Он полюбил Нью-Йорк, показавшийся ему тихим и уютным. Небоскребы и рядом зеленые кварталы, спокойные улицы в нижней части Манхэттена, сады, площади, доброжелательность. Он был уверен, что вернется сюда. Он никогда не хотел, чтобы его жизнь текла по раз и навсегда установленному руслу, в нем сильно была развита потребность пробовать, исследовать, искать. Ему хотелось ко всему прикоснуться собственными руками, с детских лет он хотел сам определять свой путь.
Тогда, в феврале 1962 года, главным был спектакль «Жизель», который ему предстояло танцевать с Марго Фонтейн. Американский критик Клайв Варне в своей книге «Нуреев» пишет:
Фонтейн никогда не имела абсолютного успеха в «Жизели». Когда ей было 17, она была хрупкой, но ей недоставало художественной зрелости. Теперь, когда она постарела, эта партия не очень ясно вырисовывалась в ее привычном репертуаре. В тот знаменитый вечер 21 февраля она была неожиданной: глубоко чувствующей, восторженной, более содержательной. Было ощущение, что ее карьера может начаться заново с ее новым русским партнером.
Все понимали, что происходит нечто экстраординарное, что зрители присутствуют при зарождении новой балетной пары, которой суждено стать вехой в мире балета. Нуреева сразу пригласили в труппу Королевского балета, чего не удостаивался ни один танцовщик, если он не был гражданином Британской империи. Нинетт де Валуа, мудрейший руководитель Королевского балета, сделала все, чтобы театр стал для русского танцовщика родным домом, к сожалению, в 1963 году она покинула этот пост. Благородство и лирическая сдержанность обычно отличали танец Марго Фонтейн. С Нуреевым она испытала новые чувства. Она говорила: «Когда я танцую с ним, я не вижу на сцене Нуреева, кого знаю и с кем общаюсь каждый день, я вижу сценический персонаж, тот характер, который сегодня танцует Нуреев». Все чувства, которые были характерны для танца Нуреева, – порывы чувственности, гнева, отчаяния, страсти – резко контрастировали с манерой Фонтейн, от этого выигрывал ее танец. Ему она, наоборот, прививала вкус, стремление к гармонии. Их дуэт, известный во всем мире, вдохнул в нее новую энергию, вытянул на поверхность подспудно дремавшие силы, а ему дал возможность стать «первым танцовщиком» на Западе. «Железный занавес» помешал западному зрителю узнать Чабукиани, Ермолаева, Мессерера, Корня в расцвете их таланта, теперь он увлекся Нуреевым. Ни Васильев, в сущности, бывший «первым танцовщиком» Большого театра, ни Барышников, ставший кумиром Америки, не имели, когда танцевали, той славы, какая пришлась на долю Рудольфа Нуреева. Сегодня в любом книжном магазине на Западе можно увидеть громадных размеров альбомы, посвященные Анне Павловой, Вацлаву Нижинскому, Рудольфу Нурееву. А началось все в Лондоне зимой 1962 года.

Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн.
Дуэт Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева прославил их обоих, после «Лебединого озера» в Венской опере в октябре 1964 года их вызывали на сцену восемьдесят девять раз. Рабочим сцены пришлось платить дополнительную зарплату, поскольку они не могли разбирать декорации и задерживались в театре. Каждый порознь не мог
бы добиться того, чего они добивались вместе. На сцене их дуэт был динамитом, взрывавшим зрительный зал. Анна Павлова – символ балета, Карузо – символ певца-тенора. Фонтейн и Нуреев стали «звездами» сами, добившись успеха своим трудом и талантом, но, в отличие от своих великих предшественников, они были любимцами и «мира кафе», толпы тех, кто достаточно богат, чтобы проводить время в «светской жизни». Пресса сравнивала их имена с именами Фрэнка Синатры и Бриджит Бардо.
Но победы давались Нурееву нелегко. Заключая контракт с Covent Garden, он оговорил себе право танцевать не только с труппой Королевского балета. В марте 1962 года состоялся его дебют на американской сцене. С Марией Толчифф он танцевал в США впервые по телевидению, теперь ему предстояло на сцене Бруклинской академии музыки с Соней Аровой танцевать па-де-де из балета «Дон-Кихот». Большого успеха не было. Критики отнеслись весьма прохладно к его выступлению. Нью-Йорк не давался без борьбы. То, что он перепрыгнул через барьер в парижском аэропорту, еще не есть основание завладеть вниманием нью-йоркской публики, – так писала пресса. Но любопытство к нему было велико, вся его закулисная жизнь вызывала безумный интерес. Он становится постоянным гостем колонки сплетен, кто-то назвал его «первой поп-звездой балетного мира». Его влюбленность в талант Эрика Бруна приобрела скандальный оттенок. Они действительно в те годы были очень близки.
Мальчик из Уфы демонстрировал западному миру непривычный для Запада стиль танца. С удивительной легкостью Нуреев воспринимал балетную новизну, но строгий классический танец был абсолютно в его власти.
Школа русского балета, ее достижения были налицо. Природа наделила Нуреева недюжинным умом, очень быстро он стал разбираться в законах западной жизни. Знал, кому и когда надо давать интервью, а кому не надо его давать. Спустя два года после того, как он «выбрал свободу», он уже наловчился по-разному отвечать на вопросы, которые ему задавали журналы Time и Newsweek. Оба хотели поместить о нем большие статьи-интервью. Он понимал, что, если даст интервью одному журналу, откажется другой, поэтому умудрился в один день, в день спектакля, посетить два приема, на обоих встретиться с прессой, и так называемые «кавер сгори» о нем появились одновременно в двух журналах тиражом в пять миллионов каждый. Сенсация была велика. Имя Нуреева входило в зону массового сознания, оно уже не принадлежало только миру балета. Клайв Барнс, известный американский балетный критик, писал, что вряд ли лучше Нуреева кто-нибудь владеет искусством общаться с прессой.
С ним были также связаны и скандалы, они, как известно, входят составным элементом в то понятие, которое обозначается словом «звезда». В 1965 году западный мир облетела весть, что на приеме в Сполето Нуреев швырнул бокал с вином и залил им белую стену. Одни журналы писали, что это было не вино, а виски, стакан с которым он в раздражении бросил на пол, другие подробно описывали, как была залита стена. На самом деле очевидцы рассказывали, что Нуреев случайно уронил бокал. Однажды на приеме в присутствии королевской семьи в Лондоне он танцевал соло, ему жали туфли, он спокойно сбросил их и продолжал танцевать босиком. Этого бы не мог себе позволить ни один танцовщик. Он мог быть очень груб с дирижерами, партнерами, продюсерами, сам поддерживая и подчеркивая слухи, распространяемые об его ужасном характере. Но работал он как вол, и никто в балете не мог сравниться с ним трудоспособностью и профессиональной дисциплиной. Часами он занимался в классе, в репетиционном зале, без устали работая и после спектакля.

Рудольф Нуреев на вечеринке «Мартини», 1965 г.
Нуреев умер 6 января 1993 года, Франция хоронила его. Траурная церемония длилась один час. Солисты Grand Opera подняли гроб по лестнице и поставили его на верхней площадке. Нуреев лежал в гробу в вечернем костюме и в чалме. Во время гражданской панихиды в здании Grand Opera играли Баха, Чайковского, артисты читали на пяти языках Пушкина, Байрона, Гете, Рембо, Микеланджело – такова была его предсмертная воля. Пьер Берже, французский мультимиллионер и владелец фирмы Ив Сен-Лоран, недолгое время бывший директором парижской Оперы, произнес прощальные слова. Похоронили Рудольфа Нуреева под Парижем, на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа. На Западе было прожито тридцать два года. За эти годы его безоговорочно признал мир, балетный, театральный, массовый. Слава его, единственная в своем роде, затмевающая иные имена, после его смерти превратила его жизнь в легенду.
Когда в 1961-м он остался в аэропорту Ле Бурже, от зрелости он был еще далек. За эти годы он стал режиссером балета, хореографом, руководителем балета Opera Gamier. Его карьера шла по нарастающей. Когда пишут, что он приехал на Запад искать свою судьбу, то только искажают реальность. Случай, произошедший с ним по глупой воле тех, кто стоял за спиной Кировского балета, подтолкнул его к тому, к чему он неосознанно стремился, – к совершенствованию. Уже знаменитым танцовщиком он тратил громадные деньги на уроки мастерства и занимался то с Валентиной Переяславец, то со Стэнли Уильямсом в Нью-Йорке. Он умудрился быть знакомым со всеми знаменитостями, членами королевских домов, слыть бонвиваном, любителем ночных клубов, игроком, сибаритом и одновременно, не пропуская дня, стоять у станка, совершенствуя то, что давало на сцене ощущение несравненной художественной свободы. У него был странный режим в еде: он любил бифштекс и сладкий чай с лимоном и ел скорее как атлет, чем гурман. Слухов о нем было гораздо больше, чем знания его подлинной жизни. У него было мало друзей, но те, кто были, пользовались его доверием, хотя по природе он был человек недоверчивый. Говорили, что он капризен, и мало думали о том, как он безжалостно растрачивает себя. Им увлекались Леопольд Стоковский и Жан Маре, Морис Шевалье и Мария Каллас, на спектакли с его участием нельзя было попасть, а он по-прежнему, отдавая дань «светской жизни», работал, поскольку, кроме танца, его не интересовало ничто.

Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн.
Франсуаза Саган в своем небольшом очерке о Нурееве писала, что его дом – это сцена и самолет, что он – грустный, одинокий человек, постепенно растерявший тех немногих друзей, кто был у него.
27 ноября 1963 года в Covent Garden в Лондоне он танцевал «Баядерку», не целиком, а только третий акт – «Тени». Хореография Петипа, в своей собственной редакции. Солор – его лучшая партия. Бешеный темперамент и декоративная импозантность, гордыня и налеты восточной хандры – все соединилось в этой роли. Триумф в Covent Garden проложил следующую ступень в его блистательной карьере. Он выступил в этом спектакле не только как танцовщик, он был его репетитор и постановщик.
Легенда набирала темп. Теперь ему нужно было перед выступлениями в Лондоне и Париже проверять себя на других сценах. Он летал в Вену, в Австралию, танцевал там со своей труппой, а потом выступал на прославленных площадках. Если Баланчин ставил «Раймонду» или «Лебединое озеро», то в программке было написано: «Постановка Баланчина». Когда Нуреев ставил балеты Петипа, то в программке значилось: «Петипа, редакция Нуреева».
При всем уважении Нуреева к Баланчину никогда даже не возникал вопрос о переходе в труппу Баланчина или об участии в его спектаклях как гастролера. Лишь в 1979-м Баланчин поставил балет специально для него – «Мещанин во дворянстве» на музыку Рихарда Штрауса. В Париже и Лондоне Нуреев включил в свой репертуар «Блудный сын», «Агон» и «Аполлон» в постановке Баланчина. На Западе сегодня любят сравнивать Баланчина и Нуреева. Оба окончили одну хореографическую школу, оба танцевали на сцене Мариинского театра, оба оказались на Западе. Разница одна: Баланчин был великий хореограф и довольно слабый танцовщик. Нуреев был великий танцовщик и довольно слабый хореограф. Первую попытку проявить себя как хореограф он сделал в 1966 году в Вене, поставив балет «Танкред» на музыку Ганса Вернера Хенце. Критика писала о «претенциозном символизме», хотя какие-то самостоятельные идеи в нем прощупывались. Спустя десять лет Нуреев поставил собственную версию «Ромео и Джульетты» на музыку Прокофьева, а в 1979 году – «Манфреда». Но, как это часто бывает, стремление стать хореографом не имело успеха, равного его выступлениям танцовщика. Две разные профессии, что трудно признать большим мастерам балета, не знающим, что делать с собой, когда кончается их короткий танцевальный век.

Нуреев был выдающимся классическим танцовщиком, несравненным Зигфридом в «Лебедином озере» и Альбертом в «Жизели», но интригующая новизна модерн-балета притягивала его. Он сам признавал: «Мне было трудно осваивать принципы танца модерн. Классические партии – самые трудные, все время приходится думать о традиции, о том, как их танцевали до тебя. А у танца модерн нет таких твердых канонов, они еще не определились, и в этом смысле исполнителю приходится легче».
Он оказался в Америке как раз тогда, когда модерн-балет начал проникать в репертуар трупп классического балета. Пол Тейлор, например, в 1968 году поставил «Ореол» на музыку Генделя для Королевского датского балета, что было бы решительно невозможно в начале 60-х годов. «Ореол» – первый американский модерн-балет, который Нуреев танцевал с труппой Пола Тейлора в Мексике и Лондоне. Глен Тетли специально для Нуреева поставил «Тристан» и «Лабиринт» на музыку Берио. «Лунный Пьеро» – знаменитый балет Тетли на музыку Шенберга – Нуреев танцевал всегда с огромным успехом. Он выучил «Павану мавра» Хосе Лимона и занимался с Мартой Грэхем. Брал у нее уроки, повторял как ученик каждое движение. Марта Грэхем поставила специально для него «Люцифера» (вместе с ним танцевала Марго Фонтейн) и «Письма Скарлетт», который он танцевал без нее. Марта Грэхем говорила о нем: «Нуреев все так тонко чувствует, так точно воплощает, что, глядя на него, мне кажется, будто я танцую сама. Он блистательный танцовщик, но в нем есть еще что-то помимо этого – только ему присущая индивидуальность. Вот почему никто не может повторить ни одной его роли».
С труппой Марты Грэхем он танцевал балеты «Ночное путешествие», «Клитемнестра», «Экваториал». Был период, когда он пристрастился танцевать модерн-балет. Мюррей Луи поставил для него и на него три балета: «Момент», «Виваче» и «Канарская Венера». Чем больше он взрослел, тем больше хотел танцевать. Его мечта была танцевать шесть-семь раз в неделю, он готов был вести «полнометражные» балеты, а не только танцевать одноактные, что очень принято на Западе. Его менеджер Серж Горлинский организовывал туры с Австралийским балетом, с Национальным балетом Канады, с лондонским «Фестивал балле», и Нуреев танцевал почти каждый вечер с разными партнершами. Со стороны это выглядело как гастроли «звезды» в окружении труппы, поддерживающей танец знаменитости. Все это порождало бесчисленные слухи. Но не танцевать он не мог.
Горлинский иногда организовывал вечера «Нуреев и друзья», программы были разнообразны, Нуреев показывал их в Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже. Очень немного танцовщиков на белом свете способны собирать зрительские толпы. Клайв Варне в книге «Нуреев» пишет: «Имя Майи Плисецкой обеспечивает аншлаги в Париже и Нью-Йорке, но в Лондоне ее не рассматривают как «большую звезду». Нуреев в эти годы был на пике своей популярности не только в Нью-Йорке, но и во всех городах мира. Каждое лето, начиная с 1976 года, Нуреев танцевал в огромном зале Coliseum Theatre в Лондоне в течение нескольких недель. Достать билеты было невозможно».
Его жажда танцевать была беспредельна, многие задавались вопросом: зачем? Ни один танцовщик в мире не танцевал так много, как он, смыслом его жизни был танец, домом была сцена. Он зарабатывал астрономические деньги, стал очень богат, квартиры в Париже, Нью-Йорке, Монте-Карло, остров в Средиземном море, коллекции картин, фарфора, скульптур. Все было заработано ногами. Конечно, можно предположить, что, как все люди, родившиеся в бедности и в бедности прожившие юность, он стремился как бы компенсировать то, чего не было. Но не богатство влекло его на сцену, не богатство заставляло его танцевать каждый вечер. Его пластика таила в себе красоту и загадку, темперамент волновал, танец творил зримые чудеса, и мир рукоплескал ему. Нуреев знал, что век танцовщика слишком короткий, и торопил Время. Жить ему было интересно, когда он танцевал. В этом была разгадка его загадки. Он был истинно романтический танцовщик, воспитанный в Ленинграде, в Кировском балете, где после окончания училища сразу стал солистом и занял ведущее положение в театре.
Время, когда он пришел на сцену, дало миру Владимира Васильева, Юрия Соловьева, Эрика Бруна, Питера Мартинса, Эдварда Виллелу Хорхе Донна, Михаила Барышникова, Энтони Дауэлла. Но Нуреев резко отличен от них. И легендой балета, его мифом он стал не случайно во второй половине XX века.
Он родился в вагоне поезда, который шел вдоль Байкала, 17 марта 1938 года. Отец его был татарин. Он выглядел как татарин, восточная кровь питала его темперамент. В детстве его воспитанием никто не занимался, он был невежлив и не разбирался в тонкостях поведения. У него были три сестры. В юности он дружил с сестрой Розой, в конце 1980-х она приехала к нему в Париж, он подарил ей свою виллу в Монте-Карло, потом они поссорились. После его смерти она судилась с фондом его имени за наследство. Обычная, тривиальная история. Его первой учительницей в Уфе, где он жил в детстве, была Анна Ивановна Удальцова. В семнадцать лет он приехал в Ленинград. Директор Хореографического училища его не любил, но он попал в класс Пушкина и быстро стал овладевать мастерством классического танца. В Ленинграде к нему пришла известность. На его спектакли собирались почитатели. Будущее принадлежало ему. Намерений уехать на Запад у него не было. Конечно, он хотел видеть мир, был рад поездке в Египет с Кировским балетом и Париж воспринял как подарок судьбы. Тупая политика, смазанная коммунистической идеологией и бездарностью тех, кто проводил ее в жизнь, спровоцировала случившееся в аэропорту Ле Бурже. Россию он не забывал. Его «Автобиография», написанная или наговоренная им в 1962 году (она была издана в Англии), полна любви к Ленинграду. В конце жизни, уже очень больным, приближающимся к смерти, он приехал на родину. Был в Уфе, в Ленинграде (теперь уже Санкт-Петербурге), танцевал на сцене Мариинского театра, приезжал не один раз. Незадолго до своего конца встал за дирижерский пульт в Казани, был проездом в Москве, но умирать уехал в Париж. В Россию возвращаться не хотел, тридцать с лишним лет жизни на Западе сделали его «человеком мира». Хотя Россия всегда влекла его, и всегда он помнил, в чем природа его успеха: традиции и русская школа.

Рудольф Нуреев и Михаил Барышников.
Еще в годы, когда каждый выезд за рубеж был событием, прима-балерина азербайджанского балета, в те годы его художественный руководитель Гамэр Алмас-заде рассказывала, как, приехав с труппой Бакинского балета в Монте-Карло, она сразу встретила Нуреева, специально приехавшего посмотреть их спектакли и повидаться с ней. Они были знакомы по Ленинграду, он, один из немногих, знал, что Гамэр Алмас-заде татарка по происхождению.
Он встречался с Васильевым, Максимовой, Плисецкой, Григоровичем, в личном архиве хореографа хранится немало редких фотографий Нуреева во время их встреч на Западе в те годы, когда это было категорически запрещено. Человек Нуреев был трудный, нервный, капризный, его партнерам было с ним нелегко, а ему нелегко с ними. Он быстро забывал обиды, они – нет. Хотя те, кто близко знал его, утверждают, что он был очень застенчивый человек. Просто он всегда был во власти творческих импульсов, и в этот момент был недоступен житейскому, а когда к нему приставали, становился раздражителен и груб.
Годы его партнерства с Марго Фонтейн – зенит его карьеры. Его танец был насыщен психологическими деталями. Он танцевал Принцев как людей с романтическим воображением. Так умела танцевать женские партии в балете только Галина Уланова, ею он восхищался всегда, и, где бы она ни останавливалась, приезжая на Запад, в ее номере отеля всегда стояли цветы, присланные им. Даже в те годы, когда было категорически запрещено общаться с ним, он находил возможность дать Улановой знать, что цветы от него.
«Раймонда», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» – праздник классического танца, когда танцевал Нуреев. Он постоянно создавал свои версии, находил новые интерпретации, кировский балет не отпускал его, сохранялся в памяти. Танец был для него превыше всего.
В личной жизни он был часто уставшим, раздраженным и одиноким, хотя вокруг него всегда толклись какие-то молодые люди, старые дамы, бесчисленные поклонники. Английский язык он выучил, говорил относительно свободно, но с сильным русским акцентом. У него были и прочные дружеские связи с людьми, ими он дорожил, но после смерти Марго Фонтейн, и особенно Эрика Бруна, только сцена пробуждала его. Годы настигали. В 1982-м ему исполнилось уже сорок четыре года, поползли слухи, что он стал хуже танцевать. Но магия сохранялась. На Западе не учат балетных танцовщиков актерскому мастерству, Нуреев был знаком со школой Станиславского. Как человек гениально одаренный, он постепенно переходил на роли, в которых было важно актерское мастерство. Он любил учиться. Эрик Брун был знаменитым исполнителем хореографии Бурнонвиля, был великолепен в балете «Народный рассказ», выступал в роли, в которой не было танцев, но поражал точностью жестов, манерой, создававшей образ некоего народного героя, воплощавшего как бы дух сказок Андерсена. Когда Нуреев танцевал «Сильфиду» в Нью-Йорке с Национальным балетом Канады, критики отмечали влияние Эрика Бруна, хотя для хореографии Бурнонвиля Нуреев был слишком темпераментен, это был не его хореограф. Но романтизм партии сохранялся. «Сильфиду» он танцевал в 1973 году. Теперь, спустя девять лет, он старался выходить на сцену в партиях, где мог бы продемонстрировать артистическое мастерство.

Карла Фраччи и Рудольф Нуреев в балете «Щелкунчик», Ла Скала, 1970—71 гг.
Позади была огромная жизнь на балетной сцене. Что он только не танцевал! «Антигону» в постановке Джона Кранко, балет Макмиллана «Развлечения» на музыку Бриттена, «Симфонические вариации» и «Маргарита и Арман» – балеты Фредерика Аштона. Музыка Листа, на которую Аштон поставил «Маргариту и Армана», вдохновляла Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева, партии были сотканы из острых, смятенных чувств и сказочной красоты дуэтов. Костюмы для этого балета, декорацию делал Сесил Битон. Ни один спектакль, из тех, что Нуреев танцевал с Марго Фонтейн, не имел такого успеха, как этот романтический балет. Много сил танцовщик потратил на «Мещанина во дворянстве». Балет ставил на него Баланчин на музыку Рихарда Штрауса, но в ходе репетиций Баланчин заболел, и Нуреев продолжал работать с Джеромом Роббинсом. Потом Баланчин вернулся к работе и сам закончил балет, который всегда интересовал его. В 1932 году он создал первую версию с Тамарой Тумановой и Давидом Лишиным в труппе Рене Блюма в Монте-Карло по либретто Бориса Кохно. В 1944 году Баланчин вновь ставил «Мещанина во дворянстве» в США, и вот теперь, в 1979-м, по старому либретто Кохно ставил его для Нуреева. Премьера состоялась 8 апреля с Патрицией Мак-Брайд.
Нуреев работал с Бежаром, Роланом Пети. Дуэт Бежара «Песни странника» на музыку Малера он танцевал в Брюсселе в 1971 году со знаменитым итальянцем. Нуреев воплощал ищущий дух, один был в белом, другой в черном трико. В этот же период Нуреев танцевал у Бежара «Весну священную». С Роланом Пети они дружили, ссорились, работали. Жена Пети Зизи Жанмер, известная балерина, закончившая уже танцевать, была другом Нуреева. Из воспоминаний Ролана Пети:
Весна 1989 года. Ужин у Нуреева после представления сцены из «Собора Парижской богоматери» в Grand Opera. Воск со свечей на люстре из русской меди капля за каплей падает в тарелки и жемчужинами застывает на устрицах, которые мы едим. Политическая беседа о карьере танцовщика Распутина и о том, есть ли возможность сохранить место директора Opera Gamier. Я советую ему не оставаться между двух стульев, между Оперой и Бродвеем. Атмосфера теплая и дружеская. Нас окружают картины всех размеров, всех эпох, изображающие Нептунов, Икаров, других мифологических героев, обнаженных и возбуждающих. Когда обед подходит к концу, задуваем оставшиеся свечи и переходим в гостиную пить кофе с травяными настойками. Рудольф облачается в восточный пеньюар, разувается, и, пока гости не решаются говорить о чем-нибудь еще, кроме хозяина дома, он, распростершись на софе в томной позе, массирует свои ступни, в то же время набирая телефонные номера всех четырех частей света, чтобы узнать о состоянии своих дел. 1980-е годы в основном были отданы парижской Grand Opera.
Став руководителем Opera Gamier, он поднял уровень труппы, создал первоклассный кордебалет, поставил немало спектаклей, престиж Opera Gamier при Нурееве стал очень велик. Естественно, его называли диктатором, тираном, не прощали ему резких выходок. Сильвия Гиллем покинула труппу и уехала работать в Лондон. Это потом, после смерти Нуреева, она скажет, что работа с ним была лучшим временем ее жизни, и что она высоко ценит его дар руководителя. Вокруг него полыхали скандалы. Но свой последний спектакль он поставил на сцене Opera Gamier. Это была любимая им «Баядерка». Если быть точным, то спектакль практически ставила Нинель Кургапкина, когда-то танцевавшая с ним в Ленинграде в «Дон-Кихоте» и теперь приехавшая по его просьбе из России работать над спектаклем. Иногда он приходил на репетиции, вернее, его приносили на носилках. На премьере его поддерживали два танцовщика. Ходить он уже почти не мог. Сцена утопала в цветах, а он смотрел на бушующий зрительный зал, полуприкрыв глаза.

За год до смерти он попытался поменять профессию. Когда-то Караян посоветовал ему встать за дирижерский пульт. Его природная музыкальность была экстраординарной. Он стал заниматься, ему очень помогал Владимир Вайс, работавший в Большом театре, а потом, по рекомендации Нуреева, – в Австралии. Нуреев быстро усваивал законы новой профессии. Дирижировал в Вене, Афинах, в марте 1992 года прилетел в Казань и был очень доволен концертом. 6 мая 1992 года он встал за пульт в Metropolitan Opera, дирижировал балетом «Ромео и Джульетта». Очень волновался. Здесь он танцевал много раз. В 1980 году с труппой берлинского балета имел громадный успех в «Щелкунчике» и тогда же показал своего князя Мышкина в «Идиоте» по Достоевскому, балет ставил Валерий Панов. Теперь он дирижировал «Ромео и Джульетту», самая значительная версия этого балета была создана им впервые в Лондоне в 1977 году, а потом в Милане, в La Scala в 1981-м. В 1983-м он стал руководителем Opera Gamier, по паспорту он был гражданин Австрии. Теперь и это было позади. Он дирижировал и понимал, что в зале – друзья, почитатели, успех был большой, а на следующий день Анна Киссельгофф, постоянный обозреватель балета самой влиятельной газеты The New York Times, опубликовала рецензию, найдя добрые слова, из которых было ясно, что событием его дирижирование не стало. В конце мая 1992-го он еще раз полетел в Вену и дирижировал концертом, состоявшим из арий Моцарта и Россини.
Страшная болезнь, ее называют чумой XX века, брала свое. Сил уже не было. Накануне своего сорокалетия – он еще танцевал – он признавался: «Я ведь понимаю, что старею, от этого никуда не уйдешь. Я все время об этом думаю, я слышу, как часы отстукивают мое время на сцене, и я часто говорю себе: тебе осталось совсем немного…» Теперь он уже не танцевал. Уже не дирижировал. Он умирал. Все знали, что он болен. Жил он последнее время только поддержкой публики, готовой аплодировать ему, как только он появлялся на сцене, что бы он ни делал. Из воспоминаний Ролана Пети:
И все-таки я советую ему беречь свои силы. «Я сам хотел, чтобы моя жизнь так сложилась», – отвечает он. Заглянув очень глубоко в его глаза, я пытаюсь ему задать провокационный вопрос: «Но ведь ты умрешь на сцене?» – «А мне больше всего этого хотелось бы», – отвечает он, сжимая мне руку. Голос <…> срывается на полуслове, а я сжимаю свои пальцы, чтобы не выказать всей печали, которая охватывает меня.
Болезнь погубила его. Он умер, когда ему было пятьдесят четыре года. Все газеты мира во всех странах поместили сообщения о его смерти на первых страницах. По телевидению шли его фильмы: неудачный «Валентино», его снимал Кен Рассел, «Выставленные напоказ», где с Нуреевым снималась Настасья Кински. Мгновенно изданные альбомы с его фотографиями сразу исчезли с книжных прилавков. Статьи в журналах следовали одна за другой. В Москве «Дягилев-центр» провел вечер его памяти, в Уфе в его честь прошли гастроли молодой труппы «Григорович-балет», 17 марта 1993 года Мариинский театр в память Нуреева показал «Сильфиду», а в Хореографическом училище имени Вагановой, теперь, как все у нас, оно называется академией, открыли мемориальный класс имени Нуреева. Никто уже давно не спорит о его великом даре. Судьба его оказалась блистательна и драматична. Он захотел сам построить свою жизнь, и ему это удалось. Для этого у него хватило творческой воли. Без танца он жить не мог. Ни кино, ни дирижерская палочка не были выходом из положения. Сцена вознесла его на необычайную высоту, и он стал символом балета XX века, прижизненной легендой. Мучительная смерть только помогла достроить тот миф, который будет жить и после нас.
Серж Генсбур

Прекрасный Квазимодо
В начале этого года на мировые экраны вышла первая кинобиография Сержа Генсбура Serge Gainsbourg (Vie Heroique) – даже удивительно, что пришлось ждать так долго. Один из самых влиятельных музыкантов всех времен, прославившийся не только талантом, но и скандальным поведением, а также романами с самыми яркими женщинами своего времени, среди которых были Бриджит Бардо и Джейн Биркин, – его жизнь давно просилась на экраны. Фильм снял по собственному графическому роману Джоан Сфар: главную роль исполняет обладатель типичного «генсбуровского» носа Эрик Элмоснино, а его возлюбленных играют Петиция Каста, Анна Муглалис и Люси Гордон, которая покончила с собой, не дождавшись премьеры. Разрушительный гений Генсбура, не дававший ему покоя при жизни, не оставляет в покое его поклонников и теперь.
Он был невероятно талантлив – как в умении из воздуха поймать мелодию, которую будет петь весь мир, так и в мастерстве саморазрушения. Французы любят его за его прекрасную музыку и поэзию, обогатившую французский язык. Англичане – за то, что он не стеснялся учиться у них и учить тому же весь мир. Американцы любят его за все – они вообще без ума от ужасных и талантливых мужчин, особенно если они уважают американскую музыку, а их самих обожают женщины. Русские же ценят его загадочную душу, и относительно русские корни.
Как любят писать биографы, свой талант Генсбур, чье настоящее имя было Люсьен Гинзбург, впитал с молоком матери, в котором радость творчества смешалась с горечью изгнания. Его отец, уроженец Одессы Иосиф Гинзбург, обучался музыке в Петербурге и живописи в Москве, но, спасаясь от пожара Октябрьской революции, сбежал в Крым. Здесь он встретил свою будущую жену – певицу Ольгу Бессман, которая разделила с ним не только любовь к музыке, но и тяготы эмиграции: в 1919 году Гинзбурги покинули Россию, чтобы через Стамбул и Марсель добраться в конце концов до Парижа. Ольга пела, а ее муж играл на пианино по барам и кабаре: живопись, как не приносящую дохода, он совсем забросил. У пары родился сын Марсель, затем дочь Жаклин. Биографы вспоминают, что Ольга, пережив раннюю смерть сына, не хотела больше детей, и даже решилась на подпольный аборт, однако вид зловещих инструментов в темном подвале был столь ужасен, что она сбежала оттуда. В результате 2 апреля 1928 года в Париже на свет появились сначала девочка, названная Лилиан, а затем ее брат Люсьен Гинзбург – тот самый, который через много лет станет известен миру как Серж Генсбур.
С ранних лет все дети Гизбрургов учились играть на пианино. Уставший от кабаретных мелодий Иосиф возвращался домой и часами играл детям классиков – Скарлатти, Баха, Дебюсси, Шопена, Гершвина… Великая музыка была тем воздухом, которым учился дышать Люсьен. Когда Францию захватили немцы, она осталась единственным отзвуком прежней свободы: как евреи, Гинзбурги носили желтую звезду Давида («Я вырос под счастливой звездой», – говорил позже Серж) и не имели права работать. Оккупацию они пережили, сбежав по поддельным документам в провинцию – да и там во время немецких облав приходилось отсиживаться в лесу.

С детства Люсьен, как когда-то его отец, не мог решить, чему он отдаст свою жизнь – музыке или рисованию. Поначалу побеждала живопись: с тринадцати лет он, параллельно с обучением в колледже Кондорсе, занимался в академии живописи на Монмартре, а после учился у многих прославленных художников того времени – среди его учителей был сам Фернан Леже.
Не оставлял он и занятия музыкой. Часто пишут, что ребенком Люсьен был очень застенчив, и, чтобы преодолеть этот недостаток, отец брал его с собой на работу, где чуть не силой заставлял играть перед публикой. Со временем Люсьен научится прятать смущение под цинизмом, а застенчивость под дерзостью, однако именно застенчивость и в какой-то мере стыд – юноша стыдился своей внешности, слабого голоса, недостаточного таланта, даже имени – стали движущими силами всей его жизни, которые привели в конце концов на вершины славы, но полностью разрушили его самого.
В 1947 году Люсьен встретил первую любовь – Елизавету Левицкую. Она была создана для него: как и Гинзбург, Лиза была дочерью русских эмигрантов, обожала живопись и готова была жить с Люсьеном по дешевым отелям, как настоящая богема, и к тому же она, в отличие от него, была по-настоящему красива. Они прожили вместе десять лет. Наличие официальной подруги заставило Гинзбурга принять окончательное решение, чем заниматься дальше: по совету отца он выбрал музыку, которая давала больше денег, а все картины сжег. Это был первый, но далеко не последний случай его «частичного самоубийства».
Отслужив в армии и научившись играть на гитаре, Люсьен стал писать свои первые песни, которые исполнял по ночным клубам. Он всегда садился в тени, чтобы публика не пугалась его лица, а когда к нему подходили слишком близко, огрызался. «Людей я стеснялся, и это чувство скованности толкало меня на защитные выпады, – писал он. – Я принимался разглядывать их ледяным взглядом, вызывая у них то же чувство неловкости». В 1954 году он под именем Жюльена Гри начал писать песни для других, а через два года придумал себе более простой и эффектный псевдоним – Серж Генсбур: написание своей фамилии он изменил так, чтобы французы больше не путались в произношении, а имя сменил на «более русское» – Люсьен же, по его мнению, подходило больше для парикмахера, чем для музыканта. Однако несмотря на свою весьма нестандартную внешность, Серж явно обладал определенным шармом: от женщин у него не было отбоя – как он любил потом рассказывать, за вечер он мог «воспользоваться» пятью поклонницами. Неудивительно, что Елизавета в конце концов собрала вещи и сбежала.
В 1958 году Генсбур выступал в кабаре Milord d’Arsouille, где его заметил сначала Борис Виан – прославленный писатель, поэт и между прочим музыкант и критик. Такой же эпатажный эстет, каким мечтал стать Генсбур, Виан с ходу оценил талант – и уже через пару месяцев Генсбур выпустил свою первую пластинку, а Виан написал о нем восторженную статью. На обложке диска был помещен не менее восторженный отзыв Марселя Эмме, однако, кроме самой утонченной богемы, пластинку так никто и не оценил: Генсбур получил за нее приз Академии Шарля Кро – французский аналог «Грэмми», однако продано было всего несколько сот экземпляров.
Зато на Генсбура обратили внимание исполнители с именем: за следующие десять лет его песни исполняли Мишель Арно, Жюльетт Греко, Петула Кларк, Бриджит Бардо, Ив Монтан, Далида и сама Эдит Пиаф. «Я вывернул наизнанку свою куртку, когда увидел, что у нее подкладка из норки», – сказал об этом Генсбур. Когда в 1965 году юная Франс Галль, выступавшая от Бельгии, победила с его песней на Евровидении, он в мгновение ока стал самым модным композитором в Европе, однако его собственные пластинки распродавались плохо. Говорят, ему предлагали тур по всей стране, однако Серж отказался: появляться во всей сомнительной красе перед зрителями после того, как его песни пели прекрасные женщины – для него это было слишком.

Серж Генсбур и Франс Талль, январь 1967 г.
Свою боязнь публики он лечил тем, что постоянно стремился попасть в центр скандала. Хотя к этому времени Серж был уже год как женат на красавице-аристократке Франсуазе-Антуанетте Панкрацци (которая всегда называла себя Беатрис) и даже родил с ней дочь Наташу, ходили упорные слухи о том, что Франс Галль, которой было всего шестнадцать лет, была его любовницей. Серж не мог упустить такой шанс: он написал для Галль песню «Леденцы», пользовавшуюся немалым успехом, а затем объяснил публике и самой Франс, что вообще-то имел в виду не конфеты, а оральный секс. После этого Галль несколько лет не выступала во Франции, а Серж приобрел славу эротомана и циничного шутника. Но хотя женщины по-прежнему вились вокруг него стаями, он сам начал строить из себя женоненавистника: как он объяснял, ревность Беатрис почти довела его до импотенции. Они развелись в начале 1966 года, однако расстаться сразу не смогли: последствием краткого примирения стал родившийся через два года сын Поль, который, правда, никогда не видел отца.
В октябре 1967 года он пообедал с Бриджит Бардо: Генсбур готовился к телешоу и хотел, чтобы Бардо спела что-нибудь из его песен. Она попросила его написать ей самую красивую песню о любви, и, как гласит легенда, за одну ночь он написал их три, и все позже стали суперхитами. Несмотря на то, что Бардо была замужем (на тот момент за миллионером Гюнтером Саксом), а Серж ненавидел женщин, между ними вспыхнул необыкновенно страстный роман, немедленно раздутый журналистами, всегда тщательно следящими за Бардо, в «связь года»: о любви между Квазимодо, как называли Генсбура, и секс-богиней взахлеб писали газеты по обе стороны океана. Сама Бриджит позже писала: «То была безумная любовь – такая любовь бывает только во сне, любовь, которая останется в памяти…» Сначала они на несколько дней заперлись в его гостиничном номере, а затем перешли в студию.

Серж Генсбур и Бриджит Бардо, 1967 г.
Бардо и Генсбур записали вместе несколько прекрасных песен, наполненных страстью и нежностью, вместе выступили в телешоу, вместе выбрали для Сержа дом на рю Вернель – все стены в квартире Серж окрасил в черный цвет, а вместо зеркал, которые он ненавидел, развесил портреты Бриджит. Сон был прекрасен, но уже через три месяца наступило пробуждение: Бардо уехала на съемки в Андалузию, а Серж остался один среди ее портретов. От депрессии он всегда знал только один выход, зато в три двери разом: алкоголь, работа и женщины. Для Бардо он еще напишет не одну песню, и все они будут необыкновенно популярны. Позже она скажет о нем: «Генсбур – это всегда два в одном: лучший и худший, белый и черный, тот, кто видел себя принцем, а стал Квазимодо, трогательный или отвратительный – в зависимости от его или нашего состояния. В глубине этого существа, робкого, хрупкого, агрессивного, прячется душа поэта, полная правды, нежности, цельности». Сам Генсбур в ее честь запишет альбом с лаконичным названием Initials В. В. – и пока одни будут обвинять Сержа в самопиаре за счет Бардо, другие будут плакать под продирающие до глубин души песни о любви и одиночестве…
Портреты Бардо с его стен сняла двадцатилетняя Джейн Биркин – утонченная англичанка, в чьих жилах кровь аристократов смешалась с артистическим огнем, та самая, для которой через двадцать лет мастера Hermes придумают легендарную сумку. Похожая на истощенного подростка большеглазая Джейн уже успела родить дочь от композитора Джона Барри и сняться обнаженной в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». В мае 1968 года Джейн снималась в фильме «Слоган» и на площадке встретилась с Генсбуром, который немедленно пригласил ее на свидание.

Генсбур и Джейн Биркин, 1970 г.
Как вспоминала позже Биркин, сначала он позвал ее потанцевать в ночной клуб, а когда выяснилось, что танцевать Серж не умеет совершенно, их свидание продолжилось сначала в клубе трансвеститов, а затем в отеле Hilton, где Генсбур и вырубился рядом с недоумевающей англичанкой. Наутро он признался ей в любви, и уже скоро Джейн переехала к нему. Она была девушкой его грез: в ней удивительно сочетались утонченность и сексуальность, сдержанность и страстность, хрупкость молодости и искушенность зрелой женщины. Вместе с Джейн Генсбур сделал свою самую знаменитую запись: песню Je t’aime… Мог Non Plus – «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Первоначально песня была написана для Бардо в ту самую ночь и позже записана в разгар их романа, однако Бриджит, испугавшись излишней откровенности текста, упросила Генсбура не публиковать ее. Запись дуэта с Биркин, сопровождавшаяся ее недвусмысленными сладострастными стонами (Джейн всегда утверждала, что сымитировала оргазм перед микрофоном, однако молва настойчиво повторяла, что пара и правда занималась любовью во время записи), немедленно стала суперпопулярной – хотя ее за непристойность запретили к исполнению в Испании, Великобритании, Швейцарии и Бразилии, а папа римский лично осудил композицию в одном из своих посланий. Было продано два миллиона синглов, и с тех пор песню перепели на десятке языков, включая японский.
Джейн и Серж немедленно стали самой «медийной» парой Франции: о них писали и желтая пресса, и серьезные газеты. Первые увлеченно обсасывали публичные объятия парочки, не всегда соблюдающей границы пристойности, пьяные выходки Сержа и сексуальность Джейн, а вторые уважительно обсуждали фильмы, в которых она снималась, и песни, которые он для нее писал. Хотя от природы Биркин не обладала пристойными вокальным данными, Серж сумел – с помощью своих песен, своего таланта продюсера и своей любви к Джейн – за короткий срок сделать из нее не просто признанную во Франции певицу (хотя по-французски она едва говорила), но настоящую культовую фигуру. Сам Генсбур уже давно получил культовый статус: и за любовь прекрасных женщин (один женский журнал даже наградил его титулом «Дон-Жуана года»), и за многогранный талант: Генсбур писал песни и сценарии, продюсировал альбомы, играл в кино – роли были маленькие, но талант несомненен, – и создавал музыку, которую до него во Франции не писал никто: то скрестит традиционный французский шансон с «гладким» британским звуком, то начнет записывать только что придуманные The Beatles концептуальные альбомы, то станет первым шансонье, выступившим с панк-командой – и с успехом выступившим! Именно Генсбур породил стиль franglais — странную, но невероятно живучую франко-английскую помесь в музыке, текстах, а позже и в стиле жизни. А затем он освоил и профессию режиссера, сняв посвященный Борису Виану фильм «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет», где сыграли Джейн Биркин, молодой Жерар Депардье и Джо Далесандро, которого когда-то подобрал на панели и вывел в «звезды» сам Энди Уорхол.

Серж Генсбур и Джейн Биркин.
Но напряжение творчества и страсть к самоуничтожению не отпускали его. После смерти отца в 1971 году Серж запил – если он и раньше не переставая глушил пиво с шампанским вперемешку с мятным ликером, то теперь он практически никогда не бывал трезв. Когда Джейн в апреле рожала их дочь Шарлотту, Генсбур, как рассказывают, сидел в баре напротив больницы и планомерно напивался. В 1973 году он перенес первый инфаркт, но это лишь, по его словам, заставило его сменить мятный ликер на виски. Его поведение становилось все более скандальным: в конце концов он выдумал своего двойника – Генсбарра, на которого и свалил ответственность за все свои выходки. Пока Генсбур писал альбом за альбомом – для Биркин, трио Bijou или собственные, – Генсбарр давал провокационные интервью, инсценировал собственные похороны, гонялся за туристами по парижским улицам или оставлял непристойные граффити на стенах. Генсбарр выступал на концертах в немецкой форме времен Второй мировой, высмеивая неофашистские настроения, за что Генсбур – еврей, носивший в свое время «звезду Давида», – был объявлен антисемитом. И если Генсбур, первым во Франции увлекшийся регги, был первым белым, которому удалось записаться на Ямайке с музыкантами самого Боба Марли, то Генсбарр был тем, кто получил от Марли по физиономии, когда тот обнаружил, что его супруга распевает в компании француза песенки весьма недвусмысленного содержания. В 1979 году Генсбур записал регги-версию национального гимна Франции, вызвавшую неописуемый скандал: особо рьяные патриоты даже избили музыканта на улице, а на его концерте в Страсбурге в первых рядах стояли десятки десантников, готовых по первому сигналу разгромить все вокруг. Кто-то даже сообщил о заложенной в зале бомбе: публика в панике начала покидать зал, музыканты Генсбура отказались выходить на сцену – и тогда он один, отбивая ритм рукой по микрофону, исполнил перед бушующим залом свою «Марсельезу», закончив исполнение известным жестом. Франция пала к его ногам, ибо больше ей ничего не оставалось.

Зато Джейн Биркин ушла от него к режиссеру Жаку Дуайону. Вспоминают, что Серж поначалу устроил дикую сцену, а затем, успокоившись, подвез ее с детьми к отелю, откуда ушел домой пешком – свою машину, как и свое сердце, он тоже оставил Джейн. Несмотря на развод, он продолжал писать для нее – никогда Биркин не исполнит ни одной песни, написанной кем-нибудь другим…

И снова Серж остался один в своем доме с черными стенами. От одиночества его спасала Катрин Денев (она всегда утверждала, что это была просто дружба между мужчиной и женщиной, слухи раздвигали границы этой дружбы далеко за порог спальни Генсбура), от тоски – алкоголь, от ужаса перед жизнью – работа. В 1980 году выходит единственный роман Генсбура «Евгений Соколов», и в том же году начинается его последний роман, с двадцатилетней певицей Бамбу, настоящее имя которой было Каролина фон Паулюс – она была внучкой знаменитого фельдмаршала и дочерью китайской аристократки. Один из приятелей Сержа вспоминал, что в Бамбу его привлек то факт, что она была наркоманкой: ему стало интересно, как можно так саморазрушаться. Сам он, несмотря на все курсирующие слухи, травил себя исключительно алкоголем и табаком, выкуривая в день по нескольку пачек знаменитых с тех пор Gitanes. Однажды его старому другу сказали, как это ужасно, что Генсбур так разрушает себя наркотиками. «Самое ужасное, что он этого не делает», – ответил тот. Генсбур женился на Бамбу, записал с ней альбом и родил сына Люсьена по прозвищу Лулу – так когда-то мать называла самого Генсбура.

Серж с дочерью Шарлоттой, 1986 г.
В восьмидесятые Серж Генсбур – уже настоящая живая легенда, воплощавший разом и дух отжившего прошлого, и полное страсти будущее. Полуразрушенный алкоголем, небритый и немытый, одетый то ли как клошар, то ли как богемный денди в вечный черный костюм с мятой рубашкой и белые ботинки Repetti без носков, престарелый и еще более некрасивый Серж был обожаем ровесниками и уважаем молодежью, видевшей в нем культурного героя – в высшем смысле слова истинного универсального гения, символ духовной свободы. Он знал, что говорил, когда заявил журналистам:
«Я во всем достиг успеха, кроме собственной жизни». Генсбур снял еще три фильма, записал несколько альбомов – как никогда мрачных и депрессивных, – написал материал для Джейн Биркин, Изабель Аджани и Катрин Денев, объездил с концертами всю Францию и даже выступил в Японии. И в то же время, как никогда, жил на грани фола – недаром он любил повторять: «Провокация – это мой кислород». В 1984 году он вместе с дочерью Шарлоттой записал песню с названием Lemon Incest: название по-французски звучит как нечто среднее между «Лимонной цедрой» и «Лимонным инцестом», но чтобы ни у кого не возникло сомнений, Генсбур снял клип, где он обнаженный по пояс валяется на кровати в обнимку с полуголой дочерью – которой, к слову, было всего двенадцать. Неимоверный скандал Генсбур поддержал, сняв дочь в фильме «Шарлотта навсегда»: в нем Шарлотта, к тому времени уже получившая «Сезара» как самая многообещающая актриса, и ее отец вроде бы играют самих себя – переживших трагедию отца и дочь, чья любовь мечется между страданием и сексуальным влечением. Можно было отнестись к фильму только как к мрачной фантазии, но, как говорил сам Генсбур, публике всегда больше нравилось у любой его двусмысленности считать главным тот смысл, который неприличнее. Он, уже признанный достоянием нации, будто старался опровергнуть этот статус, из-за чего вел себя на публике все более вызывающе. На обложку своего альбома Love on the Beat (снова игра слов с неприличным подтекстом) он снялся в образе трансвестита, а для журнальных фотосессий не стеснялся позировать и совершенно обнаженным – это он, который всегда считал себя уродом. Вошло в легенду, как он в прямом эфире сжег пятисотфранковую купюру (между прочим, уголовное преступление), протестуя против высоких налогов, или во всеуслышанье заявил молодой Уитни Хьюстон: I wanna fuck you! Если, по словам биографов, в молодости он не замечал моды, позже опережал ее, а потом создавал моду, то в последние годы Серж Генсбур стал выше любых тенденций и веяний, представляя из себя законченный тип Enfant Terrible и гениального творца в одном лице. Именно с него рок-музыканты (да и представители других стилей) по всему миру до сих пор копируют манеру поведения, гардероб и алкогольный угар, вот только талант Генсбура так просто не скопировать…

«Провокация – это мой воздух!» – повторял Генсбур.
Девяностые он встретил за работой над альбомом Ванессы Паради. Но его время уже подходило к концу: он скончался 2 марта 1991 года в полном одиночестве, в своей черной квартире от пятого инфаркта. Как и Борис Виан тридцать лет назад, он забыл принять таблетки.
После государственного трехдневного траура Сержа Генсбура похоронили на кладбище Монпарнас – там были все, кого он когда-то любил и кто любил его, кроме Бриджит Бардо: ее друзья две недели не могли решиться рассказать ей о смерти Генсбура. Президент Миттеран в надгробной речи сказал: «Он бы нашим Бодлером, нашим Аполлинером… Он возвел песню в ранг искусства». Могила Генсбура и сейчас одна их самых посещаемых на кладбище: ее легко найти по бутылкам спиртного и пачкам сигарет Gitanes, которые ему до сих пор в изобилии приносят безутешные поклонники.
Майкл Джексон

Жизнь в жанре Thriller
Двадцать пятого июня 2009 года скончался человек, которого давно и заслуженно звали королем. Пусть даже королем поп-музыки. Как и полагается настоящему королю, он скончался накануне своего триумфального возвращения, после череды скандалов, в ореоле слухов и сплетен. В свое время он унаследовал трон музыкального короля от самого Элвиса Пресли – но кто сможет заменить Майкла Джексона? Согласно Книге рекордов Гиннеса, Майкл Джексон был самым успешным исполнителем двадцатого века, и его достижения еще не скоро будут побиты. Самый успешный альбом, наибольшее количество хитов, наград, проданных пластинок, зрителей, фан-клубов, двойников – только в 2006 году он установил восемь рекордов. Он получил «бриллиантовый диск», означающий более 100 миллионов проданных дисков. Его имя дважды занесено в Зал славы рок-н-ролла: как участника группы Jackson Five и за личные достижения. Его влияние на музыкальную культуру огромно – почти у любого исполнителя, в каждом клипе, танцевальном номере можно заметить его находки, в его воздействии на их творчество признаются крупнейшие современные звезды – от Мэрайи Кэри до Бритни Спирс. Каждый его шаг, каждое слово немедленно разносились по миру – казалось, поклонники знали о нем все, но была ли истина в той правде, что повторяли газеты и телевидение? И сколько ее было? По количеству слухов о себе Майкл, без сомнения, мог бы установить еще один рекорд…
Будущий король Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в Гэри, штат Индиана – промышленном пригороде Чикаго. Он был седьмым из девяти детей Джозефа и Кэтрин Скруз Джексон. Кэтрин в детстве переболела полиомиелитом и на всю жизнь приобрела легкую хромоту – когда на нее обратил внимание здоровяк Джозеф, она не раздумывая кинулась в его объятия, не обращая внимания на разговоры о его вспыльчивом и властном характере. Джо мечтал стать музыкантом – у него был хороший голос, он неплохо играл на гитаре, но быстро растущая семья вынудила его отказаться от карьеры ради забот о хлебе насущном: он устроился крановщиком на сталелитейном заводе, а в свободное время играл ритм-н-блюз в собственной группе The Falcons вместе с братом Лютером. Свою творческую натуру Джо выразил в именах, которые давал детям: старших звали Маурин Рейлитт, Зигмунд Эско, Ториано Эдерилл, Джермейн Ла Джон и Ла Тойя Ивонна. Правда, звали их обычно проще – Джеки, Тито, Джермейн… У младших имена были попроще: Майкл Джозеф, Стивен Рэндалл, Дженнет Демита Джо и Брендон, умерший вскоре после рождения.
Джозеф был весьма суровым отцом: больше всего он ценил дисциплину и послушание, которых добивался весьма непедагогичными методами – его дети вспоминали о побоях, унижениях и оскорблениях, которым их постоянно подвергал отец. Марлон рассказывал, как Джо однажды бил его по спине и ягодицам, держа вверх ногами, а Майкл вспоминал, как однажды отец ночью пробрался к нему в комнату через окно – он был в страшной маске и дико ревел. Джо объяснял, что хотел таким образом научить сыновей закрывать на ночь окно, однако Майкла еще долго мучили кошмары по ночам.

Джексоны вставали в пять утра и принимались за работу: мальчики убирали двор, девочки смотрели за малышами и помогали на кухне. После завтрака – школа, а после школы надо снова бежать домой, и не дай бог где-нибудь задержаться – Джозеф терпеть не мог, когда дети ходили в гости или праздно шатались по улицам. «Мы росли не так, как нормальные дети, даже задолго до того, как шоу-бизнес изменил нашу жизнь. Нашу семью трудно считать обычной; было бы точнее назвать ее больной. Конечно, у нас тоже были мгновения любви и счастья, но нравственные и физические страдания, противоречия и ложь перевешивали их», – писала в своих воспоминаниях Ла Тойя Джексон, единственная из семьи, кто написал по-настоящему откровенные воспоминания.
Джозеф мало внимания уделял детям – он лишь устанавливал порядки, а следила за ними его жена. Она-то и обнаружила, что у старших сыновей – Джеки, Тито и Джермейна, – похоже, есть музыкальный талант: в школе они сколотили что-то вроде музыкальной группы и с определенным успехом играют на утренниках. С некоторым трудом она убедила мужа прослушать их – и тот с удивлением заметил, что его сыновья действительно умеют играть. Отныне детство для них кончилось – все свободное от школы время мальчики отдавали репетициям: днем с матерью, вечером – с отцом. Позже Майкл вспоминал, как отец присутствовал на репетициях – с непроницаемым лицом он сидел на стуле, держа наготове ремень: «Если ты не сделаешь все, как полагается, он тебя разорвет. Получишь по полной. Мне доставалось много раз, но я думаю, что мой брат Марлон получал больше всех, потому что ему не так легко было репетировать, и он очень старался». «Отец требовал абсолютного совершенства, – вторила ему Ла Тойя. – Он редко хвалил сыновей, постоянно ругал их и часто раздавал оплеухи».
Сначала в группе, названной The Jackson 5, кроме трех братьев Джексонов играли двое соседских ребят, но уже в 1964 году к братьям присоединились младшие Марлон Дэвид и Майкл. Он вспоминал: «Моя мать однажды застала меня, когда я застилал свою постель и пел. И она сказала отцу, что я умею петь, но он не хотел об этом слышать, он сказал, что главный певец в группе – Джермейн. Мать сказала: «Джо, тебе действительно надо послушать, как он поет». Он сказал: «Нет, в группе поет Джермейн, и точка». Она все-таки заставила его послушать меня, и с тех пор я стал певцом в группе». Поначалу Майкл, которому тогда было всего шесть лет, был призван служить лишь «декоративным украшением» группы: он играл на конго и тамбурине, выступая в роли «резервного» перкуссиониста, но вскоре стал бэк-вокалистом и танцором. Ла Тойа писала, что уже в шесть лет Майкл стал всем заправлять: «Все вертелось вокруг Майкла, и в своем маленьком собственном мире он был уже в то время знаменитостью. Уже тогда у Майкла было ясное представление о том, что такое шоу и презентация.

Группа «The Jackson 5». Впереди Марлон и Майкл, за ними Тито, Джеки и Джермейн.
Когда мы фотографировались, он, шестилетний карапуз, командовал своим тоненьким голоском: «О’кей, Джеки, ты станешь туда, а Жермен станет рядом с тобой». Ни одна деталь не ускользала от его внимания. Мать всегда поручала ему выбирать костюмы для сцены. Пурпурного цвета костюм или черные брюки с белыми рубашками? Самый младший из пяти выбирал – «этот», и всегда оказывался прав»… Он с детства был заводилой, часто проказил, был полон идей, к восьми годам стал лидером The Jackson 5 наравне с Джермейном, а его песни составляли большую часть репертуара группы. В 1966 году группа с Майклом в качестве ведущего вокалиста выиграла местный конкурс талантов – а они были самыми юными участниками, – исполнив популярную песню Джеймса Брауна / Got You (I Feel Good). С тех пор их стали активно приглашать на гастроли: за два года The Jackson 5 объездили весь Средний Запад, выступая по «черным» клубам и стриптиз-барам.

Майкл Джексон в возрасте восьми лет.
Ребята нравились публике – чаевые сыпались рекой, но после концерта всю наличность приходилось сдавать отцу, который выделял музыкантам из заработанной суммы на карманные расходы. Ла Тойя писала, что братья тратили деньги на игрушки, а Майкл покупал сладости и продавал их соседским детям. «Я вырос на сцене, – вспоминал Джексон. – Я вырос в ночных клубах… Я видел, как стриптизерши снимают с себя всю одежду. Видел, как затеваются драки, и люди блюют друг на друга. Видел, как взрослые ведут себя, словно свиньи… У нас не бывало Рождества. Мы не могли приводить друзей на ночь. Мы не ходили в школу, нас учили частные учителя, когда мы были на гастролях. Трудно расти ребенком-звездой. Очень немногие звездные дети смогли стать взрослыми звездами. Это очень нелегко».
Постепенно группа набирала обороты. На одном из выступлений их заметила Дайана Росс, на другом Джексоны познакомились со своим кумиром – Джеймсом Брауном, чьи песни они исполняли и чьим шоу подражали. Браун, выросший в трущобах Атланты и никогда не имевший настоящей семьи, искренне привязался к Джексонам и немало сделал для их карьеры. В 1967 году The Jackson 5 сделали первые записи на местной студии, а уже на следующий год они подписали контракт с лейблом Motown Records — одной их крупнейших студий, работающих с черными музыкантами, и первые же четыре сингла, записанные на Motown, достигли верхней строчки в американском чарте Billboard Hot 100 — результат, доселе немыслимый для начинающей группы, особенно если в ней играют черные ребята. Причем соревноваться им пришлось с синглом The Beatles Let It Be и даже знаменитой «Шизгарой» – песней Venus группы Shocking Blue. Журнал Life писал о них как о «черном чуде», a Look опубликовал статью под названием «Самый горячий ансамбль музыкального мира ложится спать в 10 вечера».
За четыре года The Jackson 5 записали пять успешных альбомов и стали настоящими кумирами цветной молодежи – студию заваливали письмами, адресованными Джексонам, игрушками, признаниями и цветами. Попадались и угрозы, так что всем Джексонам пришлось бросить школу и всюду передвигаться с телохранителями. Как в каждой уважающей себя «мальчуковой» группе, каждый из Джексонов имел свой имидж: Джеки был атлет, Тито – серьезный, спокойный и виртуозный музыкант, Жермен был секс-символом группы, Марлон обаятельным «свойским парнем», а Майкл – вундеркиндом. Интервью братья не давали, студия сообщала любопытным до обидного мало, и журналы пестрели выдуманными биографиями Джексонов, где писали, что они выросли в трущобах, а их родители давно в тюрьме.
Однако Джексоны давно не бедствовали. Они переехали в Беверли-Хиллз, где их соседями были Фред Астор и Фрэнк Синатра, а затем на огромное ранчо Хейвенхерст под Лос-Анджелесом. Джозеф по-прежнему держал сыновей в ежовых рукавицах: даже на гастролях они обязаны были учиться – для этого вместе с ними ездили специально нанятые учителя, и им даже не разрешалось встречаться с девушками: с одной стороны, отец считал недопустимым секс до свадьбы, а с другой – женитьба сильно повредила бы имиджу братьев и их успеху среди молодых девушек. Но, возможно, именно его давление и стало причиной того, что старшие братья рано переженились.
Самым талантливым, харизматичным и артистичным среди братьев считался младший, Майкл, – студия даже была вынуждена говорить, что ему на два года больше, иначе его поклонницы могли почувствовать себя весьма неуютно. Уже в 1970 году Майкл впервые записывается как солист – песня Got То Be There заняла верхнюю строчку в хит-парадах не только США, но и Европы, а в 1971 году выходит его первый сольный альбом, имевший невероятный успех. Он затмил своих братьев, став самым известным чернокожим подростком в мире – при этом его братья совершенно не завидовали ему, понимая, что Майкла любят заслуженно. Зрителей привлекали и его юность, и задор, и необыкновенная танцевальная техника – хотя Майкл подражал Джеймсу Брауну и Джеки Уилсону, результат не был похож ни на что. Но когда Майклу исполнилось четырнадцать, с ним случилась обычная, но от того не менее страшная трагедия: его лицо так расцветилось юношескими прыщами, что он стал похож на жертву оспы. Все дерматологи, к которым Майкла водили, лишь разводили руками – мол, гормональный всплеск, через пару лет пройдет само… Но для мальчика, для которого публичные выступления были образом жизни, такое лицо стало проклятием, к тому же отец и братья не упустили повод поиздеваться над братом. «Это мучительно, думаю, для любого подростка, но если ты звезда и твое лицо не сходит с обложек журналов, этикеток, маек, результат гораздо более плачевный. Мой брат был просто раздавлен, уничтожен», – вспоминала Ла Тойя. Нередки были и сцены, когда поклонники, поджидавшие братьев после концерта, вешались на старших Джексонов, а от Майкла, смывшего толстый слой грима, отворачивались с отвращением. За два года Майкл из общительнейшего мальчика превратился в замкнутого, застенчивого, неуверенного в себе подростка – каким, по словам его близких, оставался до последних дней.
К середине семидесятых успех группы стал падать; братья решили, что виновата в этом их звукозаписывающая компания, ограничивающая их свободу творчества, к тому же финансовые обязательства были явно не в пользу Джексонов. В 1976 году все братья – кроме Джермейна, женатого на дочери продюсера Motown, – перешли на лейбл Epic Records. Освободившееся место занял самый младший из братьев Стивен Рэндалл (Рэнди), а группа стала называться The Jacksons. За следующие восемь лет группа записала еще шесть альбомов и несколько раз объездила всю страну с турне. Параллельно с записями и выступлениями в группе Майкл записал четыре сольных альбома, поучаствовал в фильме Алана Паркера «Багси Мэлоун» – гангстерском мюзикле, где все роли исполняют дети, с юной Джоди Фостер в одной из главных ролей, а в 1978 году вместе с Дайаной Росс снялся в экранизации бродвейского мюзикла The Wiz — негритянской интерпретации «Волшебника страны Оз». Фильм получился неудачным, зато на съемках Майкл вытащил свой выигрышный билет – он познакомился с Квинси Джонсом, продюсером и композитором, который согласился помочь Майклу в сольных записях.
Уже первый альбом, записанный Майклом Джексоном при участии Квинси Джонса – Off The Wall, – моментально разошелся тиражом более 10 миллионов экземпляров, надолго оккупировав верхние строчки хит-парадов. Критики называли альбом «шедевром звукозаписи» и «последней вершиной музыки диско». Диск выдвигался в рекордном количестве номинаций на различные премии – однако получил их до обидного мало. По воспоминаниям Л а Тойи, «Майкл поплакал немного, вскочил, вытер глаза и поклялся: «Больше этого никогда со мной не случится! Я выпущу альбом по самым высоким ценам в истории поп-музыки и завоюю несколько наград. Подождите!»
Альбом Thriller (1982) не просто стал самым успешным, самым продаваемым и самым «призоносным» альбомом в истории – его рекорды не побиты до сих пор: он в буквальном смысле изменил лицо американской культуры. По поводу этого альбома продюсер Квинси Джонс заявил в интервью журналу Time: «Черная» музыка должна была играть вторую скрипку в течение долгого времени, но ее дух – целая движущая сила в поп-музыке, которую Майкл соединил с каждой душой в мире». Отныне творчество черных музыкантов, которое раньше было вынуждено оставаться на задворках внимания публики, вербуя себе поклонников исключительно среди цветного населения, покорило всех, без разбора нации и цвета кожи. Подобный успех не снился даже «первой леди джаза» Элле Фитцджеральд – все-таки высокое искусство джаза не было близко столь широким слоям публики, как диско Джексона. А череда видеоклипов, идущих по молодому еще каналу MTV, не только подогревала интерес к альбому, но и – по единодушному мнению критиков – пробила чернокожим певцам дорогу на телевидение. Майкл Джексон делал не просто видеоиллюстрации к песням – это были настоящие маленькие фильмы, с прологом и эпилогом, снятые в самых разнообразных жанрах, – от фильма ужасов до романтической комедии, от подростковой драмы до гангстерского боевика. Клип на заглавную песню стал самым цитируемым за всю историю телевидения, а за конструкцию использованных в клипе Smooth Criminal ботинок, позволявших наклоняться под немыслимым углом, Джексон получил патент.

Майкл Джексон и Квинси Джонс после вручения «Grammy», 1984 г.
Песня Billie Jean стала самой известной из репертуара Майкла, а его выступление с нею на юбилее Motown, где он, в расшитом золотом жакете (который его сестра когда-то купила матери) и узких черных брюках, немного ему коротковатых, впервые представил свою знаменитую «лунную походку», стало одним из самых значительных событий в истории музыки. Так началась эра Майкла Джексона, которой суждено было продлиться еще два десятка лет. В своих клипах он представал не просто актером и прекрасным танцором, но неземным человеком, волшебным существом, необыкновенным и загадочным. Элементы его образа стали невероятно популярными во всем мире, породив не только волну подражаний, но и став модными трендами на долгие годы. Сначала – во времена Thriller — это были узкие черные брюки с белыми носками (белые носки делали заметнее движения ног), расшитый золотом пиджак в стиле «милитари» и одна перчатка без пальцев, или «гангстерский» костюм, шляпа-«федора» и повязка на рукаве, позже, с выходом Bad — кожаная куртка в золотых бляхах и полувоенный китель с перевязью и эполетами от дизайнера Кристофера Декарнина из дома Bal-main, затем – все те же черные брюки и расстегнутая белая рубашка на белую майку, или полукосмическая-полумотоциклетная куртка с перевязью крест-накрест, широкий пояс и подчеркнутый гульфик. Автором всех нарядов выступал сам Джексон, зато влияние их до сих пор можно найти в коллекциях почти всех ведущих мировых дизайнеров.
Газеты были полны статей о нем, в которых он представал вечным ребенком, оторванным от реальной жизни, живущим в окружении игрушек и домашних животных. Никому не было интересно, что Майкл очень много работал – хореограф Винсент Паттерсон, работавший с Джексоном, вспоминал: «Майкл часами отрабатывал перед зеркалом свои танцевальные номера, пока они не становились его вторым характером. Так он создал свою знаковую «лунную походку». Когда я говорил ему: хватит, довольно, он отвечал, что видел уличных мальчишек, танцевавших в его стиле, но лучше его! Он не мог стерпеть этого и снова начинал репетировать перед зеркалом до упаду». Мало кто знал, что он был очень любознательным, любил исторические и научно-популярные фильмы, интересовался медициной и анатомией и даже завел себе полную медицинскую библиотеку (купив ее у знакомого врача), муляж человеческого тела со всеми органами и мозг в формалине. «Он полон любознательности и смотрит на жизнь широко открытыми глазами», – писала Ла Тойя. Он, как и все Джексоны, обожал животных – в их доме не переводились собаки, кошки, хомячки, мыши, в Хейвенхерсте появлялись время от времени львята, лебеди, утки, шимпанзе, ламы и змеи, а его любимый шимпанзе Бабблз, когда-то спасенный из клиники, где ставили опыты над животными, даже летал с ним на гастроли.

С любимым шимпанзе по имени Бабблз.
К тому же Майкл был глубоко религиозен – в этом сказывалось влияние его матери, в ранней молодости присоединившейся к секте Свидетелей Иеговы и сумевшей привлечь к вере детей. Майкл оставался верным членом общины, даже достигнув высот популярности, – он не только посещал собрания во всех городах, куда его заносил гастрольный график, но и ходил, как простой прихожанин, по домам нести слово божье, что при его популярности было небезопасно. Совмещать веру и карьеру было довольно трудно: старосты общины выражали явное недовольство и содержанием песен Майкла, и его вызывающим поведением на сцене, а клип на песню Thriller просто заклеймили мракобесным. Своей сестре Ла Тойе Майкл признавался, что его знаменитые «неприличные» движения – поглаживания, хватания за пах, самообъятия – были способами показать миру (в первую очередь отцу и старостам Свидетелей, которые брали его деньги, а на собраниях осыпали проклятиями), что «они не имеют надо мной никакой власти… Я должен был это сделать, чтобы показать всем, что вправе сам собой распоряжаться». В конце концов Майкл порвал со Свидетелями Иеговы, предпочтя религии занятия благотворительностью – по количеству благотворительных организаций, с которыми он сотрудничал (тридцать девять в 2000 году, и позже к ним прибавились еще полтора десятка), и потраченным на благие дела суммам (точная сумма неизвестна, но специалисты полагают, что общий вклад может достигать миллиарда долларов) Майкл Джексон взял очередной рекорд, официально занесенный в книгу Гиннеса.
В 1983 году Майкл Джексон заключил рекламный контракт с «Пепси-колой», принесший ему не только огромные прибыли, но и травму. Во время съемок рекламного ролика, где певец должен был торжественно спуститься по лестнице в окружении фейерверков, режиссер попросил его задержаться на верхней площадке – и по несчастливой случайности именно на этом дубле преждевременно сработал один из пиротехнических зарядов. Майкл получил ожоги головы, в результате которых был вынужден прибегнуть к пластическим операциям. Сколько их было за жизнь певца – одна из самых обсуждаемых тем: сам Майкл подтверждал лишь две ринопластики (одну – в молодости, дабы исправить слишком широкий нос, и вторую – чтобы исправить последствия первой), лечение от ожогов и создание умилительной ямочки на подбородке. Пресса же утверждала, что на теле певца буквально не осталось места, над которым не поработал бы нож хирурга.

Пока он лежал в больнице, пресса муссировала его роман с кинозвездой Брук Шилдс, названной «лицом 80-х». Много лет спустя она рассказывала: «Мне было 13, когда мы познакомились. Как-то получилось, что мы мгновенно стали друзьями. Мы были очень близки именно потому, что секс не был частью наших отношений. Я чувствовала абсолютную невинность, которая была между нами, в то время, когда большинство женщин хотели бы попробовать чему-то научить Майкла в этом плане. С возрастом он стал еще более асексуален для меня».
Про Джексона говорили, что он мессия, что он послан дьяволом, что он принимает наркотики, что он питается лишь кофе без кофеина и салатом, что он спит вместе со своим шимпанзе Бабблзом, и даже что он – инопланетянин, не слишком хорошо замаскировавшийся среди обычных людей-Джексонов. В 2002 году этот слух «подтвердили» создатели фильма «Люди в черном-2», показав Майкла одним из прижившихся на Земле пришельцев.
Все это лишь подогревало ажиотаж вокруг его имени. Билеты на последнее турне The Jaksons «Victory» были раскуплены за считанные дни – и это при том, что тур прославился своей отвратительной организацией и спасло его только участие Майкла. Его синглы один за другим становятся «номером один» в чартах, например, записанная дуэтом с Полом Маккартни песня «Say, Say, Say». С Маккартни Джексона связывала дружба, пока однажды экс-битлз не рассказал Майклу, что большинство доходов он получает в качестве авторских отчислений за имевшийся в его владении каталог песен. Джексон оказался хорошим учеником – в 1985 году он купил контрольный пакет акций компании ATV Music Publishing, владевшей огромным каталогом песен – в том числе большинством песен The Beatles. Маккартни сам хотел выкупить каталог, но у него не хватило денег – сделка была оценена в 47,5 миллиона долларов. По современным оценкам, в последнее время каталог ежегодно приносил Джексону почти восемьдесят миллионов и ныне оценивается в сумму, не в один десяток раз превышающую его первоначальную стоимость.
В 1987 году Майкл Джексон выпустил альбом Bad, а затем отправился в турне в его поддержку – всего он посетил 15 стран, и в каждой выступления проходили с неимоверным успехом. К этому времени Майкл Джексон окончательно был признан «королем поп-музыки» – кстати, так Джексона назвал вовсе не он сам, а Элизабет Тэйлор: однажды на церемонии вручения American Music Awards она, представляя Джексона, вопреки сценарию объявила его как «короля музыки поп, рок и соул». В том же году Майкл снялся у режиссера Френсиса Форда Копполы в трехмерном фильме Captain ЕО: эта яркая космическая фантазия продолжается всего 17 минут, а на ее производство было затрачено около 20 миллионов долларов – итого каждая минута фильма была самой дорогой в истории кинематографа. Картина более десяти лет демонстрировалась в парке Диснейленд, и, по слухам, давно окупила все вложенные в нее деньги. По настоятельным просьбам поклонников Джексона в 2010 году калифорнийский Диснейленд возобновит показ «Капитана Эо».
В марте 1988 года Джексон за 17 миллионов долларов купил в Калифорнии огромный участок земли, который назвал «ранчо Неверленд» – в честь волшебной страны из книг о Питере Пэне – и построил там огромный дом, зоопарк и парк аттракционов, куда постоянно приглашал детей, особенно больных раком. «Бесчисленному количеству неизлечимо больных детей хотелось встретиться с Майклом, – писала Ла Тойя. – Это было их последним желанием. Он навещал этих детей в клинике или дома, или даже приглашал их к нам в Хейвен-херст, где они могли оставаться сколько угодно. Каким счастьем светились детские лица, когда наши маленькие гости узнавали, что они могут посмотреть в нашем частном кинотеатре любой фильм или выбрать любимое лакомство из нашей кондитерской. Майкл уделял им очень много времени: показывал экзотических зверушек, играл с детишками в новые видеоигры. Короче говоря, он делал все, чтобы обреченные дети хоть на какое-то время почувствовали себя счастливыми… Когда Майкл узнавал о смерти одного из детей, он рыдал. Он их по-настоящему любил». Пресса упивалась подробностями жизни «черного Питера Пэна» – особенно когда в клипах к новому альбому стали заметны перемены во внешности Майкла: его кожа посветлела, лицо и нос изменили форму. Сам Джексон утверждал, что это – следствия вегетарианской диеты, здорового образа жизни и постоянного нахождения под софитами. Он даже выпустил свою автобиографию Moonwalk (немедленно ставшую бестселлером), где подробно описывал произошедшие с ним перемены. Говорят, что Дженнет Джексон, младшая сестра Майкла, тоже ставшая к этому времени звездой, предлагала ему несколько миллионов долларов за то, чтобы он не упоминал ее в книге, однако тот отказался. Впрочем, книга не предотвратила появления новых слухов: говорили, что Майкл Джексон спит в барокамере, чтобы сохранить молодость и здоровье (сам он утверждал, что это – последствия одной неудачной шутки, когда его сфотографировали лежащим в музейной витрине), что он воздвиг на своем ранчо алтарь в честь Элизабет Тэйлор (с которой певец был дружен многие годы), что он предложил миллион долларов за кости человека-слона Джозефа Меррика, и еще много чего. В конце концов Майкл высмеял все эти сплетни в клипе Leave Me Alone, где сам Джексон был показан гигантским аттракционом для развлечения досужей публики… Недаром Боб Гелдоф, знаменитый музыкант, однажды сказал о Джексоне: «Это самый известный человек на планете. Помоги ему Господь».
В 1992 году Джексон выпустил альбом Dangerous, сопровождавшийся выходом необыкновенно масштабного клипа Black or White, полного революционной по тем временам компьютерной графики. Однако песня вызвала немало насмешек: строчка «Какая разница, белый ты или черный» дисгармонировала с обликом самого певца, который к этому времени стал совершенно белым. Сам Джексон объяснял столь разительные перемены в его внешности генетическим заболеванием витилиго, при котором из кожи пропадает пигмент. В 1998 году представители нескольких изданий даже осмотрели Джексона на предмет следов пластических операций, однако ничего не нашли и принесли певцу свои публичные извинения. Следом за Black or White был выпущен клип на песню Remember the Time, где спецэффекты были еще более сложными, а в ролях египетского фараона и его супруги снялись знаменитый комик Эдди Мерфи и топ-модель Иман.
В 1993 году тринадцатилетний Джордан Чандлер – один из детей, гостивших на ранчо певца, – заявил о том, что Майкл предпринимал по отношению к нему развратные действия, и его отец предъявил Джексону иск на 20 миллионов долларов. Пресса неожиданно оказалась на стороне Майкла: журналисты раскопали, что Эван Чандлер сильно нуждался в деньгах, и решили, что он просто хотел поживиться за счет богатого певца. В итоге дело было урегулировано во внесудебном порядке (говорят, Джексон просто выплатил Чандлерам запрошенную сумму), однако для Джексона все не закончилось. Из-за судебного дела он был вынужден прервать мировой тур, из-за чего потерял контракт с «Пепси-колой», а его душевное равновесие было серьезно нарушено. Лишь после смерти певца Джордан Чандлер признался, что по настоянию отца солгал ради получения денег, и принес свои извинения семье Джексонов…
В эти тяжелые дни главной опорой Майкла, по его собственному признанию, была Лайза-Мари Пресли – дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли и давняя подруга Майкла. С ней Джексон познакомился еще в 1975 году, когда Джексоны выступали в Лас-Вегасе, и снова начал общаться в начале 1993 года: как рассказывают очевидцы, они ежедневно созванивались и вели долгие беседы. Она не верила обвинениям Чандлеров и сделала все, что могла, чтобы Майкл смог достойно выйти из ситуации. Однажды Майкл спросил, сможет ли Лайза выйти за него. Она была в то время замужем за музыкантом Дэнни Кью, с которым у нее было двое детей. Однако Лайза не только сказала «да» Майклу, но и развелась с Дэнни в рекордно короткие сроки, а уже через две недели она и Майкл Джексон тайно поженились в Доминиканской Республике.

Майкл Джексон и Лайза-Мари Пресли.
Когда об этом стало известно прессе, она буквально сошла с ума: никто не верил, что это брак по любви, и журналисты бросились обвинять Майкла во всех смертных грехах: что он пытается женитьбой скрыть свои педофильские (или гомосексуальные, кому как нравилось) наклонности, что он браком с дочерью Короля хочет упрочить свои права на музыкальный трон, что он просто пытается этой шумихой прикрыться от новых обвинений… Непонятно лишь, что в таком случае надо было от этого брака Лайзе-Мари. Судья Хьюго Альварес, женивший пару, вспоминал: «Вы не представляете, как она на него смотрела. В ее глазах читалась любовь, долгая и бесконечная». Вместе Майкл и Лайза снялись в клипе You Are Not Alone — оба были полуобнажены, а у Майкла даже выросли крылья. Впрочем, уже в начале 1996 года супруги развелись – оставшись друзьями и продолжая встречаться и общаться по телефону. Позже она призналась в интервью журналу Playboy: «Это было глупо, но я поняла это только через год. Он совершенно непривлекателен в сексуальном плане, но что-то в нем было загадочное, и мне показалось, что я влюблена».
По воспоминаниям близких Майкла, одной из причин развода стало нежелание Лайзы иметь детей: «Он настаивал на том, чтобы завести ребенка, но когда я пыталась представить себе его будущее, все, что я видела – это бесконечные суды по поводу опеки над ним», – заявляла она.
В рамках поддержки альбома History: Past, Present and Future, соединившего в себе новые песни с подборкой старых суперхитов, Майкл записал сингл вместе с сестрой Дженнет: к этому времени она уже была суперзвездой и, в отличие от Майкла, ее репутация не была подмочена никакими скандалами. Черно-белый футуристический клип обошелся в семь миллионов долларов с лишним – еще один рекорд, не побитый до сих пор. Через год вышел сборник ремиксов Blood on the Dance-floor — в Европе он пользовался огромным успехом, однако в США прошел почти незамеченным.

Майкл Джексон и Дебби Роу объявляют о своей помолвке, 1996 год.
В ноябре 1996 года, находясь на гастролях в Австралии, Майкл женился вторично – на тридцативосьмилетней ассистентке своего дерматолога Деборе Джейн Роу, причем невеста была на пятом месяце беременности. В феврале родился их сын Майкл Джозеф Джексон-младший (после развода имя изменили на Принс Майкл Джексон), на следующий год Дебби родила дочь, названную Пэрис Кэтрин Майкл Джексон, а еще через год супруги развелись. По поводу детей ходили всевозможные слухи, пока сами родители не подтвердили, что дети появились в результате искусственного оплодотворения. Дебби же рассказала историю их брака: они были знакомы с середины восьмидесятых, и она всегда поддерживала Майкла. Однажды она увидела его сильно расстроенным – по его словам, он переживал, что Лайза-Мари не хочет иметь ребенка. Дебби пожалела Майкла и предложила родить ему детей. После развода дети остались с отцом, как и предполагалось их соглашением, а Дебби получила денежную компенсацию и дом в Беверли-Хиллз. Позднее стали ходить слухи, что ни Дебби, ни Майкл не являлись биологическими родителями Принса Майкла и Пэрис Кэтрин, однако Дебби сумела отстоять свое материнство в суде.

Майкл с новорожденным сыном, 1997 г.
В 2002 году было объявлено о рождении у Майкла третьего сына, названного Принс Майкл Второй – отец обычно звал его Бланкет (т. е. Одеяло). «Это такое выражение, которым я пользуюсь в разговорах с моей семьей, с моими работниками, – объяснял Джексон. – Я говорю: «Ты можешь укрыть меня» или «ты можешь укрыть ее», имея в виду, что одеяло – это благословение. Это способ проявить любовь и заботу». Его мать осталась неизвестной; сейчас говорят о том, что его отцом – как, возможно, и старших детей, – был не Майкл, а его дерматолог Арнольд Кляйн, ассистенткой которого была в свое время Дебби Роу. Но пока ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи никто не смог. Впервые
показывая Бланкета публике – дело было в Берлине, – Майкл, держа сына, протянул руки из окна отеля, что породило новый скандал. Пресса обвиняла Джексона чуть не в попытке выкинуть ребенка с пятого этажа, сам он извинялся, объясняя, что просто хотел показать сына фанатам. Кстати, лицо Бланкета было закрыто салфеткой: Майкл настолько опасался папарацци, возможных похитителей и сглаза, что всех своих детей выпускал из дома исключительно в масках на лицах, да и сам в последние годы чаще всего показывался на публике с закрытым лицом.
С каждым годом шумиха вокруг имени Джексона росла, а интерес к его записям падал. Его песни по-прежнему занимали первые строчки чартов, однако такого ажиотажа, как прежде, не вызывали. И все же факт: Джексон был единственным из звезд восьмидесятых годов, кто успешно продолжал карьеру в девяностые и не потерялся даже в новом тысячелетии. Музыкальный критик газеты New York Times Джеф Лидс писал об этом: «То обстоятельство, что Джексон продолжает пользоваться успехом, несмотря на судебный скандал и странное поведение, является свидетельством того, что он обладает устойчивой и преданной ему аудиторией. Поэтому король будет жить дольше, чем это предполагали многие».
Джексон очень много надежд возлагал на альбом Invincible, однако из-за конфликта со звукозаписывающей компанией реклама альбома была свернута, клипы не снимались и продажи были очень низки. Джексон немедленно развернул против главы корпорации Sony, занимающейся записью и распространением диска, кампанию по обвинению в расизме: хотя Invincible продавался хуже всех альбомов Джексона, эта кампания сильно подняла его репутацию среди цветных американцев.
Однако неприятности на этом не закончились. В 2003 году на него снова подали в суд за сексуальное домогательство к детям: все началось с телефильма британского телевидения, снятого Мартином Баширом, Living with Michael Jackson, в котором можно было увидеть
Майкла, нежно обнимающего за плечи двенадцатилетнего мальчика Гэвина Арвизо. По словам Майкла, Гэвин был болен раком, но излечился – не без финансовой помощи Джексона – и с тех пор часто гостил с семьей в Неверленде, причем мальчик иногда ночевал в спальне Джексона. Через несколько месяцев после выхода фильма семья Арвизо подала на Майкла в суд, обвиняя его не только в растлении, но и спаивании несовершеннолетнего. На ранчо был обыск (причем в процессе обыска имуществу Джексона был нанесен немалый ущерб), а сам певец был арестован, однако вскоре выпущен под залог. Вскоре Джексону «припомнили» еще одни случай возможного совращения, случившийся аж 20 лет назад. Суд длился пять месяцев, и в результате присяжные признали его невиновным (хотя некоторые из них сразу по окончании процесса заявили, что они считают певца виновным, и пообещали написать об этом по книге). Решающими были выступления Элизабет Тэйлор, рассказавшей, что она не раз присутствовала в спальне Джексона, когда там были дети, и никогда не видела ничего неподобающего, и психиатра доктора Каца, который заявил, что психическое и эмоциональное развитие Джексона остановилось на уровне десятилетнего ребенка, так что он никак не подходит под определение педофила.
Устав от травли, которую устроили ему журналисты, Майкл с детьми уехал в Бахрейн по приглашению сына тамошнего короля, шейха Абдулла бин Хамада Аль-Халифа.

Майкл Джексон выступает в суде по делу Гэвина Арвизо, 2003 г.
В Бахрейне Джексон продолжал писать песни и, по собственному заявлению, «никогда не был более доволен и счастлив». К своему пятидесятилетию Джексон переиздал Thriller, выпустил альбом песен на стихи Роберта Бернса и несколько удачных синглов, а в двух десятках стран были выпущены юбилейные сборники, состав песен в которых выбирали голосованием сами слушатели отдельно для каждой страны. Говорили и о выходе нового сольного альбома, однако охотнее журналисты писали об ухудшении здоровья Джексона. Еще в молодости у певца начались проблемы с легкими, мешавшие ему петь, со временем к ним добавились последствия многочисленных травм, витилиго и – по слухам – проблемы с наркотиками. Говорили и о найденном у певца раке кожи, и о необходимости пересадки легкого. Кроме этого, на него один за другим посыпались финансовые иски – от адвокатов, сотрудников звукозаписывающих студий, слуг, и даже от сына короля Бахрейна, которому Джексон – по подписанному втайне контракту на семь миллионов долларов – обещал записать альбом и автобиографию, но так и не сделал. Все это практически привело певца на грань банкротства. Он был вынужден продать часть своих акций и даже заложить ранчо Неверленд. Чтобы поправить финансовое положение – а заодно вновь возвестить о себе как о короле поп-музыки – были запланированы масштабные выступления на лондонской арене 20. Сначала объявили о 10 концертах, однако билеты на них разошлись столь быстро, что число выступлений увеличили до 50, а цену на билеты подняли в несколько раз. Прессе рассказывали, с каким упорством и радостью Джексон репетирует, фанаты всего мира замерли в ожидании 13 июля, когда должен был начаться тур… Но Майкл Джексон не дожил до него.
Утром 25 июня 2009 года Майкл Джексон потерял сознание и упал. Приехавшие по вызову медики обнаружили певца, который уже не дышал. Реанимационные меры результата не дали, и в 14:26 по местному времени было объявлено о смерти короля поп-музыки. Доктора, осматривавшие тело, сообщили, что Джексон был в ужасной форме: изъеденный болезнями, истощенный, отравленный препаратами, которые, по заявлению его продюсеров, должны были помочь ему подготовиться к шоу.
Известие о его кончине привело к настоящим интернет-пробкам на крупнейших поисковых серверах, а все запасы его записей были раскуплены в течение суток. Церемонию прощания, прошедшую 7 июля в Лос-Анджелесе, посмотрели по телевидению более миллиарда человек – в разы больше, чем инаугурацию президента Барака Обамы. Газеты выходили с некрологами на первых полосах. «Мое сердце и сердца детей разбиты. Это такая утрата, которую не выразить словами», – говорила Лайза-Мари Пресли. Поп-звезда Мадонна признавалась: «Я не могу перестать плакать… Я всегда восхищалась Майклом Джексоном. Мир потерял одного из великих, однако его музыка будет жить вечно». А режиссер Стивен Спилберг сказал: «Так же, как не будет другого Фреда Астера, Чака Бери или Элвиса Пресли, не будет никого, кто бы мог сравниться с Майклом Джексоном. Его талант и его тайна сделали его легендой». Известный ведущий CNN Ларри Кинг сравнил смерть Джексона с убийствами Кеннеди и Леннона. Журнал Time выпустил специальный памятный номер с певцом на обложке (последний раз подобный выходил после терактов 11 сентября 2001 года). Конгресс США почтил память Джексона минутой молчания. Поклонники певца собирались на Таймс-сквер в Нью-Йорке, устроили флэшмоб в Лондоне, массово изобразив на улице «лунную походку», а полторы тысячи заключенных в одной из филиппинских тюрем исполнили в честь Майкла танец зомби из клипа Thriller.
Месяц ходили самые разные слухи о том, где же Майкл найдет свое последнее пристанище: говорили, что Майкла похоронят на семейном ранчо под Лос-Анджелесом, или что семья выкупит для этих целей Неверленд и устроит там мемориал, подобный Грейсленду Элвиса Пресли. Были версии, что из праха Джексона по новейшим технологиям сделают алмазы и продадут с аукциона, или что пепел певца будет развеян над океаном – во избежание участи, постигшей Чарли Чаплина и того же Элвиса, чьи тела несколько раз пытались украсть из могил ради выкупа. Журналисты писали, что семья столь долго не предавала тело Джексона земле, чтобы было проще проводить экспертизы, – ходили упорные слухи о том, что кого-нибудь из врачей Майкла могут обвинить в убийстве поп-короля. В официально выданном свидетельстве о смерти в качестве причины гибели указано «убийство посредством инъекции препаратов посторонним».

Дети Джексона на церемонии прощания с Майклом, 2009 г.
Похороны Майкла Джексона состоялись 3 сентября 2009 года – он упокоился на кладбище Glendale Forest Lawn в пригороде Лос-Анджелеса, в «Великом мавзолее», где похоронены такие звезды Голливуда, как Кларк Гейбл, Кэрол Ломбард, Джин Харлоу и Хамфри Богарт.
Согласно завещанию певца, львиная доля его состояния отходит к его матери и детям, солидные суммы достались и благотворительным фондам. Опекунами детей были назначены мать и сестра Дженнет – Дебби Роу, имевшая формальное право претендовать на опеку, отказалась от детей за сумму в несколько миллионов долларов. По оценкам специалистов, даже после выплаты долгов наследство Майкла Джексона приближается к миллиарду долларов, немалую долю из которого составляют авторские права на его песни, в том числе на сотни неизданных композиций.
Все это породило новую волну слухов: от того, что Майкл был убит продюсерами, опасавшимися провала турне, до того, что Джексон инсценировал свою смерть, предпочтя безвестность и покой шоу-бизнесу и долгам, – кстати, то же самое когда-то говорили про Элвиса. Как бы то ни было, после смерти он снова стал столь же невероятно популярен, как когда-то, снова получив ту любовь и преданность, которой ему так не хватало в последние годы. Король умер – да здравствует Король!
Литература
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Жизнь по обе стороны рая
Он остался в истории литературы и как летописец «века джаза» – пышного и трагического десятилетия накануне Великой депрессии, и как его жертва. Он был последовательно воплощением американской мечты и крушения ее надежд. Он воспел свое поколение в романах, полных грусти и любви, но уже скоро никто не нуждался ни в любви, ни в грусти. Казалось, он пережил свою славу, однако уже через двадцать лет оказалось, что слава надолго пережила его…
Фрэнсис Скотт Ки Фицджеральд родился 24 сентября 1896 года в городе Сент-Пол, столице штата Миннесота. Его предками были выходцы из Ирландии – Фицджеральды по отцовской линии и Макквилланы по материнской. Оба его деда прибыли в Америку в погоне за мечтой, оба сделали состояние на торговле, но если Филип Фрэнсис Макквиллан оставил своим пятерым детям наследство в четверть миллиона долларов, то Фицджеральды, успевшие вписать свое имя в историю США (двоюродный прапрадед будущего писателя был автором текста американского гимна, а его многочисленные потомки – видными деятелями в законодательных органах колоний и членами губернаторских советов) денег не нажили. Эдвард Фицджеральд – красавец-щеголь с изысканными манерами и некоторой вялостью выходца из старинного южного рода, окончил университет Джорджтауна, работал в Чикаго и, наконец, перебрался в Сент-Пол, где стал управляющим предприятием по производству плетеной мебели American Rattan and Willow Works. Он влюбился в Мэри, или по-домашнему Молли, старшую из дочерей Макквиллана, однако своенравная девушка, не отличавшаяся ни особой красотой, ни умом, выжидала лучшей партии и не спешила осчастливить самого верного своего поклонника. Когда она, наконец, в 1890 году согласилась стать женой Фицджеральда, ей было уже тридцать лет. Медовый месяц молодые провели на Ривьере. Они произвели на свет двух дочерей и были, казалось, счастливы в своей спокойной и размеренной жизни.
Когда Молли ждала своего третьего ребенка, обе дочери скончались во время свирепствовавшей тогда эпидемии. «За три месяца до моего рождения, – вспоминал позже ее сын, – мать потеряла двух детей. Именно это горе явилось моим первым ощущением жизни, хотя я и не могу сказать точно, каким образом оно ко мне пришло. Мне кажется, что тогда и зародился во мне писатель». Мальчика назвали в честь его прославленного предка – автора американского гимна Скотта Фицджеральда Ки, и мать никогда не уставала напоминать друзьям сына, да и ему самому, что он потомок такого великого человека.
Нет ничего удивительного в том, что Молли обожала своего сына – на долю родившейся через пять лет дочери Аннабел не досталось и половины обрушившейся на Скотти любви. Каждый шаг сына она описывала в дневнике: первое слово «дай», как это следует из дневника, он произнес 6 июля 1897 года, а в три года он спросил: «Мама, когда я стану большим, можно мне будет иметь все, что мне не положено?»

Фрэнсис с отцом.
Уже скоро выяснилось, что бизнесмен из Эдварда Фицджеральда был никудышный: в начале 1898 года его предприятие разорилось, и семье пришлось перебраться в Буффало, где Эдвард устроился в фирму Procter&Gamble. В Буффало Скотти пристрастился к театру – родители его приятеля были дружны с одним из актеров местной труппы, и по субботам Скотти посещал театр, а затем дома заново разыгрывал представление. Он обладал прекрасной памятью, позволявшей ему с первого раза запоминать огромные диалоги, и немалыми актерскими способностями, благодаря которым с помощью подручных средств мог перевоплощаться во всех героев его импровизированного спектакля. Вспоминают, что юный Фицджеральд одевался лучше всех мальчиков в городе: одежду ему покупали не в местном магазине, а заказывали из Нью-Йорка. Его отец тоже был известным всей округе щеголем, а вот мать печально прославилась своей неряшливостью и плохими манерами. В городке ее называли «растрепой Фицджеральд» – она вечно ходила с прической набекрень, в платьях, подобранных без вкуса и надетых кое-как, и к тому же совершенно не умела вести беседу, нередко допуская непозволительные промахи. Так, однажды она заявила соседке, муж которой был тяжело болен (и весь городок из сострадания скрывал этот факт от жены), что пытается представить, как та будет выглядеть в трауре. Ее несообразность вкупе со своеобразной походкой и манерой смешно поджимать губы делала ее объектом насмешек для всей округи. Скотти, который, как и все дети, тонко чувствовал отношение соседей к своим родителям, разрывался между любовью к ним и стыдом. Он пообещал себе добиться всеобщего признания – чтобы никто и никогда не осмеливался потешаться над ним из-за угла.
Скотти увлекался чтением и даже пробовал писать сам, однако по примеру друзей теперь он все больше времени уделял спорту, которого раньше избегал. Его страстью стало регби, его кумирами – знаменитые игроки. И, тем не менее, он был совершенно не похож на спортсмена – хрупкий, изящный юный красавец с тонкими чертами лица, огромными серо-зелеными глазами и копной золотистых кудрей, он, как вспоминали, был совершенно чужд грубости и вульгарности – его отец даже предлагал пять долларов всякому, кто услышит от его сына грубое слово. Он любил танцы, которым обучался в танцклассе, и впервые влюбился в свою партнершу по мазурке Кити Уильяме. Он наслаждался жизнью, и она, казалось, отвечала ему взаимностью.
Однако у его отца дела шли все хуже и хуже, наконец, в марте 1908 года его уволили.
Однажды в полдень, – вспоминал Фицджеральд много лет спустя, – раздался телефонный звонок, и мать подняла трубку. Я не понял, что она сказала, но почувствовал, что нас настигло несчастье… Затем, опустившись на колени, я стал молиться. «Милостивый Боже, – взывал я к всевышнему, – не допусти, чтобы мы оказались в доме для бедных». Через некоторое время вернулся отец. Мои предчувствия оправдались: он потерял место.
Он вспоминал, что его отец, который утром ушел на работу молодым преуспевающим человеком, вечером вернулся сломленным стариком. От полученного клейма неудачника он не смог оправиться до конца своих дней. И его сын чувствовал, что отныне именно на него возложены все надежды семьи – это подстегивало его, но в то же время пугало.
Фицджеральды вернулись в Сент-Пол, где достаточно безбедно жили за счет наследства дедушки Макквиллана. Пока над родителями втихомолку потешался весь городок, Скотти стал одним из самых популярных подростков в своем кругу: его красота, утонченность, обаяние и не по годам развитый ум привлекали к нему друзей всех возрастов. Довольно скоро он уверился в том, что превосходит остальных людей – как в уме, так и во всем остальном. Когда его отдали в местную школу, он старался блистать во всех областях. Мистер Уиллер, один из его преподавателей, вспоминал Фицджеральда как «жизнерадостного, энергичного светловолосого юношу, который еще в школьные годы знал, что ему предначертано в жизни… Он проявлял необычайную изобретательность в пьесках, которые мы ставили, и остался в памяти как сочинитель, вечно декламирующий свои произведения перед всей школой… Именно его гордость за успехи на литературном поприще помогла ему найти свое подлинное призвание». В 1909 году школьная газета опубликовала его первый рассказ «Тайна Рэймонда Мортгейджа», а потом еще три, и с тех пор Фицджеральд окончательно уверился в том, что станет великим писателем. При этом он болезненно жаждал признания, восторгов и славы – и пока ее не удавалось достичь литературой, пытался добиться успеха в спорте. Его данные не позволяли ему блистать в регби, но он брал напором и решительностью, не раз получая травмы в единоборстве с более сильными противниками.
После двух лет школы в Сент-Поле Скотти отправили в Нью-Джерси, в школу Ньюмена, – пансион для детей из респектабельных католических семей. Здесь его ждало жестокое разочарование: то превосходство ума и личного обаяния, которое знал в себе Скотт, никто не оценил, а его успехи в регби были ужасны: после того как он, испугавшись, уклонился от столкновения с противником, его сочли трусом и подвергли настоящему бойкоту. Лишь на второй год Фицджеральд нашел свою нишу: три его рассказа были опубликованы в школьном журнале, он с увлечением писал песни и скетчи для местного драмкружка и, хотя из-за плохой успеваемости ему не позволяли играть самому, с удовольствием режиссировал, готовил декорации и придумывал шутки. В спорте он тоже преуспел: выиграл состязание по легкой атлетике и очень удачно выступил в нескольких матчах. В одном из репортажей победа школы Ньюмена приписывалась главным образом его «резким и неожиданным рывкам».
Летом 1913 года он поступил в Принстон – во многом выбор этого учебного заведения был обусловлен успехами тамошней команды по регби, однако он выбыл из команды уже через несколько дней – по его собственным словам, «ретировался с полупочетом и вывихнутой лодыжкой».
Жизнь первокурсников состояла из лекций, покера, занятий в библиотеке, пьянок, розыгрышей и чтения. Вспоминали, что в то время Фицджеральд почти не пил – его организм плохо переносил спиртное, зато постоянно разыгрывал однокашников. Он стремился попасть в литературные университетские журналы, буквально преследуя редакторов и засыпая редакции нескончаемым потоком стихотворений, эссе, скетчей, рассказов и заметок. Наконец ему удалось добиться первых успехов: он победил в конкурсе на лучший сценарий, а когда университетский театр «Треугольник» гастролировал по соседним штатам, его имя появилось в газетах, которые хвалили «талантливые стихи Ф. С. Фицджеральда». Газета Louisville Post даже писала: «Слова песен написаны Ф. С. Фицджеральдом, которого ныне по праву можно поставить в ряды самых талантливых авторов юмористических песен в Америке». Эти похвалы вскружили ему голову. «Успех «Треугольника», – признавался он позднее одному из однокашников, – самое худшее, что могло со мной произойти. До тех пор пока я неизвестен, я довольно приятный малый, но стоит мне приобрести хоть чуточку популярности, и я надуваюсь как индюк».

Джиневра Кинг.
Однако успехи в учебе были далеко не так блестящи – ему едва удавалось переползать с курса на курс. К тому же он влюбился и стал уделять учебе еще меньше внимания. Его избранницей стала шестнадцатилетняя Джиневра Кинг из Чикаго – красавица-брюнетка, обладавшая репутацией «ветреницы» и «легкомысленной девицы». Все то время, что Фицджеральд считал ее своей девушкой, она была окружена поклонниками и даже не думала скрывать это от Скотта. Наконец ему прозрачно намекнули, что он не пара для столь блестящей девушки (а Джиневра была из богатой аристократической семьи), и они расстались. Фицджеральд остался навсегда ранен этой историей. Неудачное окончание их романа стало одной из причин, по которой Фицджеральд остался на втором курсе на второй год. Университет он так и не окончил – в апреле 1917 года США вступили в Первую мировую войну, и Скотт Фицджеральд немедленно записался добровольцем. Считают, что он сделал это, опасаясь провала на экзаменах; сам он утверждал, что им двигал искренний порыв:
Что касается моего вступления в армию, – писал он матери, – то, пожалуйста, не будем делать из этого трагедии или произносить напыщенных речей о героизме – мне в одинаковой степени претит и то и другое. Я пошел на это совершенно сознательно. Меня не трогают призывы к самопожертвованию ради родины или ореол героя. Я вступил в армию только потому, что так поступили другие… Я никогда не испытывал более приподнятого настроения, чем сейчас.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд во время службы в армии, 1918 г.
Пройдя курс офицерской подготовки, во время которой он больше сочинял свой первый роман, чем думал о премудростях тактики и стратегии, Скотт получил чин лейтенанта и возглавил роту 45-го пехотного полка, а затем его перевели в 67-й полк, расквартированный неподалеку от города Монтгомери, столицы штата Алабама. Фицджеральд, к этому времени уже старший лейтенант, был приписан к штабной роте и, по воспоминаниям, с гордостью щеголял в сапогах со шпорами. Он рвался на фронт, упиваясь мрачными фантазиями о собственной гибели и судьбах поколения: «Если мы когда-нибудь и вернемся, – писал Фицджеральд в письме к кузине Сесилии, – что меня не очень-то заботит, мы постареем в самом худшем смысле этого слова. В конце концов, в жизни мало что привлекательно, кроме молодости, а в старости, как я полагаю, – любви к молодости других».
В июле 1918 года на танцах к клубе Монтгомери он увидел прелестную девушку. Семнадцатилетняя красавица с тонкими чертами лица, золотистыми волосами, огромными темно-голубыми глазами, грациозными движениями и легкомысленным смехом покорила его с первого взгляда – Скотт немедленно подошел и представился. Девушку звали Зельда Сэйр – имя ее мать вычитала в романе про цыганскую королеву. Она была дочерью местного судьи, внучкой сенаторов и потомком самых респектабельных семей южных штатов, умной, избалованной, женственной, взбалмошной, нежной и ветреной, окруженной поклонниками и не стремящейся покорять. Она была преисполнена жажды жизни, радости бытия и легкомысленной смелости, с которой легко отбрасывала все условности и правила. Биограф Фицджеральда Эндрю Тернбулл писал: «Встреча этих двух людей, глубокое родство которых только начиналось с излучаемой ими чистой, нетронутой красоты, была актом волшебства, если не роком. Современники находили, что внешне они похожи как брат и сестра. Но как много внутреннего сходства было в них! Фицджеральд впервые встретил девушку, чья неукротимая жажда жизни оказалась под стать его собственной и чье безрассудство, оригинальность, остроумие никогда не переставали волновать его… К ней влекла не только ее внешность, он безотчетно полюбил глубины ее души». Молодой офицер немедленно стал постоянным гостем в доме Сэйров, часами гуляя с Зельдой по саду или вдохновенно читая ей свои и чужие стихи. «Казалось, какая-то неземная сила, какой-то вдохновенный восторг влекли его ввысь, – писала о тех днях Зельда. – Он словно обладал тайной способностью парить в воздухе, но, уступая условностям, соглашался ходить по земле».
В то время Скотт работал над своим первым романом, который он назвал «Романтический эгоист». Летом он отправил первый вариант романа в издательство Scribner’s. Роман не приняли, однако отзыв о нем был на удивление хорошим. Фицджеральд немедленно кинулся переписывать роман, но вторая редакция была категорически отклонена. Скотт стремился прославиться на фронте – по иронии судьбы, когда его полк уже грузили на корабли, отправку задержали из-за эпидемии гриппа, а затем война окончилась. Он сделал предложение Зельде, однако она тянула с ответом, не будучи уверенной в том, сможет ли Скотт обеспечить ей достойный образ жизни. «Я просто не могу себе представить жалкого, бесцветного существования, – оправдывалась она, – потому что тогда ты скоро охладеешь ко мне». По легенде, она выставила поклоннику условие: она станет его женой, если он прославится.
В феврале 1919 года Скотт был демобилизован. Четыре следующих месяца он провел в Нью-Йорке, упиваясь всеми чудесами этого города. Он нашел работу в рекламном агентстве, а в свободное время обходил одно издательство за другим, пытаясь напечатать хоть что-то из своих произведений, он получил сто двадцать два отказа от издателей, но не собирался останавливаться. Два раза он навещал Зельду, пытаясь уговорить ее на свадьбу, но она была непреклонна и в конце концов, устав от его настойчивости, порвала с ним. Скотт бросил работу и пил несколько недель подряд, пока первого июля 1919 года в США не вступил в силу «сухой закон».
Протрезвев, Скотт взял себя в руки. Он вернулся к родителям и решил сосредоточиться на романе: два месяца он упорно работал, следуя заранее составленному графику, пока, наконец, прежний «Романтический эгоист» не превратился в новый роман, названный «По эту сторону рая». В сентябре книгу приняло к печати издательство Scribner’s: «Книга так разительно отличается от всех остальных, – писал редактор Максвелл Перкинс, – что трудно даже предсказать, как публика примет ее. Но все мы за то, чтобы пойти на риск, и всячески поддерживаем ее».
Упоенный первой удачей, Скотт написал несколько превосходных рассказов, которые тут же купили солидные журналы. В ноябре он снова отправился в Монтгомери, и на это раз Зельда согласилась выйти за него замуж – свадьбу решено было сыграть сразу после публикации романа. Ожидая самого радостного события в своей жизни, – точнее, сразу двух, – Скотт жил в Нью-Йорке, сочиняя один рассказ за другим, а остальное время проводя в попойках с друзьями. Двадцать шестого марта роман вышел из печати, а уже 3 апреля в соборе Святого Патрика Зельда Сэйр и Фрэнсис Скотт Фицджеральд обвенчались в присутствии ближайших друзей. Они обожали друг друга, и им казалось, что впереди их ждет только безбрежное счастье.

Фрэнсис Скотт и Зельда Фицджеральд, начало 1920-х гг.
Много лет спустя Скотт писал дочери: «Я любил твою маму и очень люблю тебя, но наш с нею брак был жуткой, непоправимой ошибкой. Терпеть не могу женщин, воспитанных для безделья». Брак с Зельдой стал счастьем всей его жизни – и он же был его главным проклятием. Зельда, которая, по воспоминаниям, обладала гораздо более сильным характером и гораздо меньшим почтением к установленным нормам, которая не желала считать деньги и оглядываться на окружающих, закружила Скотта в вихре счастливой и беззаботной жизни, где он едва выкраивал силы и время на творчество. Она стала прообразом почти всех его героинь, подавала ему идеи рассказов, через нее он познавал других людей и всю жизнь – и все же она ограничивала его кругозор, заслоняя весь мир своей яркой личностью.

Роман «По эту сторону рая» был неожиданно восторженно принят критикой. Автобиографическое повествование о студенчестве, легкомысленном обществе «фрапперов» и несчастной любви бедного юноши к богатой девушке моментально сделало своего автора знаменитым и богатым. Он был воспринят как манифест целого поколения, гимн молодости и радости жизни. Вслед за романом вышел сборник рассказов «Эмансипированные и глубокомысленные», тоже пользовавшийся огромным успехом, – издательство Scribner’s имело обыкновение сопровождать выход романа сборником рассказов того же автора. Тернбулл писал:
Небезынтересно взглянуть на Фицджеральда в зените его первой славы – счастливее он уже никогда не будет, хотя последовавшие за этим шесть-восемь лет и оказались сравнительно безоблачными. Фавн с вьющимися светлыми волосами, расчесанными на пробор посредине, и полусерьезным-полушутливым выражением лица, он излучал понимание и некое откровение, которые заставляли вас трепетать в его присутствии. Он воплощал в себе американскую мечту – молодость, красоту, обеспеченность, ранний успех – и верил в эти атрибуты счастья так страстно, что наделял их определенным величием. Скотт и Зельда представляли идеальную пару… Вам хотелось уберечь их, сохранить такими, какими они были, надеяться, что идиллия продлится вечно.
Однако идиллической парой фарфоровых голубков Фицджеральды бывали не так часто. Зельда считала, что она живет, чтобы «всегда быть молодой и красивой, всегда развлекаться, веселиться и никогда ни за что не отвечать», а ее супруг был уверен, что ему – молодому, красивому, богатому и знаменитому – можно все. Переполненные радостью жизни, они позволяли себе такие выходки, которые другим не сошли бы с рук. Они были беспрестанно пьяны – и это в период сухого закона! – устраивали дебоши в ресторанах, танцевали на столах, катались на крыше такси, на званых обедах вели себя как невоспитанные дети, кидаясь едой и залезая под стулья, лезли в драки, а то угоняли у уличных торговцев тележки и катались на них по нью-йоркским улицам. По словам биографов, он мог встать на руки посреди вестибюля роскошного отеля – лишь потому, что его имя уже несколько дней не попадало в газеты. Пара быстро прописалась на скандальных страницах светской хроники, став одним из символов «века джаза» – такое название Фицджеральд дал своему второму сборнику рассказов, и так с его легкой руки стали именовать это время. Двадцатые годы отличались такой же динамичностью и непредсказуемостью, как джаз, и такой же скрытой надломленностью и обреченностью. Молодые люди, не ведавшие ограничений, не считавшие денег и не считавшиеся ни с кем, прекрасные эгоисты, полные прекрасных идей и не стремящиеся их воплотить, тратящие жизнь на удовольствия и радости, – такими были герои его произведений, и таким стали считать его самого.
Фицджеральды жили словно в золотом тумане. Когда деньги кончались, Скотт писал рассказ, который печатали в The Saturday Evening Post, и веселая жизнь продолжалась. В начале 1921 года Зельда обнаружила, что беременна. Испуганные своим новым положением, уставшие от нью-йоркской суеты, они решили отправиться в Европу. Они посетили Англию, Францию (где им не понравилось – они плохо говорили по-французски, а парижане тогда еще очень редко знали английский) и Италию, где им не понравилось еще больше, а потом вернулись в Сент-Пол, где 26 октября 1921 года Зельда родила своего единственного ребенка – дочь, названую Фрэнсис Скотт. Говорят, когда Зельда пришла в себя от наркоза, она сказала: «Надеюсь, она станет хорошенькой и дурой, маленькой хорошенькой дурочкой». Скотт обожал свою маленькую Скотти, став одним из самых заботливых отцов. Она одна могла оторвать его от работы над новым романом «Прекрасные и обреченные». Такой же биографичный, как «По эту сторону рая», но гораздо более пессимистичный, роман, повествующий о мучительном браке двух представителей аристократической элиты, легкомысленно и печально растративших свою жизнь и любовь, вышел в 1922 году. Скот признавался, что Зельда внесла немалый вклад в текст романа: он не только списал с нее Глорию – главную героиню, но и получил от нее немало ценных советов: например, концовка была написана по замыслу Зельды. На суперобложке была изображена пара, подозрительно похожая на самих Фицджеральдов, что вызвало немалое неудовольствие Скотта. Критика приняла роман очень тепло, однако продавался он несколько хуже первого: пессимизм и горечь повествования не пользовались особым успехом у публики. Осенью Фицджеральды сняли дом в городке Грейт-Нек на Лонг-Айленде, ставшем своеобразной загородной колонией нью-йоркской богемы, – неподалеку жили, например, знаменитая бродвейская актриса Лилиан Рассел, продюсер и композитор Джордж Коэн, которого называли «человек, который владеет Бродвеем», и создатель знаменитых ревю Флоренц Зигфельд. Фицджеральды надеялись найти здесь тишину и покой, а Скотт – поработать над новым романом, однако бесконечная череда вечеринок и приемов быстро разрушила их планы. Хотя жизнь здесь оказалась весьма полезной для работы Скотта – роман «Великий Гэтсби» был задуман здесь и во многом списан с грейт-некского общества, – она вряд ли была полезной для него самого. Дом Фицджеральдов всегда был полон гостей, рекой лилось спиртное, и жизнь по-прежнему казалась праздником, в котором, однако, уже чувствовались трагические ноты. Фицджеральд, который еще недавно в восторге восклицал: «Если бы вы только знали, как прекрасно быть молодым, красивым и знаменитым», – уже начинал задумываться, что же делать дальше, и пока не находил ответа. Он панически боялся остаться заложником первого успеха, но никак не мог решить для себя, становиться ли ему писателем высокой литературы, не обращающим внимания на продажи и мнения публики, или работать ради высоких гонораров. Писать становилось все труднее: рассказы, которые он писал для The Saturday Evening Post ради денег, изматывали его, не оставляя сил на роман. Он все время был в долгах: хотя год от года его доходы росли, они, а точнее, Зельда, все время тратили гораздо больше, чем он зарабатывал, и это тоже угнетало его. Права на постановку фильма на основе «По эту сторону рая» принесли ему десять тысяч. Половина тут же ушла на оплату долгов, а остальные деньги разошлись неизвестно на что.
Оказавшись в финансовой яме, Скотт заперся в комнате и два месяца без устали писал рассказы, гонорары за которые покрыли все долги. Потом он работал еще несколько месяцев, чтобы обеспечить себе возможность спокойно приняться за роман. Он хотел, накопив денег, уехать в Европу, и закончить «Великого Гэтсби». Зельду уговаривать не пришлось: она всегда была легка на подъем. «Я ненавижу комнату без раскрытого чемодана, – говорила она, – иначе она начинает казаться мне затхлой».
Летом Фицджеральды сняли на Ривьере, в городке Сан-Рафаэль, виллу «Мари». Пока его жена наслаждалась жизнью, Скотт так увлеченно работал, что даже не заметил, как Зельда завела роман с французским летчиком Эдуаром Жосаном. Узнав об этом, Скотт был потрясен: он был искренне уверен в необходимости супружеской верности, и увлечение Зельды его глубоко ранило. По легенде, он устроил ей сцену и на месяц запер в спальне, хотя биографы чаще пишут просто о серьезном разговоре. Как бы то ни было, этот случай в некотором роде пошел Скотту на пользу. Своему редактору Перкинсу он писал: «Я изведал горькие минуты, но моя работа от этого не пострадала. Я, наконец, повзрослел». Его творчество стало глубже, образы мощнее, стиль – более отточенным и легким. Одному из друзей он писал: «Мой роман – о том, как растрачиваются иллюзии, которые придают миру такую красочность, что, испытав эту магию, человек становится безразличен к понятию об истинном и ложном». Он изо всех сил старался создать что-то «новое, необычное, прекрасное, простое и в то же время композиционно ажурное» и был как никогда требователен к себе. Роман «Великий Гэтсби» стал его вершиной, его шедевром. Сам Фицджеральд без ложной скромности писал: «Этот роман, затраченные на него усилия, сам результат придали мне прочности. Сейчас я считаю себя выше любого молодого американского писателя без исключения». Рецензенты рассыпались в похвалах. Гертруда Стайн сравнила Фицджеральда с Теккереем, а Томас Стерн Элиот назвал «Гэтсби» «первым шагом, который американская литература сделала после Генри Джеймса». Однако продажи шли плохо – публика уже не хотела читать о жизни легкомысленных богачей, предпочитая книги «о людях с улицы».

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Зельда и Скотти, Париж, 1925 г.
В мае 1925 года Фицджеральды переехали в Париж. Там они познакомились с начинающим тогда писателем Эрнестом Хемингуэем – еще год назад Скотт прочел несколько его рассказов и был очарован их силой и мастерством. Два писателя быстро подружились, хотя, казалось, у них не было ничего общего, кроме пристрастия к алкоголю и литературе: Хемингуэй воевал, был спортсменом, рыболовом и путешественником, а Скотт уже давно не занимался спортом и не любил «путешествий ради путешествий». Стиль Хэма отличался отточенной лаконичностью и сдержанностью, он восторженно писал о тех самых «простых людях», которых не хотел знать Скотт, в то время как Фицджеральд демонстрировал изящные, словно кружево, сплетенные фразы, и рассказывал о жизни богатых бездельников с грустью и безысходностью. Однако долгое время они почти не расставались. Скотт искренне ценил талант Хемингуэя и сделал все, чтобы его издательство Scribner’s подписало контракт и с Хэмом.
В Париже Фицджеральды познакомились с четой Мэрфи – красивой и богатой парой, обосновавшейся на Антибе и собравшей на своей вилле «Америка» настоящую американскую колонию. Они быстро подружились с Фицджеральдами, особенно выделяя Зельду.
Ее красота была необычной, – писал о ней Джеральд Мэрфи. – Во всем ее облике чувствовалась какая-то сила. У нее были очень красивые, но не классические черты лица, пронзительный орлиный взгляд и пленительно изящная фигура. Она и двигалась изящно. Говорила мягким голосом, с легким южным акцентом, как некоторые – впрочем, я думаю, большинство – южанок. Она ощущала малейшие нюансы своей внешности и потому носила элегантные платья широкого покроя. Поразительное чувство цвета помогало ей выбирать платья, которые ей необычайно шли. На ее голове возвышалась копна прелестных взъерошенных волос, не совсем светлых, но и не каштановых. Мне всегда казалось неслучайным, что ее любимым цветком был пион. Их как раз очень много росло в нашем саду, и всякий раз, когда она приходила к нам в гости, она уносила с собой охапку пионов. Она вечно что-нибудь придумывала с ними. Иногда она прикалывала их к платью на груди, и тогда они еще больше подчеркивали ее красоту.
Скотт восхищался четой Мэрфи, которые воплощали его идеал людей, – и в то же время изводил их своими выходками: то на званом обеде запустил ягодой из десерта в английскую герцогиню, то разбил их любимые бокалы. Захмелев, Скотт вообще выкидывал странные номера: однажды он с приятелем поспорил, можно ли распилить человека пилой – и они решили поставить эксперимент на официанте, которого, чтобы не сбежал, привязали к стулу. Тот едва спасся. Раньше, в Нью-Йорке, такие вещи шли от переполнявшей его радости жизни и сходили ему с рук, а теперь они были разрушительны и вызывали отторжение. Он начал новый роман, но работа шла очень медленно и мучительно, и от этого Скотт страдал еще больше.
Зельда вела себя все более странно. Она могла уйти в себя, не реагируя на происходящее вокруг, начинала без причины грубить или громко смеяться. Ее красота по-прежнему привлекала к ней массу поклонников, но если раньше это радовало Скотта, теперь он явно страдал и иногда словно мстил.
Однажды на веранде ресторана рядом с ними оказалась Айседора Дункан. Фицджеральд подошел к ней выразить свое восхищение. Они разговорились, и, как вспоминают, Айседора стала гладить Скотта по волосам – и тут Зельда встала из-за стола и бросилась в пролет лестницы. По счастью, лестница оказалась невысокой и Зельда отделалась ободранной коленкой. На обратном пути Зельда и Скотт заблудились, выехали на узкоколейку – и заснули, когда их машина стояла прямо на рельсах.
Наконец супруги устали от Франции (а Франция во многом устала от них), и в начале 1927 года они вернулись в США. Сначала Фицджеральды на два месяца отправились в Голливуд: Скотту хотелось попробовать свои силы в новом деле, однако вместо написания сценария он увлекся юной актрисой Луизой Моран – позже он опишет ее в романе «Ночь нежна» в образе Розмэри Хойт. Их отношения так и не пошли дальше легкого флирта, но Зельда так ревновала, что ее выходки поразили даже ко всему привычный Голливуд.
Работа сценариста разочаровала Фицджеральда; его сценарий был отвергнут. Супруги переселились в городок Уилмингтон на берегу Делавера, где продолжали свои выходки, словно по-прежнему были в Нью-Йорке. Он все больше пил, ее характер все больше портился. Ей надоело быть просто женой знаменитого писателя – хотя перед свадьбой она утверждала: «Надеюсь, я никогда не стану настолько честолюбивой, чтобы попытаться создать что-нибудь». Теперь она мечтала сама прославиться: для начала она, давая интервью, стала рассказывать о том, скольким обязаны ей романы Скотта, и однажды даже заявила: «Господин Фицджеральд, по-видимому, считает, что плагиат начинается в семье». Она даже начала писать сама – ей с легкостью удавались рассказы, эссе и пьесы, однако позже она решила, что не стоит соревноваться со знаменитым писателем на его поле, и вместо литературы увлеклась живописью и танцами. Она мечтала стать профессиональной балериной и танцевать в труппе Дягилева, и во имя этой мечты (несколько странной для женщины, впервые занявшейся балетом в двадцать семь лет) была готова заниматься дни напролет. Педагоги говорили, что у нее есть определенный талант, однако Скотт искренне считал занятия жены пустой тратой времени и к тому же обижался, думая, что она не может оценить ни его таланта, ни усилий, которые ему приходится прикладывать, чтобы создать что-то достойное. «Как это ни странно, но мне так и не удалось убедить ее, что я первоклассный писатель, – говорил он. – Она знает, что я пишу хорошо, но не представляет себе, насколько хорошо… Когда я превращался из популярного писателя в серьезного художника, крупную фигуру, она не могла понять этого и даже не попыталась помочь мне». Скотт вымучивал из себя рассказ за рассказом, в то время как его роман почти не продвигался. После относительного успеха «Гэтсби», который, хоть и плохо продавался, был сочтен критиками шедевром, Скотт все время мучился от мысли, что он больше не создаст ничего достойного. Депрессивные настроения поедали его изнутри, и он заливал отчаяние алкоголем. Летние сезоны Фицджеральды проводили во Франции: накануне биржевого краха жизнь там для американцев казалась восхитительно дешевой, веселой и беззаботной, а именно этого не хватало Фицджеральдам. Но Париж не излечил хандру: Скотт продолжал пить, а Зельда с головой ушла в балет, их семейная жизнь разладилась. Все больше портились и отношения Скотта с Хемингуэем: Фицджеральд болезненно ревновал к первым успехам друга, в то время как его собственные остались, казалось, далеко в прошлом. В это время у Зельды произошел первый нервный срыв: в апреле 1930 года ее поместили в клинику «в состоянии большой возбудимости, утратившей всякий контроль над собой». Через неделю Зельда выписалась, но скоро из-за постоянных изнуряющих репетиций снова попала в лечебницу. С диагнозом «шизофрения» она провела несколько месяцев в швейцарском санатории – все это время Скотт жил неподалеку, регулярно выбираясь в Париж, где на попечении гувернантки оставалась Скотти. Он старался сделать все для выздоровления Зельды, даже пробивал в Scribner’s издание сборника ее рассказов, однако сборник так и не вышел. Скотту не разрешалось навещать жену – от одной мысли о муже у нее начиналась экзема – и он умолял врача разрешить ему хотя бы посылать ей цветы. Он чувствовал себя виноватым в ее болезни, и страдал оттого, что ничего не может для нее сделать. В январе 1931 года от сердечного приступа скончался Эдвард Фицджеральд, и Скотт выехал на его похороны, а затем вернулся в Швейцарию. Ему снова приходится напряжено работать, чтобы гонорарами за рассказы оплачивать недешевое лечение жены, – он уже получал за рассказ четыре тысячи долларов, но все равно был по уши в долгах. В июне ее состояние улучшилось, в сентябре ее выписали из санатория, и супруги вернулись на родину. Они хотели провести зиму в Монтгомери, чтобы Скотт, наконец, закончил свой роман, а Зельда побыла с родителями. Судья Сэйр тяжело болел, тем не менее Скотт счел возможным оставить больную жену и умирающего тестя, чтобы на два месяца съездить в Голливуд. Он должен был написать сценарий для MGM, однако и в этот раз ничего не получилось: Зельда засыпала его ревнивыми письмами и рассказами на редактирование, а когда он, наконец, вернулся, у нее снова случился срыв. В балтиморской лечебнице «Фиппс» она, впрочем, провела время с пользой: много лепила, рисовала и, наконец, закончила свой роман, который назвала «Вальс ты танцуешь со мной». Роман она, не сказав ни слова мужу, отправила в Scribner’s. Узнав об этом, Скотт пришел одновременно в ужас и ярость: в романе Зельды было так много от его собственного, еще не оконченного романа «Ночь нежна», и к тому же он сам был выведен в нелицеприятном виде под именем Эмори Блейна (а ведь так звали персонажа романа Скотта «По эту сторону рая»).
Мое появление в написанном моей женой романе в образе бесцветного художника-портретиста, – писал он редактору, – с идеями, почерпнутыми у Клайва Белла, Леже и др., ставит меня в глупое, а Зельду в смешное положение. Эта смесь реального и вымышленного рассчитана на то, чтобы погубить нас или то, что осталось от нас обоих. Я не могу с этим смириться. Я не могу допустить использование имени выстраданного мною героя для того, чтобы отдать глубоко личные факты из моей жизни в руки друзей и врагов, приобретенных за эти годы. Боже ты мой, в своих книгах я увековечил ее, а единственное ее намерение при создании этого блеклого героя – превратить меня в ничтожество.
Скотт заставил Зельду сильно переработать роман; однако одно известие о том, что ее роман приняли к печати, почти исцелило ее.

Семья Фитцжеральдов, 1931 г.
Скотт поселился в Мериленде, чтобы быть поближе к клинике, в которой лечилась Зельда. Он работал над романом, преданно заботился о Скотти, возился с соседскими ребятами и, казалось, впервые за долгое время был относительно счастлив. Дочь стала главным смыслом его жизни, единственной радостью и надеждой. Он воспитывал Скотти в строгости, однако видно было, что он искренне и глубоко любит ее. Зельда проводила время то с семьей, то в клинике «Фиппс». Ее роман вышел, однако распродавался очень плохо; ее пьеса, поставленная балтиморской труппой, провалилась. Она все глубже погружалась в пучину болезни – иногда, впрочем, ненадолго выныривая оттуда прежней беззаботной Зельдой. Глядя на нее, Скотт пил все больше. От этого он все хуже писал, и, получив очередной отказ от когда-то преданного ему The Saturday Evening Post, вновь уходил в запой. Денег катастрофически не хватало. И в такой атмосфере он закончил самый свой, пожалуй, лирический роман «Ночь нежна», его исповедь и любимое, выстраданное дитя. В октябре 1933 года он отправил рукопись в издательство. Через полгода роман был опубликован.
Критические отзывы были разными: одни восхищались талантом Фицджеральда, его проницательностью, яркостью и лиричностью, другие ругали роман за отсутствие в нем следов Великой депрессии, композиционную рыхлость и пессимизм. У публики роман имел короткий успех; уже через два месяца про книгу забыли.

Зельда позирует для обложки своего первого романа.
Фицджеральду казалось, что его существование потеряло смысл: хотя он напряженно и плодотворно работал, как давно уже не удавалось – за несколько месяцев он создал около десяти рассказов, два сценария и предисловие к новому изданию «Гэтсби», – творчество больше не приносило ни радости, ни удовлетворения. Устав от прежних тем и шаблонных сюжетов, Скотт создал серию рассказов на средневековые темы (позже он планировал на их основе создать роман о средневековом рыцаре, который, судя по наброскам, был во многом похож на Хемингуэя), увлекся теорией регби (однажды, в минуты пьяной бессонницы, он предложил систему «двух составов», которая через несколько лет была почти повсеместно принята) и даже собирался прочесть курс лекций в родном Принстоне, однако это предложение было с благодарностью отклонено. Он болел – у него развивался туберкулез, был по уши в долгах и к тому же на пороге отчаяния.
В начале 1935 года Скотт организовал в Нью-Йорке выставку картин Зельды – хотя критики отмечали ее явную творческую одаренность, однако было видно, что с рассудком у нее не все в порядке. Она пыталась покончить с собой, бросившись под поезд, и он едва смог ее удержать. Наконец он вынужден был признаться сам себе, что болезнь Зельды неизлечима. «Я растерял надежду на проселочных дорогах, ведущих к клиникам Зельды», – записал он в своем дневнике. Однако он не переставал любить ее – а точнее, память о том, какой она была, и хотя он счел себя свободным от обязательств хранить супружескую верность (у него даже был короткий, но бурный роман с одной замужней дамой из Мемфиса), он все равно оставался ей преданным.
Наша любовь была единственной в столетие, – говорил он. – Когда в наших отношениях произошел разлом, жизнь потеряла для меня всякий смысл. Если Зельда поправится, я снова буду счастлив и обрету покой. Если нет, я промучаюсь до конца своих дней. Мы с Зельдой были друг для друга всем, воплощением всех человеческих отношений – братом и сестрой, матерью и сыном, отцом и дочерью, мужем и женой.
В сентябре 1936 года скончалась Молли Фицджеральд. Скотт тяжело переживал и ее смерть, и тот факт, что наследство не покрыло даже половины его долгов. Скотт был уверен, что ему осталось жить всего несколько лет. Болезни, безденежье, творческий кризис, алкоголизм и все ухудшающееся состояние Зельды грозили
добить его в гораздо более короткий срок, лишь мысль о дочери удерживала от самоубийства. Скотти обнаруживала пристрастие к литературе, и ее отец приложил немало усилий к тому, чтобы убедить ее заняться чем-нибудь еще: он был не против литературной карьеры как таковой, но считал, что лучше это произойдет пусть позже и по велению сердца, а не потому, что с самого начала она не занималась ничем другим.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд в Голливуде, 1937 г.
Фицджеральд был на грани отчаяния, но с помощью друзей нашел выход из той ямы, в которую загнал сам себя. В середине 1937 года его агент выбил контракт со студией MGM на тысячу долларов в неделю: это были огромные деньги для писателя, который ощущал, что исчерпал себя до дна. Фицджеральд счел этот контракт милостью Божией и твердо решил сделать все, чтобы кинобоссы не разочаровались в нем. Приехав в Голливуд, он поселился в отеле «Сад Аллаха», бывшем доме кинозвезды Аллы Назимовой, и приступил к работе. Он бросил пить и с головой погрузился в изучение всех тонкостей своей новой профессии, донимая соседей тысячами вопросов. Многие из них еще помнили Фицджеральда по его первому приезду в Калифорнию – молодого, самоуверенного, упоенного собственным талантом, и теперь с разочарованием наблюдали за постаревшим, уставшим, потерявшим всякий пыл Скоттом.
Практически в первые же дни в Голливуде Фицджеральд познакомился с женщиной, которой суждено было стать его последней любовью. Шейла Грэм, настоящее имя которой было Лили Шейл, дочь евреев-эмигрантов с Украины, выросла в ужасающей нищете в Лондоне и всю жизнь старалась забыть свое детство, полное горестей и лишений. В шесть лет ее поместили в приют, откуда она сбежала в четырнадцать, чтобы ухаживать за больной раком матерью. В семнадцать она вышла замуж за пожилого разорившегося бизнесмена Джона Грэма Гиллама, который помог ей отточить манеры, получить образование и закрывал глаза на ее измены и эскапады. Лили танцевала в мюзик-холле и в то же время начала печататься в газетах, а позже опубликовала и два романа. В 1933 году она уехала в Америку, где работала для таких солидных изданий, как The Mirror и The Journal. В это время она давно уже придумала себе другую жизнь: Шейла Грэм называла себя потомком аристократического рода, рассказывала о богатом доме в Лондоне и пансионе во Франции, писала громкие провокационные статьи и была помолвлена с маркизом Донегаллом. В 1935 году ее направили в Голливуд вести колонку светской хроники – в этом качестве она, наряду с прославленными Луэллой Парсонс и Геддой Хоппер, обладала безграничной властью создавать карьеры и рушить судьбы. На момент встречи с Фицджеральдом она была разведена, обручена и полна желания завоевать мир.
Эндрю Тернбулл писал: «они… представляли собой любопытную пару – писатель-банкрот и честолюбивая женщина, выросшая в нищете. Шейла обладала покладистым характером, и в некотором роде Фицджеральду повезло, что его полюбила такая энергичная и привлекательная женщина. При нынешнем шатком положении Скотта, когда слава его померкла, он не располагал безграничным выбором. Ему удавалось удерживать ее исключительно обаянием, нежностью и пониманием – о существовании такого отношения она ранее и не подозревала». Он достаточно быстро разоблачил ее выдуманную биографию, однако не отвернулся от нее, как она того опасалась, а наоборот – был растроган и даже сказал, что сожалеет, что не знал ее раньше, когда мог бы позаботиться о ней.
Шейла не просто украсила собой последние годы жизни Фицджеральда – возможно, она была причиной того, что он вообще их прожил. Она вела трезвый образ жизни и сделала все, чтобы и он перестал пить, сменив алкоголь на кофе. Она была трудоголиком – и создала Скотту все условия для работы. Она умела радоваться жизни без эскапад и безумных выходок, и дарила эту тихую и спокойную радость Фицджеральду. Очень скоро их любовь переросла в страсть, напоминавшую, по крайней мере у Фицджеральда, своего рода зависимость. Он страдал, когда она покидала его даже на пару часов, постоянно звонил ей и ревновал ко всем, с кем она встречалась, – без него или в его присутствии. Шейла, чья работа требовала постоянных встреч с людьми, была вынуждена сидеть дома в обществе только Скотта – впрочем, она от этого (по крайней мере на словах) не страдала. Однажды Шейле даже пришлось лечь в больницу, чтобы получить предлог не встречаться с главным редактором, приехавшим специально ради встречи с нею из Нью-Йорка. Впрочем, она была счастлива рядом с ним – по ее собственным словам, она «начала жить, когда он появился». Она даже с неожиданным пониманием и терпимостью относилась к регулярным встречам Скотта с Зельдой: он проводил с женой все праздники и некоторые уик-энды. Лишь когда однажды во время отдыха Зельда стала во всеуслышание обвинять его в том, что он – опасный маньяк и насильно удерживает ее, Скотт не выдержал и заявил врачу, что снимает с себя все обязательства по отношению к Зельде, ибо больше не может как следует присматривать за ней, впрочем, счета за ее лечение по-прежнему оплачивал он. «Время, когда я мог это делать, прошло. Всякий раз, когда я вижу ее, – писал он ее врачу, – со мной происходит что-то, что выставляет меня перед ней в худшем, а не в лучшем свете. Я всегда буду питать к ней жалость, смешанную с болью, неотступно преследующей меня, – болью за прекрасного ребенка, которого я когда-то любил и с которым был счастлив, как уже никогда не буду счастлив вновь».

Скотт Фицджеральд и Шейла Грэм. Последнее фото писателя.
По совету Шейлы Скотт снял небольшой домик неподалеку от ее собственного (они даже пользовались услугами одной и той же горничной) и приступил к работе. Поначалу Скотт трудился над сценарием под броским названием «Американец в Оксфорде», а затем его перебросили на «Три товарища» по роману Ремарка. Ему очень понравился сам роман, однако сценарий в результате так перекроили, что Фицджеральд почувствовал себя раздавленным. «Я полагал, что все будет просто, – жаловался он другу, – но пребывание в Голливуде – сплошное разочарование. Здесь не осталось ничего живого, я не ощущаю жизни». Затем он работал над сценарием под рабочим названием «Верность», главную роль в котором должна была сыграть Джоан Кроуфорд – актриса даже заявила Скотту, чтобы он «писал безжалостно», однако сценарий так и не был поставлен. Фицджеральд последовательно работал над «Женщинами», «Мадам Кюри» и, наконец, «Унесенными ветром», где Скотт (кстати, оценивший роман Маргарет Митчелл как «хороший, но не слишком оригинальный») должен был редактировать диалоги. Год он проработал на MGM, но так и не написал ни одного законченного оригинального сценария; в конце концов контракт с ним был разорван. Фицджеральд работал еще с несколькими сценарными группами, однако также безрезультатно. В феврале 1939 года он перенес сильную простуду, приведшую его в больницу. Оттуда он вышел практически полной развалиной… Чтобы заснуть, ему нужно было снотворное, чтобы проснуться – стимуляторы. И все же он не прекращал ни работы над сценариями, ни литературных занятий – в это время Скотт писал свой последний роман «Любовь последнего магната», прообразом главного героя которого стал молодой продюсер Ирвинг Тальберг, который уже в двадцать лет успешно руководил киностудией Universal, в двадцать пять возглавил производственный отдел MGM, а в тридцать семь умер, перетрудившись на съемках. «Ты знаешь, – писал он дочери, – я начал работу над романом, который может оказаться великолепным. На это мне понадобится месяца четыре или полгода кропотливого труда. Возможно, он не принесет нам с тобой ни цента, но он покроет связанные с его написанием расходы… Во всяком случае, я вновь ощущаю себя живым существом».

К этому времени Скотти училась в Вассаре – одном из самых престижных женских колледжей (деньги на ее учебу Скотту дали верные друзья Мэрфи) и начала свои первые шаги в журналистике – со временем она станет известным журналистом, сотрудником таких изданий, как The Washington Post и The New Yorker, писательницей и политиком. Фицджеральда искренне радовали ее успехи, однако он понимал, что они все больше и больше отдаляются друг от друга – Скотти принадлежала к другому поколению, которое открыто осуждало беспечность и мягкотелость своих родителей.
В конце ноября 1940 года Скотт перенес сердечный приступ. Врачи велели ему полтора месяца оставаться в постели – он переехал к Шейле и, лежа на кушетке на первом этаже ее дома, продолжал писать. Вечером 20 декабря он почувствовал себя настолько хорошо, что решил сводить Шейлу в кино, однако на выходе из дома ему снова стало плохо. На следующий день он читал журнал – внезапно вскочил, схватился за грудь и упал. Он скончался от сердечного приступа. Его похоронили на кладбище в Роквилле, штат Мэриленд. Панихида была очень скромной…
Его последний роман так и остался неоконченным. Через год друг Скотта критик Эдмунд Уилсон собрал воедино все черновики и наброски Фицджеральда и издал под названием «Последний магнат». Зельда была очень рада – по ее словам, выход романа ее мужа вдохнул в нее новую жизнь. Она по-прежнему жила в клинике, отлучаясь навестить мать в Монтгомери. В начале марта 1948 года она была в санатории, и врач собирался ее выписывать, но она решила остаться еще на пару дней. В ночь на 11 марта она погибла при пожаре, охватившем здание…
К этому моменту казалось, что романы Фицджеральда, равно как и творчество его жены, давно забыты. Однако жизнь расставила все по своим местам: теперь он по праву считается одним из самых ярких и талантливых американских писателей, внесших огромный вклад в развитие литературы. А его супруга превратилась в икону феминизма – ее мятежный дух вдохновляет женщин всего мира жить, не оглядываясь на правила и ограничения…
Эрнест Хемингуэй

Фиеста длиною в жизнь
Он проживал свою жизнь, будто писал роман, и писал свои романы, словно заново проживал жизнь. Литературный труд перемежался охотой и боем быков, любовные романы совмещались с войнами и алкоголем. Всю жизнь он как будто пытался доказать, что он лучше, чем он есть, – и доказав все, что мог, разуверился в этой жизни…
Эрнест Миллер Хемингуэй был родом из иллинойсского городка Оук-Парк, респектабельного пригорода Чикаго. Здесь на одной улице жили его предки: Хемингуэи на одной стороне, Холлы – на другой. Кларенс Эдмонт Хемингуэй по праву гордился своими предками, среди которых были участники Гражданской войны, врачи, этнографы и миссионеры, и хотел стать достойным своей семьи: в молодости он даже провел пару месяцев в Южной Дакоте с индейцами племени сиу, изучая их обычаи и народную медицину. Он окончил медицинский колледж, мечтая когда-нибудь отправиться с врачебной миссией на край света, и сделал предложение своей соседке Грейс Холл, мечтая найти в ней верную спутницу жизни и хорошую мать своим будущим сыновьям.
Грейс еще в школе выделялась прекрасным голосом. Она усиленно занималась вокалом и даже с успехом дебютировала на нью-йоркской сцене, но замужество с молодым врачом из хорошей иллинойсской семьи показалось ей предпочтительнее карьеры певицы, и в 1897 году Грейс Холл стала миссис Хемингуэй. Уже скоро она родила первенца – дочь Марселину, через год – 21 июля 1899 года – сына Эрнеста Миллера, а потом еще трех дочерей, Урсулу, Мэделин и Кэрол. Второй сын, Лестер, родится, когда Эрнесту будет уже шестнадцать лет. Вспоминают, что Кларенс Эдмонт, которого к этому времени в Оук-Парке все называли Доктор Эд, лично присутствовал при рождении всех детей: приняв на руки сына, выходил на крыльцо и трубил в рог, чтобы все соседи знали, что у него появился наследник.
Хемингуэи жили в доме викторианской архитектуры, принадлежавшем отцу Грейс – выходцу из Англии Эрнесту Миллеру Холлу, в честь которого они назвали своего первого сына. Эрнест-младший любил деда, но имя ему не нравилось, ибо оно в его сознании ассоциировалось с наивными персонажами пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Когда Эрнесту было пять, дед умер, и на оставшиеся от него деньги семья построила себе новый дом, в три раза больше и роскошнее прежнего. В доме всем заправляли женщины: Грейс, ее дочери, кухарка и горничные. Говорят, что Грейс довольно долго одевала сына в вещи его старшей сестры и даже отдала их в школу в один год, чтобы они сошли за близнецов. Грейс, обладавшая немалым честолюбием, со временем поняла, что продешевила, променяв карьеру на семейную жизнь, а контракт с Метрополитен-опера – на пение в хоре и уроки музыки соседским детям. Свою неудовлетворенность жизнью она вымещала на муже, с милой улыбкой читая ему нотации и делая замечания. Она придерживалась очень строгих пуританских взглядов и пыталась воспитать детей похожими на себя, прививая им протестантскую этику и любовь к музыке. Сына она учила игре на виолончели – он же терпеть не мог инструмент, предпочитая сбегать от деспотичной матери в объятия отца.

Эрнест Миллер Хемингуэй, 1899 г.
Неудивительно, что Эрнест был очень близок с отцом, видя в нем единственную родственную душу. Кларенс научил его всему, что знал и умел, и разделил с ним все свои увлечения: чтение, рыбалку и охоту. Отец с сыном целыми днями бродили по окрестным лесам, охотясь на мелкую дичь или наблюдая за повадками птиц, или отправлялись в индейские поселки, или просто молча сидели рядом на берегу, поджидая крупную рыбу. Иногда они вдвоем отправлялись в загородный дом семьи Windemere на озеро Валлун в Западном Мичигане: приобретенный там опыт жизни в тесном контакте с природой навсегда оставил след в душе Эрнеста, породив страсть к приключениям и пристрастие к уединенной жизни. В двенадцать лет мальчик получил в подарок первое ружье и с тех пор почувствовал себя настоящим мужчиной.
Однажды маленький Эрнест бежал за молоком на соседнюю ферму, споткнулся и упал, проткнув горло палкой, которую держал в руке. Отец остановил кровь, а потом сказал: «Когда тебе больно, не реви. Лучше свисти. Когда больно, свисти, и слезы закатятся обратно». С тех пор никто не видел Эрнеста плачущим.

Эрнест с родителями и сестрой Марселиной, 1901 г.
Мальчик посещал местную школу: об уровне образования в ней может сказать тот факт, что с тех пор любимыми писателями Хемингуэя стали Шекспир, Марк Твен, Чосер, Джек Лондон, Дюма и Киплинг. Однако чтением – постоянным и неограниченным – не исчерпывались школьные занятия. Эрнест был капитаном команды по легкой атлетике, членом сборной по водному поло, играл в футбол, а также ездил в Чикаго, где усиленно занимался боксом. «Бокс научил меня никогда не оставаться лежать», – позднее скажет он. В боксерской среде он нахватался крепких словечек и жизненных историй, о которых и не догадывались жители респектабельного Оук-Парка. Эрнест захотел поделиться ими, и скоро его первые литературные опыты были напечатаны в школьной газете «Трапеция» и ежегоднике «Скрижали»: это были рассказы из местной жизни и спортивные репортажи, юморески и «страшилки». Поздние критики особенно выделяют среди них основанный на индейском фольклоре рассказ «Суд Маниту», повествование о закулисье боксерских поединков «Все дело в цвете» и «Сепи Жинган» – историю кровной мести, в которой больше внимания уделяется оценке трубочного табака и собаке, чем рассказу о расправе над обидчиком.
Уже в этих рассказах проявилось то, что потом прославит Хемингуэя: рубленые диалоги, краткие, полные намеков фразы. Позже писатель объяснял, что учился писать, читая Библию: ее сдержанные и одновременно полные скрытого смысла строки стали для него образцом литературного стиля.
В 1916 году Хемингуэй первый раз ушел из дому, сбежав от назойливой родительской опеки в Северный Мичиган, однако к началу последнего учебного года все же вернулся. Окончив в 1917 году школу, Эрнест отказался поступать в университет, как того требовали родители. Он рвался на фронт, но унаследованное от матери плохое зрение вкупе с полученной на ринге травмой закрыли ему путь в действующую армию. Вместо этого Тайлер Хемингуэй, младший брат Доктора Эда и крупный лесопромышленник, устроил его на работу в газету Kansas City Star. «Моей удачей стал большой пожар», – вспоминал Эрнест: молодой репортер не только разнюхал все подробности произошедшего, но и не побоялся сунуться в самое пекло, испортив искрами дорогой костюм. Счет за костюм он выставил редакции – и не получил ни цента. «Это научило меня не рисковать ничем, что ты не готов потерять», – скажет позже Хемингуэй.
В Kansas City Star он занимался тем, что наиболее соответствовало его неугомонной авантюрной натуре: он был полицейским репортером, и ему постоянно приходилось выезжать на места преступлений, в тюрьмы, больницы и притоны. Целыми днями он мотался по городу, а ночью работал, причем, как вспоминал один из его тогдашних коллег, постоянно пропускал буквы, печатая на машинке, ибо его мысль не поспевала за пальцами. Работа в газете дала ему прекрасную школу: здесь его научили объективно излагать происходящее, писать кратко и сжато, не злоупотреблять сленгом и красочными эпитетами. «Работая в Kansas Star, я научился писать просто о простых вещах», – признавался позже Хемингуэй.
Работа в газете нравилась ему, но мечта о настоящей войне не отпускала. Не то чтобы он хотел отстаивать правое дело или бить врагов, – война в Европе имела слишком малое отношение к США, – но ему хотелось попробовать на вкус настоящую битву. Проработав в Канзасе семь месяцев, Хемингуэй уволился и вместе со своим другом, тоже репортером Тэдом Брамбаком, завербовался в транспортный корпус Американского Красного Креста. По воспоминаниям, когда корабль плыл в Европу, все пассажиры боялись нападения немецких подлодок, и лишь Эрнест с нетерпением ожидал нападения. Когда они благополучно прибыли на место, он сказал, что у него такое чувство, будто его надули.
Из Милана Эрнест прислал домой открытку: «Прекрасно провел время». Но это уже не было правдой: в Милане свежеприбывших волонтеров послали расчищать территорию разбомбленного завода боеприпасов, и от вида кучи разорванных трупов, в том числе женских, у восторженного юнца наступило отрезвление: до него начало доходить, что война – это смерть, грязь и боль. «Уходишь мальчиком на войну, полный иллюзий собственного бессмертия, – писал он много лет спустя. – Убьют других, не тебя… А потом… ты теряешь эту иллюзию и понимаешь, что могут убить и тебя».
Позже американцев разместили в тихом городке Шио: Эрнесту снова стало казаться, что его обманули и вместо войны прислали в загородный клуб. Он рвался на передовую, и в итоге ему удалось перевестись на реку Пьяву, где в то время шли ожесточенные бои. Ему поручили развозить по окопам еду, почту и сигареты. Однажды рядом с ним разорвался снаряд: «Я был весь забрызган тем, что осталось от моих приятелей», – вспоминал Хемингуэй, однако сам он остался жив. В другой раз он попал под минометный обстрел: многих убило, его сильно оглушило взрывной волной. Очнувшись, он заметил рядом раненого итальянского снайпера и попытался дотащить его до госпиталя, однако по дороге сначала попал под снаряд, а затем его задела пулеметная очередь. «Потом были только боль и чернота, – вспоминал Хемингуэй. – Пришла мысль о том, что я должен думать о всей своей прошлой жизни, и это показалось мне смешным. Я должен был приехать в Италию специально для того, чтобы думать о своей прошлой жизни! И вообще в такие минуты думаешь о чем угодно, но только не о прошлом. Я хотел бежать и не мог, как это бывает в ночных кошмарах». Чудом добравшись до лагеря, Хемингуэй выяснил, что итальянец давно мертв, а у него, помимо контузии и множества мелких ран, раздроблена нога. Это случилось 8 июля 1918 года.

Хемингуэй на Первой мировой, Милан, 1918 г.
Раненого отправили в Милан, где на операционном столе из Хемингуэя вынули более 200 осколков. После нескольких операций на колене опасность ампутации отступила, однако Эрнеста постоянно мучили боли, которые он глушил коньяком. В госпитале он встретил свою первую любовь – медсестру Американского Красного Креста Агнесс фон Куровски, которая была на семь лет старше юного солдата и по-матерински опекала его. В течение дня они обменивались записками, а во время ее ночных дежурств Эрнест помогал ей с работой, чтобы она могла быстрее вернуться в его постель.
Выйдя через полгода из госпиталя, Эрнест добился назначения лейтенантом в пехотную часть, однако повоевать так и не успел – война закончилась. Хемингуэя наградили итальянским военным крестом и серебряной медалью за доблесть и с почетом отправили домой.
Война отметила его не только ранением и медалями. Еще долго Хемингуэй не мог спать по ночам, в темноте. Его мучили кошмары и головные боли. На войне он был недолго, но писателю этого хватило навсегда: первые впечатления не успели затереться, а личные рассказы воевавших в окопах или лежавших на соседних больничных койках на многое открыли глаза. Став свидетелем
бесцельной и беспощадной бойни, где простые люди гибли за чьи-то непонятные им интересы, Хемингуэй изменился навсегда.

Агнесс фон Куровски.
В Америку он вернулся героем: один из первых раненых и награжденных в Европе американцев. Его принимали как героя, а о его подвигах написала не одна американская газета. Однако он чувствовал себя чужим среди беспечных людей, не нюхавших ни пороху, ни чужой крови. «Абстрактные слова, такие, как «слава, подвиг, доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными… названиями рек, номерами полков и датами», – писал он. В своей комнате он увешал стены оружием и военными фотографиями, а его единственной радостью были письма от Агнесс, о которой он говорил как о своей будущей жене. Но однажды она написала ему, что выходит замуж за другого… Некоторые критики считали, что первая любовная неудача сильно повлияла на Хемингуэя: отныне он всегда первым бросал своих женщин, не давая им возможности бросить его.
Проведя весну 1919 года безвылазно в своей комнате, а лето на рыбалке в Мичигане, осенью Хемингуэй вернулся в родной дом, где его отношения с родителями становились все тяжелее. Они требовали, чтобы он устроился на нормальную работу, а не исписывал бумагу, нашел себе приличную девушку и женился. Эрнест не желал подчиняться ни деспотичной матери, ни подкаблучнику-отцу, с которым у него давно не было ничего общего. Он хотел уехать на Восток, но отец отказался дать ему денег; хотел устроиться в местную газету, но мать заявила, что писание – неподобающее занятие для мальчика из приличной семьи. В конце концов, после очередной ссоры, Эрнест хлопнул дверью и навсегда уехал из дома.
Он с друзьями поселился в Чикаго, где работал в экономическом журнале, а затем ненадолго перебрался в Торонто, где начал писать для Toronto Star Weekly. С конца 1920 года Хемингуэй поселился в Чикаго у своего приятеля по фамилии Смит: в его доме все интересовались литературой, и там Эрнест чувствовал себя как нигде хорошо. Добрым знакомым Смитов был известный писатель Шервуд Андерсон, который очень одобрительно отозвался о ранних рассказах Хемингуэя. В доме Смитов Хемингуэй познакомился и со своей новой любовью.
Ее звали Элизабет Хедли Ричардсон, она мечтала стать пианисткой, и она была на год старше Агнесс. Ее жизнь не была счастливой: отец покончил с собой, мать долго болела и недавно скончалась на руках у Хедли, и сама она долго страдала от травмы позвоночника. Хедли была уверена, что ее никто не полюбит, что она будет обузой для любого мужчины; Эрнест все еще переживал разрыв с Агнесс и считал, что он ущербен и ни одна женщина не решится посмотреть на него. Короче, они были созданы друг для друга.
На первое свидание Эрнест пригласил ее на футбольный матч. Накануне Хедли подвернула ногу, и туфля никак не налезала на распухшую ступню. Тогда она надела на ногу красную домашнюю тапочку – и в таком виде гордо вышагивала под руку с Эрнестом. Такая непосредственность и пренебрежение условностями покорили Хемингуэя. К тому же она очень ценила его рассказы и даже подарила ему пишущую машинку. Растроганный Эрнест сделал ей предложение: пара обвенчалась 3 сентября 1921 года в методистской церкви в местечке Хортон-Бей на Валлунлейк – любимом мичиганском месте отдыха Хемингуэя, подальше от формальностей Оук-Парка. После церемонии Эрнест на весельной лодке переправил Хедли, которую он стал называть Хэш, через озеро к Windemere, где молодожены провели медовый месяц.
Грейс надеялась, что теперь-то Эрнест возьмется за ум, но он хотел уехать как можно дальше от Оук-Парка. И тут редактор Toronto Dayly Star предложил ему должность разъездного корреспондента в Европе: редакция оплачивала бензин и гонорары, а остальное – за свой счет. Эрнест с радостью согласился, и 8 декабря 1921 года чета Хемингуэй отплыла в Европу. Жить они планировали на гонорары и деньги, которые Хэш достались от матери.

Свадьба Эрнеста и Хедли Ричардсон, 1921 г. Молодые в окружении родных жениха.
В Париже Хемингуэев поразила дешевизна и неописуемая легкость бытия, привлекавшая сюда писателей и художников со всего света. Шервуд Андерсон дал Эрнесту рекомендательные письма к живущим в Париже Эзре Паунду и Гертруде Стайн. Те весьма благосклонно отнеслись к молодому журналисту, введя его в круг парижской богемы, полноправными членами которой тогда были Пикассо и Матисс, владелица культового книжного магазина «Шекспир и Кº» Сильвия Бич и ирландский романист Джеймс Джойс, которого она со временем опубликует, писатель Макс Истмен и Френсис Скотт Фицджеральд со своей взбалмошной супругой Зельдой. Все они стали его друзьями, а Паунд и Стайн еще и литературными учителями, которых Хемингуэй чтил долгие годы, – впрочем, с Гертрудой, слишком упорно навязывающей свое мнение, он со временем рассорился.
В Париже Хемингуэй полностью отдался литературе, не забывая, впрочем, о рыбалке, охоте и горных лыжах, ради которых не ленился проезжать полконтинента. В 1922 году он был на Ближнем Востоке во время греко-турецкого конфликта, наблюдая за сожжением Смирны, присутствовал на Генуэзской и Лозаннской конференциях, и обо всем писал в газету. Также в Торонто отправлялись путевые заметки, рассказы о жизни американцев в Европе, статьи о ловле рыбы в Испании и спортивных состязаниях в Италии. Денег такие заметки приносили немного, но на жизнь хватало. Они с Хэш были счастливы: французская писательница Колетт даже заметила как-то: «Они умрут в один день! Нет, ну вы поглядите только, как они патриархально, по-детски, невозможно счастливы!» Поначалу все так и было: завтраки в парижских кафе и идиллические каникулы на Ривьере, лыжи в Швейцарии и ночи любви под звездами в Испании. Однако все было далеко не так просто: Хемингуэй всегда был человеком тяжелым в общении, а когда писал, бывал просто невыносим, и жену или игнорировал, или срывал на ней свое напряжение. Впрочем, она готова была стерпеть и не такое. А однажды, когда она ехала к мужу в Лозанну, на вокзале у нее украли чемодан, в котором были все рукописи Хемингуэя, – и он готов был обвинить ее в умысле и даже попытке разрушить его карьеру. Впрочем, нет худа без добра: Хемингуэй давно чувствовал, что в его стиле, слишком явно замешанном на газетных приемах, пора что-то менять, и воспринял потерю рукописей как повод начать все с чистого листа.
В начале 1923 года выяснилось, что Хэш беременна; Хемингуэй был в ужасе – он говорил Стайн, что не готов стать отцом, что ребенок осложнит его и без того нелегкую жизнь… Но вскоре смирился и с энтузиазмом возил беременную супругу на боксерские матчи, бой быков и на горнолыжные курорты: так у Хэш, по его мнению, родится настоящий мужчина. В то же время он – тиражом 300 экземпляров – за свой счет выпустил свою первую книгу с незатейливым названием «Три рассказа и десять стихотворений». Гордый сыном Доктор Эд заказал шесть экземпляров – однако, едва открыв, выслал обратно с гневным письмом: «Мне казалось, что всем своим воспитанием я давал тебе понять, что порядочные люди нигде не обсуждают свои венерические болезни, кроме как в кабинете врача. Видимо, я заблуждался, и заблуждался жестоко…». Гнев отца был вызван не только упоминанием неприличных болезней, но и непристойными словами, которые его сын позволял употреблять своим героям, и тем откровением и внешним спокойствием, с которыми Эрнест говорил о немыслимых в Оук-Парке вещах: войне, плотской любви, страданиях и человеческой жестокости. Больше Эрнест о своих литературных успехах домой не писал, да и вообще надолго прекратил с родителями всякое общение.
Осенью 1923 года Хемингуэи вернулись в Торонто, где 10 октября родился их первый сын Джон Хэдли Никанор – последнее имя ему дали в честь известного тореадора. В то же время разгорелся конфликт с редакцией Toronto Star, статьи Хемингуэя были для них чересчур либеральными. Уволившись из газеты, Хемингуэй с семьей возвращается в Европу, твердо решив посвятить себя писательскому делу.

Эрнест, Хедли и их сын Джон Хедли, которого отец называл Бемби. Париж, 1926 г.
Принципом Хемингуэя стало: «главное – сочинить одно предложение правды, а дальше само пойдет». В рассказах того периода он вспоминает войну и свою первую любовь, события на Ближнем Востоке и бой быков, детские впечатления от Мичигана и услышанные от знакомых истории простых людей. Он стремится быть наблюдателем, а не оценщиком, не упустить ни одной мелочи, и в то же время не давить на читателя своей точкой зрения. «Даже если вы убиты горем, стоя у постели умирающего отца, вы должны замечать все, до последней мелочи, пусть даже это причиняет вам страдания», – говорил Хемингуэй. Так рождался его стиль – экономный и сдержанный, и знаменитый хемингуэевский принцип «айсберга», когда за немногими сказанными словами скрываются подводные горы переживаний и происшествий. В 1924 году он выпустил свою вторую книгу «В наше время» – сборник коротких рассказов, больше похожих на стихотворения в прозе. Изданный тиражом всего в 170 экземпляров, сборник, тем не менее, был отмечен критикой, а через год в расширенной редакции был даже переиздан в США.
Меж тем жизнь в Париже была все тяжелее. Хэш и Эрнест питались лишь луковым супом и дешевым вином, разведенным до бледности водой. Эрнест вспоминал, что он нередко врал жене, что приглашен на обед, а сам уходил гулять по городу, чтобы его жене и сыну досталось больше еды. Он пристрастился работать в кафе: «Я заказывал кофе с бриошами за один франк и работал весь день», – вспоминал писатель. Полуголодное существование не обескураживало Эрнеста. «Будь я проклят, если напишу роман только для того, чтобы обедать каждый день», – говорил он. Он зарабатывал по 10 франков за раунд, выступая партнером для тренирующихся боксеров-профессионалов, а все свободное время писал.
В 1925 году Хемингуэй с женой и компанией друзей в очередной раз побывал на корриде в испанской Памплоне. Эта поездка была отмечена влюбленностью Эрнеста – правда, безрезультатной – в скандально известную американку Дафф Твисден, прославившуюся вольным образом жизни, шпионажем и романом с собственным кузеном при живом муже-аристократе, – и тем, что Хэш по настоянию мужа прервала вторую беременность. Через два месяца Хемингуэй написал роман «И восходит солнце» (в русском переводе «Фиеста»), посвященный этой поездке: главная героиня, коротко стриженая и элегантно одетая, беспечная и страдающая, была списана с Дафф. Роман был опубликован в октябре 1926 года и весьма тепло встречен критикой.
Пока Хемингуэй зарабатывал себе литературную славу, его семейная жизнь рушилась. Хэш – располневшая, погрязшая в заботах о сыне, уставшая и недовольная, больше не привлекала Эрнеста, зато ее подруга Полин Пфейфер – да. Дочь богатых американцев, Полин была женственна и элегантна, работала для Vogue и Vanity Fair и умела покорять мужчин. Уже скоро Эрнест пал к ее ногам. Хэш не противилась: она лишь попросила сто дней не видеться с Полин: если за это время страсть мужа не остынет, она даст ему развод.
Эрнест развелся с Хэш в апреле 1927 года и уже через месяц женился на Полин, приняв ради любимой католичество. Развод сильно повлиял на него: он считал, что поступил подло, изменив Хэш, бросив жену и сына на произвол судьбы, едва ему улыбнулся успех… Весь гонорар за «И восходит солнце» он отдал Хэш, но муки совести не прекращались, вылившись по слухам во временную импотенцию. К тому же Полин оказалась взбалмошной, своенравной и очень избалованной. Депрессивные настроения вылились в рассказы, опубликованные в 1927 году в сборнике «Мужчины без женщин». Для Хемингуэя наступали времена славы, но он уже был не рад…
К концу года Полин забеременела. Подумав, Хемингуэй решил перебраться обратно в США: по совету своего друга, писателя Дос Пассоса, он поселился на острове Ки-Уэст недалеко от побережья Флориды. С тех пор он больше никогда не жил подолгу в большом городе.
В конце мая 1928 года поехали в Америку, где навестили сначала родителей Полин в Арканзасе, а затем отправились к его семье. По дороге, в Канзас Сити, 8 июня Полин родила сына Патрика. Роды были тяжелые, пришлось применить кесарево: почти сутки Эрнест провел в больничном коридоре, уверенный, что Полин скоро умрет и что это будет его вина. Однако и она, и сын выжили.
Через несколько месяцев стало известно, что в Оук-Парке покончил с собой Кларенс Эдмонт: он страдал тяжелой формой диабета и как врач прекрасно понимал свои печальные перспективы. Кроме того, он прогорел, неудачно вложив деньги в недвижимость. Эрнест винил во всем деспотичную мать, хотя считал, что самоубийство – удел трусов; Грейс он отныне называл только «эта стерва» и не приехал на ее похороны…
Все свои переживания он описал в романе «Прощай, оружие!». Двадцать лет спустя в предисловии к новому изданию он напишет об отце: «Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, возможно, больше терпеть он не мог. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений».
Роман имел необыкновенный успех, которому не повредил даже начавшийся экономический кризис. Впрочем, он наоборот способствовал успеху романа: герои Хемингуэя, которые не сдаются даже перед лицом смерти, которые проживают жизнь как подвиг и подвиг – как простую жизнь, оказались необыкновенно востребованы в обществе, потерявшем всякие ориентиры в жизни, а скупая и неэмоциональная манера письма как нельзя лучше подходила для людей, уставших от елейной пропаганды и фальшивых обещаний.
В 1930 году он попал в серьезную аварию – Эрнеста, который был за рулем, ослепило фарами встречной машины; его автомобиль, перевернувшись, оказался в кювете. Он получил сильнейшие ушибы, переломы руки и пальцев, пострадало зрение, которое с детства являлось его ахиллесовой пятой. Следующие полгола он страдал от болей в руке, которые не давали ему писать.
В 1931 году Хемингуэй строит в Ки-Уэст свой первый собственный дом. Здесь в ноябре 1931 года родился его третий сын Грегори. Несмотря на разросшуюся семью, Эрнест никак не может осесть на одном месте и угомониться. Он то снова едет в Испанию (после этой поездки появился роман «Смерть после полудня», описывающий традиции и церемонии испанской корриды), то путешествует по США. Не успокоится и его сердце: в сентябре 1931 года он влюбился в Джейн Мейсон: богачка и красавица, которую президент Кулидж однажды назвал самой привлекательной женщиной, когда-либо посетившей Белый дом, одна была несчастлива в браке и искала утешения в любовных эскападах и алкоголе. Говорят, что она залезала в номер Эрнеста по пожарной лестнице, и нередко они на спор – кто первый остановится – гоняли без тормозов по заброшенным дорогам. Она была очень похожа на Эрнеста, отягощенная той же депрессивной страстью к саморазрушению, даже пыталась покончить с собой. Может быть, именно это сходство и заставило, в конце концов, Эрнеста оставить неуравновешенную любовницу.
Некоторые критики считают, что в это время Хемингуэй заболел «звездной болезнью», в его случае выразившейся в стремлении доказать всем, что он – «настоящий мужчина»: интерес к охоте, корриде и алкоголю, демонстративные романы и вызывающее поведение многие рассматривали не как движения его души, но как «игру на публику», призванную составить в глазах читателей образ Хемингуэя-сверхчеловека, «вечного мачо», покорителя «мужского мира». Что думал об этом сам писатель, он никому не говорил – он лишь активнее участвовал в «мужских играх».
В 1933 году Хемингуэй опубликовал новый сборник рассказов «Победитель не получает ничего», а затем – вместе с Полин – уехал на сафари в Африку: поохотиться в африканской саванне было его детской мечтой. Он провел десять недель, охотясь на львов и буйволов в Кении и Танганьике (охота разочаровала его: он ждал крови и битвы, а получилось только убийство), пока не свалился с амебной дизентерией. Свои впечатления Хемингуэй описал в книге «Зеленые холмы Африки», а также знаменитых рассказах «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера».

Хемингуэй и Полин Пфейфер, 1934 г.
Вернувшись во Флориду, Хемингуэй купил на судостроительной верфи в Бруклине свой знаменитый катер «Пилар», на котором проводил дни напролет в открытом море – то ли за рыбной ловлей, то ли за размышлениями о жизни. Он чувствовал себя в тупике: его последние книги были приняты довольно прохладно, его брак дышал на ладан – Полин давно выгнала мужа и из сердца, и из супружеской постели (врачи запретили ей рожать, и она, как истинная католичка, считала воздержание единственным противозачаточным средством). И тут в баре Ки-Уэст Хемингуэй познакомился с молодой блондинкой Мартой Геллхорн: она была известной журналисткой, пишущей на социальные темы, и сражала мужчин как длинными ногами, так и интеллектом. Хемингуэй часами разговаривал с нею о разразившейся в Испании гражданской войне: он всем сердцем стремился в любимую страну, на фронт, но сначала надо было дописать книгу и собрать денег в помощь воюющим республиканцам. Его роман «Иметь или не иметь», посвященный Америке в период экономического кризиса, вышел в 1937 году, когда сам писатель уже давно был в Испании. Там же была и Марта.
Войну в Испании Хемингуэй рассматривал как личное дело: он был готов в одиночку защищать республиканцев против всего мира. Эрнест постоянно ругался с женой, которой гораздо ближе были католики-франкисты, чем безбожники-республиканцы, и смертельно рассорился с Дос Пассосом, который – весьма справедливо – рассказывал о зверствах обеих сторон. Хемингуэй даже пустил слух, будто Дос Пассос уехал из Испании из трусости, что не соответствовало действительности. На свои средства Эрнест закупил 24 санитарные машины и медикаменты и, подписав договор с телеграфным агентством, выехал в Мадрид. Решив показать американцам, как и за что борется испанский народ, Хемингуэй организовывает съемку документального фильма «Испанская земля», сценаристом и диктором которого был он сам, режиссером – Йорис Ивенс, а оператором – Джон Ферно. В мае 1937 года ему удалось привезти пленку в США, где он даже смог показать ее в Белом доме. На вырученные за прокат ленты деньги и собранные пожертвования (к которым писатель добавил и свой гонорар за опубликованный сценарий) Хемингуэй закупил для воюющей Испании санитарные машины и медикаменты: они, правда, по назначению так и не доехали, попав под эмбарго по акту о невмешательстве.

Марта Геллхорн, начало 1940-х годов.
В августе Хемингуэй вернулся в Испанию: он побывал на Арагонском фронте и под Теруэлем, в Мадриде во время фашистской осады сидел в полуразрушенном отеле «Флорида» и писал пьесу «Пятая колонна» о шпионской сети и работе контрразведки. Есть сведения, что он сам сотрудничал с республиканской контрразведкой, а также был инструктором в партизанских отрядах. Известно, что за время войны он получил несколько травм, воспаление почек и геморрой. Именно в таких условиях разгорается его роман с Мартой Геллхорн: вернувшись после поражения республиканцев домой, Хемингуэй объявит жене, что разводится с нею ради женитьбы на Марте.
Марта стала его третьей женой в ноябре 1940 года – всего через две недели после развода с Полин, которая в качестве отступных получила дом в Ки-Уэст. Вместе они перебрались на Кубу – сначала в любимый Эрнестом гаванский отель Ambos Mundos, а через год – в усадьбу Финка Вихия, которую Хемингуэй купил для жены в поселке Сан-Франциско де Паула недалеко от Гаваны. В Гаване он написал свой самый, пожалуй, популярный роман «По ком звонит колокол», мгновенно ставший мировым бестселлером. Повествование о трех последних днях американского добровольца, отдавшего жизнь за республику, немедленно растащили на цитаты: крылатым выражением стал даже эпиграф из Джона Донна – английского поэта XVII века, которому Эрнест Хемингуэй таким образом подарил новую популярность. Компания Paramaunt заплатила за право экранизации романа 136 тысяч долларов: в то время это была самая большая сумма, которую кинопродюсеры заплатили за литературное произведение.
Успех подкосил писателя: он боялся, что больше никогда не сможет написать ничего подобного. «Я боялся, что стану импотентом, не смогу писать. Я потерял сон и готов был прострелить себе голову», – писал он одному из друзей. Марта с немалыми усилиями вывела его из депрессии, но уже вскоре выяснилось, что и этот брак долго не проживет: Марта больше любила не Хемингуэя, а его славу, и старалась получить как можно больше от статуса миссис Хемингуэй, почти ничего не давая взамен. К тому же она была моложе остальных женщин писателя и требовала к себе соответствующего отношения.
«По сути, он получил не возвращение в юность, а капризного злого ребенка на руки», – записала в дневник одна из его знакомых. Марта требовала от писателя, привыкшего к вольной жизни, поддержания идеального порядка, выгоняла из дому его плохо, по ее мнению, воспитанных друзей, а со временем все чаще стала уезжать сама. Марте было тяжело разрываться между ведением хозяйства безалаберного супруга и работой, без которой она не мыслила своей жизни, а Хемингуэя бесила ее независимость – он предпочитал женщин, которые думают о нем, а не о карьере. Иногда кажется, что их брак держался на соперничестве: когда в семье два честолюбивых журналиста и военных корреспондента, стремление доказать свое превосходство во всем скоро останется единственным, что у них есть общего. «Марта самая честолюбивая женщина из всех, что жили на земле», – вспоминал писатель. Не прожив и полгода в новом доме, Марта сорвалась в Гонконг, и Хемингуэю пришлось последовать за ней. Она побывала в Финляндии и Бирме, Великобритании и Италии, и Эрнесту только и оставалось, что спрашивать в письмах: «Ты военный корреспондент или жена в моей постели?» А она отвечала: «Мы должны развестись, чтобы встречаться друг с другом как любовники». Когда японцы напали на Перл-Харбор, Марта вновь умчалась на фронт, оставив мужа на Кубе. Тот, правда, не скучал: на любимом катере «Пилар», вооруженном и оснащенном акустической аппаратурой, он два года патрулировал Карибское море в поисках немецких подлодок, а на острове организовал сеть контрразведки по выявлению вражеских шпионов. Когда в Европе открылся второй фронт, Хемингуэй бросил осточертевший ему остров и вылетел в Европу как корреспондент журнала Collier’s.
На завтраке у Ирвина Шоу он познакомился с журналисткой Мэри Уэлш – невысокой хрупкой блондинкой, и тут же заявил, что хочет на ней жениться; впрочем, она только рассмеялась в ответ: в тот момент она была замужем за военным корреспондентом Ноэлем
Монксом и разводиться не собиралась. После одной из вечеринок, которыми почему-то был наполнен военный Лондон, Хемингуэй попал в очередную аварию – настолько серьезную, что он некоторое время провел в коме, и многие газеты поспешили опубликовать некрологи. В больницу к Эрнесту пришла Марта – увидев его криво перевязанную голову, громко рассмеялась… Хемингуэй обиделся: он не терпел шуток над собой; этот смех он Марте так и не простил.
Едва оправившись, писатель вылетел на континент: он стал свидетелем высадки десанта в Нормандии – правда, ему не позволили сойти на берег, в то время как его жене, к его огромной зависти, удалось сойти с корабля в первые часы, переодевшись медсестрой. Хемингуэю зато удалось создать во Франции собственный партизанский отряд численностью более двухсот человек, с которым он принимал участие в боях в Эльзасе и Бельгии и в освобождении Парижа, вид которого вызвал у него слезы: «В горле у меня запершило, потому что впереди раскинулся жемчужно-серый и как всегда прекрасный город, который я люблю больше всех городов на свете», – писал он.
В парижском отеле Ritz он с друзьями по отряду бурно праздновал победу, когда там неожиданно появилась Мэри Уэлш. Больше они не расставались: осенью Мэри развелась с Монксом, в декабре 1945 года Эрнест развелся с Мартой, и в марте 1946-го на Кубе Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш заключили брак.
Новый брак писателя одна из бульварных газет встретила статьей «Колокол звонит по трем женщинам Хемингуэя». Марта заявляла, что у ее супруга «не было за душой никаких хороших качеств, кроме умения писать». Хемингуэй в ответ сказал, что их брак был «его самой большой ошибкой». Между тем, когда в 1951 году умерла Полин Пфейфер, Хемингуэй отозвался о ней с большей теплотой: «Я очень любил ее многие годы и не обращал внимания на ее недостатки».
К всеобщему удивлению, последний брак писателя был весьма удачным. Мэри искренне любила мужа, терпеливо сносила все его причуды и капризы, преданно ухаживала за ним во время приступов – после множества сотрясений мозга, травм и аварий Хемингуэя постоянно мучили головные боли, нередко отказывали глаза, и лишь присутствие Мэри могло унять боль и прогнать вернувшиеся ночные кошмары. «Когда ее нет, наша Финка пуста, как бутылка, из которой выцедили все до капли», – писал Хемингуэй. Через несколько месяцев после свадьбы Мэри, к огромной радости мужа, забеременела – тот решил перевезти ее с захолустной Кубы на север США, где были хорошие врачи, но по дороге у Мэри открылось кровотечение: беременность оказалась внематочной. В больнице нерешительные врачи лишь разводили руками, и тогда Хемингуэй решил, по собственным словам, «изнасиловать судьбу»: он под личную ответственность велел влить Мэри плазму и провести необходимую операцию, а после неделю безвылазно провел в палате жены.
Переживания и болезни привели к тому, что писатель почти перестал писать. Он очень тяжело переживал кризис, и Мэри пыталась, как могла, развлекать его. Зиму 1948 – 49 годов чета Хемингуэев провела в Италии, где невезучий писатель снова получил травму: на охоте пыж попал в глаз, что вызвало воспаление. Несколько недель он провел в больнице Падуи, и все это время его навещала его новая любовь Адриана Иванчич, с которой он познакомился незадолго до несчастного случая. Девятнадцатилетняя красавица из аристократического венецианского рода, Адриана была незаурядной личностью и талантливой поэтессой; говорят, Хемингуэй мечтал жениться на ней, но боялся, что она откажет. Их отношения так и остались платоническими; образ Адрианы Хемингуэй воспел в романе «За рекой, в тени деревьев».
Чтобы мужу было удобнее работать, Мэри построила в Финке трехэтажную башню, отведя Хемингуэю весь второй этаж. Он проводил там дни в окружении множества кошек и любимого пса Блек Дога, однако работа не ладилась: Эрнест тосковал по Адриане, страдал от головных болей и приступов раздражительности, иногда по целым дням исчезая из дома и гуляя по гаванским барам с проститутками. Когда Адриана приехала его навестить, он словно расцвел. Юную графиню поселили в башне, где она по утрам писала картины, а вечером в обществе Хемингуэя и его друзей гуляла по Гаване, не обходя вниманием любимые места писателя – ресторан Floridita и бар Bodegita del Medio. После ее отъезда он, наконец, смог писать.
К слову, Адриана была не единственной платонической любовью Хемингуэя: у него были долгие романы в письмах – с Марлен Дитрих (говорили, что они оба были бы не прочь сделать его реальным, но никак не совпадали во времени: когда он был свободен, она была занята, и наоборот), Ингрид Бергман и несколькими поклонницами его таланта, однако ни один из них не оказал большого влияния на жизнь и творчество писателя.
Считается, что приезд Адрианы вдохновил стареющего писателя на одну из вершин его творчества – повесть «Старик и море» была опубликована в 1952 году в журнале Life и сразу признана одной из вершин современной литературы. Сюжет о рыбаке, поймавшем огромную рыбу, Хемингуэй впервые записал в 1936 году, по одним воспоминаниям – со своего опыта, по другим – услышав рассказ одного из моряков. Позже в одном из интервью он скажет: «Я слышал о человеке, попавшем в такое положение с рыбой. Я знал, как это бывает в лодке, в открытом море, один на один с большой рыбой. Я взял человека, которого знал двадцать лет, и вообразил его при таких обстоятельствах». За «Старика и море» Хемингуэю была присуждена Пулитцеровская премия 1953 года.

Хемингуэй за работой.
Как нередко бывало, после серьезной работы Хемингуэю надо было развеяться: в 1953 году он вместе с Мэри второй раз приезжает на африканское сафари, вновь проезжает по тем же местам, что и двадцать лет назад, встречается с теми же людьми. Но и новая поездка кончается неприятностями, да еще такими, что Хемингуэй едва выжил. Сначала разбился самолет, в котором писатель летел с женой. Мери сломала два ребра, а Хемингуэй серьезно повредил правое плечо. Посланный на поиски пропавших самолет нашел лишь обломки – и газеты по всему миру сообщили, что писатель погиб в авиакатастрофе. Меж тем пострадавших подобрал пароход, зафрахтованный режиссером Джоном Хастоном для съемок фильма «Африканская королева». За писателем и его женой был направлен самолет – однако на взлете он упал и загорелся; Хемингуэй выбрался из кабины последним, снова получив несколько травм. Страдая от боли и кровотечения, писатель преодолел 50-мильную дорогу до больницы в поселке Масинди. Хемингуэй признавался, что это было самое мучительное и долгое путешествие в его жизни. Позже его перевели в госпиталь в Уганде, откуда Хемингуэй надиктовал статью для журнала Look с опровержениями слухов о своей смерти. Но и это было не все: неподалеку от лагеря разгорелся лесной пожар, и помогавший его тушить Эрнест упал в огонь, получив множественные ожоги. Чудом Хемингуэя доставили в Италию, а после первого курса лечения – на Кубу. В это время Хемингуэй переживает последнюю влюбленность – в свою секретаршу Валери Денби-Смит, которая снова закончилась ничем.

Эрнест и Мэри Хемингуэй в Кении, 1953 г.
Однажды он рыбачил на «Пилар», когда ему доставили телеграмму: шведская академия присудила ему Нобелевскую премию по литературе, во многом благодаря «Старику». Хемингуэй не был рад: «Премия – это проститутка, которая может заразить дурной болезнью. Слава – сестра смерти», – говорил он, считая, что подобные премии дают как надгробный памятник и после них никто не может создать ничего хорошего. По состоянию здоровья писатель не смог выбраться в Стокгольм, однако множество журналистов добрались до Кубы, замучив полуживого Хемингуэя интервью и фотосессиями так, что он был вынужден прятаться от них в запертом доме. «Я чувствую себя так, словно кто-то оправился в моей личной жизни», – писал Хемингуэй.
Однако скоро он поправился достаточно, чтобы вновь побывать в любимом Париже. Тут его ждал сюрприз: в кладовой отеля Ritz обнаружили два чемодана писателя, стоявшие там с двадцатых годов, набитые рукописями, заметками и письмами. Неожиданный привет из молодости вдохновил Хемингуэя на роман о днях, проведенных в Париже, когда он и его друзья были молоды и счастливы. Так родился роман «Праздник, который всегда с тобой».
Когда на Кубе началась революция, писатель поначалу не обращал на нее внимания. Но однажды солдаты Батисты ворвались в его дом в поисках оружия и убили его любимого пса: с его потерей Хемингуэй смириться не мог, и Кубу пришлось бросить.
Он поселился в усадьбе Сан-Вэлли в городке Кет-чум на западе США. Скоро его друзья стали замечать тревожные симптомы: у Хемингуэя возобновились боли, он стал очень плохо видеть. Он почти не мог писать: даже одна строчка требовала от него неимоверных усилий: мысли разбегались, отказывали глаза… К тому же начались явные неполадки с психикой. Он изводил жену, которая, по его мнению, хочет его смерти, считал, что за ним следят, что он под колпаком у ФБР, что он разорен… Наконец Мэри уговорила его – под предлогом лечения гипертонии – анонимно лечь в клинику Майо в Рочестере, штат Миннесота. Однако скоро журналисты пронюхали, кто лежит в больнице под именем Джорджа Сэвиера, и врачи сочли за лучшее отпустить его домой.
В Кетчуме он снова пробовал писать: «Тружусь вновь с напряжением», – сообщал он в письме. Каждое утро он вставал в семь утра и садился за письменный стол, однако результата по-прежнему не было. Осознание того, что он не может больше писать, было столь мучительным, что он даже плакал – впервые с детских лет. Однажды Мэри увидела его с заряженным ружьем: она напомнила супругу, что у него трое сыновей, что он мужественный человек… Его снова отправили в клинику, где лечили электрошоком, что сильно отразилось на его памяти: «Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни?» – возмущался Хемингуэй.
Через несколько дней после выписки из клиники, утром 2 июля 1961 года, Мэри нашла его мертвым: он застрелился из любимого ружья, не оставив предсмертной записки.
После его смерти стали говорить о проклятии, нависшем над его родом. Покончили с собой его отец, брат, сестра Урсула, внучка Марго и один из биографов писателя. Критики, осмелев, наперебой писали о том, что значение Хемингуэя для американской литературы сильно преувеличено, а его собственные подвиги наполовину выдуманы им самим. Говорили, что его мужественные герои скоро забудутся, а его романы перестанут читать. Однако время показало, что все они ошибались…
Жан-Поль Сартр

Философ и человек
Вся его жизнь была преодолением – собственной слабости, чужой глупости, влияния мира. Когда он умер, пятьдесят тысяч человек шли за его гробом, но до сих пор за его книгами идут миллионы. В некрологе газета Le Monde написала: «Ни один французский интеллектуал XX века, ни один лауреат Нобелевской премии не оказал такого глубокого, длительного и всеобъемлющего влияния на общественную мысль, как Сартр». И это не было ни лестью, ни преувеличением.
Говорят, кому-то от роду суждено править миром, а кто-то добивается этого права сам. Трудно сказать, как обстояло дело с юным Жан-Полем – с рождения ему
было дано многое, однако он упорно добивался совсем другого. Он родился 21 июня 1905 года в Париже и был первым и единственным ребенком в обеспеченной и благополучной семье морского офицера Жана-Батиста Сартра и его супруги Анн-Мари Швейцер. Анн-Мари была родом из Эльзаса: она происходила из славной ученой семьи, богатой своими интеллектуальными традициями. Прославленный философ, врач и музыкант, будущий лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер приходился ей двоюродным братом.

Жан-Поль, 1906 г.
Когда ребенку было всего пятнадцать месяцев, его отец скончался от тропической лихорадки. Похоронив мужа, Анн-Мари вернулась под родительский кров в Париж. Ее отец Карл Швейцер, видный специалист по немецкой филологии, преподавал в университетах и был автором нескольких учебников. «Когда мне было семь или восемь лет, – вспоминал Сартр, – я жил с овдовевшей матерью у бабушки с дедушкой. Бабушка была католичка, а дедушка – протестант. За столом каждый из них подсмеивался над религией другого. Все было беззлобно: семейная традиция. Но ребенок судит простодушно: из этого я сделал вывод, что оба вероисповедания ничего не стоят». Дедушка Швейцер рано разглядел выдающиеся способности своего внука и лично занимался его образованием, обучая маленького Пулу, как называли мальчика в семье, математике и гуманитарным дисциплинам. Он же привил ему любовь к чтению – огромная библиотека Швейцеров много лет заменяла ребенку друзей, ибо чтение мальчик предпочитал всем другим развлечениям. Когда его сверстники еще читали детские книжки, он изучал классическую литературу и труды философов. Мать считала его будущим великим писателем, а ее отец – великим ученым.

Пулу рос в атмосфере всеобщей любви, переходящей в обожание. Молодая мать, для которой он был, наверное, больше игрушкой, чем настоящим ребенком, не могла на него надышаться и ставила кровать сына в своей комнате, даже когда он был уже практически подростком. Мальчик отвечал ей столь же искренней любовью. «Я поверял ей все», – позже писал он. Дедушка и бабушка тоже всячески баловали внука, каждый день дарили ему подарки и беспрестанно хвалили, так что мальчик вырос, прекрасно осознавая свое превосходство над остальным миром.
Позже Сартр обвинит семью в том, что они искалечили ему жизнь: они не только оставили его единственным ребенком в семье, но и избаловали, лишив тем самым иммунитета к жизни, которая была к Сартру далеко не благосклонна. Однако многие исследователи считают, что наибольшую травму юному Жан-Полю нанесла вовсе не семья, а природа, вложив выдающийся ум в весьма неподходящую оболочку. Жан-Поль был маленький, щуплый, с некрасивым лицом и редкими волосами, к тому же почти слеп на один глаз и кос на второй. Вся его дальнейшая жизнь была словно попыткой доказать всему миру превосходство интеллекта над телом.
В 1917 году Анн-Мари Сартр вторично вышла замуж за инженера флота Жозефа Манси и увезла сына из дома Швейцеров в Ла-Рошель, на запад Франции, где мальчик почувствовал себя изгнанным из рая. В провинциальной Ла-Рошели уже никто не восторгался им, одноклассники в новой школе всячески над ним издевались, а мать, прежде принадлежавшую только ему, пришлось делить с совершенно посторонним для Жан-Поля человеком, которого Сартр искренне ненавидел до конца своих дней – в том числе за то, что любовь пасынка к себе он пытался вызвать с помощью ругани и наказаний.
На нервной почве мальчик начал болеть, и обеспокоенная мать предпочла отослать сына обратно в Париж.
В 1920 году Жан-Поль поступил в парижский лицей Генриха IV – одно из престижнейших начальных учебных заведений, где в свое время учились, например, дети короля Луи-Филиппа, Альфред де Мюссе, Андре Жид, Ги де Мопассан, Проспер Мериме, Альфред де Виньи и множество других выдающихся людей – политики, архитекторы, военные и художники. Еще студентом лицея Сартр начал печататься в столичных газетах, публикуя статьи и эссе на философские и литературные темы – политикой он, в отличие от многих, тогда всерьез не интересовался, довольствуясь лишь тем, что был против всего и всех. «Он был анархистом в гораздо большей степени, чем революционером, – писала позже Симона де Бовуар. – Он считал общество в том виде, в каком оно существовало, достойным ненависти и был вполне доволен тем, что ненавидел его. То, что он именовал «эстетикой отрицания», хорошо согласовывалось с существованием глупцов и негодяев и даже нуждалось в нем: ведь если бы нечего было громить и сокрушать, то литература немногого бы стоила».
Вместе со своим другом Полем Низаном Сартр стал самым заметным учеником лицея: всегда готовым на провокацию, злую шутку или розыгрыш, однако и превосходящим прочих в учебе. Окончив лицей с отличием, в 1924 году Сартр и Низан поступили на отделение словесности в Высшую педагогическую школу – Ecole Normale Superieure — престижнейшее высшее учебное заведение, готовящее ученых и преподавателей гуманитарных дисциплин. В качестве творческой работы Сартр написал историю о двух профессорах из провинции – едкую сатиру, полную иронии и отвращения к их образу жизни. В школе Сартр не прекратил дурачеств и провокаций, завоевав своей независимостью и неприятием любых авторитетов немалую популярность среди учеников и профессоров. Вспоминают, что каждый его приход в столовую сопровождался аплодисментами. Он в изобилии писал песни, поэмы, романы, рассказы и скетчи, в которых с успехом выступал, и даже пел на ежегодных праздниках. А после того, как опубликовал в школьном журнале антимилитаристский скетч, директор учебного заведения был вынужден подать в отставку. Однако Сартр был известен не только как главный шутник школы, но и как самый талантливый ее студент. Он учился упоенно, взахлеб поглощая книги из университетской библиотеки и поражая однокашников глубиной и оригинальностью мышления. «Сартр думает все время, разве что кроме того времени, когда спит!» – заметил один из них. Он проводил время в философских диспутах, которые вели в парижских кафе такие же молодые интеллектуалы, как и он, студенты гуманитарных университетов Парижа, и писал объемный труд, в котором смешивал философию и литературу. «Потому что я люблю Стендаля не меньше, чем Спинозу», – объяснял он. Отрывки этого – еще не законченного – труда печатали научные журналы. Исследователи отмечают, что в это время он находился под сильным влиянием немецкой философии, особенно Канта и Гегеля. Однако в 1928 году он, вопреки всеобщим ожиданиям, не получил наивысшего балла на agregation — конкурсном экзамене, который сдают выпускники разных учебных заведений в рамках своей специальности. Ходили даже слухи о том, что комиссия ошиблась, однако сам Сартр признал, что слишком мало внимания уделял подготовке к экзамену, и решил пересдать его на следующий год.
В 1929 году на одну из студенческих встреч друг Сартра Андре Эрбо привел двадцатилетнюю студентку философского факультета Сорбонны Симону де Бову-ар, которую он прозвал Кастор, то есть Бобр – из-за созвучия ее фамилии с английским наименованием бобра – beaver — и за необыкновенное трудолюбие. Она была изысканна и элегантна, носила или яркие одежды необычного кроя, или вдруг одевалась исключительно в черное, мечтала познать жизнь во всех ее проявлениях и прославиться.
Симона родилась в Париже 9 января 1908 года в семье преуспевающего адвоката Жоржа де Бовуара, происходившего из аристократического рода. Симону и ее сестру Элен (в будущем известную художницу) воспитывали в строгости и религиозном страхе – домашние учителя, католический колледж и уроки хороших манер. Но в 1917 году Жорж де Бовуар потерял все свое немалое состояние, неудачно вложив его в печально известный займ российскому царскому правительству. Семья лишилась дохода, а сестры – приданого и надежд на хорошее замужество. Симона решила, что она обязана овладеть профессией, которая позволила бы ей самой зарабатывать себе на жизнь. В пятнадцать лет она, видя в книгах своих единственных друзей и ответы на все вопросы, окончательно решила стать писательницей. Она бесповоротно порвала и со своей семьей, и с верой, и с буржуазными предрассудками, гласившими, что главное предназначение женщины – выйти замуж и родить детей. Симона хотела интеллектуальных занятий, свободы и, конечно, любви. «Если я полюблю, – писала Симона, – то на всю жизнь, я тогда отдамся чувству вся, душой и телом, потеряю голову и забуду прошлое. Я отказываюсь довольствоваться шелухой чувств и наслаждений, не связанных с этим состоянием».

Сартр и Симона де Бовуар у мемориала Бальзака, 1920-е гг.
Когда они познакомились с Сартром, оказалось, что две разделенные половинки нашли друг друга. Сартру она понравилась сразу же – яркая красавица, так и брызжущая идеями, – однако он долго не решался к ней подойти. Уже после нескольких встреч Сартр обнаружил, что Симона – женщина его мечты. «Она была красива, даже когда надевала свою уродливую шляпку. В ней удивляло сочетание мужского интеллекта и женской чувствительности», – писал он. А она, в свою очередь, вспоминала: «Сартр в точности соответствовал грезам моих пятнадцати лет: это был мой двойник, в котором я находила все свои вкусы и пристрастия». Он покорил ее блеском ума, шутками и тем, что смотрел на нее как на равную. Уже скоро они были неразлучны и пообещали друг другу провести рядом всю оставшуюся жизнь. Впрочем, и Симона, и Сартр вовсе не имели в виду брак: он казался им буржуазным пережитком, связывающим свободных людей. Верности они тоже друг от друга не требовали – их должны были соединять лишь честность, интеллектуальное братство и родство душ. Они договорились не заводить детей, которые ограничивали бы их свободу и мешали интеллектуальным занятиям, не вести общего быта и быть друг для друга первыми критиками и соратниками.

Симона де Боеуар.
Их отношения были странной смесью телесного притяжения, духовной близости и интеллектуального соперничества. В 1929 году на agregation Симона оказалась второй, в то время как Сартр показал первый результат. Комиссия отметила, что Сартр, без сомнения, обладает выдающимися интеллектуальными способностями, зато Симона – бесспорным даром философа.
Едва получившего диплом Сартра призвали на срочную военную службу. Из-за плохого здоровья и слабого зрения он служил на метеорологической станции. Пока Сартр полтора года читал вместо философских трактатов показания метеодатчиков, Симона продолжала обучение, посещая лекции в Ecole Normale Superieure. Они переписывались ежедневно – как и все последующие годы, стоило им разъехаться.
Сартр вернулся в 1931 году. Он хотел получить место где-нибудь в Японии, которой давно интересовался, однако в марте его назначили на должность преподавателя философии в лицее Гавра. Сартр был разочарован: он всегда ненавидел провинцию и считал тамошнюю жизнь полной скуки, буржуазной тоски и интеллектуальной деградации. Однако в Гавре он внезапно стал пользоваться огромным успехом, особенно среди студенток: новый профессор хоть и был весьма некрасив, зато прекрасно рассказывал, увлекая слушателей полетом своей мысли и безграничной широтой эрудиции и, что скрывать, проявлял явный интерес к молодым красавицам. Симона была спокойна. Хотя она, судя по воспоминаниям, была по-настоящему влюблена в Сартра (и сохранила это чувство на всю жизнь), она искренне считала супружескую верность (да и несупружескую тоже) смешным пережитком отброшенной ею буржуазной морали. Она точно знала, что лишь ее Сартр считает равной себе по духу, только ей доверяет редактуру своих бесспорно гениальных произведений.
Она сама получила назначение в Марсель. Поначалу Симона не хотела уезжать так далеко и от Парижа, и от Сартра – он даже предложил ей заключить брак, чтобы на таком основании требовать назначения в один город, однако Симона решительно отказалась. Официальное супружество внушало ей настоящий ужас. Однако через год ей удалось перебраться поближе к Сартру, в лицей Руана, где Симона подружилась с преподавательницей того же лицея Колетт Одри и студентками Бьянкой Ламблен и Ольгой Козакевич. Довольно скоро она сообщила Сартру, что ее связывают с ними отношения гораздо большие, чем дружеские. Тот лишь попросил описать ему, что она чувствовала, когда целовала их, – то ли хотел сравнить ощущения, то ли собирал материал для очередной статьи…
Слава, о которой с детства мечтал Сартр, не спешила к нему приходить. В Гавре он много писал, однако почти все его сочинения были отклонены издателями. Оставив на время надежды покорить литературный олимп, Сартр сосредоточился на изучении философии: в 1933–1934 годах он стажировался в Германии, работая в берлинском Институте Франции. В это время он открыл для себя феноменологию Эдмунда Гуссерля и онтологию Мартина Хайдеггера, которые оказали на него огромное влияние. После Германии Сартр работал в Лане, где преподавал в педагогическом колледже, а в октябре 1937 года его перевели в лицей Пастор в городке Нёйи-сюр-Сен, фешенебельном предместье Парижа. С 1939 года Симона тоже преподавала в Париже, получив место в лицее Camille See. Она снова делила с Сартром всю радость творчества, труд жизни и свободу безо всяких обязательств. Ольгу Козакевич Симона привезла с собой, и очень скоро Ольга стала любовницей и Сартра: она, чуждая любых предрассудков, спала то с каждым по очереди, то с ними обоими разом. «Она претендовала на то, чтобы вырваться из плена человеческого удела, которому и мы покорялись не без стыда», – писала о ней Симона. Говорят, Сартр увлекся не на шутку: он съездил с Ольгой – без Симоны – на летние каникулы, и даже будто бы предложил ей руку и сердце. Однако Ольга была верной ученицей Симоны и от брака отказалась. В конце концов Сартр переключился на ее сестру Ванду, а Ольга вышла замуж за ученика Сартра и бывшего любовника Симоны Жака-Лорана Боста. Чуть позже в компанию вошла еще одна участница – рыжеволосая еврейка Бьянка Бьененфелд. Этот многоугольник с запутанными связями, который участники нередко называли просто «семьей», просуществовал не одно десятилетие и распался лишь со смертью его участников. Даже сам Сартр иногда чувствовал себя опутанным сетями, из которых он не может выбраться: «Я так и не постиг, как положено вести сексуальную и эмоциональную жизнь. Я серьезно и искренне считаю себя жалким бастардом, или каким-то садистом с университетским образованием, или отвратительным донжуаном с душой мелкого чиновника. С этим пора кончать». Однако сделать со своей любвеобильностью ничего не мог и не хотел – влюбленный будто во всех женщин разом, он находил в таких отношениях вдохновение, пищу для размышлений и новые силы. Много лет спустя Симона вспоминала: «Сартр любил женское общество, он находил, что женщины не так смешны, как мужчины; он вовсе не собирался… навсегда отказаться от их чарующего многообразия. Если любовь между нами относилась к явлениям закономерным, то почему бы нам не иметь также и случайных связей?»…
Хотя Симона и ратовала на словах за свободу отношений – во многом навязанную ей Сартром, – появление в их жизни Ольги, которая не только была допущена до постели, но и принимала активное участие в философских диспутах и даже в редактуре работ Сартра, сильно ранило ее. Она больше не чувствовала себя и Сартра «половинками целого» – теперь их было трое, и она никак не могла с этим примириться. Чтобы разобраться в себе, она начала писать. В 1943 году Симона опубликовала роман «Приглашенная», в котором достаточно откровенно и нелицеприятно излагала историю о девушке, приглашенной в гости и разбившей брак интеллектуальной пары: в персонажах угадывались сестры Козакевич, Сартр и сама Симона, а заканчивался роман символичным совместным убийством супругами их общей любовницы. Экзистенциалистский роман, рассказывавший о самоопределении, о сложных поисках любви и свободы в столь запутанных условиях, как «брак на троих», очень личный и в то же время глубоко философский, мгновенно стал необычайно популярным.
Накануне войны Сартр старательно создавал вокруг себя постоянный праздник – непрестанные розыгрыши, пародии, дурачества и переодевания.
Мы жили тогда в праздности, – вспоминала Симона. По рассказам, Симона могла изображать капризную аристократку или американскую миллионершу, а Сартр иногда представлял, что в него вселился дух морского слона, после чего пытался гримасами и воплями передать его страдания. Эти эскапады, по словам Бовуар, «защищали нас от духа серьезности, который мы отказывались признавать столь же решительно, как это делал Ницше, и по тем же причинам: вымысел помогал лишать мир давящей тяжести, перемещая его в область фантазии…
В 1938 году Сартр опубликовал свой самый знаменитый роман «Тошнота». Эту книгу – наполовину автобиографию, наполовину философский трактат – Сартр написал еще в Гавре, однако тогда ее не удалось опубликовать. Теперь же история экзистенциальных мучений историка Антуана Рокантена произвела эффект разорвавшейся бомбы. Она разошлась огромными тиражами, завоевала титул «книги года» и едва не получила Гонкуровскую премию. Следом за «Тошнотой» вышел сборник рассказов «Стена», о котором рецензенты отзывались как о «шедевре страшного жанра» и «страшных, жестоких, тревожных, беспардонных, патологических, эротических сказках», – причем отзывы были сплошь восторженные.

Описанная Сартром абсурдность существования, невозможность разумно воздействовать на окружающую действительность оказалась неожиданно близка поколению «между двух войн». Ровесники Сартра видели, как рушится мир, чувствовали, что старый уклад скоро уйдет в небытие, и судорожно искали тех, кто готов был указать
им путь в будущее. В тот же период вышли философские труды «Воображение», «Воображаемое» и «Эскиз теории эмоций», окончательно закрепившие за Сартром громкую славу оригинального философа и смелого литератора.
Когда началась Вторая мировая война, Сартр, хотя и придерживался явных антимилитаристских позиций, еще не считал необходимым активно демонстрировать свои убеждения. Его призвали на военную службу, и он, не колеблясь, отправился исполнять свой долг – правда, Сартра по-прежнему признают негодным к строевой службе и снова отправляют на метеорологическую станцию в департаменте Вогезы. Все заботы о «семье» легли на плечи Симоны, которая разрывалась между сестрами Козакевич, Сартром в Вогезах и Бостом в окопах. Оказавшись вдалеке от нее, Сартр будто заново переосмыслил ее место в своей жизни. Он писал ей: «Любимая, десять лет знакомства с тобой были самыми счастливыми годами в моей жизни. Ты самая прекрасная, самая умная и самая страстная. Ты не только вся моя жизнь, ты моя гордость».
Во время «странной войны» – периода, когда военные действия практически не велись, – у Сартра было много свободного времени, которое он проводил, маниакально исписывая тетрадь за тетрадью: десять месяцев он писал по двенадцать часов в день, создав 2 тысячи страниц на самые разные темы, часть из которых будет много лет спустя опубликована как «Дневники странной войны». Поначалу Сартр писал, чтобы не общаться с сослуживцами, – установление иерархических отношений на любой другой основе, кроме как интеллектуальной, всегда ему плохо удавалось, однако уже скоро в этих тетрадях можно было обнаружить контуры его будущей философии – экзистенциализма, «философии существования». Заняться своей философской системой ему настоятельно советовала Симона – а он уже давно привык следовать ее советам.
В мае 1940 года французская линия обороны была прорвана; всего через полтора месяца Франция капитулировала. В конце июня Сартр попал в плен. Сначала он содержался в Нанси, а затем его вместе с двадцатью пятью тысячами заключенных переправили в лагерь военнопленных в немецком Трире.
Жизнь в лагере сильно повлияла на Сартра. Вынужденный несколько месяцев находиться бок о бок с множеством людей, без возможности уединиться, он впервые, может быть, почувствовал себя неодиноким. Он рассказывал сказки соседям по бараку, принимал участие в боксерских поединках, которыми развлекались заключенные, и даже сочинил для рождественской постановки свою первую пьесу «Бариона», которую сам же и поставил. «Мы не виноваты в том, что угодили сюда, – писал он. – Мы здесь просто потому, что не можем выбраться. Голова может отдохнуть!» Как пишут биографы, в лагере Сартр перестал быть индивидуалистом, став человеком, осознающим общность людей и понимающим свой долг перед обществом.
В марте 1941 года Сартра освободили из лагеря – как обтекаемо пишут биографы, «по медицинским показаниям». Некоторые писали, что кто-то из друзей помог ему получить фальшивое медицинское свидетельство, кто-то говорил о том, что освободиться ему помогли редакторы сотрудничавших с немцами журналов. Как бы то ни было, в апреле 1941 года Сартр вернулся в Париж и тут же основал движение «Социализм и Свобода», куда, кроме Сартра, входили Симона де Бовуар, друг Сартра философ Морис Мерло-Понти, сестры Козакевич, Бост и еще несколько преподавателей и студентов Ecole Normale и университета Сорбонны – через несколько месяцев в их рядах насчитывалось около пятидесяти человек.
Группа намеревалась по мере сил бороться с вишистами, коллаборационистами и нацистами: члены «Социализма и Свободы» регулярно встречались в кафе или на квартирах, обсуждали планы обустройства послевоенной Франции и даже составили под руководством Сартра проект будущей конституции, экземпляр которой отправили генералу де Голлю в Англию. Они печатали и распространяли листовки с антифашистскими воззваниями, причем особой удалью считалось вручить листовку немецкому солдату – предварительно убедившись, что тот не понимает по-французски.
Многие участники Сопротивления считают группу Сартра наивной и «любительской», говоря, что они лишь разглагольствовали тогда, когда другие подвергали свои жизни опасности, – с этим мнением были согласны даже некоторые члены самой группы. Жорж Шазла, вспоминая сорок три года спустя о сочиненной Сартром листовке, размножение которой на ротаторе Сорбонны едва не окончилось арестом «подпольщиков», признавался: «Эти сартровские рассуждения о свободе, занимавшие по три страницы, вызывали во мне бешеную ярость. Ставить нас в подобные ситуации ради текстов такого рода значило сыграть с нами очень злую шутку». Однако Сартр, который никогда не был склонен к насилию даже ради спасения собственной жизни, искренне считал, что он делал все, что мог, и даже пытался уговорить присоединиться к группе Андре Жида и Андре Мальро, лично отправившись к ним на побережье из Парижа на велосипеде, однако те отказались.
К концу 1941 года группа – после ареста двух членов – прекратила свое существование, как раз в то время, когда во Франции начало действовать организованное Движение Сопротивления.
Еще одним аргументом для противников Сартра стало место профессора в лицее Condorcet, которое тот получил в октябре 1941 года. Дело было в том, что первоначально кафедру занимал Анри Дрейфусле-Фуайе – внучатый племянник того самого капитана Дрейфуса, чье шумное антисемитское дело по обвинению в шпионаже взорвало Францию в начале века. В 1940 году в соответствии с циркуляром вишистского министерства национального образования «относительно статуса лиц еврейского происхождения» Дрейфусле-Фуайе был удален с занимаемой должности – всего по этому циркуляру было уволено более тысячи человек. Радикалы считали, что бесчестно занимать кафедру человека, отставленного исключительно из-за национальности; другие указывали на то, что Дрейфусле-Фуайе был выведен на пенсию по возрасту, а кафедра перешла к Сартру не напрямую, а после еще одного преподавателя, так что он мог и не знать, чье место и по каким причинам занял. Сам Сартр категорически не принимал антисемитизм: свое отношение к еврейскому вопросу он высказал в громкой статье «Еврей и антисемит», опубликованной в 1944 году.

К 1942 году Сартр отошел от политической деятельности, решив вести борьбу на литературном фронте, причем весьма двусмысленную. Он опубликовал множество статей в разделе литературной хроники в журнале Comoedia, возглавляемом одним из самых ярых германофилов Франции Рене Деланжем, – и в то же время написал и поставил пьесу «Мухи», имевшую явный антинацистский подтекст. Ее сюжет основан на древнегреческом мифе об Оресте и Электре, но Сартр превратил античную трагедию в экзистенциальное рассуждение о свободе выбора, ответственности за свои поступки и освобождении вообще.
Во время репетиций Сартр познакомился с Камю, с которым они быстро стали близкими друзьями. И хотя пьеса была через несколько представлений запрещена, Сартр не оставил драматургию – уже на следующий год он представил самую свою, пожалуй, знаменитую драму «За запертой дверью». Пьеса построена в виде беседы трех персонажей в преисподней об экзистенциальных проблемах – существование предшествует сущности, характер человека формируется посредством совершения определенных действий, и большинство людей воспринимают себя такими, какими воспринимают их окружающие. Как заметил один из персонажей пьесы – на премьере его играл Альбер Камю: «Ад – это другие люди».
В 1943 году увидел свет самый главный труд Сартра «Бытие и ничто», где он излагает основы своего учения – экзистенциализма. «Под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и человеческую субъективность», – писал Сартр.
Единственная реальность бытия – человек, который сам и должен наполнить свой мир содержанием. В этом человеке нет ничего заранее заданного, заложенного, поскольку, как считал Сартр, «существование предшествует сущности». Сущность человека складывается из его поступков, она – результат его выбора, точнее, нескольких выборов за всю жизнь. «Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам», – писал Сартр.
Люди отвечают за свои действия и поступки только перед самими собой, ибо каждое действие обладает определенной ценностью – вне зависимости от того, отдают себе в этом люди отчет или нет. Побудителями же поступков Сартр считал волю и стремление к свободе, и эти побудители сильнее общественных законов и «всевозможных предрассудков».

Труд Сартра стал настоящей библией для французских интеллектуалов, а сам он превратился в духовного лидера страны. Экзистенциализм, философия действия, в сознании целого поколения связанный с Движением Сопротивления, придававший огромное значение свободе во всех ее проявлениях, вселял надежду на то, что это поколение сможет построить на обломках войны новый мир, лишенный прежних недостатков и достойный его ожиданий.
Следом за Сартром выпустила свой труд и Симона: в философском эссе под названием «Пирр и Сине-ас» она рассуждала об экзистенциалистской этике – во многом более точно, собранно и гораздо более понятно, чем это сделал Сартр.
Многие критики находили, что Симона гораздо более талантлива как литератор, а ее философская система отличается большей продуманностью и стройностью, но она всегда отрицала свое значение как философа, нарочито подчеркивая роль Сартра: по ее словам, настоящим мыслителем, генератором идей был именно он. Себя же Симона считала лишь писательницей, способной передать людям в доступной форме его идеи. Хотя экзистенциализм в ее понимании и отличался от сартровского, она не хотела ни вносить раскол в ряды их последователей, ни обижать самого Сартра: в конце концов, она его любила, а любовь для нее оправдывала многое.
Собрания экзистенциалистов в Cafe des Fleurs возле площади Сен-Жермен-де-Пре на левом берегу Сены постепенно стали главным очагом интеллектуальной жизни страны. Малочисленная поначалу группа друзей – Сартр, Симона, Мерло-Понти, Камю – быстро обросла новыми знакомствами, и возник самый заметный, самый яркий философский и интеллектуальный круг того времени, где каждый из членов исповедовал собственное учение и в то же время питался идеями остальных.
Камю заразил Сартра своим увлечением идеями коммунизма и к концу войны привлек Сартра к участию в группе Сопротивления Combat и работе в одноименной подпольной газете – Сартр не только печатал там многочисленные прокоммунистические статьи, но и был членом редакции.
Окончание войны Сартр встретил, будучи одним из признанных авторитетных писателей и философов своего времени. 1945 год был необыкновенно значим для него: он опубликовал роман «Возраст зрелости» – первую часть цикла «Дороги свободы», повествование об экзистенциальном выборе, свободе и ответственности – и основал литературный, философский и политический журнал Les Temps modernes (то есть «Новые времена» – название Сартр позаимствовал у фильма Чарли Чаплина), который сам и возглавил. В том же году Сартр, уже как мировая знаменитость, отправился в США – читать лекции и сделать по заказу Le Figaro серию статей о героях Сопротивления. Симону он с собой не взял.
В Нью-Йорке Сартр не только с громким успехом проповедовал экзистенциализм и писал заказанные статьи, но и не забывал о развлечениях. На одной из вечеринок он познакомился с бывшей актрисой Долорес Ванетти, которая была замужем за американским врачом и работала в Управлении военной информации. Миниатюрная и изящная, Долорес обладала редким чувством юмора, недюжинным умом и определенной смелостью, позволившей ей упасть в объятия философа, который заведомо не будет ничего скрывать. Сартр был очарован ею – настолько, что два года не возвращался в Париж, где его ждала верная Симона.

Сартр и Симона де Бовуар в кафе, 1946 г.
В 1947 году по приглашению нескольких университетов в Америку приехала и Симона, но, вместо того, чтобы вернуть Сартра, сама влюбилась. Ее
избранником стал журналист и писатель Нельсон Олгрен, на год младше ее. По воспоминаниям, именно с ним Симона впервые по-настоящему узнала радости плотской любви – к сожалению, сам Сартр был в этом вопросе не на высоте. Нельсон немедленно предложил ей руку и сердце, однако Симона снова отказала – она была по-настоящему влюблена в Нельсона, но не захотела оставить Сартра, чувствуя себя обязанной ему. Этого Нельсон так и не смог ни понять, ни простить. Ее отношения с Нельсоном, которого Симона называла «любимым мужем», длились почти 15 лет – плодом их были более трех сотен писем, опубликованных после смерти Симоны. Некоторые считают, что ее брака с Нельсоном не допустил сам Сартр, который испугался, что распад «великого союза двух философов», ставший достоянием гласности, может сильно повредить как ему лично, так и экзистенциализму в целом. «Люди ждали, что я буду верной Сартру, – писала она. – Поэтому я делала вид, что так оно и есть».
Вернувшись в Париж, Симона с головой ушла в работу над своей главной книгой. Двухтомник под названием «Второй пол» вышел в 1949 году и произвел эффект разорвавшейся бомбы: в своем труде Бовуар весьма подробно исследовала историю эксплуатации одним полом – мужским – другого пола, то есть женщин, и призывала женщин сбросить наконец ярмо векового рабства.
Книга открывалась высказыванием философа Серена Кьеркегора: «Родиться женщиной – какое несчастье! Но в семьдесят раз большее несчастье, когда женщина этого не осознает». За этот труд Симона де Бовуар была объявлена родоначальницей феминизма и предана анафеме практически всеми мужчинами мира: даже Альбер Камю, бывший ее близким другом, утверждал, что де Бовуар превратила французского мужчину в объект презрения и насмешек. Рассуждения Симоны о праве женщин на аборты, о лесбийском сексе и праве женщины на интеллектуальную жизнь вызвали бурю споров.
Сартр гордился тем, что именно он подсказал Бовуар идею этой книги, и всячески поддерживал подругу, демонстрируя их свободный союз как первое доказательство правоты Симоны и установления новых отношений между мужчиной и женщиной.

С 1952 года роман Симоны и Нельсона почти сошел на нет – американского писателя она сменила на журналиста журнала Temps modernes Клода Ланцмана, которому было всего 27 лет. Симона писала: «Его близость освободила меня от бремени моего возраста. Благодаря ему я вновь обрела способность радоваться, удивляться, пугаться, смеяться, воспринимать окружающий мир».
Клод также дал ей смелость и силы написать новый роман «Мандарины», в основу которого легла ее переписка с Нельсоном. Олгрен был взбешен – он не собирался выставлять свою личную жизнь напоказ всему миру: «Черт бы ее побрал, – говорил он в интервью. – Любовные письма – это слишком личное. Я не раз бывал в публичных домах, но даже там женщины держат двери закрытыми». Симона оправдывалась, объясняя ему в очередном письме: «Роман не отражает историю наших отношений. Я пыталась извлечь из них квинтэссенцию, описав любовь женщины, похожей на меня, и мужчины, похожего на тебя». Однако их отношения на этом прекратились.
За роман Симона получила Гонкуровскую премию, которая когда-то обошла Сартра, а на гонорар купила себе квартиру неподалеку от кладбища Монпарнас. Туда она – впервые в жизни – пригласила жить мужчину. Ланцман, к немалому неудовольствию Сартра, прожил там шесть лет.
Для Сартра в это время главной любовницей стала политика – его небывалая политическая активность вошла в легенды. Его называли самым политически активным философом и самым философствующим политическим деятелем. Правда, один из коллег Сартра, французский философ русского происхождения Владимир Янкелевич, участник Сопротивления, считал, что такая активность Сартра была определенной расплатой за относительно спокойно проведенные военные годы: «Послевоенная ангажированность Сартра была своего рода болезненной компенсацией, неким раскаянием, поиском опасностей, которым он не захотел себя подвергать во время войны. Он всего себя вложил в послевоенное время, подвергал себя всевозможным опасностям – которыми уже и не пахло, одно не могло заменить другого, и он это чувствовал».
Сартр был увлечен марксизмом и коммунизмом, он постоянно организовывал митинги и ходил на демонстрации, протестуя против всего, что, по его мнению, должно быть опротестовано, и даже порвал в 1952 году с Альбером Камю, который выступал против экстремизма во всех его проявлениях. В ответ на призыв бывшего друга к либеральности, демократии и отказу от насилия Сартр заявил, что такие разговоры суть предательство идеи гуманизма. В открытом письме Альберу Камю он писал: «Наша свобода сегодня есть не что иное, как свободный выбор борьбы за то, чтобы стать свободными».
В том же году Сартр выступал на Венском конгрессе народов в защиту мира и был избран членом Всемирного Совета Мира – организации, призванной координировать и направлять миротворцев всего мира. Когда в середине пятидесятых годов Алжир, считавшийся частью Франции, начал войну за независимость, и французские националисты развязали кампанию за то, чтобы подавить волнения в Алжире с помощью войск, Сартр – в отличие от того же Камю – был всецело за то, чтобы даровать стране независимость. Ультранационалисты публично оскорбляли его в газетах, нередко порывались бить, угрожали расстрелом и даже дважды бросали бомбы в его квартиру.
Однако политика не была его единственным делом – скорее она была призвана создать шум вокруг его литературных произведений, самыми знаменитыми из которых были в тот период пьесы «Грязные руки» 1947 года – исследование о политике и проблеме компромисса, и «Дьявол и Господь Бог» (1951), один из персонажей которой говорит: «Мир несправедлив; раз ты его приемлешь – значит, становишься сообщником, а захочешь изменить – станешь палачом».
В конце 1940-х – начале 50-х вышли вторая и третья книги из цикла «Дороги свободы», множество эссе и два биографических исследования, посвященные Шарлю Бодлеру (1947) и Жану Жене (1952), где Сартр с успехом применил экзистенциалистские принципы в анализе как обстоятельств жизни, так и творческого наследия писателей.

Сартр с матерью, сбоку сидит Симона. Париж, 1946 г.
Конец пятидесятых Сартр посвятил работе над трудом, который должен был пересмотреть всю прежнюю историю философии: первый том «Критики диалектического разума», вышедший в 1960 году, включал в себя теоретическое исследование самых значительных вопросов философии.
Симона де Бовуар вспоминала, что Сартр так напряженно работал над «Критикой», что был вынужден постоянно прибегать к искусственным стимуляторам – не только кофе, виски и табаку, но и наркотикам. По его словам, с транквилизаторами он «соображал в три раза быстрее, чем без них», однако таблетки сильно подорвали его и без того слабое здоровье. Второй том «Критики» так и не был дописан; неоконченным остался и цикл «Дороги свободы», первоначально планировавшийся тетралогией. Одни исследователи говорят о том, что наркотики подорвали интеллект философа, и он просто не смог больше написать ничего достойного. Другие считают, что Сартру было просто некогда писать – после войны, опалившей половину мира, политика стала для него важнее философии. Он словно сжигал себя изнутри приступами бешеной активности, постоянно с чем-то борясь: выступал против Алжирской войны и подавления Венгерской революции 1956 года (Сартр даже на время разочаровался в коммунизме, однако позже смог разграничить для себя высокую идею и воплотившее его государство), протестовал против высадки американского десанта на Кубу и ввода советских войск в Прагу – так называемой Пражской весны. Он был столь ярым противником войны во Вьетнаме, что вместе с Бертраном Расселом даже организовал трибунал, который был призван расследовать американские военные преступления, совершенные на вьетнамской территории.
Но даже поглощенный политикой, Сартр оставался верен себе. Когда ему было уже за пятьдесят, он влюбился в семнадцатилетнюю студентку, еврейку из Алжира Арлетт эль-Каим. Однажды она позвонила ему, чтобы обсудить некоторые аспекты труда Сартра «Бытие и ничто». Он пригласил ее в гости, и с тех пор она стала появляться в его доме все чаще и чаще и в конце концов поселилась там на правах любовницы. Симона была в ярости: Арлетт не просто спала с Сартром – она не пускала его к Симоне, равно как и Симону к нему, присвоив себе право не только на его время, но и на его труды. Теперь она, а не Симона, стала редактировать статьи Сартра, помогать ему с перепиской и подбирать книги в библиотеке. Когда Арлетт хотели депортировать, он даже собирался на ней жениться – однако, в конце концов, передумал и вместо этого в 1965 году удочерил ее.
Это стало ударом для Симоны: когда-то они договаривались делить мир только друг с другом, не заводить детей и быть вместе – а теперь Сартр завел себе дочь, которая не просто отняла у Симоны его самого – но и в будущем унаследует его деньги, идеи и права на его произведения. Этого Бовуар не смогла простить. В ответ она удочерила свою ученицу (а как некоторые полагают, и любовницу) Сильвию Ле Бон, на имя которой и составила завещание.
Но хоть эта ссора и почти развела их в Париже, перед лицом всего мира они по-прежнему были вместе. Сартр и Симона постоянно путешествовали: они объездили полмира, от Канады до Китая, от Туниса до Норвегии, встречаясь с самыми разнообразными людьми – от Фиделя Кастро и алжирских крестьян до Мао Цзэ-дуна и советских школьников. В середине шестидесятых годов слава Сартра достигла таких вершин, что в 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия в области литературы «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Однако и тут Сартр оказался верен себе. Как в 1945 году он отказался от присужденного ему ордена Почетного легиона, так и сейчас – первым в истории – отказался от премии, заявив, что не желает, чтобы его место в литературе определял предвзятый и консервативно настроенный комитет, а его самого включали в число «буржуазно признанных». В знак протеста он вообще отказался от литературной деятельности, заявив, что литература всего лишь «суррогат действенного преобразования мира». Последним его опубликованным произведением стала автобиография «Слова», вышедшая в 1964 году.

Сартр и Арлетт эль-Каим, 1965 г.
По воспоминаниям одного из членов Нобелевского комитета, через несколько лет Сартр написал в Швецию с извинениями и просьбой выплатить ему полагающееся к премии денежное вознаграждение. В этом ему было отказано: деньги были вложены в Фонд Нобеля. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту историю пока не удалось.
Его звездный час наступил в мае 1968 года, когда французские студенты, называвшие себя «новыми левыми», захватили университеты и устроили массовые беспорядки под лозунгами «Скука контрреволюционна», «Запрещать запрещено» и «Вся власть воображению». Воображение было любимой темой Сартра, который считал его самой характерной и самой драгоценной особенностью человеческой реальности, о чем он написал в нескольких работах разных лет. Сартр не просто оказался идейным главой восстания – а почти все зачинщики считали себя экзистенциалистами, – но и стал его активным участником и даже символом: Сартр был единственным, кого забаррикадировавшиеся в Сорбонне студенты пустили в здание университета. Хотя восстание было подавлено, правительство де Голля оказалось вынуждено уйти в отставку, а французское общество претерпело коренные изменения.

Симона де Бовуар, Сартр и Сильвия Ле Бон
В последние годы Сартр тяжело болел. Он почти ослеп из-за развившейся глаукомы, из-за многолетних злоупотреблений алкоголем и наркотиками у него были проблемы с сердцем и дыханием. Симона де Бовуар неотлучно находилась рядом с ним, ухаживая и помогая в работе. Сартр больше не мог писать, однако он продолжал давать многочисленные интервью и диктовать своему секретарю Бернару-Анри Леви. В последние годы он пересмотрел многие из своих прежних убеждений – даже, к ужасу Симоны, отказался от атеизма. А также он ставил под сомнение экзистенциализм – его собственное детище. В день его семидесятилетия на вопрос, как он относится к тому, что его называют экзистенциалистом, Сартр ответил: «Слово это идиотское. Как вы знаете, я его не выбирал: его на меня наклеили, и я его принял. Теперь я его больше не принимаю».
Он скончался 15 апреля 1980 года. Симона была с ним до последнего вздоха, и даже потом: она несколько часов лежала рядом с мертвым телом, прощая и прощаясь. Как она говорила, последние слова Сартра были обращены к ней: «Симона, любовь моя, я так люблю тебя, мой Бобр…»
Сартр был категорически против официальных похорон с протокольными речами и неискренними прощаниями. Он настаивал на том, чтобы его похоронили без лишних церемоний. Однако за время следования траурного кортежа к нему присоединились более пятидесяти тысяч человек, превратив скромные похороны в настоящую манифестацию. Сартр нашел последний приют на кладбище Монпарнас – по иронии судьбы, именно туда смотрели окна квартиры Симоны…
После смерти Сартра она чувствовала себя опустошенной. Придя с похорон, напилась так, что заснула на полу и жестоко простудилась. В память о Жан-Поле Сартре она написала одну из сильнейших своих книг – «Прощай» – точный и беспощадный отчет о последних годах жизни Сартра и ее любви. «Его смерть разлучает нас, – писала она. – Моя не соединит нас снова. Просто великолепно, что нам было дано столько прожить в полном согласии».
Она пережила его ровно на шесть лет. Симона де Бовуар скончалась 14 апреля 1986 года в парижской больнице, где лежала совсем одна: никто ее не навещал, никто о ней не спрашивал. Ей это было и не нужно – единственный человек, чье мнение ей было интересно, ждал ее на кладбище Монпарнас…
Джон Рональд Руэл Толкин

Волшебник из Оксфорда
Сейчас трудно найти человека, который бы не был знаком с книгами Толкина – или хотя бы с фильмами, снятыми на их основе. Армия поклонников-«толкинистов», образовавшаяся полвека назад, с каждым годом лишь растет. Его немногочисленные книги давно и надолго оккупировали верхние строчки в списках мировых бестселлеров, а количество монографий и исследований, посвященных как творчеству, так и биографии самого Толкина, уже в несколько раз превысило количество его собственных произведений – и каждый год появляются новые. Между тем сам Толкин когда-то сказал: «Изучение биографии автора – самый пустой и ложный путь к познанию его работ. Только ангел-хранитель или Сам Господь могли бы показать нам истинную связь между фактами личной жизни и произведениями писателя». Но это никого не останавливает и никому не мешает: каждый биограф пытается найти самому незначительному факту его жизни соответствие в его книгах, а каждому сюжетному повороту в романе – аналогию в реальной жизни автора. Что же заставляет миллионы людей по всему свету не просто читать его книги – но верить в них, вживаться, даже переселяться в мир, созданный и описанный Толкином? Что заставляет их не только изучать этот мир, его историю и язык, но и столь же подробно описывать – день за днем, строчка за строчкой – биографию его автора?
В его книгах кроются волшебство и магия, волшебство действий и магия слов. Там тайны, поэзия, подвиги и приключения. В его долгой жизни не было ничего такого, если не считать нескольких книг, ставших ее результатом. И все же в ней находят и приключения, и подвиги, и тайну.
По семейной легенде, фамилия «Толкин» происходит от немецкого tollkuhn, – что значит «безрассудно, глупо храбрый». Прозвище это было дано предку писателя, Георгу фон Гогенцоллерну (принадлежавшему будто бы к младшей ветви знаменитого императорского дома), сражавшемуся под знаменами эрцгерцога Фердинанда Австрийского при осаде турками Вены в 1529 году: в припадке отчаянной храбрости Георг в одиночку пробрался во вражеский лагерь и захватил знамя турецкого султана. Впрочем, немецкие исследователи возводят фамилию писателя к более прозаичному корню, а именно – к названию деревушки Tolkynen в Восточной Пруссии. Как бы то ни было, еще в середине XVIII века Толкины перебрались из родной Саксонии в Англию. Дед писателя, Джон Бенджамин Толкин, был настройщиком пианино, учителем музыки и владельцем
фирмы по продаже музыкальных инструментов – впрочем, в коммерции он не преуспел и обанкротился в 1877 году. Старший сын Джона Бенджамина и его второй жены Мэри Джейн Стау, Артур Руэл, не пошел по отцовским стопам и предпочел банковское дело торговле и музыке. Он стал неплохим банковским клерком – и в 1891 году получил повышение: должность управляющего отделением Африканского банка в Блумфонтейне – столице Оранжевой республики (сейчас – провинция Свободное Оранжевое государство, часть ЮАР). Необходимость ехать на другой конец света окупалась неплохим окладом и возможностью быстрого карьерного роста, недостижимыми в то время в метрополии. Через год к нему прибыла его невеста, Мейбл Саффилд, и молодые люди обвенчались в кейптаунском кафедральном соборе
16 апреля 1891 года. Мейбл был 21 год, ее мужу – тридцать четыре. Ровно через девять месяцев, третьего января 1892 года, у Толкинов рождается первенец, окрещенный Джоном Рональдом Руэлом. Еще через два года – 17 февраля 1894 года – Мейбл родила второго сына, Хилари Артура Руэла. Последнее имя стало традиционным для этой ветви семейства: и сам писатель, и все его дети давали своим сыновьям – среди прочих – имя Руэл, заимствованное когда-то Бенджамином из Библии.
Воспоминаний о жизни в Африке у будущего писателя сохранилось очень мало, да и те скорее известны ему по рассказам матери: однажды слуга-негр, которому маленький Джон Рональд (именно так мальчика звали в семье) казался очень красивым, на целый день утащил его из дома, чтобы похвастаться перед родными, а в другой раз малыша укусил тарантул – его спасла няня-негритянка, отсосавшая яд. Из этого случая многие исследователи делают многозначительные выводы, считая тарантула прообразом паукообразных ужасов в книгах Толкина, – например, чудовища Унголианты и ее порождения Шелоб, – хотя сам Толкин весьма ехидно относился к подобным заключениям. Известно, что он никогда не страдал арахнофобией и вообще отрицал, что запомнил тот день. Лечивший же мальчика доктор Торнтон Куинби считается одним из прототипов Гэндальфа Серого.

Артур Руэл и Мейбл Толкин с маленьким сыном и слугами, Блумфонтейн, 1892 г.
Со временем выяснилось, что жаркое африканское солнце и гнилой климат Блумфонтейна не лучшим образом сказываются на здоровье младших Толкинов, и было решено, что Мейбл с сыновьями отправится в Англию, а Артур присоединится к ним, как только приведет в порядок свои дела. В 1895 году миссис Толкин с детьми прибыла на родину и поселилась у родителей Мейбл в деревушке Кинге Хит недалеко от Бирмингема. Маленький Джон Рональд был на всю жизнь потрясен Англией, ее травой и деревьями, полями и лесами: столько зелени он никогда раньше не видел. Когда на Рождество выпал снег и нарядили елку, восторгу его не было предела – ведь в Блумфонтейне наряжали эвкалипт, а снег бывал только в английских газетах. Следы детского восхищения природой будут заметны во всех его книгах.
Артур присылал письма, где писал, как он скучает по семье, как ждет встречи… А потом пришло чужое письмо: 15 февраля Артур Толкин скончался от ревматической лихорадки.
Мейбл осталась одна с двумя детьми на руках, и надеяться ей оставалось лишь на помощь родственников. Она происходила из добропорядочного патриархального английского рода, веками жившего в Средней Англии. Саффилды из поколения в поколение занимались торговлей; родители Мейбл, Джон Саффилд и Эмили Джейн Спарроу, имели в центре Бирмингема дом и магазин. Они были настоящими англичанами – неторопливыми, вросшими в землю, практичными, преисполненными здравого смысла и чувства собственного достоинства. «Толкин по имени, я, тем не менее, Саффилд по вкусам, способностям и воспитанию», – утверждал позже Толкин.
Из дома родителей в Бирмингеме Мейбл скоро переехала в расположенную неподалеку деревушку Сэйр-хоул, где смогла по случаю снять дешевое жилье. Денег, которых оставил ей муж, едва хватало на жизнь. Ее единственной радостью были дети, а главным утешением – религия. Со временем она – под влиянием своей сестры Мэй – стала склоняться к католичеству и в 1900 году официально переменила веру, сделав набожными католиками и сыновей. Этот поступок резко отдалил ее от родственников: к католикам, «презренным папистам», в Англии традиционно относились очень предвзято – причиной тому не одно столетие религиозных войн, преследований и массовых репрессий. Ни Толкины – приверженцы англиканской церкви, ни баптисты-Саффилды больше не желали иметь ничего общего с отступницей.
Но Мейбл не сдавалась и не отчаивалась. Она решила во что бы то ни стало дать детям хорошее образование: в то время оно включало в себя языки и прочие гуманитарные дисциплины, и Мейбл, которая прекрасно играла на пианино и рисовала, знала латынь, немецкий и французский, сама учила сыновей. Она же привила детям любовь к ботанике: Джон Рональд не только прекрасно рисовал деревья и пейзажи, но и знал по именам все окрестные растения. Любовь и особую привязанность к деревьям он сохранил на всю жизнь.
В детстве Джон Рональд много читал: он любил «Алису в стране чудес» и сборник волшебных сказок Эндрю Лэнга, книги основоположника английского фэнтези Джорджа Мак Дональда и книги про индейцев (а вот сказки братьев Гримм и «Остров сокровищ» ему совсем не понравились). Они с братом облазили все окрестности Сэйрхоула: там были лес и озеро, река Коул и старинная мельница, и всюду их ждали приключения, рыцари и великаны, принцессы и драконы. «Я так страстно желал повстречаться с драконами, – вспоминал он много лет спустя. – Естественно, будучи маленьким и не очень сильным, я бы не хотел встретиться с ними на околице. Но все равно мир, где они были, даже такие страшные, как Фафнир, представлялся мне куда более богатым и прекрасным. И чтобы попасть туда, я бы не постоял за ценой». Неудивительно, что еще в детстве мальчик сочинил свою собственную сказку, и, конечно, она была про драконов. «Я ее начисто забыл, кроме одной филологической подробности. Моя мать насчет дракона ничего не сказала, но заметила, что нельзя говорить «зеленый большой дракон», надо говорить «большой зеленый дракон». Я тогда не понял, почему и до сих пор не понимаю. То, что я запомнил именно это, возможно, важно: после этого я в течение многих лет не пытался писать сказок, зато был всецело поглощен языком».
У мальчика и правда оказался потрясающий талант к языкам: латынь он впитывал, словно губка, а в древнегреческом далеко превзошел свою мать. Стало ясно, что его во что бы то ни стало надо отдавать в хорошую школу. К счастью, один из родственников согласился оплатить обучение, и Джон Рональд поступил в лучшую бирмингемскую школу короля Эдуарда. Правда, для этого пришлось оставить так полюбившийся за четыре года Сэйрхоул. «Всего четыре года, – вспоминал писатель, – но они до сих пор кажутся мне самыми продолжительными и повлиявшими на всю мою жизнь».
В школе оказалось, что у юного Толкина и впрямь незаурядный лингвистический талант. Он блестяще успевал по латыни и греческому, к тому же – благодаря учителю английской литературы, с увлечением декламировавшему детям Чосера в оригинале, – увлекся средневековым английским, а затем и древнеанглийским, и уже через несколько месяцев свободно читал в оригинале «Беовульфа» и рыцарский роман «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Этот же учитель дал Толкину учебник англосаксонского. Кто-то из учеников по случаю продал учебник готского. Загадочные надписи на железнодорожных вагонах, отправлявшихся в Уэллс, зародили в Толкине интерес к валлийскому, а детский восторг перед драконом Фафниром – к сагам на старонорвежском. Причем это было не просто изучение грамматик – Толкин мог спокойно разговаривать на них, писать и даже спорить: однажды на школьном диспуте, играя роль посланника варваров, Толкин счел традиционную латынь малоподходящей для варвара и выступал на готском.

Джон Рональд Толкин с братом Хилари, 1905 г.
Но Толкину этого было мало, и он начал конструировать собственные языки, придумывать алфавиты и грамматики. Первый подобный язык он придумал вместе со своими кузинами: он назывался «животным», и каждое его слово соответствовало названию зверя или птицы. Потом был «невбош», состоявший из исковерканных английских, французских и латинских слов. Еще был «наффарский» язык на основе испанского, и язык на основе готского, и много других, причем многие из них были развиты настолько, что Толкин даже сочинял на них стихи. Он всю жизнь считал, что его страсть к изобретению языков – обычное дело, сродни детскому сочинению стихов: «Огромнейшее количество детей обладает тем, что вы называете творческой жилкой: это обычно поощряется и не обязательно ограничивается чем-то определенным: они могут не желать заниматься живописью или рисованием, или музыкой в большом объеме, но, тем не менее, как-то творить они хотят. И коль скоро образование в основной массе лингвистическое, то и творчество приобретает лингвистическую форму. Это вовсе не из ряда вон выходящее событие»…
В школе Джон Рональд, вопреки ожиданию, был счастлив, он прекрасно успевал по всем предметам и даже был членом сборной школы по регби. Однако снова счастье его было недолгим: в самом начале 1904 года у Мейбл Толкин обнаружили диабет – и через полгода, 14 ноября, она скончалась в больнице. Никаких средств для лечения диабета тогда не знали, но Толкин всю жизнь был убежден, что его мать убили родственники, отвернувшиеся от нее по религиозным причинам, и считал ее почти святой, пострадавшей за веру. «Моя милая мама воистину была мученицей – не каждому Господь дарует столь легкий путь к своим великим дарам, как Хилари и мне, – он дал нам мать, что убила себя трудом и заботами, дабы укрепить нас в вере», – напишет он девять лет спустя. Католицизму, доставшемуся ему от матери, Толкин будет верен всю жизнь. «Католицизм для Толкина был одной из двух важнейших составляющих его интеллектуальной жизни», – напишет однажды его официальный биограф Джон Карпентер.
В своем завещании Мейбл доверила сыновей приходскому священнику Френсису Ксавье Моргану, незаурядному человеку с прекрасной душой, сильной волей и добрым сердцем, в чьих жилах смешались английская, валлийская и испанская кровь. Лучшего выбора она сделать не могла: отец Френсис искренне полюбил мальчиков и делал все, что было в его силах, чтобы они ни в чем не нуждались. Он же привил Джону Рональду интерес к филологии: в его доме было множество книг, от богословских трудов до развлекательных романов, и мальчик читал их запоем, наконец – как он потом говорил – почувствовав связь между языком и текстом.
Благодаря отцу Моргану состоялась, возможно, и самая главная встреча в жизни Толкина. В 1908 году отец Френсис забрал мальчиков из дома тетки, где они жили после смерти матери, и перевез их в пансион миссис Фолкнер. Этажом ниже там жила Эдит Мэри Братт, юная сероглазая и темноволосая красавица, которая мечтала стать концертирующей пианисткой и поэтому репетировала дни напролет. Поначалу Джон Рональд влюбился в музыку, потом осмелился познакомиться и с исполнительницей. Они с Эдит быстро подружились: часами гуляли по окрестным полям, а потом сидели на балконе местной чайной, обстреливая прохожих кусочками сахара. У них было много общего – оба сироты (мать Эдит умерла год назад, отца она никогда не знала), оба нуждались в любви и заботе, и нет ничего удивительного в том, что скоро они обнаружили, что влюблены друг в друга. Им не помешала даже разница в возрасте: в тот момент Джону Рональду было шестнадцать, а Эдит – девятнадцать.

Эдит Братт, 1907 г.
Толкин все свободное время отдавал Эдит, и учеба стала заметно прихрамывать. Когда осенью 1908 года отцу Моргану доложили, чем занимается его воспитанник вместо учебы, тот был весьма рассержен: Толкина ждет прекрасное будущее, ему обязательно надо учиться, чтобы блестяще сдать экзамены в Оксфорд и получить стипендию – на оплату обучения мальчика в университете у Моргана, к сожалению, денег не было, и стипендия была единственным шансом для Джона Рональда получить высшее образование. Романы и ранний брак только погубят его карьеру – убеждает отец Морган воспитанника, и оказывается прав: Толкин благополучно провалил вступительные экзамены. Точнее, он их сдал, и довольно неплохо, но для получения стипендии этого было мало. Тогда отец Морган перевез мальчиков из пансиона миссис Фолкнер и запретил Толкину видеться с Эдит до наступления совершеннолетия, то есть двадцати одного года: ему нельзя ни встречаться с нею, ни переписываться. Это условие, наводящее на воспоминания о рыцарских обетах, Джон Рональд выполнил с честью.
Лишившись общества Эдит, Толкин создает себе новое: он и трое его школьных товарищей организуют «полутайный» клуб ЧКБО – «Чайный клуб и Барровианское общество», обязанный своим названием пристрастием членов клуба к распиванию чая в школьной библиотеке и расположенном рядом со школой магазине Барроу. Толкин – то ли в шутку, то ли всерьез, – утверждал, что когда члены клуба собираются вместе, их интеллект усиливается. Мальчики беседовали, мечтали, читали друг другу свои первые литературные опыты и надеялись покорить мир. Как писал один из членов ЧКБО Джеффри Бейч Смит, члены общества считали себя «получившими в дар искру пламени – как сообщество, несомненно, а возможно, и каждый в отдельности, – которой предназначено было зажечь в мире новый свет, или, что то же самое, заново разжечь свет старый; ЧКБО же предначертано было послужить свидетельством Бога и Истины». Дружба четверых барроувистов продолжалась и после школы.
Летом 1911 года Толкин с двенадцатью друзьями совершил путешествие по Швейцарии, проделав путь от Интерлакена до Лаутербруннена. Позднее в одном из писем он признавался, что именно это путешествие послужило прообразом путешествия Бильбо Бэггинса и двенадцати гномов по Туманным горам. По утверждениям биографов, из Швейцарии Толкин привез и открытку с изображением картины Йозефа Маделенера под названием «Горный дух»: седобородый старец, в широкополой шляпе и длинном плаще, сидел на камне под сосной и кормил с руки белого оленя. Эту открытку он хранил много лет и, в конце концов, написал на конверте: «Происхождение Гэндальфа». Правда, последние изыскания установили, что картину эту Маделенер написал не раньше двадцатых годов, и как она попала к Толкину, неизвестно.
В том же 1911 году Толкин, наконец, поступил в Эксетерский колледж в Оксфорде, на классическое отделение. В колледже жизнь шла по-прежнему: встречи ЧКБО (все его члены оказались в Оксфорде), занятия регби, стихи и, конечно, изучение языков. Прочитанная в переводе «Калевала» побудила его изучить финский язык, и он очаровал его своей красотой и напевностью, а сам эпос произвел на него такое впечатление, что он стал мечтать создать когда-нибудь подобную мифологию и для Англии.
Между тем 3 января 1913 года ему исполнился двадцать один год. Едва часы пробили полночь, он написал Эдит и предложил ей выйти за него замуж. Возможно, если бы отец Морган не разлучил их, первая любовь, как это нередко бывает, тихо угасла бы сама, однако запрет послужил лишь укреплению чувств Толкина. «Быть может, ничто иное не укрепило бы мою волю настолько, чтобы этот роман стал для меня любовью на всю жизнь (пусть даже эта влюбленность с самого начала была совершенно искренней)», – писал позже Толкин.
Эдит ответила, что она уже помолвлена и скоро собирается выйти замуж за брата своей школьной подруги – ведь она была уверена, что Джон Рональд давно забыл ее. Через неделю Толкин примчался к ней в Челтенхем, где она тогда жила, и после долгого разговора Эдит согласилась стать его женой. На следующий день она вернула жениху кольцо и объявила о помолвке с Толкином.
Толкин, меж тем, сдал первые экзамены на бакалавра: выяснилось, что по классической филологии его успехи были очень хороши, зато по сравнительной филологии – просто блестящие. По рекомендации преподавателей Толкин перевелся на английское отделение, где он мог в полной мере посвятить себя древнегерманским языкам и старинным текстам. В англосаксонской поэме «Христос» Кюневульфа Толкин наткнулся на загадочную фразу: «Привет тебе, Эарендель, светлейший из ангелов, Над Средиземьем людям посланный». «Я был поражен исключительной красотой этого слова (или имени), – писал он впоследствии, – вполне соответствующего обычному стилю англосаксонского языка – но благозвучного до необычайной степени в этом приятном для слуха, но не «усладительном» языке»… Много лет спустя этот же отрывок послужит толчком к погружению в древние языки для героя его незаконченного романа «Утраченный путь»: «Я почувствовал странный трепет, как будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь ото сна. Это было нечто отдаленное, чужое и прекрасное, оно было далеко за теми словами, что я пытался постичь, дальше древнеанглийского».
В начале 1914 года Эдит, по настоянию жениха, перешла в католицизм. Это решение дорого ей обошлось: домовладелец, добропорядочный протестант, выгнал новообращенную католичку на улицу, а родные и друзья разругались с нею. Тем не менее она была счастлива, предвкушая свадьбу с любимым. Летом 1914 года они с Джоном Рональдом побывали на корнуольском побережье: Толкин, впервые в сознательном возрасте увидевший море, был потрясен до глубины души – мотив моря, любви и тоски по нему навсегда вошел в его творчество. Тем же летом он напишет поэму «Путешествие Эаренделя Вечерней Звезды», где слились отзвуки древних мифов и шум моря: в поэме описывалось странствие морехода, ставшего звездой. Считается, что «Путешествие Эаренделя» стало первым шагом на пути самого Толкина в Средиземье.

Когда началась Первая мировая война, Толкин, вопреки царящим среди молодежи настроениям, не рвался на фронт: сначала он решил окончить Оксфорд. В конце 1914-го Джон Рональд встретил своих друзей по ЧКБО: «Эта встреча помогла мне обрести голос, чтобы выразить все, что искало выхода. Я всегда приписывал это тому вдохновению, что вселяли в нас даже несколько часов, проведенных вместе», – вспоминал он. Толкин все активнее сочиняет стихи, и все чаще – на придуманном им «эльфийском» языке квэнья, созданном на основе латыни, древнегреческого и финского. Язык этот, с достаточно сложной грамматикой и собственной рунической азбукой, Толкин создавал из соображений красоты звучания и логики лингвистических построений.
На выпускных экзаменах в 1915 году он получил высшие баллы и первую премию, и лишь после этого записался добровольцем в полк Ланкаширских стрелков, где получил чин младшего лейтенанта. Несколько месяцев полк перебрасывали по Стаффордширу из лагеря в лагерь, и все это время Толкин продолжал занятия наукой, искусственными языками и поэзией. Со временем Толкин осознал, что существование языка без тех, кто на нем говорит, невозможно – так был дан новый толчок к созданию Средиземья: самый красивый из созданных им языков, квэнья, Толкин отдал эльфам, живущим в прекрасной стране Валинор, куда, в конце концов, попал Эарендил – имя Толкин изменил в соответствии с правилами разработанного им эльфийского языка.
Наконец стало известно о скорой отправке стрелков во Францию. В ожидании скорой разлуки – возможно навсегда – Джон Рональд Руэл Толкин обвенчался с Эдит Мэри Братт 22 марта 1916 года в соборе Девы Марии в Уорвике. Медовый месяц длиной в неделю молодые провели в приморском городке Клеведоне. Уже 4 июня Толкин покинул любимую жену и отбыл на фронт.
Полк, где сражался Толкин, воевал весьма успешно и принял достойное участие в знаменитой битве на Сомме – одной из крупнейших операций Первой мировой. А потом, после сидения в окопах и бесплодного ожидания неизвестно чего, его подкосила «окопная лихорадка» – разновидность сыпного тифа, весьма распространенная в антисанитарных военных условиях. В начале ноября 1916 года его сажают на корабль, идущий в Англию, и дни до самого Рождества младший лейтенант Толкин провел в госпитале Бирмингема, а рождественские праздники – с Эдит в Стаффордшире.
Весь следующий год Толкин то лежит в госпитале (болезнь давала постоянные рецидивы), то служит в различных лагерях на территории Англии, что, в конце концов, позволило ему получить чин лейтенанта. Маясь от безделья, он начал учить новые языки и приводить свои фантазии о прекрасном Валиноре и населяющем его народе в более-менее упорядоченную форму. Для зарождающегося цикла Толкин выбрал название «Книга утраченных сказаний»: здесь появляются многие темы, нашедшие позже свое воплощение в «Сильмариллионе» – рассказ о Турине, осаде и падении Гондолина и Нарготронда, войнах с Морготом…

Толкин во время службы в армии, 1916 г.
Шестнадцатого ноября 1917 года родился их с Эдит первенец, названный Джоном Френсисом Руэлом Толкином. В то время Толкин служил в очередном лагере в городке Гулле, и Эдит поселилась рядом с ним. В свободное время они часами гуляли по окрестным лесам, заросшим болиголовом, и Эдит танцевала в роще среди цветов. Так родилось самое прекрасное сказание «Сильмариллиона» – о том, как смертный Верен влюбился в эльфийскую деву Лутиэн Тинувиэль, танцевавшую среди зарослей болиголова. Лутиэн и все красавицы из книг Толкина имели единый прототип – его любимую Эдит, которую он описывал так: «Ее волосы были черными, кожа – светлой, глаза – ясными, и она могла петь и танцевать».
В ноябре 1918 года был подписан мирный договор, и война для Англии закончилась. Но для Толкина победа не была столь безоговорочно прекрасной, как об этом любила говорить пропаганда. Двое из его лучших друзей, членов ЧКБО, погибли в 1916 году. В последнем письме один из них писал Толкину: «Мое главное утешение в том, что если меня ухлопают сегодня ночью – через несколько минут мне идти на позиции, на свете все же останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечет в слова все, о чем я мечтал и на чем мы все сходились… Да благословит тебя Бог, мой дорогой Джон Рональд! То, что пытался сказать я, да удастся сказать тебе, много позже, когда меня уже не будет, если такова моя судьба…» Свою «избранность», понимаемую им как необходимость нести одному дальше все то, что было предназначено для многих, Толкин ощущал всю жизнь. И навсегда победы и счастливые концы в его книгах омрачены печалью по утраченному, ощущением невозможности вернуться в прошлое, скорбью по навсегда исчезнувшей красоте и радости.
Толкин подал прошение разрешить ему вернуться в Оксфорд «с целью завершения образования». Вскоре он получил должность помощника лексикографа в редакции Нового словаря английского языка (названного впоследствии Оксфордским): Толкин отвечал за слова на букву w. Работа над словарем требовала много времени, но Толкин все не прекращал работу над «Книгой утраченных сказаний» и даже прочел одно из них – «Падение Гондолина» – в студенческом Эссеистском клубе Эксетерского колледжа. По воспоминаниям, обычно требовательная аудитория приняла его неожиданно хорошо.
Летом 1920 года Толкин выдвинул свою кандидатуру на открывшуюся вакансию ридера (примерно помощника профессора) английского языка в университет Лидса, и, к собственному удивлению, был принят. Именно в Лидсе 22 октября 1920 года рождается второй сын, Майкл Хилари Руэл, а 21 ноября 1924 – третий, Кристофер Джон Руэл. Толкин очень любил сыновей, рассказывал им на ночь сказки – многие из них потом перерастут в полноценные литературные истории, – а на Рождество писал письма с картинками от имени Деда Мороза. С каждым годом письма эти становились все больше и увлекательнее; там появлялись новые персонажи – помощник Деда Белый медведь, садовник Снеговик, секретарь эльф Илберет и многие другие. В 1976 году послания были собраны и изданы под названием «Письма Деда Мороза».
На новом месте Толкин с головой ушел в научную работу. В 1922 году он выпустил Словарь средневекового английского языка, а затем, вместе с перешедшим на работу в Лидс из Оксфорда Эриком Валентином Гордоном, подготовил новую редакцию перевода староанглийской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Тогда же перевел аллегорическую средневековую поэму предположительно того же автора «Жемчужина», написанную аллитерационным стихом, и поэму «Сэр Орфео», причудливую смесь древнегреческого мифа об Орфее с кельтским фольклором. Вместе с Гордоном, ставшим близким другом Толкина, они основали студенческий «Клуб викингов», который собирался, чтобы читать саги, распивать пиво и петь шуточные песни на готском, англосаксонском или древнеисландском языке, положенные на известные английские мелодии: в 1936 году многие из них были собраны и изданы – без разрешения Толкина или Гордона – под названием «Песни для филологов». Правда, большая часть и без того маленького тиража сгорела – уцелели лишь полтора десятка экземпляров.
Не забывал он об Арде, как стал называться придуманный им мир, и о его языках: к квэнья, «эльфийской латыни», прибавился синдарин, созданный по образцу валлийского, – на нем заговорят эльфы Белерианда; адунайк – язык Нуменора, судьбе которого Толкин посвятит два незаконченных романа, и еще несколько, проработанных менее подробно. Позже он писал: «Язык и имена для меня неотделимы от сюжета, а мои истории лишь фон, благодаря которому я могу воплотить свои лингвистические пристрастия». Складывающийся «цикл Арды» Толкин мечтал сделать – ни много ни мало – мифологией для Англии, дав замену тем мифам и сказаниям, которые не были написаны или были утеряны из-за нашествия норманнов. «Я задумал создать цикл более-менее связанных между собою легенд – от преданий глобального, космогонического масштаба до романтической волшебной сказки; так, чтобы более значительные основывались на меньших в соприкосновении своем с землею, а меньшие обретали великолепие на столь величественном фоне; цикл, который я мог бы посвятить просто стране моей Англии. Ему должны быть присущи желаемые атмосфера и свойство, нечто холодное и ясное, что дышит «воздухом» (под почвой и климатом Северо-Запада я имею в виду Британию и ближайшие к ней области Европы, не Италию и Элладу, и, уж конечно, не Восток), и одновременно он должен обладать (если бы я только сумел этого достичь) той волшебной, неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской (хотя в подлинных произведениях древних кельтов она встречается редко); эти легенды должны быть «высоки», очищены от всего грубого и непристойного и соответствовать более зрелым умам земли, издревле проникнутой поэзией. Одни легенды я бы представил полностью, в деталях, но многие наметил бы только схематически. Циклы должны быть объединены в некое величественное целое – и, однако, оставлять место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма». Арда, сочиненная Толкином, – это не другая планета и не параллельная реальность, это – наш мир, только невероятно давно: в те времена, память о которых живет лишь в древних сказаниях и глубинах памяти. «Средиземье – это объективно реальный Мир… Театр действий моих преданий – это земля, та, на которой мы живем сейчас, хотя исторический период – воображаемый», – объяснял писатель много лет спустя.
В 1924 году Толкин преодолевает следующую карьерную ступень, став самым молодым за всю историю Лидса профессором английского языка. Однако душа его стремилась в Оксфорд: и когда в 1925 году освободилась кафедра профессора англо-саксонского языка в оксфордском колледже Пемброк, он, не задумываясь, подал заявку. Его приняли, и Толкины вернулись в Оксфорд. Там, 18 июня 1929 года, Эдит родила своего последнего ребенка, дочь Присциллу Мэри Энн Руэл.
В Оксфорде Толкин продолжал участвовать в клубах. Сначала это были «Углееды», созданные для чтения и изучения исландских и норвежских саг. Одним из членов клуба стал преподаватель из Колледжа Магдалины Клайв Стейплз Льюис, который стал ближайшим другом Толкина. Когда «Углееды» естественным образом, прочитав все саги, прекратили свое существование, Льюис основал клуб «Инклинги», в чьем названии было и слово ink — чернила, и inkling — намек, и значение «потомки чернил». Среди членов общества были майор Уоррен Льюис (брат К. С. Льюиса), врач Р. Э. Хейуорд, Хьюго Дайсон и друг Льюиса Оуэн Барфилд, и присоединившийся позже писатель Чарльз Уильяме. Почти у всех «инклингов» клуба были прозвища: Толкина звали Толлерс. Члены клуба собирались по вторникам в пивной «Орел и дитя», а по четвергам в гостиной у Льюиса. Читались и обсуждались новые рукописи, вынашивались идеи. Именно на засе дании этого клуба Толкин в 1936 году впервые прочел своего знаменитого «Хоббита».
По легенде, хоббиты возникли случайно, в канун 1930 года, когда профессор Толкин проверял контрольные работы. В одной из них была пустая страница – и Толкин, недолго думая, взял да и написал на ней «В норе под горой жил-был хоббит». Кто такие хоббиты, тогда еще никто не знал: позже исследователи вывели это слово из hob — староанглийское волшебное существо, проказник и шкодник, и rabbit — кролик. Впрочем, сам Толкин сказал как-то, что единственным словом, повлиявшим на него, было слово hole — нора, дыра.

Джон Рональд, Эдит и дети.
Хоббит запомнился профессору. Через некоторое время он, по обыкновению рассказывая своим детям сказки на ночь, сочинил историю про хоббита, к которому в гости незваными пришли двенадцать гномов. Из традиционных сказок хоббиты получили свои мохнатые ноги и бесшумную походку, а от образов «комичных буржуа» из английских романов – приземленность, ограниченный кругозор, консерватизм и здравый смысл. Примерно в 1936 году Толкин записал историю о хоббите Бильбо, однако что делать с нею дальше, не знал. Как это нередко бывает, в дело вмешался случай: одна из студенток профессора смогла прочесть рукопись и так вдохновилась, что принесла ее в издательство Allen & Unwin, в котором подрабатывала. Директор Стэнли Анвин, считавший, что книги для детей должны оценивать дети, отдал «Хоббита» своему одиннадцатилетнему сыну Райнеру, чей отзыв был безграмотен, но благоприятен: «Она хороша и должна понравится всем детям в возрасте от пяти до девяти лет».
В 1937 году «Хоббит, или Туда и обратно» вышел из печати. Успех был неожиданно огромным, и тут же был запущен второй тираж. На следующий год книгу издали в Америке, где ее ждал еще больший успех, а газета Gerald Tribune назвала «Хоббита» «лучшей детской книгой сезона». Главные герои – простоватый и плутоватый хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф, отважные гномы и благородные эльфы, – полюбились читателям по обе стороны океана. На Толкина посыпались восторженные письма читателей и просьбы о продолжении. «Дорогой мистер Толкин, – писал профессору двенадцатилетний мальчик Джон Барроу, – я только что прочел вашу книгу «Хоббит» в одиннадцатый раз и хочу рассказать вам, что я о ней думаю. Я думаю, что ничего более замечательного я не читал… Если вы написали еще какие-нибудь книги, пожалуйста, не сообщите ли вы мне, как они называются?» Издатели тоже намекали на продолжение, а для начала спросили, нет ли у Толкина других подобных вещей. Тот, не долго думая, принес им «Сильмариллион» и письма Деда Мороза, однако обе эти рукописи были отвергнуты – читатели, мол, жаждут книг про хоббитов, и точка. После довольно долгих уговоров Толкин согласился написать «Нового хоббита», однако на это потребовалось долгих семнадцать лет.
Поначалу Толкин честно пытался написать именно сказку о хоббитах, которые стали ему родными и любимыми. Писатель и сам не скрывал, что в некотором смысле писал их с себя: «Я на самом деле хоббит, хоббит во всем, кроме роста. Я люблю сады, деревья и немеханизированные фермы; курю трубку и предпочитаю хорошую простую пищу (не из морозилки!), а французских изысков не перевариваю; люблю и даже осмеливаюсь носить в наше унылое время узорчатые жилеты. Обожаю грибы (прямо из леса); юмор у меня простоватый, и даже самые доброжелательные критики находят его утомительным; я поздно ложусь и поздно встаю (по возможности). Путешествую тоже нечасто». Однако постепенно продолжение переросло в нечто гораздо большее, впитав в себя отзвуки Сильмариллиона, персонажей «Утраченных сказаний» и философию самого Толкина.
Казалось, жизнь Толкина в Оксфорде протекала на удивление спокойно и тихо. Он считался хорошим лектором, умевшим даже о таких скучных вещах, как мертвые языки, рассказывать так, будто это волшебные истории. Заседания клубов, встречи с друзьями, прогулки по живописным окрестностям, воспитание детей, редкие научные публикации – одной из вершин его научной работы стала лекция «Беовульф: чудовища и критики», позже вышедшая отдельным изданием и навсегда изменившая взгляд исследователей на эту знаменитую поэму. В воспоминаниях описывается его кабинет: полки со словарями и лингвистическими трудами, на стене – карта Средиземья, большая корзина для бумаг, огрызки карандашей, две пишущие машинки, чернильница, трубки и табак… Год неспешно тек за годом, дети росли – Джон решил стать священником и уехал учиться в Рим, Майкл подумывал о преподавательской карьере, Кристофер – о литературной. «Новый хоббит», постепенно переросший в сагу под названием «Властелин колец», писался очень медленно; до него то не доходили руки, то Толкин переписывал целые главы, изменяя ход истории придуманного им мира. Вторая мировая война, всколыхнувшая весь мир, тоже задержала написание романа: профессор больше волновался за воевавших сыновей, Майкла и Кристофера, чем за остановившихся на полпути Хранителей. Позже его неоднократно спрашивали, повлияла ли на его творчество Вторая мировая, не является ли «Властелин» аллегорическим описанием ее событий. Толкин объяснял: «Это ни аллегория, ни отражение современных событий… Я искренне не люблю аллегории во всех ее формах и никогда не любил. Я предпочитаю историю, настоящую или сочиненную, с ее разнообразными отражениями в мыслях и ощущениях читателей». Сам Толкин говорил о том, что если его читатели непременно хотят сопоставлять ощущение ужасов войны, описанных во «Властелине», с недавними историческими событиями, то подобная связь скорее возникает с Первой мировой войной, нежели со Второй. В одной из рецензий К. С. Льюис писал, что в изображении Толкина «война имеет массу характерных признаков той войны, которую знало мое поколение», сам писатель в одном из писем говорил, что «мертвые болота и подступы к Мораннону отчасти обязаны Северной Франции после битвы при Сомме». Однако самое главное, что он вынес после Первой мировой, – что все войны похожи друг на друга, и все они ужасны, ведутся ли они на полях Европы, в долинах Средиземья или в человеческих душах. Недаром он равно отрицательно относился ко всем воюющим политикам – Гитлеру и Сталину, Франко (извиняя его, впрочем, в одном: республиканцы убивали монахов и сжигали монастыри, в то время как Франко защищал католическую веру) и даже английским премьерам, наделавшим непростительно много ошибок в тридцатых и сороковых годах. Подобная точка зрения не прибавляла ему популярности среди простых англичан, но в Оксфорде, где еще в начале двадцатых постановили считать любую войну злом, – он был не одинок.

Другим камнем преткновения служил католицизм Толкина, основа его мировоззрения. То, что его лучший друг, Клайв Льюис, не верит в Бога, доставляло ему немало страданий, и Толкин прикладывал все усилия, чтобы обратить Льюиса в христианство. Сначала ему удалось склонить Льюиса к деизму – вере в Бога без веры в церковь. Наконец после одного долгого разговора Льюис записал в дневнике: «Я только что перешел от веры в Бога к осознанной вере в Христа – в христианство. Долгий ночной разговор с Дайсоном и Толкином подтолкнул меня к этому». Однако Льюис, вопреки ожиданиям Толкина, присоединился не к католической, а к англиканской религии. Очень скоро он стал – благодаря лекциям и выступлениям по радио, – достаточно известным проповедником. Впрочем, Толкин этого не одобрял, неодобрительно называя Льюиса «теологом для всех». Однако они были ближайшими друзьями: когда в конце тридцатых годов Льюис стал писать ставшую позже знаменитой «Космическую трилогию» (первый роман «За пределы безмолвной планеты» вышел в 1939 году), Толкин немало сделал для того, чтобы Льюис смог закончить и издать свой роман – не без его протекции «Планету» приняло к печати издательство Bodley Head — после того, как ее отвергли два других.
К концу войны текст «Властелина колец» был почти закончен, многие его части были прочитаны на заседаниях «Инклингов». Льюис критиковал роман (особенно ему не нравились стихотворные вставки), однако всюду давал о нем самые восторженные отзывы. Позже Толкин писал: «Я перед ним в неоплатном долгу и вовсе не по причине какого-то «влияния», как это обычно понимают; а из-за той мощной поддержки, какую он оказывал мне. В течение долгого времени он был моей публикой. Лишь он один убеждал меня в том, что моя писанина может быть чем-то большим, нежели обычное хобби».
В 1949 году Толкин публикует сборник сказок «Фермер Джайлз из Хэма» – заглавная сказка представляет собой изящную пародию на рыцарский роман; однако книга не пользуется особым успехом. Наконец Толкин берет себя в руки и заканчивает «Властелина колец». Еще некоторое время уходит на вычитку, составление карт и приложений. Наконец Толкин предлагает рукопись в издательство Collins: его прежние издатели, Allen & Unwin, не хотят издавать «Властелина» вместе с «Сильмариллионом», как это было задумано Толкином, а в Collins вроде бы согласны. Однако потом они тоже отказываются, справедливо полагая, что тысячестраничный роман вкупе с не менее толстой книгой невразумительных легенд не вызовет читательского интереса. И Толкин относит «Властелина» в Allen & Unwin.
Директора издательства тоже полагают, что роман не удастся продать; но он им так нравится, что было решено издать хотя бы часть: если его не будут покупать, на этом можно будет и остановиться. «Властелина» разделили на три части, каждой придумали название, и в 1954 году свет увидела первая часть знаменитого романа под названием «Братство кольца». Отзывы были неоднозначными: от восторгов до полного неприятия. Рецензенты писали: «Для романа… это феноменально дорогая книга, и, видимо, я должен относиться к ней серьезно, но я не могу найти для этого ни одной по-настоящему серьезной причины» (анонимный рецензент); «За последние годы я не прочел ничего, что доставило бы мне такую радость» (поэт Уинстон Хью Оден); «Герои «Властелина Колец», хоббиты – это просто мальчишки, взрослые герои – в лучшем случае пятиклассники, и… никто из них ничего не знает о женщинах, кроме как понаслышке!» (критик Эдвин Муир). Второй и третий том вышли с перерывом в девять месяцев – они распродавались настолько хорошо, что Толкин даже пожалел, что не ушел на пенсию. Армия его поклонников росла с каждым новым томом. На третьем канале ВВС была осуществлена радиопостановка романа; по всей стране читатели открывали дискуссионные клубы, где обсуждали роман и его героев. «Книги Толкина читали дети и академики, хиппи и домохозяйки», – пишет английский исследователь Д. Райан. В 1965 году в США вышло «пиратское» издание в мягкой обложке – мало того, что книгу по дешевке смогли купить тысячи читателей, так и судебный процесс вокруг нее сделал роману неплохую рекламу. «Властелин колец» настолько вписался в нонконформистскую культуру тогдашней американской молодежи, что немедленно стал одной из культовых книг. На улицах появились первые живые эльфы, тролли и гномы, на стенах писали «Фродо жив» и «Гэндальфа в президенты». Началась толкиномания, не прекратившаяся до сих пор.
До сих пор не утихают споры литературоведов, пытающихся исследовать феномен Толкина и загадку его романа, его идеи и сюжетные ходы. Даже его жанр каждый толкует по-своему – современная эпопея, фантастический роман, лингвистическая сага… Впрочем, все сходятся в одном: это действительно великое произведение, и лучше один раз прочесть его, чем десять томов о нем. Сам профессор Толкин на вопрос, о чем же его книга, отвечал: «Истинная тема романа – Смерть и Бессмертие; загадка любви к миру, владеющей сердцами расы, обреченной покинуть его и якобы утратить; тоска, владеющая сердцами расы, «обреченной» не покидать мир, пока не завершится… его история».
Самому писателю внимание публики поначалу льстило: в письме он признавался, что, «как и все драконы, неравнодушен к лести». Он лично отвечал на все письма и звонки, с охотой беседовал с приехавшими поклонниками. Кроме того, он, наконец, разбогател и мог жить, не задумываясь о завтрашнем дне. Однако его, человека глубоко верующего, весьма огорчал тот факт, что люди предпочитали его книгу Библии, а его мир – Христу. К тому же со временем фанаты все больше досаждали престарелому профессору: они приезжали поглазеть на него, часами просиживая на обочине напротив его калитки или бесцеремонно вламываясь в дом. Американцы, невзирая на разницу во времени, звонили ему посреди английской ночи, называя на панибратский американский манер J.R.R.T., чтобы поболтать на квэнья или узнать, чем кончилось дело с Кольцом.
Рассказывают, что однажды к нему пришел посетитель и принес несколько старых репродукций: пейзажи на них с удивительной точностью совпадали с некоторыми описаниями во «Властелине». Толкин заверил, что впервые видит эти картины. Тогда посетитель, по словам Толкина, «…смолк и… долго смотрел на меня, пока внезапно не произнес: «Ну, вы, конечно, не так наивны, чтобы полагать, будто Вы сами написали эту книгу?» И писатель ответил: «Когда-то я грешил такими мыслями, но теперь больше так не думаю». Шуткой это было лишь отчасти.

Профессор со своей любимой трубкой.
В конце концов Толкину пришлось изменить номер телефона, и даже адрес: он все же ушел на пенсию, и в 1968 году они с Эдит переехали в маленький курортный городок Борнмут. Здесь в ноябре 1971 года скончалась Эдит Толкин – его единственная любовь, его Лутиэн. Она похоронена на католическом кладбище в Оксфорде; на ее могиле по просьбе Толкина написано: «Эдит Мэри Толкин, Лутиэн, 1889–1971»

Профессор Толкин с женой в саду в Борнмуте.
После смерти жены Толкин вернулся в Оксфорд, где поселился в квартире при Мертон-колледже, профессором которого он был с 1945 года. В 1972 году ему была присвоена степень доктора литературы, а в 1973-м королева Елизавета удостоила его звания Рыцаря ордена Британской империи. До последних дней своей жизни он сочинял, писал письма, готовил к печати «Сильмариллион», но так и не закончил: впрочем, оно и понятно – там жил и развивался целый мир, а как можно прекратить развитие мира?
В конце августа 1973 года профессор Толкин навещал друзей в Борнмуте. На обратном пути он простудился и 3 сентября 1973 года скончался. Он похоронен в одной могиле с женой, и на камне по распоряжению его сына Кристофера добавили надпись: «Джон Рональд Руэл Толкин, Верен, 1892–1973»
Кристофер Толкин, ставший по завещанию своего отца его литературным душеприказчиком, отредактировал «Сильмариллион» и издал его в 1977 году: успех этой не самой легкой для чтения книги побил все мыслимые и немыслимые рекорды – до сих пор она уверенно держится в списках бестселлеров. Он же издал «Письма Деда Мороза» и «Неоконченные сказания», куда вошли заметки, наброски и черновики к «Сильмариллиону» и произведениям его цикла – хотя сам Толкин не предназначал их для печати, указывая, что создавал их «для собственного филологического удовольствия и узкого круга читателей», успех их был огромен.
К настоящему моменту в свет вышли «Баллады Белерианда», двенадцать томов «Истории Средиземья», сборники рассказов, стихов, статей, лекций. Уже в этом веке впервые были напечатаны «Дети Хурина» и аллитерационная поэма «Легенда о Сигурде и Гудрун». А ведь, по словам одного критика, «до сих пор не улеглась пыль от бури, которую вызвала когда-то в мире публикация его трилогии». «Властелин колец», по опросам читателей, входит в пятерку самых популярных книг всех времен и народов, остальные ежегодно переиздаются огромными тиражами. По его книгам снимаются фильмы и анимационные ленты, ставятся спектакли и пишутся песни. Одних биографий Толкина написано не менее дюжины – хотя авторизованной является лишь одна, принадлежащая перу Хамфри Карпентера. В Средней Англии мемориальные доски висят везде, где успел побывать Толкин: одна висит даже на той самой мельнице в Сэйрхоуле, рядом с которой он играл в детстве. Именем Толкина названы астероид и несколько видов живых существ, улицы и парки по всему миру. В Северной Атлантике есть горы Гондор, Рохан и Лориен, в Мексике – подводное озеро Горлум, в Новой Зеландии – пещера Мория, а в небе – астероид Бильбо.
Толкина считают самым значимым писателем в жанре фэнтези, его называют своим учителем Урсула Ле Гуин и Роджер Желязны, Ник Перумов и Борис Гребенщиков. Ежегодно выходят карты и словари Средиземья, научные монографии и художественные альбомы, вдохновленные образами Толкина. Для многих мир Арды – гораздо реальнее и роднее, чем их собственный, недаром Толкин писал: «Все сказки могут когда-нибудь сбыться», надо только как следует захотеть…
Живопись
Эрте

Жизнь в стиле арт-деко
Эрте… Это одно из тех волшебных имен, за которыми скрывается гораздо больше, чем кажется, и вместе с тем гораздо меньше, чем должно было бы. Потомок старинного дворянского рода, взяв себе загадочный на первый взгляд псевдоним, начал жизнь заново – и вместо человека из плоти и крови на свет явился творец совершенной, нереальной красоты во всех ее проявлениях. Художник и скульптор, модельер и иллюстратор, сценограф, путешественник, писатель и даже кулинар – все эти ипостаси слились в нем одном. Эрте прожил долгую, невероятно красивую и очень насыщенную жизнь, пережив успех, забвение и новый взлет, успев насладиться как восторгами публики, так и признанием придирчивой критики. Он оставил Россию, когда ему не было еще и двадцати, но именно русскую красоту, русскую душу вкладывал он в свои произведения…
Роман Петрович Тыртов родился 23 ноября 1892 года в Санкт-Петербурге, в семье с давними традициями и славной историей. Род Тыртовых был известен в России с середины XVI века – по некоторым данным, его основателем был татарский хан Тырта, по другим – посланник царя Ивана Грозного к татарскому хану Сафа-Гирею, погибший в сражении. Из этого рода вышли несколько воевод, а последние две сотни лет мужчины рода Тыртовых служили на российском флоте. Отец Романа, адмирал флота Петр Иванович Тыртов служил начальником Морского инженерного училища и, естественно, надеялся, что его единственный сын станет продолжателем славных традиций рода и так же, как пять поколений его предков, сделает карьеру военно-морского офицера.
Однако у Романа были совсем другие планы: по его собственным словам, он начал рисовать в три года, и еще в детстве понял, что именно этим хочет заниматься всю жизнь. Свой первый модный эскиз Роман создал, когда ему было всего шесть – это был рисунок дамы в вечернем платье. Мать Романа отнесла эскиз своей портнихе, и сшитый по идее маленького мальчика туалет вызвал немало восхищенных вздохов.
Уже скоро выяснилось, что рисование и искусство – это единственное, что по-настоящему волнует юного Романа. Он с увлечением занимался классическими танцами под руководством балерины Марии Мариусовны Петипа, дочери знаменитейшего балетмейстера Мариинского театра, развивая природную грацию и узнавая пластические возможности тела. Его любимым чтением были альбомы по искусству, а постоянным местом для прогулок – Эрмитаж, по залам которого он мог бродить часами. Особенно его привлекали древние культуры Египта, Греции и Рима, а так же яркая экзотика произведений искусства Индии, Китая и мусульманского Востока. На всю жизнь он запомнил и посещение оперы Римского-Корсакова «Садко» в Мариинском театре, полной волшебной музыки, сказочных сцен подводного царства и фантастических костюмов, и увиденные в библиотеке отца книги с репродукциями китайских и индийских миниатюр, в которых его потрясли яркие краски и тонкость прорисовки деталей.

Но самым ярким событием его детства была парижская выставка 1900 года, на которой семилетний Роман побывал с матерью и сестрой. Выставка, конечно, была местом фантастическим для маленького мальчика, но сам город произвел на него гораздо более сильное впечатление. В те годы Париж уже давно был признанной мировой столицей моды, местом возникновения новых течений в искусстве и хранилищем традиций, здесь жили самые красивые люди и кипела самая яркая, самая веселая, самая лучшая жизнь. Это была любовь с первого взгляда: элегантный, роскошный, сумасшедший Париж совершенно покорил мальчика, и он поклялся себе, что когда-нибудь обязательно поселится в этом удивительном городе.
Выбирая между танцами и живописью, Роман выбрал последнее. Позже он вспоминал: «Я пришел к выводу, что мог бы прожить без танцев, но не без живописи». Хотя отец был категорически против артистической карьеры единственного сына, Роман всерьез занялся рисованием. Мать представила его знаменитому художнику Илье Репину – тот с одобрением отозвался о стиле рисунков Романа и дал ему несколько советов: по сути, это первый профессиональный урок, который получил Тыртов. Позднее он будет по совету Ильи Ефимовича заниматься частным порядком с художником Дмитрием Лосевским, учеником Репина.
Детские мечты о сказочном Париже не оставляли Романа. Успешно окончив гимназию, он, в ответ на предложение отца-адмирала выбрать себе любой подарок, попросил заграничный паспорт. Нельзя сказать, чтобы Петр Иванович был доволен таким выбором сына, но слово свое сдержал: в 1912 году девятнадцатилетний Роман Тыртов навсегда оставил Россию и переехал в Париж.
Официально он поехал во французскую столицу в качестве специального корреспондента известного петербургского журнала «Дамский мир» – в его обязанности входило писать заметки о модных новинках, делать наброски моделей модных Домов и уличные зарисовки парижской толпы. Параллельно Роман устроился на работу в маленький модный Дом «Каролин», однако уже вскоре хозяйка выгнала его оттуда, на прощание добавив: «Молодой человек, занимайтесь в жизни чем угодно, но никогда больше не пытайтесь стать художником по костюмам. Из этого у вас ничего не получится».
Оскорбленный в лучших чувствах Роман собрал все свои рисунки и отправил их к самому знаменитому кутюрье того времени Полю Пуаре, прославившемуся своими экзотическими красками, оригинальными силуэтами и революционными моделями без корсета. Он был первым, кого называли «диктатором моды», кто превратил создание одежды в настоящее искусство, кто рассматривал платье как художественный объект. В его творчестве прослеживалось сильное влияние сценических образов, созданных для знаменитых «Русских сезонов» Львом Бакстом и Александром Бенуа, особенно к спектаклям «Египетские ночи» и «Шехеразада». Роман восхищался «Русскими сезонами», яркие краски и экзотические образы Поля Пуаре были ему очень близки. В Доме Paul Poiret Роман Тыртов делал эскизы платьев, пальто, головных уборов и аксессуаров. Тогда же он взял – вместо знаменитой на родине благородной фамилии – псевдоним Эрте, составленный из его инициалов, прочитанных по-французски.

Эрте. Арлекин.
Работая на Пуаре в сотрудничестве со знаменитым рисовальщиком Хосе Заморой, Эрте отточил технику рисунка, доведя ее до совершенства. Некоторое время он проучился в Академии Жюльена, но скоро оставил ее, чтобы полностью сосредоточиться на работе в области моды. Его стиль, полный изысканности, оригинальности и фантазии, отразил саму суть только зарождавшегося тогда арт-деко. Этого стиля Эрте будет придерживаться всю оставшуюся жизнь; именно он принесет ему славу. Исследователи утверждают, что в работах Эрте смешались практически все традиции живописи, как древней, так и современной: от графической лаконичности росписей греческих ваз и красочности египетских орнаментов до вычурности декаданса и изысканности модерна. Его рисунки полны радости жизни, получаемой в первую очередь от созерцания красоты, и эта красота «по Эрте» – тонкие силуэты, роскошные ткани, текучая пластика линий, сочные тона и удивительные сочетания красок – во многом определила искусство первой половины двадцатого века. Он и сам был похож на свои рисунки: невысокого роста, очень тонкий и грациозный, всегда щегольски одетый, он, по словам современников, производил впечатление среднее между ожившей модной картинкой и иллюстрацией к поэтическому сборнику.
В 1914 году Эрте оставил Дом моды Paul Poiret, попытавшись основать собственный. Была подготовлена коллекция моделей, чей стиль, как писали очевидцы, хотя и очевидно перекликался со стилем Поля Пуаре, был в то же время более графичным и изысканным. Помогала в создании коллекции первая портниха Пуаре – на пригласительных билетах не преминули ради рекламы указать, что и модельер, и закройщица имели отношение к прославленному Дому мод. Пуаре немедленно подал в суд – и выиграл дело, отсудив у бывшего сотрудника немалую компенсацию. Это, конечно, весьма испортило отношения между Эрте и Пуаре. Однако уважение к своему учителю, которому он был многим обязан, Эрте сохранил на всю жизнь.
Лишившись финансовой и моральной возможности открыть собственное ателье, Эрте начал работать для сцены. Его первой работой в жанре сценографии были эскизы костюмов для парижского «Ревю де Сан-Сир», а затем Эрте создал костюмы для спектакля «Минарет» парижского театра «Ренессанс», где блистала самая знаменитая в истории экзотическая танцовщица Мата Хари. Сотрудничество с нею открыло Эрте дорогу к славе – с тех пор сценография стала одним из самых любимых жанров Эрте. В то же время Эрте подписывает свой первый серьезный контракт с журналом мод. Рассказывают, что предложение ему сделали одновременно два самых знаменитых издания того времени – Vogue и Harper’s Bazaar. Эрте бросил жребий – и подписал долгосрочный контракт с Harper’s Bazaar. Первую обложку Эрте нарисовал для январского номера за 1915 год – и с тех пор за более чем двадцать лет сотрудничества Эрте создал 250 уникальных обложек Harper’s Bazaar, не считая двух с половиной тысяч рисунков и набросков, появившихся на страницах этого журнала. Владелец Harper’s Bazaar, легендарный медиа-магнат Уильям Херст восклицал: «Чем бы был наш журнал без обложек Эрте?» Благодаря сотрудничеству с этим изданием, слава Эрте перешагнула океан и стала поистине всемирной.

Некоторые из обложек Harper’s Bazaar, нарисованных Эрте.
Во время Первой мировой войны Эрте, переехавший из осажденного Парижа в Монте-Карло, продолжал как художник, стилист и дизайнер активно печататься в модных изданиях, в основном американских – его рисунки печатали Vogue, Cosmopoliran, Women’s Ноте Journal и другие. Он рисовал эскизы шляп, сумочек, флаконов духов, платьев, мебели и ювелирных украшений, создавал рисунки для тканей и эскизы росписей жилых домов. Его стиль жизни был столь же изыскан, как и его рисунки – на интерьеры его виллы приходили полюбоваться десятки любопытных, привлеченных и изысканными интерьерами, и щедрым гостеприимством хозяина, и изысканными обедами в русском стиле, которые устраивал князь Николай Урусов – многолетний спутник, ближайший друг и постоянный менеджер Эрте, с которым они прожили под одной крышей почти два десятка лет. Так описывал посещение Эрте в 1918 году Говард Грир, голливудский художник по костюмам:
Вилла Эрте находилась на вершине холма, над казино «Монте-Карло» и прилегающими садами. На вокзале меня ждал фиакр. Лакей, одетый в сюртук в зеленую и белую полоску, с черными атласными рукавами, открыл мне двери виллы. Меня провели в огромную, светлую комнату, где единственной мебелью были большое бюро и стул, поставленный в самом центре на черно-белом шахматном мраморном полу. Стены были завешены серо-белыми полосатыми занавесами, висевшими очень высоко. Вошел Эрте. Он был одет в широкую пижаму, отделанную горностаем. Огромный персидский кот, выгибая спину, скользил между ног вошедшего… «Хотите видеть мои эскизы?» – спросил Эрте и, подойдя к стене, потянул шнур, раздвинув серо-белые шторы; открылись сотни рисунков в рамках, развешанных строгими рядами. Мне показалось, что никогда не существовало более плодовитого и более утонченного художника, чем этот маленький русский, рисовавший дни и ночи экзотических женщин с удлиненными глазами, извивающихся под тяжестью меха, перьев райских птиц и жемчуга…
Бурная фантазия Эрте сделала его незаменимым и в среде европейских аристократов, самым модным развлечением которых в то время были роскошные маскарады. Эрте не только создавал костюмы и декорации для самых известных устроителей подобных увеселений – например, для графа де Бомона или прославленной светской львицы маркизы Луизы Казати, но и ставил как режиссер и балетмейстер целые шествия и пантомимы «масок» в костюмах его работы, добиваясь максимального эффекта. Например, для благотворительного бала-маскарада 3 июля 1924 года, проходившего в Парижской опере, Эрте создал для маркизы Казати и ее друзей, среди которых были испанский принц Луис, знаменитый модный фотограф барон Адольф де Мейер и князь Урусов, – сценарий торжественного шествия, которое должны были возглавлять два десятка факелоносцев, а замыкать маркиза в костюме графини Кастильоне, любовницы Наполеона III, из черного тюля с бриллиантами. Выход был чрезвычайно эффектен – его не испортил даже не вовремя проявившийся у Казати страх перед публикой… Подобные заказы Эрте очень любил – ведь они в полной мере позволяли ему проявить богатство своей безудержной фантазии. «Воображение, – говорил он, главное в моем творчестве. Все, что я делал в искусстве, – игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель – движение танца».
Продолжал работать Эрте и для сцены. В 1920-х годах он оформил несколько танцевальных номеров для труппы великой балерины Анны Павловой (например, «Дивертисмент, «Времена года», «Гавот»), спектакли балетной труппы Монте-Карло и постановки в Чикагской опере. Он не раз делал сценографию для мюзик-холла «Фоли-Берже» и его главной звезды – знаменитой экзотической танцовщицы «шоколадной» Жозефины Бейкер, прославившейся своим нарядом из одной связки бананов, для кабаре Лидо, Баль-Табарен и Бата-клан, Лондонского оперного театра и парижской Гранд опера. Все постановки пользовались огромным успехом. Когда в 1923 году Эрте с немалым трудом – ему пришлось поднять на ноги несколько благотворительных организаций – выписал из большевистской России своих родителей, адмирал Тыртов признался: «Ты был прав, отправившись в Париж!»
В 1922 году в Монте-Карло, где Эрте гостил у княгини Тенишевой, он познакомился с Сергеем Дягилевым, который предложил молодому художнику сотрудничать. Эрте с радостью согласился – работать с Дягилевым было честью для любого художника. Он нарисовал два эскиза – но на следующий день ему предложили гораздо более выгодный контракт на работу в США. Растерянный Эрте рассказал о предложении Дягилеву – и тот сказал: «Никогда не отказывайся от денег. Сам-то я никогда не отказываюсь». Так что Эрте принял предложение американцев.
В период между двумя мировыми войнами Эрте очень много работал в Америке. В основном он прославился как создатель роскошных костюмов для эстрадных постановок – недаром журналисты прозвали его «королем мюзик-холлов»: в Нью-Йорке Эрте работал практически со всеми знаменитыми бродвейскими ревю, от Scandals Джорджа Уайта (занавес и эскизы костюмов к тем постановкам теперь находятся в нью-йоркском Музее современрого искусства) до прославленных «девушек Зигфельда» – легендарной труппы бродвейского импресарио Флоренца Зигфельда.

Эрте в своем доме в предместье Парижа, 1924 г.
Его костюмы пользовались огромным успехом у американских «звезд» – ведь в эскизах Эрте успешно сочетались изысканная роскошь высокой парижской моды и театральность парижских кабаре, фантастические линии и сочные краски «Русских сезонов» и практичность рабочей одежды. По эскизам Эрте с удовольствием одевались самые знаменитые актрисы американского кино того времени – Норма Ширер, Эллис Терри, Марион Дэвис, Клодетт Кольбер, Полетт Дюваль, Мэй Мюррей, Лилиан Гиш, Полин Старк и многие другие. По приглашению Луиса Б. Майера, владельца студии MGM, в 1925 26 годах Эрте создает костюмы к нескольким картинам, среди которых такие знаменитые ленты, как «Бен-Гур» Фреда Нибло, «Богема» Кинга Видора, «Время, Комедиант» и «Безумие танца» Роберта 3. Леонарда, «Мистика» Тода Браунинга и некоторым другим. Его чувство моды было уникальным. Еще в 1921 году Эрте первым представил платье с асимметричным декольте – сейчас без этой модели моду невозможно себе представить. В 1929 году он, создавая эскизы к очередной постановке, избрал для мужских костюмов бархат, шелк и парчу – ткани, в то время немыслимые для мужской моды, хотя и вполне обычные в восемнадцатом веке. Костюмы были столь удачны, что с тех пор даже самые консервативные модные дома используют эти материалы для пошива мужских моделей. Несколько позже, так же походя, Эрте изобрел стиль «унисекс» – правда, тогда его так еще никто не называл. Его модели, имевшие одинаковые линии для мужчин и женщин, пользовались большой популярностью среди модной молодежи, а спортивные костюмы совершили прорыв в моде, преодолев разрыв между совершенно неудобной, зато следовавшей последним модным тенденциям «одеждой для спорта» начала века и по-настоящему спортивной одеждой, в которой было удобно двигаться. Его модели отличала кажущаяся простота кроя, которая тем не менее смотрелась дорого и изысканно, демонстрируя естественную пластику тела, а сдержанную элегантность тканей подчеркивали драгоценные отделки, утонченные орнаменты и роскошные аксессуары. Французский писатель Жан-Луи Бори точно подметил: «Эрте одевает объемы – но это уже больше не объемы человеческого тела; украшает движения – но это уже больше не жесты. Он создает в пространстве фигуры неподвижного балета».
Вернувшись в тридцатых годах в Париж – в расцвете славы, на гребне финансового успеха, – Эрте обосновался в Булони, дорогом парижском пригороде, где по соседству жили, например, князь и княгиня Юсуповы, создатели Дома мод «Ирфе», или герцог и герцогиня Виндзорские – бывший король Англии Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон. В своей квартире Эрте создал великолепные интерьеры все в том же стиле арт-деко, где изысканность линий и сдержанность цветовых решений лишь подчеркивали экзотические безделушки, старинная мебель, шкуры африканских хищников и вазы с редкими цветами.

Эрте и актриса Эдит Прингл – его первая голливудская клиентка.
Серо-бело-черную гамму интерьеров лишь изредка разбавляли красные пятна, а зеркала расписала бабочками сама Эльза Скиапарелли. Огромный аквариум служил стеной, отделявшей холл от кабинета, а созданный по эскизу самого Эрте бар в виде рюмки был исписан автографами знаменитостей: первым там оставил отпечатки своих лап кот Микмак – любимец Эрте. В этот период он проявляет свою изысканную фантазию во всем – от рисунков до кулинарии. В 1931 году в одном из парижских кафе Эрте представил «десерт Эрте» – удивительную композицию из экзотических фруктов и ягод, которую венчала голубая клубника – близкая родственница любимых эстетами эпохи декаданса зеленых гвоздик и голубых роз. Александр Вертинский, которому посчастливилось попробовать это «блюдо богов», писал в своих мемуарах: «Я потом два дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной, где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются как привязанные, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения…»

Эрте. Ширма.
В апреле 1933 года скончался князь Урусов: Его смерть была достойна поэтов декаданса – он показывал молодому садовнику, как обрезать розы, и порезался шипом. Через несколько дней он умер от заражения крови…

Эрте. Зима.
Для Эрте это была настоящая трагедия: с Урусовым были связаны почти двадцать лет – лучших лет – его жизни. «Мой мир, казалось, рушился вокруг меня, – писал Эрте в своих воспоминаниях, – и я чувствовал себя последним представителем исчезнувшей эпохи». Через некоторое время место рядом с Эрте занял датчанин Аксель: сначала он был нанят для обновления интерьеров виллы в Монте-Карло, а затем Эрте официально предложил ему место своего секретаря. Однако скоро выяснилось, что Аксель слишком любит играть на бегах: однажды, незадолго до войны, он проиграл крупную сумму, которую по поручению Эрте получил из банка. Тот немедленно уволил растратчика – и с тех пор Эрте делил кров лишь со своими кошками.
Во время Второй мировой Эрте продолжал работать для сцены, оформляя спектакли во французских и американских театрах. Интерес к его рисункам почти пропал – в тяжелые военные годы утонченная красота графики Эрте смотрелась очаровательным анахронизмом, а после войны интерес публики захватили новые течения. Однако Эрте оставался верен себе – как он утверждал, у истинной красоты всегда есть ценители, а у его творчества всегда будут поклонники. В шестидесятые годы он увлекся новым для себя жанром – скульптурой. Поначалу Эрте создавал абстрактные произведения из металла. Первая серия называлась «Живописные формы»: в нее входили работы «Свобода», «Внутренняя жизнь», «Тени и свет» и другие, выполненные из разнообразных металлов, с добавлением дерева, эмали и стекла. Раскрашенные масляными красками, эти скульптуры, по словам самого Эрте, «не являлись чисто абстрактными – они выражали эмоции, мысль, состояние». Затем он перешел к изготовлению бронзовых статуэток в старинной технике «утраченного воска» – скульптура сначала лепилась из воска, затем модель обмазывалась глиной, воск вытапливался, а на его место заливалась бронза. Эрте воплощал в металле как свои эскизы костюмов, так и ранние графические работы. Его изысканные тоненькие девушки, похожие на знаменитых красавиц прошлого, знакомых и подруг Эрте, являются зримым воплощением изящества и чувственности. «Я испытываю чувство возбуждения всякий раз, когда вижу и трогаю бронзу из моей коллекции скульптур, потому что именно через нее я могу видеть, как оживают мои рисунки, мои идеи, мои мысли, мои мечты, чего раньше никогда не происходило», – признавался Эрте. Добиваясь точности воспроизведения в металле фактуры тканей, Эрте много экспериментировал с технологиями и материалами. В подобных же техниках он создавал и серии ювелирных украшений – например, знаменитое ожерелье «Лисы», сделанное в виде лисьих голов из золота и драгоценных камней.
В начале шестидесятых годов об Эрте помнили лишь немногие знатоки истории искусств, хотя он по-прежнему оставался востребованным как сценограф и дизайнер: с 1950 по 58 год Эрте работает для знаменитого парижского кабаре La Nouvelle Eve, в 1960-м оформляет постановку «Федры» Расина, а в 1970—72 годах создает декорации и костюмы для шоу Ролана Пети в парижском Казино. Он оформлял особняки и загородные виллы для богачей и аристократов, в основном тех, кто помнил его славу тридцатилетней давности, – для американской миллионерши Изабеллы Эсторич Эрте оформил виллу на острове Барбадос, для Елены Мартини, знаменитой хозяйки кабаре «Распутин», русской по происхождению, – дом в Нормандии. И тут произошло то, что можно было счесть чудом – уже в преклонных летах Эрте смог добиться возрождения своей карьеры. В конце шестидесятых – начале семидесятых голов прошлого века по всему миру началось возрождение интереса к искусству 20-30-х годов, и на этой волне популярность Эрте – практически единственного из прославленных художников того времени, кто не только был еще жив, но и сохранил творческую активность, – взлетела до небес.
Началом нового взлета стала выставка в нью-йоркской Grosvenor Gallery, которую организовал для Эрте его новый друг, лондонский арт-дилер Эрик Эсторик – видный специалист по искусству начала двадцатого века. Он и его жена Сэл познакомились с Эрте в 1967 году в Лондоне, и их дружба продолжалась до последних дней художника. Выставка пользовалась феноменальным успехом – на ней были все знаменитости Нью-Йорка и Голливуда, а после закрытия стало известно, что музей Метрополитен купил разом почти все экспонаты, 170 работ. По словам самого Эрте, «Это был беспрецедентный случай – купить полную экспозицию ныне здравствующего художника». Более того – на следующий год Метрополитен выставил сто из купленных работ на своей выставке – правда, поскольку правилами музея было запрещено устраивать персональную экспозицию ныне живущих художников, выставку назвали «Эрте и современники»: вместе с ним демонстрировались произведения Льва Бакста, Натальи Гончаровой и других. Выставка имела огромный резонанс – имя Эрте снова гремело по всему миру. В этот период Эрте познакомился с Энди Уорхолом – удивительно, но еще недавно считавшийся морально устаревшим стиль Эрте произвел на Уорхола огромное впечатление: простота и фантазия, лаконичность и яркая палитра графики Эрте оказали заметное влияние на манеру позднего Уорхола.

Рисунки из серии «Цифры».
Вдохновленный своим новым успехом, Эрте решил перевыпустить свои ранние графические серии. В 1968 году были выпущены «Числа», затем «Шесть драгоценных камней», «Четыре сезона», «Четыре туза» и самая его знаменитая серия – «Алфавит», созданный еще в двадцатых годах. Рисунки стали столь популярны, что фрагменты серии стали настоящими эмблемами нового времени – по всему миру их печатали на полотенцах, кружках, майках и тарелках. Выполненные лично художником в технике сериографии – каждый участок цвета по трафарету прокрашивался отдельно, и такие участки накладывались друг на друга, – 75 экземпляров серии были проданы коллекционерам за огромные деньги. Сам Эрте утверждал, что, поскольку его работы требовали новых технологий и повышенной точности рисунка, он совершил – или спровоцировал – множество открытий в области книгопечатания и тиражной графики. В последние годы жизни Эрте ежегодно получал от продажи своих скульптур, рисунков и литографий доход около ста миллионов долларов – помимо частных коллекционеров, работы Эрте приобрели крупнейшие музеи мира – например, лондонский музей Виктории и Альберта, музей современного искусства в Нью-Йорке.
Интерес к нему в эти годы, казалось, был еще выше, чем прежде – книги об Эрте и альбомы его работ подчас занимали в книжных магазинах целые полки. В 1975 году Эрте выпустил книгу воспоминаний «Вещи, которые помню», до сих пор пользующуюся немалым успехом. В ней он признавался: «Я с отвращением ношу одно и то же платье даже два дня подряд и ем одну и ту же пищу. Я всегда любил путешествовать, потому что это украшает жизнь. Монотонность рождает скуку, а я никогда не скучал в своей жизни». И правда, складывалось впечатление, что Эрте трудно усидеть на месте: в молодости он без устали курсировал между Францией, Англией и Соединенными Штатами, в зрелом возрасте объездил полмира – Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Северная Африка и все европейские уголки служили ему не только постоянным развлечением, но и источником вдохновения. До последних лет Эрте оставался неизменно элегантным, подтянутым, изысканно одетым. Его всегда безупречно сшитые классические костюмы, которые он носил, по выражению одного журналиста, «с неповторимым изяществом, с каким дикая кошка носит свой мех», были дополнены яркими оригинальными аксессуарами, сделанными по его собственным эскизам. Даже в зрелые годы он любил украшенные яркими принтами рубашки, красочные шейные платки, оригинальный трикотаж и, непременно, обувь от самых лучших мастеров.

Все свое время он проводил в путешествиях по всему миру, и везде у него были друзья и поклонники. Много времени он проводил на Майорке, где у него была летняя резиденция: ежедневно для поддержания формы он проплывал в море несколько километров, неизменно совершал долгие прогулки и работал до последних дней своей жизни. Он рисовал маслом, гуашью и пером, делал эскизы мебели, афиш, ламп и ювелирных изделий, игральных карт и рисунков для одежды. В 1982 году он сделал себе подарок к юбилею – выпустил роскошный альбом своих работ «Эрте в девяносто лет», через пять лет вышел еще один альбом – «Эрте в девяносто пять», а затем «Скульптура Эрте». В книгах было очень много о творчестве, о взглядах на жизнь, о странах, где ему довелось побывать, о людях, с которыми приходилось работать, – и очень мало о самом Эрте. Он не любил, когда кто-то вмешивался в его личную жизнь, и сам предпочитал не рассказывать о ней. Ему было девяносто семь лет, когда он оформил свой последний спектакль – бродвейский мюзикл «Звездная пыль».
В апреле 1990 года Эрте с друзьями был на острове Маврикий в Индийском океане. Там он внезапно заболел – на частном самолете его доставили в парижской госпиталь, но несмотря на все усилия врачей, через три недели – 21 апреля – Эрте скончался. Пригласительные билеты на свои похороны Эрте заблаговременно оформил сам – они рассылались по составленному им списку, и все мелочи церемонии были так же продуманы им заранее. Даже роскошный гроб был выполнен по его собственному эскизу: красное дерево, отделанное цветочными венками в стиле арт-деко. Его тело покоится на Булонском кладбище, рядом с его родителями.
Марк Шагал

Полет над миром
Казалось, вся его жизнь была сплошным преодолением – религиозных суеверий, расовых предрассудков, политических противоречий, внутреннего страха, земного притяжения… Тем удивительнее та легкость и радость, с которыми он преодолевал все препятствия и которыми полны его картины, – навсегда сохранившие наивно-детский и тысячелетне-мудрый взгляд художника…
Его родиной, его Землей обетованной, раем и всем миром был белорусский город Витебск: на его окраине, в местечке Песковатики, он появился на свет 6 июля 1887 года. По семейной легенде, которую Шагал приводит в своих воспоминаниях, он родился в день сильного пожара – и его вместе с матерью переносили с места на место, чтобы спасти от огня. Ребенка нарекли Мойше – в честь пророка Моисея, выведшего евреев из Египта. Возможно, в глубине души его родители надеялись, что их первенец сможет вывести их к лучшей доле?
Мать – Фейгэ-Ите, дочь зажиточного мясника из Лиозно, маленькая женщина с сильным характером и волшебным даром слова – «Она умела так подобрать, так сплести слова, что собеседник только диву давался да растерянно улыбался», – вспоминал Шагал, – держала бакалейную лавочку, а ее муж и отец ее девятерых детей Хацкл-Мордхэ (или Хацкель-Мордух) работал в рыбной лавке грузчиком. «Каждый день, зимой и летом, – писал Шагал, – отец вставал в шесть утра и шел в синагогу. Помянув непременной молитвой покойных родственников, он возвращался домой, ставил самовар, пил чай и уходил на работу. Работа у него была адская, каторжная. Об этом не умолчишь. Но и рассказать не так просто. Никакими словами не облегчить его участи». Позже на картинах Шагала рыбы с печальными глазами будут данью памяти отцу и его тяжелому труду.
В те времена население Витебска, древнего и прекрасного города, наполовину состояло из евреев: город находился в черте оседлости – то есть там иудеям позволялось свободно селиться и жить так, как им хочется. Во многом благодаря их стараниям Витебск превратился в «русский Толедо» – культурную столицу Белоруссии, яркий очаг еврейской мудрости, город богатый и вольный.
Иудейский уклад лежал в основе воспитания юного Мойше: поначалу его родители – правоверные хасиды – подавали ему пример жизни, обращенной к еврейскому Богу. Позже он посещал хедер – начальную религиозную школу – и жил среди людей, для которых правила Торы были единственно верными правилами жизни. По его собственному признанию, «Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим художником» – ощущение своей веры, своей нации было в Шагале главным.
В те времена иудеи в Российской империи имели свои собственные школы, больницы, кладбища и прочие учреждения. Однако мать юного Мойше Шагала решила во что бы то ни стало вывести своего первенца в люди и устроила его в русскую городскую гимназию. Правда, пришлось дать взятку, зато ее сына, ставшего на «более русский» манер Марком, приняли сразу в третий класс.
Учение давалось нелегко: от смущения перед десятками сверстников Шагал начинал мучительно заикаться. Зато в гимназии мальчик открыл для себя рисование: однажды он увидел, как один из его одноклассников перерисовал из журнала иллюстрацию. «Плохо помню, что и как, – вспоминал Шагал, – но когда я увидел рисунок, меня словно ошпарило: почему не я сделал его, а этот болван!? Во мне проснулся азарт. Я ринулся в библиотеку, впился в толстенную «Ниву» и принялся копировать портрет композитора Рубинштейна – мне приглянулся тонкий узор морщинок на его лице; изображение какой-то гречанки и вообще все картинки подряд, а кое-какие, кажется, придумывал сам».
С тех пор страсть к рисованию завладела Шагалом. Однако иудейская вера не одобряет живопись: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли», гласит одна из Моисеевых заповедей. Быть художником означало не только выбрать новый, неизведанный ранее путь: «Слово «художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого мира, – может, оно мне и попадалось, но в нашем городке его никто и никогда не произносил. Это что-то такое далекое от нас!» Оно означало возможный разрыв с религиозной традицией, с родными, мнение которых было не менее важно, чем мнение ученых раввинов, и со всей средой. Тем не менее Шагалу удалось не только убедить родителей в том, что он хочет стать художником и оторваться от религиозных норм, – он был далеко не таким правоверным иудеем, как его отец, – но и сохранить в себе ощущение своих корней, культуру своих предков, душу своего народа.
Для человека, который умеет видеть и понимать, мир еврейского местечка находится где-то посередине между мифом и реальной жизнью: в нем тесно переплетены тысячелетние традиции и сиюминутные проблемы, религиозные правила и бытовые нужды, мечты о приходе Мессии и незамысловатые желания. Так и в душе Марка Шагала, на его картинах и в памяти летят над Витебском, потряхивая юбками, его тетушки, молятся зарезанные коровы и старые евреи скидывают свои грехи в осеннюю Двину… Древние сказания, волшебные сказки, анекдоты, детские сны, газетные статьи, городские слухи и собственные фантазии сплавились воедино, образовав чудесный мир Шагала, перемешанный на его полотнах с удивительно реальным и в то же время волшебным Витебском…
Первым учителем живописи для Шагала стал в 1906 году местный художник Иегуда (Юрий) Пэн: этот выпускник Академии художеств в 1891 году основал в Витебске первое еврейское художественное училище – Школу рисования и живописи, в которой преподавал реалистическую манеру с еврейским колоритом. Хотя у Пэна Шагал проучился недолго, он всегда относился к нему с глубокой нежностью. «В моей памяти он живет рядом с отцом, – вспоминал Шагал. – Мысленно гуляя по пустынным улочкам моего города, я то и дело натыкаюсь на него».

Марк Шагал. Автопортрет. 1909–1910 гг.
Родители мечтали, чтобы их сын получил серьезную профессию – стал бухгалтером или приказчиком, на худой конец фотографом (Шагал даже пару месяцев проработал ретушером у владельца местного фотоателье), но того манила к себе живопись, ради которой юноша был готов терпеть любые лишения. «Меня зовут Марк, у меня слабый желудок и совсем нет денег, но, говорят, у меня есть талант», – повторял он себе. Вместе с приятелем по школе Пэна Шагал в конце 1906 года уехал в Санкт-Петербург, учиться живописи: отец «кинул под стол» 27 рублей – «единственные за всю жизнь деньги, которые отец дал мне на художественное образование», – но зато помог получить необходимые для поездки документы. Как еврей, не имеющий образования и профессии, Шагал не имел права покидать родной город, кроме как для учебы или по коммерческой надобности: знакомый купец согласился выправить бумагу, согласно которой Шагал значился его агентом. Позже он, чтобы продлить вид на жительство, пытался рисовать вывески и работать ретушером, пока адвокат Гольдберг, известный покровитель искусств, не зачислил его к себе в качестве прислуги.
В столице Шагал сначала попытался поступить в Училище технического рисования барона Штиглица, однако с треском провалился на экзамене. Зато его приняли сразу на третий курс школы Общества поощрения художеств: главой Школы был Николай Рерих, который предоставлял ученикам полную свободу самовыражения – зато Шагал вскоре решил, что он почти ничему не учит. Несмотря на похвалы преподавателей и полученную стипендию, а также освобождение от армии, которое выхлопотал талантливому ученику Рерих, Шагал в конце концов оставил Школу.
Как вспоминал Шагал, жизнь в Петербурге была невероятно тяжелой для молодого еврея без денег, без угла и без документов – единственным по-настоящему спокойным временем стали для художника несколько дней, проведенных под арестом: в тюрьме было тепло и кормили. Но Шагала ничто не останавливало: он был одержим живописью, стремлением рисовать. Творчество было для него важнее спокойной жизни, а краски – нужнее тарелки супа или теплой постели. Рисование для Шагала всегда было сродни молитве: оно во плоти выражало восхищение миром, помогало возносить хвалу Господу за его творение. Что перед возможностью выразить свою благодарность богу значили голодный желудок или стертые в кровь ноги?
Несколько месяцев Шагал занимался в школе Зайденберга, а затем перешел в школу Званцевой, одним из преподавателей которой был прославленный Леон Бакст, знаменитый своей яркой графикой и эффектными театральными работами.
Леон Бакст, носивший от рождения имя Лейба-Ха-има Израилевича Розенберга, был во многом похож на Шагала – точнее, на то, кем тот хотел стать: выходец из небогатой семьи белорусского талмудиста стал одним из самых известных и модных художников. В его студии занимались графиня Толстая и Вацлав Нижинский, а оформленным им спектаклям аплодировали Париж и Лондон. Хотя его изысканно-стилизованная манера была чужда Шагалу, который всегда был гораздо ближе к реализму, чем могло допустить его склонное к экспериментам время, эта школа все же оказывается для него необыкновенно полезной. Во-первых, Бакст ценил цвет как полноправный элемент композиции (постулат, к которому Шагал, сам не отдавая себе отчета, всегда склонялся), а во-вторых он, просвещенный и европеизированный, познакомил Шагала с новейшими течениями европейской живописи. От Бакста Шагал узнал о Гогене и Сезанне, Ван Гоге и Тулуз-Лотреке, чьи художественные находки произвели на него неизгладимое впечатление. И в то же время он попал под глубочайшее влияние старинных русских икон, которыми ходил любоваться в петербургских музеях: их простота и символичность композиции, чистые цвета, обратная перспектива и необыкновенное смешение бытового и божественного оказались удивительно созвучны Шагалу. Не отрываясь от своих еврейских корней (наоборот, открыто их демонстрируя), Шагал одновременно позиционирует себя как русского художника, подчеркивая этим свою общность с традициями русской живописи от иконы и лубка до творчества Михаила Врубеля, преемником которого Шагал увидел себя в одном из снов.
Его первой натурщицей была Тея Брахман – учившаяся в Петербурге витебская знакомая. Они вместе наезжали в родной город, и однажды Тея познакомила его со своей подругой Беллой.
С ней, не с Теей, а с ней должен я быть – вдруг озаряет меня! – вспоминал Шагал. – Она молчит, я тоже. Она смотрит – о, ее глаза! – я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа.
Белла Розенфельд, младшая дочь богатого витебского ювелира, была девушкой необыкновенной. Она училась в Москве, занималась в студии у Станиславского, имела литературный талант и необычайно широкий – особенно для молодой еврейки из провинциального Витебска – кругозор. От нее исходили свет и безмятежность, рядом с нею Шагал чувствовал себя летящим и беззаботным. Ее портреты, которые он написал в первые месяцы их знакомства, полны сияющей любви и легкой радости. И позже Белла, напоминающая то порхающих ангелов с итальянских фресок Ренессанса, то прекрасных мадонн со средневековых алтарных образов, будет единственной Музой, любовью и вдохновительницей Марка Шагала.
Уже через несколько месяцев они обручились. Однако свадьба все откладывалась: Шагалу внезапно стало тесно и в мастерской Бакста, и в Петербурге, и вообще в России. Ему страстно захотелось в Париж, волшебный и недостижимый, – тем более что сам Бакст как раз собирался туда с Русскими сезонами. Собравшись с духом, Шагал попросил мэтра взять его с собой, однако тот отказался. Пребывание в Париже, по его мнению, может лишь повредить Шагалу: его самобытность и уникальность растворятся, столкнувшись со множеством художественных школ, к тому же Шагал просто умрет там с голода!
Оставшись без учителя, Шагал вернулся в Витебск, однако его по-прежнему тянуло в Париж. «У меня было чувство, что если я еще останусь в Витебске, то обрасту шерстью и мхом», – писал он. Но ему повезло: депутат Максим Винавер, известный юрист и меценат, депутат Государственной думы и пропагандист еврейской культуры, поначалу помог ему обустроиться в Петербурге – нашел жилье, купил несколько его картин, а затем выделил средства на поездку во Францию.
До конца жизни Шагал чтил Винавера своим вторым отцом: «Отец родил меня на свет, Винавер сделал из меня художника. Без него я, может быть, застрял бы в Витебске, стал фотографом и никогда бы не узнал Парижа».
Во Франции Шагал оказался в конце 1910 года. Как часто бывает, сбывшаяся мечта оказывается совсем не тем, чем представлялась когда-то: Париж был огромным, чужим и негостеприимным. «Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, – писал Шагал, – помешало мне сбежать домой тут же, через неделю или месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться». Однако парижские музеи, полные прекрасных старинных полотен, галереи с картинами модных художников, прозрачный воздух и необыкновенная яркость красок городских пейзажей покорили Шагала.

Иегуда Пэн. Портрет Марка Шагала. 1914—15 гг.
«Приехав в Париж, я был потрясен переливами света», – вспоминал он. – «Никакая академия не дала бы мне всего того, что я почерпнул, бродя по Парижу, осматривая выставки и музеи, разглядывая витрины». Цвет парижского неба, запах Сены, воздух, насыщенный художественными вибрациями всех жанров и стилей, – все это за несколько месяцев переплавилось в душе Шагала, сделав его самого смелее, а его стиль совершеннее. С тех пор, как он переехал в знаменитый «Улей» – общежитие нищей богемы неподалеку от бульвара Монпарнас, – он оказался в самом эпицентре европейской художественной жизни: рядом с ним жили и творили Робер Делоне и Гийом Аполлинер, Фернан Леже и Макс Жакоб, Блез Сандрар и Амадео Модильяни. Течения и стили, школы и направления кишели вокруг него, как пиявки в старом пруду, а он, учась у них, все же оставался ни на кого не похожим. «Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства, – признавался позже Шагал. – Импрессионизм, кубизм – мне равно чужды. По-моему, искусство – это прежде всего состояние души. А душа свята у всех нас, ходящих по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама, стихийно, достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью».
Дни и ночи Шагал просиживал в своей мастерской, рисуя картины – от безденежья – на собственных простынях и рубашках. Друзья-французы были им очарованы: Аполлинер и Сандрар посвящали ему стихи, Сальмон и Жакоб были его друзьями, Андре Бретон назвал его стиль «тотальным лирическим взрывом», а Аполлинер – «сюрнатурализмом». Бакст, навестивший мастерскую бывшего ученика, восторженно заметил: «Теперь ваши краски поют!», а Анатолий Луначарский восхищался его смелыми образами. Однако на парижских выставках картины Шагала поначалу никто не ценил: настолько разительно отличались его лиричные витебские пейзажи и еврейские сюжеты от царивших там французских прудов и соборов или красочных беспредметных полотен. Однако рекомендации друзей делают свое дело: его приглашают на один салон за другим, и постепенно критики и коллекционеры начинают проявлять к нему внимание. Несколько его работ попали с выставкой в Голландию, позже его пригласили принять участие в Осеннем салоне в Берлине.
Взяв все написанные в Париже работы, ранней весной 1914 года Шагал приехал в Берлин, где очарованный его картинами Герхарт Вальден, торговец искусством и меценат, устроил ему выставку в своей галерее Der Sturm: там выставлялись 40 картин и 160 графических листов.
Открыв в середине июня выставку, Шагал отправился в родной Витебск, на свадьбу сестры. Он планировал лишь нанести краткий визит родне, встретиться с Беллой, с которой четыре года общался лишь письмами, и тут же вернуться в Париж, однако разразившаяся мировая война разорвала мир на мелкие кусочки, отрезав Россию от Европы, а Шагала от Парижа.
Поначалу он чувствовал себя в Витебске вернувшимся блудным сыном: все никак не мог ни надышаться, ни налюбоваться родным городом. Он без устали рисовал его заборы и крыши, жителей и коз. И, конечно, Беллу – она тоже казалась обретенной после долгой разлуки святыней. Ее любовь, ее нежность вдохновили Шагала на удивительно проникновенную серию «Влюбленные», признанную одной из вершин его творчества. Хотя Розенфельдам, владельцам нескольких ювелирных магазинов, категорически не нравился нищий художник Марк, сын рабочего в лавке, Белла все-таки смогла настоять на своем: 15 июля 1915 года они с Марком Шагалом стали мужем и женой. После свадьбы молодожены провели в деревне полтора месяца: «У нас был не только медовый, но и молочный месяц», – вспоминал Шагал. Их дочь Ида родилась 18 мая 1916 года.

Марк Шагал. Над городом. 1914–1918 гг.
Казалось, у него было все для счастья: обожаемая жена, любимое дело, признание критики – Шагал принимал участие во многих выставках, коллекционеры раскупают его работы, а искусствоведы признают его одним из крупнейших художников того времени. Однако душа Шагала по-прежнему рвется в Париж, где яркий свет, сладкий воздух и в небе, вместо коз и коров, летают ласточки. Но все его попытки покинуть Россию закончились провалом. И Шагал решился переехать хотя бы в Петербург, уже называвшийся Петроградом.
Две революции принесли Шагалу освобождение: во-первых, перестали существовать все ограничения, связанные с верой или национальностью, а с другой – пафос обновления, которым был пронизан воздух страны, оказался удивительно созвучен Шагалу. К тому же его прежний знакомый Луначарский оказался наркомом просвещения: он даже собирался организовать наркомат по делам культуры, где Маяковский бы руководил отделом поэзии, Мейерхольд – отделом театра и Шагал – изобразительным искусством. Однако Белла была решительно против того, чтобы ее муж влезал в политику: по ее настоянию Шагал, получив от Луначарского мандат уполномоченного по делам искусства Витебской губернии, вернулся в родной город.
В Витебске Шагал устроил выставку еврейских художников, организовывал музей, мастерские и школу изобразительного искусства, куда пригласил самых знаменитых художников – несколко месяцев там преподавал сам Мстислав Добужинский. Но самым ярким его деянием была, конечно, демонстрация в честь первой годовщины Октябрьской революции: над ней трудились все витебские художники, с энтузиазмом пытающиеся выплеснуть искусство на улицы. В результате по городу, раскрашенному в зеленые, белые и оранжевые круги, квадраты и прямоугольники, прошла демонстрация с лозунгом «Да здравствует революция слов и звуков!», а на главной площади висело гигантское полотно: человек на зеленой лошади и надпись «Шагал – Витебску!»
В январе 1919 года наконец открылась школа изобразительных искусств: преподавали там Иван Пуни и его жена Ксения Богуславская, Иегуда Пэн и Вера Ермолаева, Нина Коган, Лазарь Лисицкий и многие другие. Скоро в состав преподавателей школы, довольно быстро ставшей академией, пригласили Казимира Малевича. Тот, вдохновенный и страстный проповедник супрематизма, моментально собрал вокруг себя сторонников и последователей, организовавшихся в группу УНОВИС – «Утвердители нового искусства». На фоне сверхавангардного супрематизма лирический сюрнатурализм Шагала казался архаичным и нелепым – неудивительно, что в конце концов он был вынужден уволиться и навсегда покинуть родной Витебск.

Марк Шагал. Прогулка, 1917 г.
Шагалы обосновались в Москве, вновь ставшей столицей России. Здесь Шагал начал осваивать почти новый для себя жанр сценографии: хотя когда-то Бакст обвинял его в том, что он не умел даже грунтовать холсты для декораций, теперь Шагал успешно сотрудничал сразу с несколькими московскими театрами. Среди них – Театр Революционной сатиры, экспериментальный театр Эрмитаж, Камерный театр и, наконец, Еврейский театр, для которого Шагал оформляет зал: 7 панно, занавес и плафон превратят маленькое помещение театра в удивительную «шагаловскую шкатулку». Центральное панно «Введение в еврейский национальный театр» размером три на шесть метров, на котором были изображены актеры театра вместе с самим Шагалом, окруженные еврейскими символами, планетами и священными животными, наглядно демонстрировало историю и перспективы еврейского искусства. Композицию, призванную, по мысли Шагала, символизировать театральность всего мироздания, мистический характер театра и высший смысл хаотичности бытия, из которого – согласно каббале – родился мир, один из критиков назвал «еврейским джазом в красках».
Из-за возрастающего неприятия «нового искусства» со стороны государственных чиновников Шагалу все меньше удается нормально работать. Он снова надеется на возвращение в Европу: его зовет туда и непоседливая душа художника, и необходимость разыскать оставленные в Берлине картины, но уехать по-прежнему не удается. В результате почти весь 1921 год он проработал преподавателем рисования в детских трудовых колониях – «Малаховка» и «III Интернационал», где учениками его были бывшие беспризорники, потерявшие семьи в пламени войны и революции, а коллегами – такие же отвергнутые властью интеллектуалы, как и он сам. Настроение «Малаховки» представляло из себя сложную смесь надежды, депрессии, усталости и детской радости – все это нашло свое отражение в работах Шагала.
Наконец в 1922 году он собрался уезжать: поэт Демьян Бедный, знакомый с Лениным, помог получить разрешение на выезд, Луначарский оформил паспорт, коллекционер и друг Яков Каган-Шабшай дал денег на дорогу, а поэт Юргис Балтрушайтис, занимавший пост поверенного в делах, а позже посла Литовской республики в Москве, дал разрешение на вывоз его работ дипломатической почтой в Каунас, где у Шагала планировалась выставка. Шагал отправился в путь один, летом: незадолго до отъезда Белла, упав на репетиции, повредила ногу и была вынуждена остаться. Они с Идой присоединятся к Шагалу только через несколько месяцев.
Когда Шагал добрался до Берлина, он обнаружил, что Герхарт Вальден распродал почти все его работы, а инфляция съела почти всю вырученную сумму. Отчаявшийся Шагал затеет долгий судебный процесс – хотя бы для того, чтобы узнать имена покупателей. Лишь через четыре года Шагал сможет вернуть себе некоторые работы; судьба многих до сих пор неизвестна. Многие из них Шагал позже нарисует заново.
Еще в Каунасе Шагал начал писать свою автобиографию, получившую название «Моя жизнь». В Берлине он задумал издать ее: были созданы графические иллюстрации в новом для Шагала жанре гравюры, заказан перевод на немецкий язык – однако текст Шагала, перенасыщенный образами, жаргонизмами и поэтическими символами, оказался слишком сложен для перевода – текст так и не успели сделать. Гравюры были изданы отдельно – полностью «Моя жизнь» выйдет лишь в 1931 году в переводе на французский язык, выполненном Беллой Шагал.
В сентябре 1923 года Шагал с семьей вернулся в Париж, ставший для него второй родиной: «Париж, ты мой Витебск!» – писал он. Не имея постоянной мастерской и, следовательно, возможности писать, он все больше времени отдает книжной графике. Для издателя Амбруаза Воллара Шагал создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя, басням Лафонтена, Библии и современной прозе, а также создает цикл гуашей под названием «Цирк Воллара»: однако из-за внезапной смерти самого Воллара эти работы не были изданы.
Оказавшись, наконец, в Париже, Шагал при любой возможности начинал рисовать. Всего за несколько лет он создал (или воссоздал) множество прекрасных произведений, к концу двадцатых годов завоевавших ему повсеместное признание критиков как одного из крупнейших художников своего времени. Его выставки от Парижа до Нью-Йорка, от Праги до Палестины проходят с неизменным успехом, и вырученные от продажи картин деньги позволяют Шагалу уже в конце 1929 года купить дом на улице Сикомор. Однако в новом доме художнику не сидится: он постоянно путешествует по Франции, очарованный красками Средиземноморья и снежными альпийскими пейзажами, церквями Савойи и цветами Бретани.

Марк Шагал. Церковь в Шамбон, 1926 г.
А позже Шагал влюбился в зелень Испании, переливы света Голландии, итальянские музеи и легенды Палестины. Однако он все равно остался русским художником, не растворившим, а обогатившим свою национальную составляющую. Как отмечали критики, его манера стала свободнее, а краски – ярче. В отличие от многих русских эмигрантов, лишившихся вдали от родины самобытности, жизненной силы или вдохновения, Шагал лишь обрел в Париже новую жизнь: его Россия, его Витебск, его молодость всегда были с ним, воплощенные в его обожаемой Белле. Она неизменно вдохновляла его, оставаясь музой, подругой, помощником и любимой женщиной – единственной и неповторимой.
Политика, которая всегда мало интересовала Шагала, все же внесла свои коррективы и в его жизнь, и в его творчество. Из-за того, что когда-то Шагал исполнял обязанности комиссара по делам искусств, ему долго не давали французское гражданство: лишь в 1937 году, по ходатайству влиятельных друзей, художник официально обретет во Франции вторую родину. А в Германии только что пришедшие к власти нацисты публично сжигали работы еврейских художников, в том числе и Шагала. Заря антисемитизма разгоралась над миром, пока еврей Шагал гравировал иллюстрации к Библии, проникнутые любовью ко всему живому, – судьба любит грустные шутки.
Хотя картины Шагала по-прежнему полны ярких красок и полета над реальностью, их судьба становится все более трагичной. В то время, как его картины выставляются по всему миру, музеи Германии снимают со стен его работы – наряду с произведениями других художников-евреев. Если раньше немецкие критики восхищенно писали о летающих козах и коровах Шагала, то теперь Геббельс с возмущением высказывался о «выскакивающих из-под земли, играющих на скрипках, летящих по воздуху зеленых, фиолетовых и красных евреях». В июле 1937 года в Мюнхене была открыта выставка «Дегенеративное искусство», наглядно демонстрирующая немцам – на примере шести с половиной сотен произведений Кандинского, Макса Эрнста, Пауля Клее, Эдварда Мунка, Алексея фон Явленского, Оскара Кокошки, Пита Мондриана, Марка Шагала и десятков других – образцы опасного для нации и всей арийской расы творчества евреев, коммунистов, умалишенных и прочих антиобщественных элементов. Многие экспонаты той выставки тоже были сожжены; прочие сгинули в сырых хранилищах или в огне войны…
То, что сначала казалось локальным сумасшествием, всего за несколько лет переросло в угрозу всему миру: Германия начала захватывать одну страну за другой, всюду насаждая свои порядки. В 1939 году, незадолго до объявления войны, Шагал вывез все свои работы из Парижа, а потом разместил их в прованской деревеньке Гордее – Шагал купил там здание бывшей школы, где устроил мастерскую и склад.
Через несколько месяцев Шагалу – а так же Матиссу, Пикассо, Максу Эрнсту и некоторым другим – передают приглашение Музея современного искусства в Нью-Йорке приехать в Америку. Поначалу Шагал не собирался покидать Францию, однако антисемитские законы, вступившие в силу после оккупации, вынудили его принять приглашение. Как оказалось, он успел почти в последний момент: уже во время сборов в Марселе его, как еврея, арестовали во время облавы в отеле, и лишь вмешательство друзей спасло художника.
В мае 1941 года Шагалы через Мадрид и Лиссабон добрались до Нью-Йорка – вместе с шестью центнерами работ художника. 23 июня – на следующий день после того, как Германия напала на Советский Союз, – Шагалы прибыли в Нью-Йорк.
Нью-Йорк, этот Новый Вавилон, произвел на Шагала огромное впечатление: без устали кипящая жизнь, бесконечные встречи, выставки, премьеры – было трудно поверить, что в Европе идет война. Но Шагал никак не мог об этом забыть – далекая родина по-прежнему оставалась родной для него. Он помогал Советскому Союзу, как мог – собирал деньги, подарил несколько своих работ. Когда до него дошли известия о том, что немцы за время оккупации полностью разрушили Витебск, он опубликовал «Письмо моему родному Витебску»: «Давно, мой любимый город, я тебя не видел, не упирался в твои заборы… Я не жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль. Врагу мало было города на моих картинах, которые он искромсал, как мог. Его «доктора философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, теперь пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, стрелять, жечь, наблюдать с кривыми улыбками в свои монокли…»
Прежний Витебск навсегда стерт с лица земли, но он навсегда останется на картинах Шагала: говорят, что по его полотнам при желании можно было бы полностью восстановить старый город. Даже в старости, не одно десятилетие прожив вдали от него, Шагал продолжал писать Витебск, где на улицах летали люди и улыбались коровы с человеческими глазами. В 1973 году Шагал, выступая на открытии выставки в Третьяковской галерее, говорил: «У меня нет ни одной картины, на которой вы не увидите фрагменты моей Покровской улицы. Это может быть, и недостаток, но отнюдь не с моей точки зрения».

Марк Шагал. Рыночная площадь. Витебск, 1917 г.
В августе 1944 года пришли известия об освобождении Парижа. Шагалы немедленно засобирались домой – однако судьба распорядилась иначе. Белла, заразившись вирусной инфекцией, сгорела буквально за два дня. Второго сентября 1944 года она скончалась в нью-йоркском госпитале: для ее спасения там не нашлось медицинских препаратов – все лекарства отправлялись в Европу, в действующую армию… Так война, хоть и косвенно, добралась и до Шагала. Смерть Беллы стала для него трагедией, сравнимой лишь с крушением мира: он больше не хотел ни рисовать, ни жить. «Все стало мраком», – писал он. На несколько месяцев он забросил живопись, заперся в доме и ни с кем не разговаривал.

Лишь с помощью своей дочери Иды он нашел силы жить. Они вместе перевели на французский воспоминания Беллы, написанные на идиш, разобрали ее дневники и письма. Летом Ида наняла для отца сиделку Вирджинию Хаггард Макнил, разведенную красавицу, умную и образованную, тридцати с небольшим лет, имевшую от первого брака дочь. Как говорят, не без умысла: Ида считала, что без женщины, которая смогла бы заменить ему умершую жену, ее отец или сойдет с ума, или умрет в тоске, а Вирджиния была похожа на Беллу и к тому же ей нравилось творчество Шагала.
Ее план оказался успешным: уже в июне 1946 года Вирджиния родила Шагалу сына, названного в честь его брата Дэвидом и получившего материнскую фамилию Макнил, – ведь в брак родители мальчика так и не вступили.
Вирджиния сделала для Шагала все, что могла, но Беллу она заменить была не в силах. До последних дней только Беллу обнимал вечно молодой Шагал на своих картинах, и ее лицо было у мадонн на его витражах, и только ее глаза – у кротких коров и озорных коз…
Шагал еще не успел окончательно вернуться из США в Париж, но его выставки уже прошли во многих городах мира, продемонстрировав как старые работы Шагала, так и созданное им во время войны. Так что когда в 1948 году Шагал с Вирджинией окончательно переселились во Францию, он снова считался одним из самых значительных и талантливых художников своего времени. Как и прежде, он много работает – в основном в жанре книжной графики: в то время Шагал создал иллюстрации к «Декамерону» Боккаччо, знаменитой античной пасторали «Дафнис и Хлоя», а выполненные еще в двадцатых годах иллюстрации к «Мертвым душам» получили Гран-при XXIV Биеннале в Венеции.
К концу сороковых годов Шагал сдирает с себя старую кожу: он все время ищет новые пути, новые жанры, новые способы выразиться. Его композиции становятся смелее, цвета меняют гамму, формы словно создаются заново. За следующие десять лет он освоил гобелены, скульптуру, витражи и мозаику. По примеру Пабло Пикассо, с которым Шагал подружился в двадцатых годах, в 1949 году Шагал отправился на Лазурный берег осваивать гончарное дело: в 1949 году он снял в городке Ване мастерскую, где занимался керамикой. Природа и воздух окрестностей этого городка так очаровали Шагала, что он купил виллу Холм неподалеку от Ванса. Лазурный берег в те времена стал настоящим центром французской живописи: в Валлорисе жил Пабло Пикассо, в Симезе под Ниццей – Анри Матисс, а рядом с ними – многочисленные подражатели и последователи. И с Матиссом, и с Пикассо Шагал регулярно встречался и даже иногда вместе работал – впрочем, из-за свойственного многим гениям в пожилом возрасте чувства ревности к собратьям по цеху их дружба так и не стала по-настоящему крепкой.
Не прошла проверку на прочность и его новая семья. В 1951 году Вирджиния оставила Шагала ради фотографа Шарля Лейренса, который в один не очень счастливый день приехал снимать художника. Уезжая, она забрала с собой обоих своих детей. Неизвестно, что было для Шагала больнее – уход любимой женщины или потеря обожаемого сына; но переживал он очень сильно. Ида даже считала, что ее отец подумывал о самоубийстве. Тогда она снова пошла по прежнему пути: Ида познакомила отца со своей подругой Валентиной Григорьевной Бродской, или попросту Вавой, моложе Шагала на четверть века. Красивая и умная девушка держала шляпную мастерскую в Лондоне, однако быстро согласилась переехать в Париж и стать секретарем Шагала. Вскоре она согласилась остаться в его доме навсегда – но только при условии, что Шагал на ней женится.
Свадьба состоялась 12 июля 1952 года. По слухам, Вава не была довольна первоначальным брачным соглашением, и через шесть лет вынудила художника развестись и пожениться заново, составив новый контракт на ее условиях.
Сам он шутливо писал: «Что я? Я скромный еврейский художник. Вот Валентина Григорьевна – она дочь фабриканта Бродского, сахарозаводчика. Знали бы мои родители, на ком я женился. Они бы порадовались». Медовый месяц молодые провели в Греции, откуда Шагал вернулся обновленным: Вава подарила ему не только молодость, но и необходимый покой, и необходимую каждому творцу смелость. Вдохновленный своей новой любовью, он занимается скульптурой и керамикой, изучая старинные техники витражей и керамических панно – одно из них будет размещено в 1957 году в баптистерии церкви Богоматери в Асси.

Марк Шагал у картины «Песнь Давида».
Отныне в его творчестве еврейские мотивы постепенно исчезают, заменяясь библейскими сюжетами в их христианской трактовке: со временем рисунки, картины и скульптуры на библейские темы составят фонд музея «Библейское послание Марка Шагала», основанного в Ницце. Он много работал для церквей и монастырей, создавая витражи и мозаики, соединявшие в себе старинные техники с модернистским видением и восприятием юноши из провинциального еврейского местечка, которым где-то в глубине души Шагал оставался до конца своих дней. Он оформил потолок Парижской оперы и окна синагоги Медицинского центра Хадасса Еврейского университета в Иерусалиме, витраж для Организации Объединенных Наций и гобелены для израильского кнессета. Хотя он – наряду с Пабло Пикассо – давно уже жил в статусе живого бога искусства, Шагал никогда не мог успокоиться на достигнутом. Он постоянно путешествовал по миру, набираясь новых впечатлений, образов, красок, и не уставал повторять, что жить для него – значит рисовать. «Живопись была мне так же необходима, как пища, – признавался он. Она мне казалась окном, через которое я умчусь в другой мир».

Вот только в семейной жизни все было не так гладко, как казалось на первый взгляд: Вава оказалась весьма властной женщиной, ревновавшей мужа даже к его дочери. Стараниями Вавы Шагал почти перестал видеться с Идой, с друзьями, с прежними соратниками. Она мечтала стать единственной женщиной и в его жизни, и на его картинах – но Белла, ее образ, память о ней оставались для Шагала святыми. Она всегда оставалась для Шагала живой, Ваву же он рисовал крайне редко.

В 1972 году Шагал, спустя полвека, снова оказывается в России: он открыл выставку в Москве и, пользуясь случаем, подписал панно, созданные когда-то для еврейского театра. Много лет панно, подписанные лишь на иврите, хранились в запасниках Третьяковской галереи, дожидаясь возвращения своего творца, чтобы снова увидеть свет. В Ленинграде художник снова встретился с двумя своими сестрами; вот только в Витебск он так и не приехал. По официальной версии, он простудился, сидя в гостинице на балконе, и не решился отправляться в новый путь. Но скорее всего он просто не хотел видеть, каким стал его Витебск, разрушенный и отстроенный заново совсем не так, как помнил его Шагал. Его память оказалась крепче, чем камни и заборы родного города.
До последних дней Шагал работал без устали, создавая один шедевр за другим. Книжные иллюстрации и церковные мозаики, гравюры и гобелены, витражи и гуаши – они полны детской радости жизни, молодых ярких красок и воздуха, не знающего силы тяжести. Невозможно поверить, что их автору уже давно перевалило за восемьдесят. Он не прекращал работы до последнего дня.
Весной 1985 года Шагал готовил свою большую ретроспективу в лондонской Королевской академии искусств, параллельно работая над циклом литографий. Вечером 28 марта, после целого дня работы, он тихо угас в своей мастерской – по легенде, свой последний вздох Шагал испустил в лифте, поднимающем его вверх.
Пабло Пикассо

Художник вроде Бога
Пабло Пикассо – один из тех, о которых говорят: его можно любить или ненавидеть, но быть равнодушным к нему невозможно. Его слава давно переросла все пределы, о которых он смел мечтать. Самый популярный художник XX века (по опросу журнала Time), самый дорогой художник (в год его картин продается на сотни миллионов долларов), один из самых плодовитых – количество его работ исчисляется десятками тысяч (по разным оценкам, от тридцати до восьмидесяти). Он прожил жизнь, о которой мечтает всякий, – долгую, плодотворную, полную успеха и признания, любви и поклонения. Есть и другая точка зрения, оценивающая Пикассо не как гениального художника, а как вдохновенного Дон Жуана, ломающего женские судьбы с той же легкостью, как их тела на своих полотнах. Он нес им страдания и горе, сумасшествие и смерть, претворяя их слезы в краски и образы. И все же запомнится Пикассо именно своим искусством – революционным и новаторским, ломающим рамки привычного в пыль.
Будущий художник родился в Испании, в андалузском городе Малага 25 октября 1881 года: он был первым ребенком Хосе Руиса и Бласко и его любимой жены Марии Пикассо и Лопес. При крещении мальчик получил имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо – столь длинное имя по испанскому обычаю состояло из имен родственников и почитаемых святых, а две фамилии ему, как и каждому испанцу, достались по наследству от каждого из родителей. Позже в семье родились еще две дочери, Долорес (Лола) и Консепсьон (Кончита), но Пабло – старший и единственный сын – был любимцем семьи. По его воспоминаниям, в детстве родители его баловали и никогда ничего не запрещали.
Хосе Руис был выходцем из обедневшего аристократического рода и довольно известным художником: горожане охотно покупали выполненные им натюрморты с букетами цветов и картины с голубями. Неудивительно, что своему маленькому сыну он давал играть не погремушки, а карандаши: по воспоминаниям его матери, первым словом Паблито было piz, piz, укороченное lapiz — по-испански карандаш. Едва мальчику исполнилось семь, дон Хосе стал учить его всему, что знал, – технике рисунка, масляной живописи и основам композиции. Он был приверженцем классических взглядов и считал, что научиться рисованию нельзя без академической подготовки: рисования гипсовых моделей, копирования знаменитых картин и этюдов с натуры. Дон Хосе мечтал, чтобы его сын пошел по его стопам, стал художником и унаследовал семейную мастерскую. О радость – у Пабло действительно был талант и склонность к рисованию: он был готов пропадать в мастерской отца целыми днями, забыв об учебе в школе, и отец был только счастлив, если его сын вместо уроков помогал ему рисовать. Пабло не было и десяти, а дон Хосе уже доверял ему дорисовывать на своих картинах лапки голубей или листья цветов. В восемь лет Пабло нарисовал свою первую настоящую картину маслом под названием «Пикадор» – с ней художник не расстанется до конца жизни. Скоро уже все родственники знали, что у Руисов растет юный гений.

Пабло Пикассо. Портрет матери, 1896 г.
В 1891 году семья переехала в Галисию, в город Ла-Корунья, где сеньор Руис стал профессором в Школе изящных искусств и куратором местного музея. Здесь семья прожила четыре года, пока в 1895 году от дифтерии не умерла младшая сестра Пабло Кончита – событие, сильно повлиявшее на мироощущение юного художника, мир которого будто разом перестал быть радостным и солнечным. Было решено оставить полную печальных воспоминаний Ла-Корунью: сеньор Руис организовал свой перевод в Барселону, и семья сменила Галисию на Каталонию, а северо-западное побережье на юго-восточное. В Барселоне Пабло благоденствовал, лишь в редкие периоды депрессивного настроения с грустью и ностальгией вспоминал Ла-Корунью и оставшееся там детство.
По легенде, однажды дон Хосе увидел набросок голубя работы сына и был так восхищен его техникой, что пообещал даже бросить живопись, ибо его тринадцатилетний ученик превзошел своего отца. Он немедленно отправился в Барселонскую академию художеств и настоял, чтобы они приняли его сына, – несмотря на его юный возраст и зияющие пробелы в школьном образовании. И Пабло полностью оправдал доверие: обычные студенты готовятся к экзаменам месяц, а он успел за неделю, да еще выполнил все работы на неожиданно высоком уровне. Дон Хосе дал сыну все, что мог: его техника была совершенна. Много лет спустя на выставке детского рисунка признанный гений Пикассо скажет: «В детстве я рисовал как Рафаэль, но мне понадобилась вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисуют дети».
Обрадованный отец снял для Пабло мастерскую недалеко от дома и частенько наведывался, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. Он прекрасно знал, что у подросшего сына проблемы с дисциплиной, и если не стоять у него над душой, он будет не писать, а гулять с друзьями по улицам Барселоны, глазея по сторонам. Отец и сын часто спорили – уже тогда Пабло тяготился устарелыми, как он считал, вкусами отца и его формалистическими требованиями, однако ему льстила такая неприкрытая гордость его талантом.
Удивительная атмосфера Барселоны тех лет надолго повлияла на будущего художника: удивительные, полные причудливой фантазии творения Антонио Гауди (мастерская Пабло находилась напротив одного из них) с их буйством красок и текучими линиями, музеи с картинами Эль Греко и Сурбарана, средневековые статуи в соборах и афиши в новомодном стиле ар-нуво. Влияние последнего надолго сохранится у Пикассо в манере подчеркивать силуэты фигур, а также в пристрастии к монохромной гамме. Его ранние картины – например, «Портрет матери» или «Первое причастие» – сейчас можно увидеть в музее его имени в Барселоне: их непривычные для поклонников зрелого мастера чистые линии, сочные цвета и прекрасная техника были достойны старых мастеров.
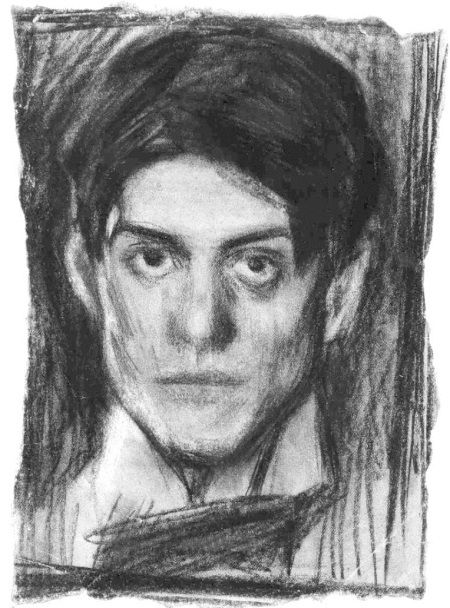
Пабло Пикассо. Автопортрет, 1900 г.
Вдохновленный успехами сына, дон Хосе уговорил своего состоятельного брата Сальвадора дать денег на обучение талантливого мальчика в самой лучшей художественной школе – мадридской Академии Сан-Фернандо. В 1897 году Пабло впервые покидает любящую семью и переезжает в столицу – однако в академии он задержался недолго из-за слишком жестких, на его вольный вкус, требований к дисциплине и чересчур формального взгляда на живопись учеников. Вместо академических классов Пабло посещает Прадо, где он часами простаивает перед полотнами Веласкеса, Эль Греко и Гойи, а отведенное на домашние штудии время проводит с друзьями в «веселых домах». «Я не стал дожидаться разумного возраста, чтобы начать общаться с женщинами, – вспоминал Пикассо. – Если его дожидаться, именно разум может помешать». Впрочем, уже в июне 1898 года он вынужден вернуться в Барселону – дядя Сальвадор, снабжающий талантливого родственника деньгами, прознал о том, как именно тратит их Пабло, и деньги давать перестал.
В Барселоне Пабло и его друзья – Карлос Касагемас и Хайме Сабартес – становятся завсегдатаями El Quatre Gats — богемного кафе, чей владелец Пере Рому возжелал создать в барселонских стенах атмосферу парижских бистро. С самого открытия здесь собирались поэты и художники, архитекторы и актеры, полные новаторских идей и молодого задора. Завсегдатаями «Четырех котов» были, в частности, художники Рамон Касас и Сантьяго Русиньоль, композитор Исаак Альбенис, и сам прославленный Гауди. Именно здесь Пикассо проводит свою первую выставку и здесь же получает свой первый заказ – оформление обложки меню.
В 1900 году Пабло и Карлос Касагемас совершают путешествие в Париж – Мекку всех художников, центр всех искусств. Там Пикассо знакомится с художником и поэтом Максом Жакобом, который очень много сделал для того, чтобы испанский самоучка стал своим среди парижской богемы: именно Жакоб помог Пабло выучить французский язык, он же представил Пабло своим друзьям-художникам. Они сняли маленькую квартиру на двоих, где существовали параллельно: Макс спал ночью, а работал днем, а Пабло – наоборот. Биографы описывают первый приезд Пабло в Париж как время нищеты и отчаяния – ему даже пришлось сжигать свои работы, чтоб согреть комнату, – но они же говорят, что в этом городе он получил мощнейший творческий импульс: парижские музеи и кафе, модернисты и импрессионисты произвели на него неизгладимое впечатление. В работах Пикассо того периода находят влияние Ван Гога и Гогена, Сезанна и Тулуз-Лотрека.
Первую половину 1901 года Пикассо провел в Барселоне, где он и его друг анархист Франсиско де Асис Солер основали журнал Arte J oven («Новое искусство»), умудрившись издать пять выпусков: Солер выпрашивал по знакомым статьи, а Пикассо делал иллюстрации, в основном мрачные карикатуры. Первый выпуск увидел свет 31 марта 1901 года; именно тогда художник вместо прежней подписи Пабло Руис и Пикассо написал просто – Пикассо. Считается, что этим он окончательно порвал с отцом, воплощавшим для Пабло искусство академическое и устарелое; впрочем, некоторые считают, что фамилию Пикассо художник предпочел как менее распространенную.
На вторую половину года Пикассо снова едет в Париж – этот загадочный и неугомонный город притягивает его все сильнее. В этот приезд он близко сходится с художником Исидро Ноньелем, чье влияние так любят искать в тогдашних работах молодого Пикассо. Натурщицей у Ноньеля работала худенькая остроносая Жермена Гаргальо – в нее был влюблен Карлос Касагемас. Отвергнутый ею, он покончил с собой: смерть его глубоко подействовала на Пикассо. Он пишет его портрет – мертвый, в пронзительных сине-желтых тонах, Карлос с закрытыми глазами больше не желает видеть этот мир… Так начался знаменитый «голубой период» в творчестве Пикассо, характеризующийся голубыми оттенками, печалью и меланхолией («Кто грустен, тот искренен», – считал Пикассо), образами старости, нищеты и смерти.
Рисуя на улицах Парижа и Барселоны алкоголиков, проституток и нищих, Пикассо придает им удлиненные пропорции Эль Греко и отчаяние высокой трагедии.
Пикассо еще дважды приезжает в Париж, пока, наконец, в 1904 году не решает переселиться туда окончательно. Весной он со своей собакой Фрикой поселился в знаменитом общежитии для нищих художников Бато-Лавуар (буквально «корабль-прачечная»): этот полуразвалившийся барак, бывшая фабрика пианино, был расположен на склоне холма Монмартр, поэтому с одной стороны был пятиэтажным, с другой же был виден только один этаж. В доме не было ни газа, ни электричества, водопроводный кран – один на всех, а единственная уборная не запиралась из-за отсутствия щеколды – по воспоминаниям одного из жильцов, задвижку не вешали, опасаясь, что ветхая дверь развалится под ее тяжестью. Именно в этой «плавучей прачечной» – окна были увешаны постиранным бельем, которое больше негде было сушить, – знаменитой «Девочкой на шаре» начался так называемый «розовый период» творчества Пикассо. Темные холодные тона стали светлее и теплее, сменившись розово-охристой и розово-серой гаммой, а нищих и проституток сменили циркачи, арлекины и акробаты, танцовщики и странствующие комедианты, чья романтическая неустроенная жизнь и обездоленное одиночество на несколько лет стали излюбленной темой художника.
В то же время Пикассо встречает свою первую настоящую любовь: ею стала натурщица Фернанда Оливье, чьи пышные формы, зеленые глаза и покладистый характер произвели неизгладимое впечатление на молодого испанца. Она была старше его на 4 месяца, и, как вспоминают, Пикассо, представляя ее друзьям, говорил: «Смотрите, какая красивая девушка. Правда, старая». Фернанда позже говорила, что у Пабло «был магнетизм, которому я не могла сопротивляться». Впрочем, сопротивление вообще явно было не в ее характере: Пикассо был страшно ревнив, и как только добился того, чтобы Фернанда переехала в его комнатушку, тут же перестал выпускать ее на улицу.

Пабло Пикассо. Фернанда в черной мантилье (Портрет Фернанды Оливье), 1905–1906 гг.
«Пикассо заставлял меня жить настоящей затворницей», – признавалась Фернанда. Хотя, как вспоминают все знакомые пары, ей это даже нравилось: она была очень ленива и готова была целыми днями лежать на диване, позируя или читая, и для развлечения ей вполне хватало бурного секса с Пабло. Она даже не стала жаловаться, когда два месяца безвылазно просидела в Бато-Лавуар: у нее развалились туфли, а у Пабло не было денег, чтобы купить ей новые. Днем Пабло рисовал ее при свете керосиновой лампы (или при свечах, когда не было денег на керосин), а по вечерам гулял с друзьями по кабакам.
В 1905 году Пикассо ненадолго съездил в Голландию, а когда вернулся в Париж, в его работах стало заметно влияние античного искусства: развернутые в профиль или анфас крупные фигуры в светлых тонах, как на знаменитой картине La Toilette. После поездки в Андорру летом 1906 года Пикассо обратился к чувственному примитивизму.
Однажды несколько картин Пикассо купили знаменитые коллекционеры Лео Штайн и его сестра Гертруда, которые с тех пор стали ярыми поклонниками его творчества. Гертруда даже заказала ему свой портрет, над которым художник работал довольно долго, ибо как раз находился в периоде поиска стиля и несколько раз переписывал картину. Наконец портрет был закончен. По легенде, Гертруда осмотрела картину и заметила, что она выглядит совсем не так. «Когда-нибудь будете», – ответил Пикассо.
Стайны выставляли картины Пикассо в своем парижском доме, привлекая к нему внимание коллекционеров и меценатов. Другим опекаемым Стайнами автором был Анри Матисс, чьи картины в стиле «фовизма» вызвали сенсацию на Осеннем салоне 1905 года. Пикассо был заворожен яркими красками и упрощенными линиями Матисса; так же он был очарован работами самоучки-примитивиста Анри Руссо, которого он называл «последним художником Древнего Египта» за сходство его работ с яркими и плоскими египетскими фресками. В то же время Пикассо открыл для себя древние иберийские скульптуры и африканское искусство, выставленное в Этнографическом музее. Постепенно влияние импрессионизма исчезает из его работ, сменяясь ломаными линиями и примитивным рисунком, заимствованным у африканских масок и архаических рисунков. А в 1907 году Пикассо пишет знаменитых «Авиньонских девиц», открывших период кубизма, изобразив пять обнаженных женщин: изначально картина, навеянная любимым когда-то Пабло публичным домом в барселонском квартале Кале д’Авиньон, называлась «Философский бордель», но друг Пикассо писатель Андре Салмон переименовал полотно в «Девиц». Несколько лет Пикассо не решался выставлять картину, опасаясь нападок критики, ведь даже немногочисленные друзья, допущенные к лицезрению, были в шоке. Матисс, весьма справедливо увидевший в «Девицах» влияние своих «Купальщиц», был в бешенстве, а Жорж Брак, новый друг Пабло, заметил: «Такое ощущение, что ты хотел накормить нас паклей или напоить бензином».

Пабло Пикассо. Авиньонские девицы, 1907 г.
Вместе с Браком Пикассо начал разрабатывать кубизм: они постоянно работали вместе и так влияли друг на друга, что сейчас уже трудно сказать, где чья идея. Кубизм мыслился не как отражение реальности, но как ее пересоздание: «Искусство – это ложь, ведущая к правде», – говорил Пикассо. Тона стали мутными, палитра – монохромной, объемы – ломаными, а формы, рассеченные на плоскости, предстали созданными из геометрических блоков. Чтобы вернуть в свои похожие на ребусы полотна связь с реальностью, художники вводят в них обрывки газет, шрифты, обои, спичечные коробки и настоящий мусор. Изобретенная Пикассо техника коллажа впервые была применена в картине «Натюрморт с плетеным стулом».
Хотя обычная публика пребывает в ужасе от кубистических экспериментов, его картины охотно покупают коллекционеры и галерейщики, а критики без устали допытываются, что именно хотел сказать Пикассо и как он это придумал. «Картина приходит ко мне из дальней дали, – в раздражении отвечал художник, никогда не любивший пустых теоретизирований. – Кто может сказать, откуда именно? Я угадал, увидел, написал ее – и я же на следующий день уже не могу понять, что сделал. Как может кто-то еще постичь то, что я вложил в нее, быть может, вопреки собственной воле?..»
Теперь у него появилось достаточно денег, чтобы снять нормальную квартиру. В сентябре 1909 года он с Фернандой переехал на бульвар Клиши, туда же отправились собранные за годы житья в Бато-Лавуар сокровища: безделушки с блошиных рынков – статуэтки, маски, вазы и бутылки, гитары и старые коврики, и картины друзей – Матисса, Сезанна и Анри Руссо. Но Фернанда недолго наслаждалась комфортом: уже через два года Пикассо выставил ее за дверь, влюбившись в другую.
Его новую возлюбленную звали Марселла Умбер, но он называл ее Ева Гуэль. Она была хрупкой и миниатюрной, стройной и нежной, и к тому же невестой польского художника Маркуссиса – который, собственно, их и познакомил, – но влюбившегося с первого взгляда Пабло это не остановило. В качестве любовных признаний Пикассо посвятил Еве несколько картин: ее саму на них увидеть невозможно, ибо кубизм не предполагает портретного сходства даже в портретах, – но на них было написано «Я люблю Еву» и «Моя красавица». Вместе они отправились путешествовать по Европе и даже планировали пожениться, но тут Пикассо постигло самое большое любовное разочарование – в 1915 году Ева заболела туберкулезом. «Моя жизнь – сущий ад, – жаловался Пикассо в письме от 1915 года. – Ева все время болеет, в течение целого месяца она находилась в санатории, и я вынужден прервать свою работу!» Через несколько месяцев она скончалась.
Вся тяжесть этого времени – начавшаяся война, демобилизация, смерть Евы, гибель на фронте друзей, расставание с Браком – он ушел на фронт и был тяжело ранен, все это придавило Пикассо; некоторое время он жил очень замкнуто, почти ни с кем не общался. Его интерес к кубизму стал сходить на нет, хотя элементы его будут появляться на картинах Пикассо до конца его дней.
Уже в 1914 году в некоторых полотнах Пикассо стал заметен вновь пробудившийся интерес к точным контурам и пластичным формам, который к 1917 году вылился в «неоклассицистический» период. Многие его поклонники были весьма смущены реалистическими тенденциями в творчестве художника, соблазнившего столь многих новаторством кубизма. Некоторые журналисты даже писали о «художнике-хамелеоне» и клеймили Пикассо за «откат назад». Тот отругивался: «Всякий раз, когда я хочу что-то сказать, я говорю в той манере, в которой, по моему ощущению, это должно быть сказано».
В 1917 году поэт Жан Кокто, приятель Пикассо, предложил ему сделать эскизы костюмов и занавеса к новому балету «Парад», который ставила прославленная балетная антреприза Сергея Дягилева на стихи самого Кокто. Пикассо весьма увлекся этой идеей и в содружестве с композитором будущего балета Эриком Сати полностью переделал и либретто, и сценографию. Вскоре он уехал вместе с труппой на два месяца в Рим, где продолжил работу над декорациями и костюмами. В письмах к Гертруде Стайн он рассказывал, что днем работает, а по ночам гуляет при луне с танцовщицами из дягилевской труппы. Гертруда недоумевала: работа была давно закончена, но Пикассо почему-то не отставал от труппы, последовав за ней сначала во Флоренцию, затем в Неаполь…
Все объяснялось просто: он снова влюбился, на этот раз в русскую балерину Ольгу Хохлову. Поначалу Пабло не замечал Ольгу – он был очарован сразу всей труппой Дягилева, но постепенно разглядел ее неяркую, элегантную красоту и изысканность. Хохлова родилась в Нежине, в семье царского генерала, получила прекрасное образование и пользовалась немалым успехом среди местных кавалеров, но предпочла – наперекор воле родителей – стать балериной. Ее охотно взял к себе Дягилев, который питал слабость к «аристократкам», и вместе с его труппой она объездила всю Европу. Правда, выдающихся успехов Ольга так и не добилась – ее уделом был кордебалет и несколько небольших сольных партий. Говорят, ей мешали отсутствие внутреннего огня, неяркость и некоторая «обыкновенность», – но, видимо, именно эти качества и привлекли к ней Пикассо, уставшего от страстных женщин, бурных чувств и постоянных внутренних раздоров. «В ней есть мудрость и спокойствие. А это, если вдуматься, куда более редкий дар, чем умение танцевать», – признавался Пабло Стравинскому. Пикассо не отходил от Ольги ни на шаг, а она, казалось, не проявляла к поклоннику особого интереса. «Будь осторожен, она русская, а на русских девушках надо жениться!» – предупреждал его Дягилев, и Пикассо решился. Он сделал Ольге предложение, познакомил ее с матерью, написал несколько ее портретов, в том числе знаменитый – в испанской мантилье…

Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой в кресле, 1917 г.
Ольга долго не сдавалась. «Может ли художник быть человеком серьезным?» – выпытывала у Дягилева мать Ольги. «Не менее серьезным, чем балерина», – отшучивался тот. Как ни странно, последним аргументом в пользу Пикассо стал феерический провал балета «Парад» в парижском театре «Шатле». Хотя Гийом Аполлинер, написавший вступительный манифест к балету, назвал «Парад» провозвестником нового искусства, то, что происходило на сцене, назвать искусством осмеливались только самые смелые. Публика орала: «Русские боши, долой русских, Сати и Пикассо боши!», и пока одни лезли на сцену бить танцовщиков, другие пытались сорвать занавес. Журналисты рвали и метали, объявляя Дягилева со товарищи в том, что они деморализуют Францию в военное время. Один из критиков, знаменитый галерейщик Лео Польдес, писал: «Антигармоничный, психованный композитор пишущих машинок и трещоток, Эрик Сати ради своего удовольствия вымазал грязью репутацию «Русского Балета», устроив скандал…, в то время, когда талантливые музыканты смиренно ждут, чтобы их сыграли… А геометрический мазила и пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время как талантливые художники смиренно ждут, пока их выставят».
Этот скандал поднял до небес реноме Пикассо среди парижской богемы, а вот дягилевской труппе пришлось отправиться на гастроли в Латинскую Америку. Накануне отъезда Ольга ушла из труппы. Она переехала в домик Пикассо под Парижем, а 12 июля 1918 года они поженились: за гражданской церемонией последовало венчание в православном соборе Александра Невского, где среди гостей были Дягилев, Анри Матисс, Жан Кокто, Аполлинер, Гертруда Стайн… Ольге было 25 лет, Пикассо – 37. Пабло был уверен, что женится один раз и на всю жизнь, и поэтому в брачный контракт было записано, что все имущество супругов – общее.
После свадьбы молодожены перебрались в квартиру на рю Бовси: наверху – мастерская, внизу – жилые комнаты. Ольга обставила квартиру по своему вкусу: красное дерево, элегантные украшения, изысканные драпировки… Фотограф Брассай так описывает свое посещение салона Пикассо: «Эта квартира совершенно не вязалась с привычным стилем жизни художника: здесь не было ни той необычной мебели, которую он так любил, ни одного из тех старинных предметов, которыми ему нравилось окружать себя, ни разбросанных как придется вещей. Ольга ревниво оберегала владения, которые она считала своей собственностью, от влияния яркой и сильной личности Пикассо». Она приучала Пабло к светской жизни, изысканному обществу, балам и обедам, что так соответствовало ее врожденному аристократизму и воспитанию. Ольге нравилось быть женой знаменитого художника, вращаться в высшем свете и общаться со знаменитостями. Она старалась изысканно одеваться сама и добилась, чтобы и Пабло сменил вечный комбинезон на костюмы от дорогих портных. Пикассо откровенно гордился красотой жены, ее естественными манерами и аристократизмом, написанные им ее портреты этого периода полны любви и нежности. Писал он их в реалистичной манере – на этом настояла сама Ольга, не любившая новаторства в живописи: «Я хочу узнавать свое лицо!» – говорила она.
В феврале 1921 года Ольга родила сына, которого назвали Поль. Пикассо, в сорок лет впервые ставший отцом, был на седьмом небе от счастья. Он бесконечно рисовал Ольгу с малышом, помечая не только день, но и час. Ольга любила сына с почти болезненной страстью, надеясь, что ребенок поможет укрепить начавший рушиться брак…
Увы, мать Пикассо была права, когда в свое время сказала Ольге: «С моим сыном, который создан только для самого себя и ни для кого другого, не может быть счастлива ни одна женщина». Пабло был слишком независим, слишком своеволен, чтобы долго терпеть нормы светских приличий, чье-то руководство или чьи-то претензии. Ольга, после родов ставшая гораздо требовательнее к семейной жизни, все больше и больше раздражала его: он начинал протестовать, надолго покидать ее, что вызывало все новые и новые упреки и ссоры… Они были слишком разными во всем – от стремлений до вкусов. «Ольга, – жаловался Пикассо, – любит чай, пирожные и икру. Ну а я? Я люблю каталонские сосиски с фасолью». Его равнодушие разжигало ее беспокойство и ревность, а все это лишь увеличивало пропасть между ними. Постепенно на полотнах Пикассо вместо прежней Ольги-богини появляется другая Ольга: мегера, фурия, чудовище…
Этот период называют «сюрреалистическим»: под влиянием этого течения на картинах Пикассо возникают разорванные на части, бесформенные или безобразно раздутые монстры, агрессивно-сексуальные, орущие или бьющиеся в истерике: среди характерных примеров можно назвать, например, работы «Сидящая купальщица», «Женщина в кресле» или «Фигуры на берегу моря». Критики убеждены, что их появление – прямое следствие постоянных скандалов с женой.

Пабло Пикассо. Сон (Портрет Мари-Терез Вальтер), 1932 г.
Дело кончилось логично: Пикассо нашел себе другую. Удивительно, но художник, коренастый, некрасивый, обладал поистине божественным даром соблазнения женщин: говорили, что ему достаточно было посмотреть в глаза женщине, чтобы она перестала ему сопротивляться. Однажды в январе 1927 года он увидел среди выходящей из метро толпы юную красавицу и подошел к ней. «Я Пикассо, мы вместе совершим великие вещи!» – заявил он ей. Девушку звали Мари-Терез Вальтер, ей было всего семнадцать, и она первый раз слышала о Пикассо. Так началось, по словам биографов, «самое большое сексуальное увлечение в жизни Пикассо, не знающее ни границ, ни табу. Это была страсть, возбуждаемая секретностью, окружавшей их отношения, а также тем, что Мари-Терез, имевшая вид ребенка, оказалась податливой и послушной ученицей, которая с готовностью шла на любые эксперименты, включая садистские, полностью повиновалась желаниям Пикассо». Мари-Терез вдохновляла Пикассо на картины, полные откровенной чувственности и эротики, а также на скульптурные бюсты, полные безмятежности и величия. Пикассо поселил ее в замке Буажелу и держал там почти взаперти, опасаясь огласки и проблем с законом – Мари-Терез еще считалась несовершеннолетней, и у ее совратителя могли быть серьезные неприятности. В 1935 году она родила дочь Майю и стала все чаще заговаривать о законном браке. Пикассо обещал: как только он разведется, он женится на Мари-Терез и признает дочь. Пока девочку записали как родившуюся от неизвестного отца, а Пикассо выступил в роли ее крестного. Ольга Хохлова, все еще остававшаяся мадам Пикассо, была готова терпеть измены и издевательства мужа, но рождение у него внебрачного ребенка (а Пикассо не преминул привести ее к Мари-Терез и с гордостью указать на младенца: «Это произведение Пикассо!») стало последней каплей. Она забрала сына и уехала. Впрочем, дать развод она отказалась, объясняя, что все еще любит мужа. «Ты уверяешь, что любишь меня, – возмущался Пикассо. – Вполне возможно, но любишь как кусок жареной курицы, стараясь обглодать его до кости». Подумав, Пикассо сам отказался от развода: ведь по подписанному брачному контракту ей бы отошла половина имущества, а Пабло, как истинный испанец, был скуповат.
Еще много лет Ольга не оставляла его в покое: она появлялась везде, где ее бывший – но все еще законный – супруг отдыхал с очередной пассией, и, как могла, портила им отдых: устраивала скандалы, часами ругалась под окнами их отеля или шла за ними следом, осыпая бранью. Она успокоилась, лишь уже обзаведясь внуками, которые запомнили ее удивительно спокойной и умиротворенной, всегда веселой и довольной жизнью. Ее внучка Марина Пикассо много писала о ней в своих воспоминаниях: «Она была настоящей волшебницей, часто рассказывала нам сказки на красивом и мелодичном русском языке. Вместе с ней в дом приходили спокойствие, хорошее настроение, гармония. Казалось, все трудности легко преодолимы, и никогда мы от нее не слышали дурного слова о Пикассо, бросившем ее на произвол судьбы». За год до смерти Ольга в последний раз случайно увидела Пикассо на берегу Ниццы – он не заметил ее, а она не стала подходить…
В 1934 и 35 годах Пикассо посещает родную Испанию, которая никогда не переставала быть для него источником вдохновения. В этот раз он привез оттуда многочисленные наброски быков, воплотившиеся у Пикассо в образах Минотавра. Этот образ завершает сюрреалистический период, но он же открывает новый, вызванный собирающимися над Европой тучами надвигающейся войны. Когда в Испании началась гражданская война, симпатии художника однозначно были на стороне республиканцев, которые в знак признательности назначили Пикассо директором музея Прадо. Для них он создал серию акватинт «Мечты и ложь генерала Франко», которые, отпечатав в виде открыток, с самолетов разбрасывали над позициями франкистов. Когда в апреле 1937 года фашисты разбомбили баскский город Гернику, Пикассо немедленно откликнулся громадным полотном, клеймящим это преступление: монохромная композиция из огромных изломанных фигур полна немого крика, страдания и ужаса, и среди прочего – гигантский бык со страдающими человеческими глазами…

Пабло Пикассо. Плачущая женщина (Портрет Доры Маар), 1937 г.
Работу над «Герникой» запечатлела для истории Дора Маар – новая любовь Пикассо, одна из самых знаменитых женщин-фотографов своего времени, воспитанная в Аргентине прекрасная дочь хорвата и парижанки. По одной из легенд, их в январе 1936 года познакомил Поль Элюар, безнадежно влюбленный в Дору, – в надежде, что «Пабло сумеет укротить эту дикую кошку». По другой – художник впервые увидел ее в богемном кафе Les Deux Magots: она в одиночестве сидела за столиком и играла с ножом, быстро-быстро втыкая его между пальцев лежащей руки. Пикассо немедленно начала ее рисовать, а затем пригласил в свою студию. Дора была умна, образованна, обаятельна и независима – она разительно отличалась и от Ольги, и от Мари-Терез, которых Пикассо немедленно вычеркнул из памяти. Его роман с Дорой продолжался почти десять лет, он запечатлел ее на многочисленных полотнах в образе «плачущей женщины»: как говорят, Дора была очень нервной и нередко впадала в депрессию, а Пикассо старательно зарисовывал ее искаженное лицо, считая, что только так она выглядит по-настоящему красивой… Впрочем, как бы ни ценил красоту своих женщин Пикассо, их портреты никогда не были всего лишь изображениями красавиц. «Я не пишу с натуры, я пишу при помощи натуры», – говорил он. – «Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а таким, каким его мыслю». Всю жизнь он очень много работал: вставая обычно поздно, он днем общался с друзьями, а вечером садился за работу, успокаиваясь лишь под утро. Подсчитано – впрочем, весьма приблизительно, – что за годы своей творческой деятельности Пикассо создал 14 тысяч полотен, 100 тысяч гравюр и эстампов и 34 тысячи книжных иллюстраций.
В годы Второй мировой войны Пикассо продолжал жить в Париже и все так же без устали творил: картины, портреты и скульптуры заполняют его мастерскую – на первом послевоенном Осеннем салоне он представил столько работ, что они еле поместились в зале. Параллельно он сотрудничал с Сопротивлением, снабжая организацию деньгами, а взамен получая контрабандную бронзу для отливки своих скульптур. В 1944 году даже вступил во Французскую коммунистическую партию – впрочем, он проникся ее идеями недостаточно сильно для того, чтобы выражать их на своих картинах. Хотя всем памятен знаменитый «Голубь мира», написанный Пикассо для плаката Всемирного конгресса сторонников мира в Париже 1949 года, – благодаря ему имя художника стало знакомым не только критикам и знатокам искусства, но и простым людям по всему свету. Пикассо был дважды награжден Ленинской премией мира – в 1950 и 1962 годах. Правда, в Советском союзе его картины, еще в 1905 году закупленные знаменитым коллекционером Сергеем Щукиным, почти тридцать лет – с момента расформирования в 1946 году Государственного музея нового западного искусства – находились в запасниках…

Пабло Пикассо. Портрет Франсуазы Жило, 1946 г.
В конце 1943 года Пикассо познакомился с молодой художницей Франсуазой Жило: ему было уже за шестьдесят, ей двадцать один. Пикассо никогда не мешала разница в возрасте: «Если я живу с юной, это помогает и мне оставаться юным», – говорил он. Этот роман продвигался вперед очень медленно: Пикассо боялся давить, а Франсуаза – соглашаться. «Нас связывало искусство. Я бы все равно рано или поздно полюбила его картины, а потом и самого Пабло», – писала она в своих мемуарах. Даже став любовниками, они из уважения еще очень долго обращались друг к другу на «вы». Когда Дора узнала, что Пабло променял ее на молодую, с ней случился нервный срыв.
С Франсуазой связан самый, пожалуй, счастливый и гармоничный период творчества Пикассо. С нею вместе он уезжает на юг Франции, где заново открывает для себя красоту солнца, моря и морского берега. Его картины этого времени полны радости и античной неги, они наполнены идиллическими настроениями и наслаждением жизнью. В 1946 году Пикассо по заказу княжеской семьи Монако выполнил для их замка в Антибе ансамбль из 27 полотен с говорящим названием «Радость жизни», а на следующий год отправился в знаменитый своим керамическим производством городок Валлорис на Французской Ривьере. Здесь он стал работать на фабрике «Мадура»: увлеченный ручным трудом, он создает множество статуэток, блюд, кувшинов и декоративных тарелок: несколько архаичные по духу, они в то же время полны очарования и юмора. На соборной площади городка Пикассо установил статую «Человек с ягненком», а в крипте храма поместил два живописных панно своей работы. В этот период он много сил отдавал скульптуре, для многих работ используя технику ассамбляжа, – родственную коллажу технику создания работ из разнородных объемных деталей, часто случайных: например, брюхо козы в работе 1950 года сделано из старой корзины; встречаются и обломки мебели, куски дерева и садовый инвентарь.
«Всего, и особенно счастья, нам отмерено понемногу, – говорил художник Франсуазе. – И если любви суждено родиться, время ее жизни и течение определяются записью в невидимой книге». Пикассо любил Франсуазу как умел, но ее не устраивала его деспотическая, изматывающая и деформирующая любовь. Несколько раз она в момент ссоры порывалась уйти от него, и Пикассо, пытаясь привязать Франсуазу к себе, буквально заставил ее родить ему ребенка. Кроме того, ему нравилось смотреть, как меняется женское тело во время беременности, ему нравились молодые матери с младенцами и сами младенцы – они прекрасно получались на картинах. Франсуаза родила Пикассо двоих детей: в 1947 году сына Клода, а через два года – дочь Палому. Однако сама все чаще думает о том, что ее призвание – быть художницей, а не быть с художником; что Пикассо подавляет ее и к тому же издевается над ней и изменяет ей направо и налево. «Я была слишком самостоятельна для него – ему требовалась покорная ученица, а я вела несколько «мальчишеский» образ жизни…», – вспоминала Франсуаза. В 1953 году она забрала детей и ушла.
Пикассо был в ярости: впервые женщина бросила его, а не наоборот. «Ни одна женщина не покидает таких мужчин, как я!», – говорил он. И в то же время он в отчаянии: ему кажется, что он – дряхлый старик, ни на что не годный и никому не нужный: образ безобразного карлика рядом с юной красавицей много раз повторится в его работах 1953 – 54 годов. От отчаяния он даже предложил Мари-Терез Вальтер выйти за него замуж, но та отказалась: слишком долго пришлось ей ждать…
Через одиннадцать лет Франсуаза Жило написала книгу воспоминаний «Моя жизнь с Пикассо»: художник попытался через суд добиться запрета книги, но Франсуаза отстояла свое право говорить все, что считает нужным. Гонорар за книгу стал основным капиталом для ее детей: Палома стала известным модельером и производителем косметики, а Клод – журналистом и дизайнером.
Но Пикассо не умел быть один: женская любовь, как и восхищение, были ему необходимы как воздух. В 1954 году он встретил свою последнюю музу, двадцатисемилетнюю Жаклин Рок. К моменту их встречи Жаклин уже побывала замужем и родила дочь; в Валлорисе, где пересеклись их пути, она работала в магазинчике при «Мадуре», и всегда искренне, хотя и несколько преувеличенно, восхищалась Пикассо. Он был восхищен ее правильным «египетским» профилем и горящими глазами. Жаклин напоминала ему «Алжирских женщин» Делакруа: «можно подумать, что Делакруа встречался с Жаклин», – говорил Пикассо. Он изображает Жаклин в десятках портретов, чаще всего в профиль, ею же, как считают некоторые исследователи, вдохновлена серия своеобразных кубистических вариаций на прославленные картины прошлого (от тех же «Алжирских женщин» и «Менин» Веласкеса до «Завтрака на траве» Мане и «Девушек на берегу Сены» Курбе). В 1955 году Пикассо и Жаклин переселяются в Канны на виллу «Ла Калифорни», но там им постоянно мешали гости и просто любопытные, которые толпами наведывались в его дом, дабы выразить свое восхищение художником (а под шумок что-нибудь стащить, жаловался он). В 1958 году художник купил для своей возлюбленной замок Вовенарг на юге Франции рядом с городком Экс-ан-Прованс, у подножия горы Сен-Виктуар, которую так любил рисовать Сезанн. Говорят, едва став владельцем замка, Пикассо позвонил своему другу и галерейщику Даниэлю-Анри Канвейлеру: «Я купил себе сезанновскую Сен-Виктуар». «Какую именно?» – поинтересовался собеседник, думая, что речь идет об одной из многочисленных картин, на которой запечатлена эта гора. «У меня теперь оригинал», – ответил художник.

Жаклин терпела его выходки и капризы, следила за его здоровьем и делами. Она была для престарелого Пикассо всем: натурщицей и сиделкой, любовницей и секретарем. Она ничего не требовала, всегда была благодарна и всегда готова восхищаться: дети Франсуазы с иронией вспоминали, как она во время их нечастых визитов могла заявить: «Как вы можете смотреть в окно, когда в комнате наше солнце и наш король – монсеньор Пикассо?!» Она всегда называла Пабло монсеньор, как обращаются к крупным церковным иерархам. Пикассо смеялся: «Ты выдумала себе религию!» – но ему это было лестно. Постепенно он и сам начал ощущать себя кем-то вроде Бога: «Бог – тоже художник вроде меня. И к тому же сюрреалист – ведь он создал слона и жирафа».
В марте 1961 года он женился на Жаклин (Ольга скончалась в 1955 году, и Пикассо, наконец, мог вступить в новый брак). Свадьба была скромной, парадный обед состоял из воды и остатков вчерашнего ужина. Некоторые считают, что свадьба была последней местью Франсуазе, которая очень хотела, чтобы художник узаконил своих детей. Был – при его одобрении и участии – составлен план: Франсуаза разводится со своим тогдашним мужем и выходит замуж за Пикассо. Она развелась, но Пикассо тут же женился на другой…

Пабло Пикассо. Жаклин со скрещенными руками (Портрет Жаклин Рок), 1956 г.
Став мадам Пикассо, Жаклин взяла его жизнь в свои руки. Они переехали из Вовенарта, который был для Жаклин слишком мрачным и неуютным, в городок Мужен на побережье, где Пикассо по ее просьбе купил виллу Нотр-Дам-де-Ви. Здесь они жили очень уединенно: Жаклин строго дозировала посетителей, постепенно отвадив от дома художника всех его друзей. Потом ей удалось поссорить его и с родственниками: как утверждают его внуки, Жаклин старательно внушала мужу, что его детям от него нужны только деньги, и что все они ждут не дождутся его смерти, чтобы получить наследство.
В последние годы художник говорил: «Я все время думаю о Смерти. Она всего лишь женщина, которая никогда меня не покинет». Пабло Пикассо скончался 8 апреля 1973 года на своей вилле в Мужене. По легенде, перед смертью он сказал жене и врачу: «Выпейте за меня, за мое здоровье. Вы же знаете, что мне нельзя больше пить…» Жаклин хотела похоронить его в саду, но власти Мужена воспротивились, и она перевезла тело мужа в Вовенарт. На могиле художника она установила скульптуру «Женщина с вазой» – когда-то для нее позировала Мари-Терез Вальтер…
Еще при жизни Пикассо открылся музей его имени в Барселоне, куда он в 1970 году пожертвовал множество своих работ. В 1985 году стараниями его наследников открылся музей в Париже: ему принадлежат две сотни картин, полторы сотни скульптур и множество рисунков, эстампов, коллажей и документов. Его работы можно встретить в музеях Америки и России, Германии и Англии.
Незадолго до своей кончины художник, считавший себя пророком, сказал: «Моя смерть станет кораблекрушением. Когда погибает большое судно, все, что находится вокруг него, затягивается в воронку». Так и произошло. Жаклин не пустила на похороны Пикассо ни его бывших любовниц, ни его детей, ни внука Паблито. Спустя четыре дня после смерти Пикассо Паблито, которого дед постоянно унижал и называл ничтожеством, выпил отбеливатель, сжег себе пищевод и через три месяца скончался. Его похоронили на кладбище Канна в могиле бабушки Ольги Хохловой. Два года спустя умер отец Паблито – пятидесятичетырехлетний Поль Пикассо, единственный ребенок Пабло и Ольги. Отец держал его при себе на коротком поводке, платя еженедельное скудное содержание, использовал как водителя и рассыльного и постоянно попрекал тем, что тот – посредственность и ничего не добился в жизни. После смерти отца и сына он запил и скончался от цирроза печени. Дети Пикассо – Майя, Клод и Палома – долгие годы судились с Жаклин за наследство и в итоге чуть не перессорились между собой. Дора Маар провела долгие годы в психиатрических клиниках и скончалась в ужасающей бедности – среди полотен Пикассо, которые тот ей подарил в период их романа и которые она отказывалась продавать. В нищете умерла и Фернанда Оливье. В октябре 1977 года в гараже своего дома повесилась бывшая спутница художника – Мари-Терез Вальтер. А в октябре 1986 года, накануне открытия выставки Пикассо в Мадриде, застрелилась Жаклин Рок…
Энди Уорхол

Приключения Белого Кролика
Имя Энди Уорхола гораздо известнее, чем его работы. В то же время его работы гораздо известнее его самого. Этот парадокс вполне в его духе – Уорхол всегда старался казаться тем, чем не являлся, и быть тем, чего быть просто не могло. Его картины были ценны в первую очередь его подписью, его образ жизни – тем, что он возвел его в ранг учения, при этом старательно отгородив себя от своих же учеников, – а весь его вклад в искусство измерялся тысячами долларов, которые люди готовы были заплатить – и готовы до сих пор! – за то, что он был готов продать. Самый скромный человек Америки, который так страстно желал стать самым известным и богатым, что все его мечты сбылись, – вот каким был Энди Уорхол… И в то же время он был кем-то совершено другим. Итог его жизни подвел в некрологе New York Times: «Лучшее произведение Уорхола – это сам Уорхол».
У Судьбы есть любимчики, которым еще до рождения дается все, о чем можно только мечтать. Бывают и те, кто добивается ее расположения долгим и мучительным трудом. Энди Уорхол, казалось, был из последних – но он сумел повернуть дело так, что под конец сама Судьба добивалась его расположения. А ведь изначально она его совсем не баловала. Мальчик, которого в детстве звали Андрей Вархола, казалось, был обречен на нищету и безвестность – третий сын Ондрея Вархолы и его жены Юлии Юстины, украинцев из нищей галицийской деревушки Микова (в свое время она принадлежала Австро-Венгрии, теперь – Словакии), бежавших когда-то от страшного голода в страну всеобщего счастья – Соединенные Штаты.
Правда, счастье их было весьма относительным: семья поселилась в Питтсбурге, штат Пенсильвания – грязном промышленном городишке, полном огромных заводов и дышавшем, казалось, исключительно угольной пылью. Ондрей целыми днями работал на угольной шахте, а Юлия сидела с детьми: у них было три сына – Джон, Пол и Андрей. Младший родился в 1928 году – правда, день точно никому не известен: свидетельство о рождении Андрею выдали только после войны, и указанная там дата 6 августа весьма условна.

Юлия Вархола с сыновьями Полом и Андреем.
Его детство пришлось на период Великой американской депрессии – самое тяжелое время в новейшей американской истории. Всеобщая нищета и безработица, подавленный страх и тоска – вот та обстановка, в которой рос юный Вархола. Он был тщедушным и болезненным, некрасивым, очень эмоциональным, впечатлительным и нервным. Мать старалась не отпускать его от себя, и половину своего детства Андрей провел либо рядом с матерью, либо в постели – от перевозбуждения у него случались припадки. Школа стала для него настоящим адом – от волнения он не мог связать двух слов, руки отказывались писать, а одноклассники потешались над этим бесплатным цирком, доводя Андрея до нервного срыва. В третьем классе у него диагностировали болезнь святого Витта – все тело дергалось от произвольных сокращений мышц. У мальчика нарушилась пигментация кожи – он стал таким бледным, что походил на альбиноса, а от постоянного лечения развилась ипохондрия. Андрей боялся больниц, отказывался лечиться и вообще старался держаться от людей подальше. Неудивительно, что в школе он стал изгоем. Месяцами он лежал в кровати, в гордом одиночестве, и только в эти времена был счастлив. Когда в 1942 году умер его отец, Андрея не было на похоронах – мать заставила его провести все это время в постели, опасаясь наступления очередного припадка. Всю жизнь потом он избегал похорон, в то же время питая болезненный интерес к чужим несчастьям…
Во время болезни его любимым развлечением было слушать радио и рассматривать иллюстрированные журналы. Понравившиеся рисунки и фотографии он вырезал и раскладывал вокруг кровати – постепенно из них собирались картинки, Андрей наклеивал их на картонки, разрисовывал и складывал в стопку: на его коллажах кинозвезды были перемешаны с героями мультфильмов, документальные кадры – с фрагментами классической живописи, яркие пятна краски расцвечивали серые журнальные снимки. Эта был собственный мир Андрея Вархолы – гораздо более интересный и нередко гораздо более настоящий, чем окружающие его однообразные серые дни. По его собственному признанию, страсть к рисованию ему привила мать – Юлия тоже искала в живописи способ не сойти с ума от изматывающих будней. Чаще всего она рисовала кошек.
По воспоминаниям одной из подруг, в детстве Андрей страдал дислексией и дисграфией – у него всю жизнь будут проблемы с чтением и письмом, школу он окончил с одним из худших результатов за всю ее историю, и рисование стало его единственной надеждой чего-то добиться в жизни. А Андрей больше всего на свете хотел чего-то добиться – и не просто чего-то, а чего-то весьма большого: богатства и мировой славы. Так что первоначальное решение стать учителем рисования было забыто – и Андрей, потратив все сбережения семьи, поступил на факультет промышленного дизайна в Технологическом институте Карнеги (ныне – Университет Карнеги-Меллона) в Питтсбурге. Возможно, на его решение повлиял тот факт, что в Институте Карнеги преподавал Джозеф Фицпатрик, который вел рисование у Андрея в школе. Вероятно, Фицпатрик был единственным учителем, кто не считал Вархолу бездарностью, и его присутствие в институте было очень важно для замкнутого и необщительного Андрея.
Поначалу учеба у Вархолы снова не задалась: на фоне богатеньких детей, учившихся лишь ради удовольствия, он выглядел жалким чудаком. Ему было трудно общаться – из-за жуткого, унаследованного от родителей, акцента, в разговоре он постоянно сбивался на уличный сленг, и с трудом успевал по всем дисциплинам, где требовалось что-то прочесть или написать. Он ходил в растянутых свитерах, заляпанных краской, и старался держаться в тени. «Он был похож на тихого белого кролика», – вспоминал один из его сокурсников. Однако уже скоро все поняли, что этот кролик был, во-первых, безумно талантлив, а во-вторых, – он умел быть благодарным. Жалость, которую он вызывал у однокашников, скоро начала приносить плоды: сердобольные студентки делали за него задания по словесности, а восторженные профессора боролись за то, чтобы у студента Вархолы была возможность продолжать учиться. И пусть он вместо привычных гипсов и натурщиц рисовал уличных мальчишек и усталых рабочих – его рисунки были полны энергии и жизненной силы.
В 1949 году Андрей Вархола получил степень бакалавра искусств и переехал из Питтсбурга в Нью-Йорк. Сюда, в город исполнения желаний, он и раньше наведывался, как паломник в Мекку, – подзаработав денег продажей леденцов на рынке, на каникулы Андрей приезжал в Нью-Йорк осмотреться, набраться идей и показаться нужным людям. Теперь он собирался остаться здесь навсегда.
Вместе с однокурсником Филиппом Перлштейном Андрей снял за восемь долларов в месяц крохотную квартирку на Манхэттене: «Ванна там стояла прямо на кухне, и обычно была полна тараканами», – вспоминал он впоследствии. Вархола обошел все рекламные студии города, и уже вскоре получил свой первый заказ – от обувной фирмы Миллера. Первые же работы были неимоверно успешны: Андрей мазал туфли золотом, рисунки были заляпаны намеренно случайными чернильными пятнами, а результат был такой вызывающий, такой сексуально-провокационный, что продажи в магазинах Миллера резко пошли вверх, – как и гонорары автора. А его реклама радиостанции, говорящей о проблемах молодежи, – на рисунке был изображен молодой человек, вкалывающий в себя шприц, – стала рекламой года и прославила имя Андрея Вархолы. Впрочем, уже скоро имя он изменил: когда наборщики в очередной раз сделали ошибку в его фамилии, и вместо Andrew War-hola получилось Andy Warhol, бывший Андрей решил, что это судьба, и навсегда остался Энди Уорхолом.

За несколько лет Энди Уорхол стал одним из самых известных рекламщиков США. Его талант улавливать веяния времени и преобразовывать их в художественные образы оплачивался суммами с несколькими нулями, а в 1956 году он даже получил почетный приз «Клуба художественных редакторов». Энди перевез в Нью-Йорк мать, к нему стояла очередь заказчиков, желающих, чтобы их продукт был увековечен именно Уорхолом, его широким знакомствам могли позавидовать самые заядлые тусовщики Соединенных Штатов: реклама требовала общения с людьми, и Энди обнаружил в себе настоящий гений общения. Люди притягивались к нему, как железные опилки к магниту: столь непреодолимы были проснувшееся и тщательно пестуемое очарование Уорхола, его своеобразное чувство юмора и удивительная манера шутить – произнесенные вполголоса, почти без интонаций, шутки Энди словно ставили его собеседника рядом с ним – и неизмеримо выше всех остальных, предлагая разделить какое-то тайное понимание. Привлекал внимание и его странный внешний вид: нервные движения, поджатые губы, парик (у Энди очень рано начала расти лысина, и он завел себе целую коллекцию париков: сначала седые или золотисто-пшеничные, затем серебристые, а потом – всевозможных кислотных цветов), огромные черные очки и заляпанная краской одежда. Но если в колледже это были дешевые свитера, которые носились потому, что не на что было купить новые, то теперь Энди покупал дорогие костюмы и, как говорили, специально брызгал на них краской прямо перед выходом – оставшиеся на знакомых пятна расценивались им как своеобразная подпись, экзамен «на своего».
Энди был просто создан для ночной жизни. С детства страдая бессонницей, он либо работал ночи напролет, либо проводил время от заката до рассвета в ночных клубах, иногда успевая посетить с десяток вечеринок за ночь. «Что бы ни открывалось, я иду. Когда закрывается, иду тоже. Просто иду. Мне надо каждый вечер выходить в свет. Если бы в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие сортира, я бы пришел туда первым», – заявлял он. Энди старался не появляться на солнце – его нежная бледная кожа быстро обгорала, и ночь стала его излюбленным временем. «Знаете такие растения, которые растут в темноте? – говорил один из его знакомых. – Белесые, но очень стойкие и по-своему красивые? Вот и Энди такой же». Позднее из этого родилась одна из самых стойких легенд об Уорхоле: многие считали его вампиром, современным Дракулой, объясняя преданность его друзей «вампирским обаянием» и «узами крови». До сих пор среди авторов «вампирского» жанра популярно мнение об Энди Уорхоле и его друзьях как о колонии современных вампиров.
Без устали посещая вечеринки, Энди, кроме удовольствия, преследовал еще одну цель – сделать свое имя известным и самому таким образом прославиться. Недаром Энди называли гением промоушена – буквально за несколько месяцев он стал одним из самых известных людей в Нью-Йорке, по сути, еще ничего толком и не создав.
Энди всю жизнь преклонялся перед знаменитостями. В детстве он вырезал их фотографии, а, став взрослым, писал корявые письма со словами восхищения и просьбами прислать что-нибудь на память. Его подруга Бьянка Джаггер, прославленная тусовщица и тогдашняя супруга лидера Rolling Stones Мика Джаггера, рассказывала, как однажды на приеме в Белом доме Уорхол, уже всемирно известный художник, искренне восхищался тем, что рядом с ним сидят Стинг и Элтон Джон…
В начале пятидесятых внимание Энди привлекла фотография Трумена Капоте на обложке книги «Другие голоса, другие комнаты». Энди звонил Капоте, писал ему письма, пытался назначить встречу. Вмешалась мать Трумена: однажды она взяла трубку и, назвав Уорхола «грязным педиком», запретила Энди звонить своему сыну. Однако состоявшаяся в 1952 году первая персональная выставка Энди Уорхола была посвящена именно Капоте: она называлась «Пятнадцать рисунков, основанных на произведениях Трумена Капоте» и представляла собой собрание изображений полуобнаженных юношей весьма гомосексуального вида. Капоте на открытие так и не пришел; выставка провалилась.
Энди окончательно понял, что одного умения рисовать и денег недостаточно для того, чтобы быть успешным. К этому времени Уорхол зарабатывал на рекламе уже больше ста тысяч долларов в год, его работы печатались в Harper’s Basaar, Vouge и Glamour, но реклама не делает своего автора знаменитым, прославляя лишь товар, а деньги не могут служить славе, если не вкладывать их в рекламу. Энди до судорог хотел всемирной славы, причем славы художника, и всеми способами пытался этой славы достичь. В то время вокруг стремительно зарождалось новое искусство: на безумных перформансах и модных выставках возник поп-арт – направление, старательно уничтожавшее различия между «высоким» и «низким» искусством. Объектом искусства становилось все что угодно: газетные вырезки и кухонные отходы, рекламные плакаты и отпечатки пальцев. Энди не переставая экспериментировал, пытаясь найти свое слово в новом искусстве и прославиться: он выкладывал непросохшие холсты под ноги прохожим, кидался в картины красками, выбирая оттенки вслепую, даже – по непроверенным, но таким соблазнительным в своей достоверности слухам – мочился на свои рисунки.
В 1956 году Уорхол совершил путешествие, в поисках новых идей проехав от Японии до Италии, – его главной находкой стала техника шелкографии, хотя Энди по-прежнему не знал, к чему ее применить. Однако – как это нередко бывает – по-настоящему новая идея пришла к нему случайно и стоила не так дорого: всего пятьдесят долларов. Эту идею Уорхолу продала одна знакомая: «Что ты больше всего любишь? – спросила она. – Вот это и нарисуй. Смысл в том, чтобы взять что-то простое и всем известное, например, доллар или банку с супом».
Картины Уорхола, изображавшие знак доллара и банку томатного супа Campbell’s (кстати, любимого супа Энди, а в нищие годы – его единственной еды), произвели фурор. Радикально настроенные критики захлебывались от восторга, расписывая на все лады глубину художественного замысла молодого художника: его картины, мол, вскрывают пустоту, пошлость и обезличенность американской культуры массового потребления, в них находили философию пустоты и глубины вселенского смысла. «Он дал нам почувствовать, что даже в самой ничтожной и обыденной безделке сокрыт великий смысл. Его банки полны поэзии, они обнажают суть вещей», – писал нью-йоркский критик Патерсон Симе. Энди был в восторге: мир, наконец-то, пал к его ногам.

Энди Уорхол. Банка супа Кэмпбелл с перцем, 1962 г.
Вслед за первой банкой супа последовали целые серии – «32 банки супа Campbell’s», сто банок супа, двести… По странной прихоти чувства юмора Уорхола, среди сотен абсолютно одинаковых, совершенных в своей красоте банок есть шесть с надорванными этикетками – эти изображения бракованных банок теперь стоят гораздо дороже своих идеальных собратьев. Кроме супа, Уорхол рисовал и другие символы американского образа жизни, превращая их в настоящие фетиши: банки кока-колы, бутылки кетчупа, пачки стирального порошка. На выставке 1964 года «Американский супермаркет» были представлены идеальные в своем сходстве с оригиналом упаковочные ящики от стирального порошка Brillo, кетчупа Heinz и все того же супа Campbell’s — каждый такой ящик был продан за 350 долларов. На той же выставке товарищ Уорхола Билли Эппл продавал по 500 долларов ломтики искусственного арбуза…
Растиражированные изображения стали настоящими символами поп-арта. Они стирали грань между массовым и элитарным искусством, между высоким и коммерческим, между подлинным и притворяющимся таковым. Это была своеобразная игра с потребителем, получающим за свои деньги превосходное изображение того, что он действительно любит, или возможность задешево купить оригинал и любить непосредственно его. Вслед за банками и бутылками Энди Уорхол стал производить портреты знаменитостей: Мэрилин Монро, Элвис Пресли и Элизабет Тэйлор под его руками в буквальном смысле становились иконами, теряя индивидуальные черты, а взамен получая идеальную, вечную красоту – и ценник с несколькими нулями. Вскоре желающие получить портрет от Уорхола вставали в очередь – ведь, раз Энди рисовал самых известных, портрет его работы делал модель столь же знаменитой. Не зря Мик Джаггер говорил: «Если хочешь узнать, что было самым популярным в тот или иной период, посмотри, что в это время рисовал Уорхол». Энди фотографировал заказчика «поляроидом» (со временем фирма Polaroid пыталась снять его любимую модель с производства, но по личной просьбе Уорхола продолжала выпускать такие фотоаппараты специально для него), выбирал лучший снимок, проецировал его на холст и раскрашивал. Получившееся изображение было лишено всех недостатков оригинала – прыщей, морщин, отвисших щек, и в высшей степени соответствовало представлению людей об идеальной красоте и «звездности». Картина «До и после» наглядно демонстрировала, какое совершенное лицо может обрести каждый, если его нарисует Уорхол.
Привлеченные необыкновенной личностью Уорхола, люди приходили к нему и оставались с ним. Первыми были двое его знакомых художников – Вито Джалило и Натан Глюк: они согласились быть ассистентами Уорхола за минимальные деньги и возможность быть рядом с ним, а Джалило стал первым, кто забросил собственную карьеру ради сотрудничества с ним. В дальнейшем таких людей будет много – и лишь немногие добьются самостоятельного успеха. Большинство оказались не в состоянии перенести одиночество, когда Уорхол по каким-то причинам бросал их.
Несмотря на постоянные слухи, приписывающие Энди невероятное количество любовников, на самом деле их было не так много. «После неудачных любовных отношений в молодости он решил занять позицию наблюдателя», – говорил один из его знакомых. Уорхол никогда не скрывал своих гомосексуальных наклонностей (как, впрочем, никогда не протестовал и против гетеросексуальных отношений), но, как считают исследователи, лишь немногие из тех, кто говорил о своей любовной связи с Энди, действительно в этой связи состояли. В его дневниках нет ни одного упоминания о каких бы то ни было любовных отношениях. «Любовь в фантазиях гораздо лучше, чем любовь в действительности. Самое возбуждающее – это если ты влюбляешься в кого-то и никогда не занимаешься с ним сексом. Самое безумное притяжение возникает между двумя противоположностями, которые никогда не сходятся», – писал он в одной из своих книг.
В 1963 году Энди Уорхол переехал в новую студию в центре Манхэттена – здание заброшенной фабрики стало его новой мастерской, центром культурной жизни Нью-Йорка и настоящей Меккой для всех, кто мнил себя художником. Билл Нейм – бывший официант, ставший сначала (на очень недолгое время) любовником Энди и затем – на всю жизнь – его другом, покрасил стены серебряной краской под цвет париков Уорхола. В этой гигантской мастерской, названной «Фабрикой», царила необыкновенная атмосфера творческой вседозволенности, излишеств, наркотического угара и служения искусству. Здесь постоянно что-то происходило: кто-то рисовал, кто-то снимал, кто-то читал стихи, где-то обсуждали выставку или проводили мастер-классы. Говорят, какой-то чудак несколько месяцев не покидал здание Фабрики, – он медитировал, пытаясь найти смысл жизни рядом с Энди Уорхолом. Сам Энди был счастлив: в этом человеческом муравейнике он находил вдохновение, новые идеи (а нередко и чужие, которые он беззастенчиво выдавал за свои) и постоянное восхищение, которое тешило его самолюбие. Он ходил по Фабрике с диктофоном, на который украдкой записывал разговоры, и коллекционировал чужие проблемы – любой мог присесть на диванчик в одной из комнат и рассказать Энди все, что его беспокоило. За право быть рядом с Уорхолом обитатели Фабрики готовы были драться друг с другом до последнего – а Энди сначала с удовольствием наблюдал за дракой, а потом – с еще большим удовольствием – за тем, как его вчерашний любимец падает с небес на землю. Он использовал людей, и люди были счастливы, когда их использовал Уорхол, отдавая ему свои силы, время и таланты.

Рядом с Энди парила необыкновенная атмосфера, которую он тщательно поддерживал, – в его обществе люди чувствовали себя исключительными, талантливыми и понятыми. Пока ему что-то было нужно, он «был как зонтик. Он делал так, чтобы мы могли делать что хотим», – вспоминал Лу Рид, лидер группы Velvet Underground. Но если интерес Энди к ним пропадал – начинались трагедии. Фредди Эрко, которого Уорхол обещал снять в своем фильме, но в конце концов просто выгнал
с Фабрики, пришел домой, принял дозу ЛСД и выбросился из окна под «Реквием» Моцарта. Говорят, узнав об этом, Энди страшно разозлился: «Почему он ничего не сказал мне? Мы ведь могли снять на пленку, как он падает!» Когда утопился музыкант Velvet Underground Дэнни Уильяме, Уорхол, по воспоминаниям очевидцев, использовал его предсмертную записку в качестве туалетной бумаги. Из-за подобных историй Уорхола прозвали Ангелом Смерти – и он снова был счастлив: каждая новая трагедия лишь повышала к нему внимание и цены на его картины, привлекая к нему новых людей…
На Фабрике Энди наладил настоящий конвейер по производству предметов искусства: его добровольные помощники штамповали бесчисленных Мэрилин и Джеки Кеннеди, Мао и банки кока-колы, а Энди в лучшем случае лишь раскрашивал их, нередко обходясь вообще одной лишь собственноручной подписью.
Один из очевидцев, писатель Марк Матусек, так описывал это процесс: «Среди нагромождения какого-то хлама, холстов и мусора восседал Энди Уорхол – бледная поганка в нелепом парике, черной водолазке и черных джинсах. Он творил, а помогал ему в этом аккуратненький мальчик-ассистент. На стену было спроецировано полутораметровое, местами раскрашенное изображение жены какого-то диктатора. Энди тыкал пальцем в фотографию лица с двойным подбородком и говорил ассистенту, какие цвета куда накладывать… Мы простояли несколько минут, наблюдая за тем, как гений раскрашивает разные части лица своей модели. Как ребенок в книжке-раскраске. Наконец, разрисовав жирные щеки на портрете в ярко-красный, желтый и голубой цвета, он приказал помощнику нанести закрепитель».
Уорхол хотел, чтобы «как можно больше людей занималось шелкографией – никто не должен догадаться, моя перед ним картина или чья-то чужая». В день Фабрика выпускала до восьмидесяти изображений, а в год их производилось до тысячи – хватало, чтобы обеспечить картинами Уорхола всех желающих. «Я пишу картины именно так, а не иначе потому, что хочу быть машиной, и я чувствую, что то, что я делаю, уподобляясь машине, – это то, что я хочу делать», – говорил он. Сотни одинаковых образов, различавшихся лишь оттенками краски и цифрами на ценниках, отражали пристрастие Энди к стереотипам, брендам и фетишам – к тому, что превращает отдельных людей в сплоченное общими идеями целое. «Я хочу, чтобы все думали одинаково, – говорил он. – Я думаю, что все должны быть машинами. Я думаю, что все должны быть похожи друг на друга».
Поточное производство своих шедевров Уорхол называл «бизнес-арт»: если за его имя готовы платить, он будет продавать имя. В конце концов, по выражению самого Уорхола, если человек хочет повесить на стену картину за 200 000 долларов – честнее и проще будет повесить на стену пачку банкнот.
Зарабатывание денег – это искусство, и работа – это искусство, а успешный бизнес – лучшее из искусств, – говорил Энди. – Не думаю, что деньги должен иметь кто угодно, они не для всех – как иначе отличить, кто важная персона, а кто нет?!
Наладив механизм Фабрики, сам Энди постепенно стал отходить от живописи – его заинтересовал кинематограф и те возможности, которые он сулит в плане влияния на зрителя (хотя многие считали, что Энди просто нашел новый способ поиздеваться над ним). Что удивительно – он, будто бы интересовавшийся исключительно зарабатыванием денег, снимал фильмы исключительно некоммерческие. «Все мои фильмы искусственны, – говорил Уорхол, – как и вообще все на свете, и я не знаю, где кончается искусственное и начинается реальное». Его первые ленты были совершенно невозможны: это были многочасовые, беззвучные, снятые с одной точки виды ночного Эмпайр-Стейт-билдинга (фильм Empire, 1964), или лицо спящего человека (лента Sleep, 1963) или просто семьдесят минут чьей-то
задницы. Точнее, зад принадлежал Тейлору Мэду, другу Энди, и перед премьерой разъяренный Тейлор был готов убить Энди – тот обещал, что делает съемки исключительно для себя, но выставил его филейные части на всеобще обозрение. «Он обманет кого угодно, высосет все соки и выбросит на помойку!» – орал Мэд перед дверями кинотеатра. В короткометражке 1963 года Blow Job демонстрировалось лицо человека, которому где-то за кадром делают минет (предполагалось, что зрители поймут – акт гомосексуальный), в других был подробно показан во всей своей наготе Джо Даллесандро – этого рослого красавца Энди подобрал на панели и сделал самым ярким мужским секс-символом того времени. Именно его затянутые в джинсы возбужденные чресла Энди снял для обложки альбома Sticky Fingers группы Rolling Stones. Потом Джо стал известным актером, но больше всего он гордился тем, что именно он первым показал камере свои гениталии не в порнофильме.

Обложка альбома Sticky Fingers работы Уорхола, 1971 г
Самый знаменитый фильм Уорхола – «Девушки из Челси», где впервые была применена техника «двойного экрана»: на каждую часть проецировалось свое изображение со своей звуковой дорожкой, причем на одном экране картинка была цветной, а на другом – черно-белой. Почти трехчасовая лента рассказывала о тяжелой жизни двенадцати манхэттенских «ночных бабочек» и стала вершиной кинотворчества Уорхола – в дальнейшем он все меньше принимал участие в съемках, ограничиваясь ролями идейного вдохновителя, спонсора и подстрекателя. Режиссер Эмиль д’Антонио говорил: «С самых первых своих фильмов Энди требовал и ему удавалось добиваться от людей таких неслыханных вещей, которые бы они никогда не решились сделать даже за деньги». Многие фильмы (а всего их несколько сотен) были сняты вместе с Полом Моррисси. И хотя все критики признают, что именно Моррисси сделал большую часть работы, вся слава доставалась исключительно Энди: когда Моррисси начал работать самостоятельно, его еще долгие годы продолжали воспринимать исключительно как «сотрудника Уорхола».

Афиша фильма «Девушки из Челси», 1966 г.
Уорхол обожал фриков – он собирал их по всему Нью-Йорку, прикармливал на Фабрике и потом снимал в своих фильмах. Среди его «постоянной труппы» была целая компания трансвеститов с громкими именами типа Ультра Вайолет, Холли Вудлон, Джеки Кер-тис или Кэнди Дарлинг. Кэнди, которую на самом деле звали Джеймс Слэттери, прославилась не только тем, что регулярно занималась групповым сексом с Роже Вадимом и Бриджет Фондой, но и тем, что была практически единственным мужчиной, который снялся на обложку самого женского журнала в мире – Cosmopolitan, причем в платье.
Но самой яркой звездой Фабрики была красавица-блондинка Эди Седжвик. Богатая наследница из (Санта-Барбары, она приехала в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться жизнью и губить свое здоровье в постоянных удовольствиях. В наркотическом угаре она гоняла по Нью-Йорку на роскошном «Мерседесе», а когда разбила его – перешла на лимузины. В январе 1965 года приятель привел ее на Фабрику – и Энди был покорен ею с первого взгляда. Он привил Эди образ «бедной богатой девочки», ввел в свой круг и сделал одной из самых ярких девушек Нью-Йорка. По воспоминаниям знавших ее людей, Эди «была светом, вдыхала в окружающих ее людей жизнь», и ее обаяние стало необходимо Уорхолу (злые языки, правда, говорили, что ему еще больше были нужны ее деньги). Эди стала тенью Энди и светом для его Фабрики. Она сопровождала его на всех вечеринках, нередко представляясь как «миссис Уорхол», перекрасила волосы в тот же серебристый цвет, какой носил Энди, снималась в его фильмах. Ее образ – темные колготки, короткие прямые платья, огромные серьги, подведенные глаза и безумный, рассеянный взгляд наркоманки – стал настоящим символом 1965 года, иконой стиля для тысяч девушек.
Уже через год Эди ушла от Энди (который, по ее мнению, подавлял ее индивидуальность) к музыканту Бобу Дилану, а еще через два она уже почти ничего не соображала от наркотиков. Вспоминают, что она просила у Уорхола деньги на лечение, но тот не пожелал с нею разговаривать. В июле 1971-го Эди вышла замуж за Майкла Поста, с которым вместе лежала в клинике, где лечилась от героиновой зависимости. Вскоре она во всем блеске появилась на модном показе – и на следующее утро ее нашли мертвой. Но об этом Энди Уорхол так и не узнал.
Место Эди на Фабрике заняла Нико – эту двухметровую красавицу Энди отыскал в Париже и вывез в Америку. Он вспоминал, как встречал ее в аэропорту: «Когда она спускалась по трапу, такая высокая и величественная, мне казалось, что это один из легендарных викингов. Было ясно, что она пришла покорять и побеждать. Ничего не оставалось, как сдаться на милость победителя!» Ко времени их знакомства Нико, урожденная Криста Пеффген, уже успела сняться для всех модных журналов, сыграть у Феллини в «Сладкой жизни», родить ребенка от Алена Делона и поработать с Rolling Stones. В Нью-Йорке Уорхол устроил ее выступления и запись с группой Velvet Underground, которую в тот момент продюсировал. Продюсировать – для Уорхола означало ставить свое имя на чужую работу, чтобы оно помогало прославиться другим, – а те, в свою очередь, помогали расширить славу самого Уорхола.

Энди Уорхол и Эди Седжвик.
Velvet Underground нашел Пол Моррисси – ему была нужна группа, которую можно было бы раскрутить под именем Уорхола, получив таким образом деньги и рекламу. Лу Рид, Джон Кейл и компания подходили идеально: у них был драйв, желание прославиться и море энергии. По мнению Моррисси, им не хватало только вокалистки – и он привел в группу Нико. Уорхол превратил ее в гей-икону и диву декаданса, а портреты работы Энди сделали ее настоящим символом того времени и превосходной рекламой для чего угодно. Уорхол создал для группы светомузыкальное шоу «Взрывная Пластиковая неизбежность» – потрясающее зрелище, состоявшее из нескольких киноэкранов, цветных прожекторов, вспышек и тому подобного, наводившее на мысли о наркотическом воздействии, – и оформил обложку их диска, изобразив там кислотный недвусмысленный банан, мгновенно превратившийся в самый знаменитый фаллический символ.

Энди Уорхол, Нико и Velvet Underground.
Правда, ничего хорошего из такого сотрудничества не вышло: Нико покрутила романы со всеми членами Velvet Underground (а также с Джимом Моррисоном, Брайаном Джонсом и Игги Попом) и исчезла, занявшись сольной карьерой, a Velvet Underground, лишившись покровительства Уорхола (по утверждению Моррисси, ему просто стало скучно), едва не развалились.
К концу 60-х годов Уорхол стал самым известным, дорогим и плодовитым художником в США. За одну из его картин на аукционе заплатили 60 тысяч долларов – столько еще никогда не давали за картину живого художника! Правда, сам он уже почти не рисовал – его подпись сама по себе стоила тысячи долларов, и ее можно было ставить хоть на чужом рисунке, хоть на банке из-под кофе. Иногда Уорхол больше времени тратил на беседы с журналистами, чем на работу, но каждое его интервью было произведением искусства. «Я не хотел рождаться. Это было ошибкой. Все равно как меня выкрали и продали в рабство, – разглагольствовал он в интервью журналу Time. – Меня никогда не трогали собственные работы. Я делаю дешевую писанину и нравлюсь обычным людям».
Налаженный механизм Фабрики дал сбой 3 июня 1968 года. Воинствующая феминистка Валери Соланас, основательница и единственный член «Общества по уничтожению мужчин», стреляла в Энди Уорхола. Когда-то она прислала на Фабрику сценарий с милым названием «Засунь себе в задницу», который тот даже вроде бы собирался экранизировать. Энди Уорхол тогда сказал журналистке Гретхен Берг: «Название показалось мне замечательным, и я был в добродушном настроении, поэтому согласился продюсировать это, но пьеса была такая черная, что я решил, может быть, она женщина-мент… С тех пор мы ее не видели, но я не удивлен. Думаю, она решила, что это очень подходит Энди Уорхолу». Однако когда Валери начала требовать за сценарий денег, Уорхол признался, что потерял его. Он надеялся отделаться от докучливой Валери, сняв ее в нескольких своих фильмах, – она играла в них саму себя, грубую мужеподобную агрессивную женщину, ненавидящую мужчин. Ее ненависть нашла выход: в тот день Валери, при полном параде с пистолетом в бумажном пакете поднялась в студию и выпустила в говорившего по телефону Уорхола три пули, попав только один раз. Она выпустила пять пуль в галерейщика Марио Амайа и пыталась застрелить всех, кто был с ним в комнате, но пистолет заклинило. Тогда она села в лифт, вышла на улицу, купила персиковое мороженое и сдалась полицейскому со словами: «Меня ищет полиция. Я застрелила Энди Уорхола. Он слишком контролировал мою жизнь».
«В кино все эмоции выглядят такими сильными, такими настоящими – когда в жизни с тобой что-то случается, это по большей части похоже на телепередачу, ты ничего не чувствуешь. И прямо в тот момент, когда в меня стреляли, и впоследствии я был уверен, что смотрю телевизор», – написал Энди несколько лет спустя. Говорят, что лежа в луже крови, он первым делом спросил, снимал ли кто-нибудь происходящее. Уорхол почти час ждал «скорую» – все это время рядом с ним на коленях стоял Билл Нейм и плакал. В больнице констатировали клиническую смерть, потом пять часов сшивали простреленные внутренности. Швы наложили неудачно – Энди еще два года еле двигался и всю оставшуюся жизнь носил корсет. А Валери прославилась – ее имя стало знаменем феминизма. На суде ей дали всего три года (время ожидания суда засчитывалось). Энди отозвал обвинение. «После пальбы Валери мне нет нужды подписывать свои работы: она подписала их своими пулями», – говорил он. Однажды одна из его «банды» – Ультра Вайолет – спросила его, почему Валери Соланас пыталась его убить. Уорхол ответил: «Я оказался в неправильном месте в правильное время».
Выйдя из тюрьмы, Валери первым делом взялась звонить Уорхолу с угрозами: она требовала, чтобы Уорхол заплатил ей 200 000 долларов за ее рукописи, снимал ее в кино и взял в шоу Джонни Карсона, добавив, что, если Уорхол этого не сделает, «она всегда сможет это повторить».

Валери Соланас на суде.
В одном из интервью у нее спросили, соответствуют ли ее выстрелы нравственным нормам. «Я считаю это нравственным действием, – ответила Валери Соланас. – И я считаю безнравственным, что я промахнулась. Мне надо было потренироваться в стрельбе». Валери скончалась пятидесяти двух лет от роду, в апреле 1988 года. В последние годы она сидела на игле, а деньги зарабатывала на панели – всегда надевая на работу платье из серебристой парчи, так похожей то ли на стены Фабрики, то ли на парики Уорхола… Про нее сняли фильм, а ее сценарий так никогда и не был поставлен.
Завидуя ее кровавой славе, уже десятки человек угрожали Энди Уорхолу. Однажды активисты антинаркотической кампании швырнули в него тортом, в другой раз на презентации новой книги неизвестные сорвали с него парик. По слухам, даже колумбийская мафия в один прекрасный день напала на его офис и вынесла оттуда всю наличность – около миллиона долларов: всем было известно, что деньги Энди хранит в коробках от печенья, разбросанных по Фабрике. Вся эта кутерьма сильно повлияла на него: он стал более скрытным, у него началась паранойя. Поверх корсета он надевал бронежилет, избегал незнакомых людей, и в то же время он боялся быть один, проводя дни и ночи в бесконечных тусовках.
Хотя в одном из интервью, данных после покушения, Энди утверждал, что он «мертв и не чувствует себя живым», он по-прежнему жаждал славы и творчества. Самой знаменитой работой того времени стал расписанный языками пламени автомобиль: Энди считал, что красота гоночной машины должна проявляться в динамике. Уорхол расписал автомобиль лично, нанося краску пальцами: «Я пытался нарисовать, как выглядит скорость. Когда машина движется на большой скорости, все линии и цвета смазываются». Еще он выпускал романы – первый роман «А», состоявший из расшифровок записей телефонных разговоров на Фабрике, вышел в 1968 году, и даже основал собственный телеканал. Его ток-шоу называлось «Пятнадцать минут с Энди Уорхолом» – в названии звучала аллюзия на самую, пожалуй, знаменитую фразу Уорхола о пятнадцати минутах славы, на которые когда-нибудь каждый будет иметь право. Сам Энди в это время раздавал бесчисленное количество интервью, в каждом из которых он словно издевался над журналистами. «Интервьюер должен произносить те слова, которые он хочет от меня услышать, а я буду повторять за ним», – говорил Энди, а если было по-другому – нес такую фантастическую чушь, что журналисты бились в истерике.

Энди Уорхол, Теннесси Уильяме и Пол Моррисси (на заднем плане), 1963 г.
Больше всего на свете – кроме разве что смерти – Энди боялся оказаться «не в моде». Он преклонялся перед модой – эфемерным искусством, которое заменяло миллионам людей законы и принципы. Он говорил: «Я скорее куплю и повешу на стену модное платье, чем картину». Сам он тоже по мере сил работал для моды – разрабатывал модели туфель и шляпок, делал платья в любимой технике шелкографии и создавал рекламу для своих друзей-модельеров. Его лучшим другом много лет был знаменитый американский дизайнер Рой Хальстон – первый американец, получивший признание по обе стороны океана. В свое время он прославился шляпкой-таблеткой, которую Жаклин Кеннеди надела на инаугурацию своего мужа, а в конце семидесятых его называли «лучшим американским дизайнером всех времен». Иногда Уорхол выходил на дефиле Хальстона в качестве манекенщика – говорят, что пару раз он демонстрировал даже женскую одежду. Работал Энди и как фотомодель, подписав контракт сначала с агентством Zoli, а затем с Ford. Дружил Энди и с Дианой фон Фюрстенберг – модельершей, бывшей женой австрийского принца, тусовщицей и изобретательницей платья с запАхом. Впрочем, все это не мешало ему заявлять:
«Я обожаю униформу! Потому что если ты – пустое место, то и одежда не делает из тебя человека. Лучше всего носить одно и то же и знать, что в тебе любят тебя самого, а не то, что из тебя может сделать одежда».
В 1969 году Уорхол основал журнал Interview, поначалу пишущий о кино, где знаменитости беседовали со знаменитостями (а Трумен Капоте – сам с собой). По легенде, логотип – угловато-размашисто написанное название журнала – создала за Энди его мать, которая и раньше нередко выполняла вместо него шрифтовые работы. В конце семидесятых Interview стал писать о массовой культуре в ее самом буквальном понимании – кино, звезды, тусовки, мода и сплетни. Основную пищу для колонок светской жизни давала знаменитая «Студия 54» – самый известный в истории ночной клуб, полный радости, секса, кокаина и знаменитостей. Энди Уорхол был там постоянным гостем и одним из самых преданных поклонников: он говорил, что «Студия» – место до того важное, что «если бы в Нью-Йорке случилось землетрясение, то непременно там». О том, что там происходило, восхищенные посетители складывали легенды: красавцы-бармены в одних носках и горы кокаина, секс-разгул прямо на танц-поле и вечеринки в декорациях от самых известных дизайнеров, обнаженная Бьянка Джаггер верхом на белой лошади и сам Энди, которого засунули головой в мусорное ведро – полное стодолларовых банкнот. В заведение пускали не всех – однажды туда не пустили даже Шер! – но там бывали самые известные люди мира: от Лиз Тейлор и Джека Николсона до иранской шахини Сорейи, Имельды Маркое и Джекки Кеннеди. «Студию» закрыли в конце 1979 года, и вместе с нею закончилась сверкающая эпоха 70-х.
В конце жизни Энди уже не хотел славы – он хотел бессмертия, и панически избегал всего, что может напоминать о смерти. Энди писал: «Я не верю в нее, потому что, когда она наступает, человека уже здесь нет.

Энди Уорхол. Детройт, 1985 г.
Я не могу ничего о ней сказать, потому что я к ней не готов». Он пытался остановить время, создавая так называемые «временные капсулы» – картонные коробки, куда ежедневно складывалось все, с чем Энди имел дело. В конце месяца коробки запечатывались и уносились на склад. Всего их набралось 610 – сначала Энди собирался продавать эти коробки по 100 долларов за каждую, а затем поднял цену до пяти тысяч. Энди гнал от себя свою смерть, не желая смотреть на чужую: он не пришел на похороны кумира своей молодости и друга Трумена Капоте, и даже не счел возможным проводить в последний путь свою мать – хотя Юлия Вархола была, пожалуй, единственным человеком на свете, кого Энди искренне и глубоко любил. Страдая от болей в мочевом пузыре, он категорически отказывался ехать в больницу – в конце концов его удалось уговорить, но хотя операция прошла успешно, на следующее утро его нашли мертвым. Он умер 22 февраля 1987 года от сердечного приступа.
Когда друзья вскрыли двери его роскошного манхэттенского особняка, там обнаружили неслыханную роскошь: на антикварной мебели громоздились кучи пакетов и свертков из самых лучших магазинов – ювелирные украшения и духи, электронные игрушки и картины старых мастеров лежали вперемешку с африканскими статуэтками, безделушками с блошиных рынков и коробками конфет. Почти все были даже не распакованы – Энди, как истинный шопоголик, верный адепт религии потребления, скупал вещи без разбору и никогда к ним не возвращался… Его коллекцию продали на аукционе за 25 миллионов долларов. К слову, там не было ни одной картины самого Уорхола, кроме маленького портрета Мао Цзэдуна, который автор то ли потерял среди своих вещей, то ли забыл… Свое состояние, оценивающееся в сто миллионов долларов, шутник Уорхол завещал своему фонду для помощи художественным организациям.
Его братья перевезли тело Энди на родину, в Питтсбург, где и похоронили. В своем завещании Энди просил выбить на его могиле всего лишь одно слово: «Фикция». К сожалению, этого сделать не осмелились.
Наука
Никола Тесла

Опередивший время
Это имя вызывает больше споров, чем любое другое. Одни превозносят его как величайшего изобретателя XX века, утверждая, что все его заслуги были украдены и присвоены, другие уверены, что он – дутая величина и обязан своей известностью исключительно рекламе. Первые считают, что Тесла – автор нескольких тысяч изобретений, далеко опередивший свое время; вторые убеждены, что ученый больше сочинял о себе, чем изобретал. Он действительно рассказывал о себе множество фантастических историй, но то, что писали о нем другие, звучит еще более неправдоподобно. Каков же был на самом деле Никола Тесла – так и остается загадкой…
Восторженные почитатели называли его Повелителем молний, Отцом переменного тока, Волшебником и, наконец, просто Человеком, который изобрел XX век. Его именем названы единица измерения плотности магнитного потока, улица в Хорватии, аэропорт в Сербии, его лицо красуется на банкнотах, а его самого на родине считают национальным героем наряду с великими правителями и воинами.
Он прожил необыкновенную жизнь – длинную, насыщенную, полную загадок, но его наследие до сих пор не изучено полностью. Часть изобретений пропала, а часть известна лишь по легендам, которые, как предполагают, он придумал сам. Тесла был человеком парадоксов. Он был уверен, что мир совсем не таков, каким его считают, но так и не смог объяснить, каким его видит он сам.
Он всю жизнь сражался с плагиаторами, работая в полной секретности, и всю жизнь негодовал, почему о его открытиях так мало известно. Он обогатил почти всех, с кем работал, но сам всю жизнь боролся с долгами. Его биографии пестрят противоречиями и предположениями, загадками и тайнами, фантазиями и мифами, иногда кажется, что и сам он – лишь легенда, которую обязательно надо было выдумать, столь уместна она была и столь заманчива. Но, как это ни странно, Никола Тесла действительно существовал.
Никола Тесла, серб по национальности, был родом из хорватской провинции Лика, в то время входившей в состав Австрийской империи. Его отцом был Милютин Тесла, православный священник, увлекавшийся политикой и нередко писавший патриотические статьи в местных газетах, – у него был прекрасный стиль, остроумие и передовые взгляды. Он знал несколько языков, и дом его был полон книг, многие из которых он знал наизусть. Как писал Тесла, Милютин нередко говорил, что, если какая-нибудь из книг пропадет, он сможет восстановить ее по памяти.


Милютин Тесла и Дука Мандич.
В 1847 году он женился на Георгине (Дуке) Мандич, представительнице одной из самых славных своими традициями сербских семей, из которой вышло немало военных, политиков, священников и ученых. Дука «была прекрасной женщиной редкого мастерства и мужества», как вспоминал позднее ее сын. Хоть она, по семейным обстоятельствам, так и не выучилась читать, зато знала наизусть множество народных поэм, была талантливой рукодельницей и, по словам Николы, придумала множество полезных приспособлений для дома – свой талант изобретателя он явно унаследовал от матери.
Никола был четвертым из пяти детей Милютина и Дуки: у него был старший брат Данэ, старшие сестры Ангелина и Милка и младшая Марица. Никола родился 10 июля 1856 года в небольшой деревушке Смиляны, расположенной недалеко от Госпича, столицы провинции, где у его отца был приход.
Детство Николы описывается как идиллическое: с братом и сестрами он проводил время в играх и развлечениях, много купался, ловил рыбу и наблюдал за окружающей его живностью – его любовь к голубям, длившаяся всю жизнь, берет свое начало именно в детских годах. Тогда же, по собственному признанию и по воспоминаниям семьи, он с помощью старшего брата начал изобретать: сам Никола упоминает о пугаче из кукурузного стебля, ловушках для птиц, особом крючке для ловли лягушек и, наконец, вершине изобретательности – пропеллере, управляемом шестнадцатью майскими жуками.
Я прикреплял четверку жуков к крестовине, – писал Тесла в своей автобиографии, – которая вращалась, надетая на тонкий шпиндель, и передавал движение описанной конструкции на большой диск, и таким образом получал значительную «энергию». Эти существа были удивительно эффективны, так как стоило их запустить, как они уже не могли остановиться и продолжали бегать по кругу часами, и чем жарче было, тем усерднее они трудились. Все шло хорошо до тех пор, пока не появился странный мальчик… Он ел майских жуков живьем, будто это были лучшие устрицы. Такое отвратительное зрелище положило конец моим опытам в этой многообещающей области, и из-за этого случая я никогда больше не смог дотронуться до майского жука или любого другого насекомого.
Кроме непереносимости насекомых, со временем Тесла обзавелся многими другими странностями, которые остались у него на всю жизнь.
У меня было жгучее отвращение к женским серьгам, – писал он, – но другие украшения, например, браслеты, нравились больше или меньше в зависимости от дизайна. Вид жемчужины почти оскорблял меня, но сверкание кристаллов или предметов с острыми гранями и гладкими поверхностями зачаровывало. Я никогда бы не дотронулся до волос другого человека, разве что под дулом пистолета. Меня бросало в жар при взгляде на персик, а если где-нибудь в доме находился кусочек камфары, это вызывало у меня сильнейшее ощущение дискомфорта. Даже сейчас я не могу воспринимать некоторые из этих выводящих из равновесия импульсов. Когда я бросаю маленькие бумажные квадратики в сосуд с жидкостью, я всегда ощущаю во рту специфический и ужасный вкус.
Когда Николе было пять лет, его старший брат, одаренный мальчик и любимец родителей, на которого семья возлагала большие надежды, погиб, упав с лошади. «Его преждевременная смерть оставила моих родителей в неутешном горе, – вспоминал Никола. – По сравнению с его талантами мои казались бледным подобием. Любые мои действия, достойные похвалы, вызывали у моих родителей лишь обостренное чувство потери. Поэтому я рос, не испытывая большой уверенности в себе». Мать, всегда обожавшая старшего сына, с тех пор стала уделять детям меньше внимания, замкнувшись в себе, отчего Никола чувствовал себя заброшенным. Вся его дальнейшая жизнь некоторым исследователям кажется лишь попыткой доказать матери, что он достоин ее любви.
Как позже вспоминал Тесла, сцены смерти и похорон брата так ярко стояли у него перед глазами, что он не мог заснуть и, чтобы отвлечься, научился представлять себе разные картины, которые со временем становились все реальнее.
Я подсознательно начал совершать экскурсии за пределы мирка, который я знал, и увидел новые пейзажи. Постепенно… они приобрели яркость и отчетливость и в конце концов приняли форму реальных предметов… Когда я был один, я отправлялся в свои путешествия: видел новые места, города и страны, жил там, знакомился с людьми, заводил друзей и знакомых, и хотя невероятно, но это факт: они были мне так же дороги, как и те, что были в реальной жизни, и ни на йоту менее яркими в своих проявлениях.
Со временем эти видения – последствия невероятно развитого воображения – Никола научился использовать для создания своих изобретений. Он настолько реально представлял в своей голове будущий механизм, что мог проверить его работу и вносить изменения в конструкцию, не строя пробных моделей.
Когда появляется идея, я сразу начинаю ее дорабатывать в своем воображении, – писал Тесла, – меняю конструкцию, усовершенствую и «включаю» прибор, чтобы он зажил у меня в голове. Мне совершенно все равно, подвергаю ли я тестированию свое изобретение в лаборатории или в уме… Подобным образом я в состоянии развить идею до совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои изобретения работали именно так.
Вскоре Милютин получил приход в Госпиче, и семья покинула идиллические Смиляны. Николе было тяжело расставаться с любимыми местами и привыкать к городской жизни. Кроме того, ему пора было начинать обучение в гимназии. Однако Никола вовсе не был неучем: отец много занимался с ним, обучал языкам и математике, а также развивал у мальчика память и интуицию.
«Его воспитание, – вспоминал Тесла, – включало в себя всякого рода упражнения – такие, как угадывание мыслей друг друга, нахождение несовершенства какой-либо формы или оборота речи, повторение длинных предложений или вычисления в уме. Эти ежедневные уроки имели целью укрепить память и развивать умственные способности, и особенно критичность ума, и, без сомнения, очень благотворно на меня повлияли». Никола очень любил книги – хотя родители запрещали ему много читать, опасаясь за его глаза, он умудрялся читать ночами, спрятавшись с самодельной свечой под одеялом.
Однажды он гладил любимого кота Мачака и заметил, как по его шерсти проскакивают искры. Никола спросил у отца, что это, и тот ответил, что это электричество – такое же, что бывает в молниях. С тех пор электричество необыкновенно заинтересовало мальчика: он читал о нем все, что мог, и постоянно экспериментировал. Он даже построил на близлежащей речке несколько турбин и часами наблюдал за их работой. Однажды Никола увидел у дяди изображение Ниагарского водопада и тут же заявил, что когда-нибудь обязательно построит там большое колесо, которое будет вращаться благодаря потокам воды.
В Госпиче Никола поступил в нижнюю (начальную) реальную гимназию. Нескладный долговязый подросток, к тому же левша (с возрастом Тесла выучился одинаково хорошо владеть обеими руками), с трудом сходился с одноклассниками, однако скоро завоевал себе авторитет умением прекрасно плавать, талантами в математике и физике и добротой, с какой относился к товарищам. Он научился мгновенно производить в уме сложные подсчеты и нередко давал решение задачи, когда учитель еще не закончил читать условие.
Окончив гимназию, Тесла в четырнадцать лет переехал в Кароловац (Карлштадт), где поступил в высшее реальное училище, четыре класса которого прошел за три года. Он окончательно решил, что станет не священником, как того желал отец, а инженером, но никак не мог придумать, как сообщить об этом родителям. Получив летом 1873 года аттестат зрелости, он уже собирался ехать домой, как пришло письмо от отца: в Госпиче бушевала эпидемия холеры, и Николе ни в коем случае не следует туда приезжать. Тесла не послушался: переживая за семью, он вернулся в Госпич и немедленно заболел. До сих пор неясно, была ли это действительно холера, но известно, что Никола болел несколько месяцев, и врачи считали, что он не выздоровеет. «Однажды в один из периодов забытья, который мог стать и последним, – вспоминал Тесла, – мой отец ворвался в комнату. Я сказал: «Может быть, мне станет лучше, если ты разрешишь мне учиться на инженера». Отец торжественно ответил: «Ты поступишь в лучшее техническое заведение в мире», и я знал, что это правда».
Николе и правда стало лучше: уже через несколько дней он был полностью здоров. Однако в Высшее техническое училище в Граце, лучшее учебное заведение в тех краях, сразу поступить не удалось: Теслу должны были призвать на три года в австрийскую армию, и семья, считавшая, что Никола не выдержит казарменной жизни, все это время прятала его в горах. «Большую часть времени я скитался в горах, нагруженный охотничьим снаряжением и связкой книг. Общение с природой укрепило мое тело и разум», – вспоминал Тесла. В Грац он приехал лишь в 1875 году.
В училище Тесла занимался по двадцать часов в день, изучая технические науки, языки (он мог говорить на девяти) и литературу. Так изводил себя учебой, что преподаватели даже советовали его родителям забрать Николу из училища. Эта попытка – неудачная – стала причиной некоторого охлаждения между Николой и отцом.
Когда Никола учился на втором курсе, в кабинет физики привезли машину постоянного тока с коллектором. Понаблюдав за работой динамо, Тесла заявил, что можно построить генератор переменного тока и обойтись без коллектора. Учитель высмеял его, заявив, что переменный ток невозможно использовать, но мысль прочно засела у Николы в сознании.
На третьем курсе его дела ухудшились. Обогнав однокурсников в учебе, Тесла заскучал; к тому же он так и не смог наладить отношения ни со студентами, презиравшими его за излишнее рвение и завидовавшими его успехам, ни с преподавателями, с которыми нередко спорил. Он начал пропускать лекции, увлекшись азартными играми, – по собственному признанию, он нередко возвращал выигранные им деньги проигравшим, но сам никогда не удостаивался подобной милости. Однажды он крупно проигрался; его мать привезла в Грац все сбережения семьи, чтобы Никола мог расплатиться с долгом. Он отыгрался и вернул матери деньги, но больше никогда в жизни не садился за карточный стол.
Правда, вспоминают, что уже в зрелом возрасте он позволял себе играть в бильярд, причем нередко делал вид, что совершенно не умеет играть, зарабатывая таким образом немаленькие суммы.
Из-за непосещения лекций (а возможно, из-за неподобающего поведения) Тесла не был допущен к экзаменам, и в декабре 1878 года вынужден был покинуть Грац.
Боясь сообщить об отчислении родителям, Тесла несколько месяцев слонялся по стране, пока, наконец, отец не отыскал его и не уговорил вернуться в Госпич, где Никола стал преподавать в гимназии, в которой когда-то учился сам. В церкви отца он встретил девушку по имени Анна – она стала первой и, как считают, единственной любовью Николы Теслы.
В апреле 1879 года Милютин умер. Исполняя последнее желание отца, Тесла поступил в Пражский университет, где изучал философию и физику, особенное внимание уделяя трудам Эрнста Маха и Дэвида Юма. Он продолжал переписываться с Анной, но она вскоре сообщила ему, что выходит замуж за другого. Проучившись один семестр, Тесла покинул университет.
После смерти отца финансовое положение семьи резко ухудшилось, и Николе пришлось срочно искать возможности самому зарабатывать себе на жизнь. По совету дяди он переехал в Будапешт, где работал инженером-электриком в телеграфной компании. Параллельно продолжал работать над созданием генератора переменного тока: его занятия были настолько напряженными, что закончились сильнейшим нервным срывом. Решение, как это нередко бывает, пришло к нему случайно. По легенде, он гулял с другом по парку, декламируя наизусть «Фауста» Гете, и вдруг увидел схему будущего генератора. «Внезапно мне открылась правда, – писал Тесла позднее. – На песке я палкой набросал схемы… Пигмалион, увидев ожившую статую, не мог быть потрясен сильнее».
Мотор Теслы, состоящий из двух независимых обмоток, расположенных под углом в 90 градусов, использовал для своей работы явление вращающегося магнитного поля. За два месяца Тесла создал несколько модификаций генератора и теперь задумался о том, чтобы представить свое изобретение миру.

Никола Тесла, 1879 г.
Позднее многие указывали на тот факт, что явление вращающегося магнитного поля было известно и ранее. Но только Тесла смог применить его для создания электромотора. В то время, когда все ведущие физики считали, что будущее принадлежит машинам постоянного тока, Тесла был первым, кто предложил практичную и мощную действующую модель, ставшую настоящим прорывом в развитии технической революции.
Весной 1882 года Тесла отправился в Париж: там он устроился в континентальное бюро компании прославленного изобретателя Томаса Алвы Эдисона, где занимался усовершенствованием электротехнического оборудования. В 1883 году его направили в Страсбург, где компания строила электростанцию, – при эксплуатации возникали серьезные проблемы, но Тесла смог устранить все неполадки. Однако вместо обещанного вознаграждения Чарльз Бачелор, глава бюро, предложил Тесле отправиться в США, чтобы работать непосредственно на Эдисона. Как пишет первый биограф Теслы, Бачелор отправил Эдисону письмо: «Я знаю двух великих людей. Один из них вы, второй – этот молодой человек». Правда, ни один из исследователей так и не смог найти подтверждения существования этой столь часто цитируемой записки.
В июле 1884 года Тесла прибыл в Нью-Йорк, где устроился в компанию Эдисона инженером по ремонту электродвигателей. В то время Эдисон был уже всемирно известен как изобретатель электрической лампочки, микрофона, фонографа и еще множества вещей. Он электрифицировал дома нью-йоркских богачей и городские улицы, управлял собственной компанией и был уверен в своей гениальности. Он принадлежал к типу ученых-экспериментаторов, достигающих желаемой цели методом проб и ошибок, в то время как Тесла ратовал за необходимость теоретической базы.
Если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, – говорил Тесла с иронией, – он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место ее нахождения, но немедленно, с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашел бы предмета своих поисков. Его методы крайне неэффективны: он может затратить огромное количество энергии и времени и не достигнуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность.
Эдисон всегда с презрением относился к книжной образованности и людям от науки, и столь же презрительно он отмахнулся от модели генератора переменного тока, который продемонстрировал ему Тесла.

Томас Алва Эдисон.
Все состояние Эдисона было сделано на постоянном токе – зачем ему нужен был переменный? В насмешку над запросами Теслы Эдисон заключил с ним пари на 50 тысяч долларов, что Тесла не сможет внести усовершенствования в модель генератора постоянного тока самого Эдисона. Работая по двадцать часов в сутки, Тесла в короткий срок успешно выполнил задание, представив Эдисону две дюжины усовершенствований, однако обещанных денег он так и не получил: Эдисон заявил, что это был просто американский юмор, которого эмигрант Тесла еще не научился понимать. Оскорбленный Тесла немедленно уволился.
С этого дня оба стали непримиримыми врагами, а их вражда вошла в историю как «война токов» – борьба за использование постоянного тока, который поддерживал Эдисон и многие другие, и переменного, за который ратовал Тесла. Постоянный ток удобнее в работе и к тому же считался более безопасным, зато переменный можно передавать на огромные расстояния без потери мощности. Со временем идеи Теслы победили, хотя победа стоила ему немало нервов. «Война токов» длилась более ста лет и формально завершилась лишь в 2007 году.
Уйдя от Эдисона, Тесла получил предложение от нескольких инженеров создать новую компанию. Он согласился и получил на имя компании несколько патентов, однако когда компаньоны отвергли его идеи использования переменного тока и решили ограничиться лишь продвижением на рынок дуговой лампы, рассорился с ними. В ответ бывшие товарищи выжили Теслу, попутно вылив на него не одно ведро грязи.
Полгода Тесле пришлось перебиваться случайными заработками – он даже рыл канавы, что для такого аристократа, каковым ощущал себя Тесла, было глубочайшим падением. Наконец он познакомился с инженером Альфредом Брауном, обладавшим техническим талантом и немалой практической смекалкой. Браун свел Теслу с несколькими людьми, которые ссудили ему денег на открытие новой компании. Под офис Tesla Electric Company Никола снял здание на Пятой авеню, в насмешливой близости к офису Томаса Эдисона.
Для Теслы компания была лишь способом заработать денег, чтобы иметь возможность посвящать свое время изобретательству, так что, едва бизнес стал приносить доход, он с головой погрузился в создание новых машин и приспособлений. В 1887 году он получил два патента на электродвигатели переменного многофазного тока, а затем зарегистрировал свое изобретение в Англии и Германии. В мае 1888 года Тесла представил Американскому институту инженеров-электриков свой генератор переменного тока – впервые продемонстрировав широкой публике свое изобретение.
Один из присутствовавших на лекции позднее вспоминал: «Со времени появления экспериментальных исследований Фарадея в области электротехники никогда ни одна экспериментальная истина не была представлена так просто и понятно, как описание Теслой его способа получения и использования многофазных переменных токов. Его имя делает эпоху в развитии науки об электричестве. В результате его исследований произошла революция в электротехнике».
Тесла всю жизнь страдал то ли стеснительностью, то ли излишней подозрительностью, и нередко затягивал демонстрацию своего очередного изобретения до того момента, когда его повторят другие, спровоцировав таким образом не один судебный процесс о приоритете.
Среди присутствовавших на лекции Теслы был Джордж Вестингауз – потомок российских аристократов, изобретатель, промышленник и предприниматель. Он быстро понял, какие золотые горы сулят изобретения Теслы. В июле 1888 года Вестингауз выкупил более сорока его патентов, заплатив за них, по разным данным, от четверти до полутора миллионов долларов (возможно, такая разница в оценках происходит из-за того, что часть суммы сделки представляли акции, стоимость которых неизвестна, и роялти – регулярная плата за использование патентов). На время переговоров Тесла приехал в Питтсбург, где размещался головной офис компании Вестингауза, и жил там поочередно в нескольких отелях. Житье в гостинице вошло у него в привычку – до самой смерти он больше никогда не жил в собственном доме, предпочитая гостиничные номера. Уже скоро Вестингаузом была построена крупнейшая в мире электростанция на Ниагарском водопаде – там применялись генераторы и другое оборудование, созданное Теслой. Сбылась его детская мечта – водопад крутил колесо, порождая электрический ток.
Лекция Теслы и слухи о его сделке с Вестингаузом – главным антагонистом Эдисона – быстро сделали из сербского ученого знаменитость, а его компания стала получать крупные заказы. Эдисон, яростный противник переменного тока, развернул целую кампанию по его дискредитации: в присутствии публики убивал переменным током собак и голубей, а когда некий горожанин погиб из-за пробитого трансформатора, Эдисон в интервью не жалел красок, повествуя об опасности переменного тока. В 1887 году один из сотрудников Эдисона даже предложил правительству казнить преступников с помощью переменного тока; и хотя Эдисон надеялся, что такого рода казни, особенно после первых неудач, навсегда отвернут общество от переменного тока, он все же в итоге проиграл. Однако в то время ему удалось серьезно ухудшить положение компании соперника: чтобы избежать банкротства, Вестингаузу пришлось отказаться от выплат Тесле положенных роялти. Он сумел уговорить Теслу изменить договор, который мог бы в кратчайший срок сделать Теслу миллионером, причем в итоге изобретатель еще остался должен Вестингаузу, которому стали принадлежать права на все будущие изобретения ученого в области электромоторов.

Никола Тесла, 1892 г.
В июле 1891 года Тесла получил американское гражданство. Обладая отныне финансовой и юридической независимостью, он с головой ушел в изобретательство. Вернувшись из Питтсбурга, открыл лабораторию на Южной Пятой авеню и несколько лет успешно сочетал научную деятельность, принесшую ему множество патентов, – например, на осциллятор, электрический счетчик, конденсатор, лампы накаливания, – с лекциями и газетными интервью, составившими ему славу талантливого и оригинального инженера-изобретателя. В 1892 году его пригласили с лекциями в Лондонское Королевское общество. В присутствии крупнейших физиков того времени он показывал удивительные вещи: пускал молнии, зажигал лампы касанием пальца, запускал беспроводные моторы. Чуть позже подобное выступление было повторено в Париже. «Ни один наш современник не приобрел столь быстрой широкой известности во всем мире, как этот молодой талантливый инженер-электрик», – сообщал журнал The Electric Review.
Выступления Теслы имели огромный успех и проторили тем самым дорогу переменному току в Европе. На следующий год во время Чикагской всемирной выставки, освещение которой осуществляла компания Вестингауза с помощью оборудования Теслы, о чем свидетельствовали памятные таблички в разных углах выставки, Тесла демонстрировал настоящие чудеса. Помимо всяких загадочных приборов и знаменитого «колумбова яйца Теслы» – металлического яйца, постоянно крутившегося в магнитном поле, – вниманию публики был предложен аттракцион: Тесла на глазах у зрителей пропускал сквозь свое тело ток напряжением в миллион вольт. Когда Эдисон во всех газетах рассказывал о смертельной опасности переменного тока – Тесла спокойно пускал искры с пальцев и зажигал в ладонях лампочки. Сейчас мы знаем, что убивает не напряжение, а сила тока, но тогда происходящее казалось чудом.
Журналисты наперебой писали о Тесле – как о его изобретениях, так и о его эксцентричной манере поведения. Тесла, яркий брюнет с пронизывающими, как их описывали газеты, глазами на весьма привлекательном лице, огромного роста, в изысканных костюмах и белых перчатках представлял собой необыкновенное зрелище, а о его странностях ходили легенды. Писали, что он обладает фотографической памятью и помнит все прочитанные им книги наизусть; что он делает открытия, исключительно когда декламирует «Фауста» или кормит голубей; что в ресторане он всегда садится за отдельный столик, и если вдруг на стол случайно сядет муха, он требует переменить сервировку и принести новые блюда. После пережитой эпидемии холеры Тесла панически боялся микробов – он постоянно мыл руки, избегал прикосновений посторонних людей, а в номер требовал до 18 полотенец ежедневно. Воротнички и манжеты он надевал лишь раз, а затем выбрасывал. Позднее стали писать, что ученый ежедневно принимает электрические ванны, которые будто бы убивают микробов и стимулируют мозговую деятельность. Идя по улице, Тесла мог внезапно сделать сальто, он поселялся в отеле, только если предлагаемый ему номер был кратен трем, и всегда трижды обходил вокруг здания лаборатории. Каждый день он кормил голубей в парке, позволяя им садиться себе на плечи, зато незнакомых людей не подпускал к себе ближе, чем на три метра.

Одни писали о нем как о «совершенно непрактичном энтузиасте-провидце», другие говорили, что «его изобретения говорят о его несомненном гении». Некоторые считали, что «его предсказания кажутся бредом сумасшедшего», а статья в The Electrical World утверждала:
Общественность видит в нем удивительного ученого из Восточной Европы, от которого ждут, ни много ни мало, лампы Аладдина в руке… Если хотя бы часть мечтаний, которые сегодня лелеют Тесла и другие, когда-нибудь станет явью, масштабы изменений в материальном мире превзойдут самые смелые фантазии.
Он дружил с Марком Твеном, прозвавшим Теслу Повелителем молний, и Редьярдом Киплингом, миллионерами и журналистами, и даже сам мистер Дельмонико – владелец одноименного ресторана, самого престижного в Нью-Йорке – произносил его имя с уважительным придыханием.
Тринадцатого марта – число, столь любимое Теслой, – 1895 года лаборатория сгорела дотла. Огонь уничтожил все последние изобретения Теслы, среди которых упоминают механический осциллятор, оборудование для новых методов электрического освещения и беспроводной передачи сообщений на далекие расстояния и много другое. Газеты оплакивали великие потери, которые понесла наука: «Это несчастье для всего мира. Не будет преувеличением сказать, что можно по пальцам руки пересчитать ныне живущих людей, которые больше значат для человечества, чем этот молодой человек. Едва ли найдется даже один такой человек». Однако Тесла немедленно заявил, что может многое восстановить по памяти – кроме, разумеется, дорогостоящего оборудования, которое было безвозвратно утрачено. Лаборатория не была застрахована; убытки оценивались в полмиллиона долларов. Тесла оказался на грани разорения. Ему помог один из компаньонов Вестингауза, Эдвард Адаме, выделивший Тесле средства на создание новой лаборатории.
В том же 1895 году на Национальной электрической выставке в Филадельфии было продемонстрировано уникальное по тем временам достижение: ток, полученный с помощью оборудования Теслы на электростанции у Ниагарского водопада, по проводам дошел до Филадельфии. Постоянный ток распространялся не дальше, чем на две мили; переменный ток презирал расстояния. Даже Эдисон был вынужден признать правоту Теслы. Оценивая работы Теслы в области многофазных токов, выдающийся американский ученый Эдвин Галард Армстронг писал: «…только одного этого открытия многофазных токов и индукционного мотора было бы достаточно, чтобы обеспечить имени Теслы вечную Славу, даже если бы он, кроме этого, ничего не сделал». Но Тесла не собирался останавливаться.
В 1896 году в Нью-Йорке случилось землетрясение. Однако в изображении газетчиков это стихийное бедствие приобрело совершенно другую окраску: рассказывали, что в тот день Никола Тесла проводил испытания некоего резонансного излучателя. Маленькая коробочка, которую он прикрепил к балке здания лаборатории, вызвала землетрясение силой в три балла – и кто знает, что бы случилось, не разбей Тесла загадочную коробочку молотком. В интервью он рассказывал, что может за пару часов разрушить Бруклинский мост, а за сутки расколоть всю землю… На лекциях в Нью-йоркской академии наук, прочитанных в апреле 1897 года в присутствии четырех тысяч человек, Тесла, помимо вызываемых по заказу молний, продемонстрировал придуманную им систему международной телеграфной связи и рассказал о своих исследованиях в области использования земных ресурсов: по его мнению, ветер, солнце, приливы и прочие природные явления можно заставить служить человеку. Даже азотные удобрения можно будет производить прямо в почве. Тесла уже получил патенты на устройства для производства озона и систему выработки азота из воздуха. А токи высокой частоты, по его мнению, были способны убивать микробов, очищать кожу от воспалений и загрязнений – все эти идеи теперь с успехом применяются в медицине.
В 1898 году на электротехнической выставке Тесла демонстрировал изумленной публике плавающую в бассейне лодку, управляемую на расстоянии – в то время это казалось необыкновенным чудом; таких «телеавтоматов», как их называл Тесла, он сконструировал несколько. Они послужили основой для таких вещей, как радиотелефон, пульт дистанционного управления, факсимильный аппарат и роботехника. Позже Тесла вынашивал идею оснастить радиоуправлением ракеты и торпеды, а подобными автоматами заменить солдат на фронтах – по его мнению, в этом случае войны, превратившись в битву игрушек, прекратятся сами собой. Однако ни один из военных не прислушался к его идеям.
Над Теслой начали насмехаться некоторые журналисты, обвиняя в том, что его фантастические идеи остаются лишь идеями, так и не воплщаясь в реальные приборы, которые могут служить людям. Плотный ореол тайны, которым окружал себя Тесла, можно объяснить тем, что слишком многое из того, что он создал, было беззастенчиво украдено у него – его осцилляторы и моторы в обход патентов производили другие фирмы, итальянский изобретатель Гульельмо Маркони и Эдисон оспаривали значимость открытий Теслы и его приоритет во многих изобретениях. В то же время Тесла, одержимый множеством идей, и правда нередко бросал перспективные разработки на полдороге, увлекшись глобальными проектами, многие из которых оканчивались ничем.
В 1899 году Тесла организовал лабораторию по изучению атмосферного электричества в курортном городке Колорадо-Спрингс. Денег на нее Тесле ссудил прославленный миллионер Джон Джейкоб Астор Третий. Астор был очень увлечен личностью Теслы: они дружили долгие годы, пока Астор не погиб во время крушения «Титаника». Пользуясь личным знакомством, Тесла переехал в принадлежавшую Астору роскошную гостиницу Astoria, где прожил два десятка лет, почти не платя ни за проживание, ни за обслуживание. Он вел в ней жизнь, достойную джентльмена из светского общества: роскошный номер, обеды по его собственным рецептам, банкеты для поклонников и журналистов… Тесла вращался в высших кругах, встречаясь с местными аристократами и знаменитостями. По слухам, в него были влюблены несколько девушек, принадлежавших к высшим кругам Нью-Йорка, однако Тесла, хотя и не чуждался легкого флирта, так и не поддался ни одной из них.
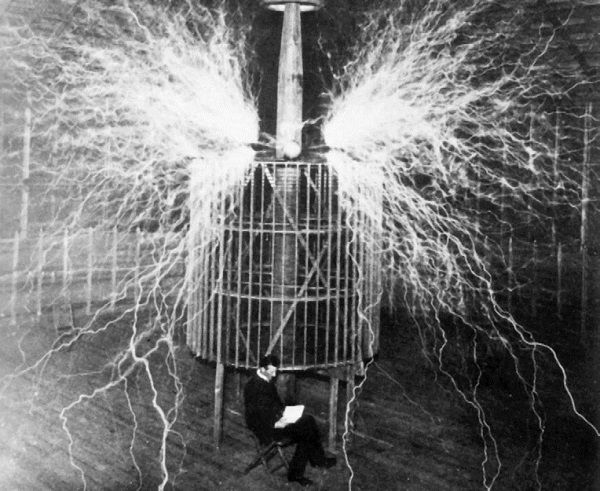
Никола Тесла в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс.
По его глубокому убеждению, аскетизм и воздержание способствуют научной работе, просветлению и самосовершенствованию. Подтверждение этому он нашел в буддистских трактатах – буддизмом он увлекся еще в 1896 году, когда в Нью-Йорк приезжал Свами Вивекананда. Тесла показал Свами свою лабораторию и несколько опытов и произвел на индуса такое впечатление, что тот написал в Индию:
Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания. Речь идет о высшей степени спиритуальной личности. Вне сомнения, что он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов. В его электрических многокрасочных огнях появились все наши Боги: Вишну, Шива, и я почувствовал присутствие самого Брамы.
Известно, что взгляды Теслы на мистику, спиритуализм и эзотерические вопросы были весьма противоречивыми. Он категорически отрицал возможность передачи мыслей на расстояние, скептически относился к гипнозу, оккультизму, предвидению и тому подобному, однако сам не раз демонстрировал необыкновенные способности. Когда умерла его мать, он испытал удивительное видение, поведавшее ему о произошедшей трагедии, а однажды не отпустил из дома друзей, опаздывавших на поезд, под предлогом нехорошего предчувствия – и оказался прав: поезд потерпел крушение. В разговорах об «эфире» Тесла упоминал, что он не только несет бесконечную энергию, но и бесконечное знание – всю информацию, которой обладали и еще только будут обладать люди, и будто бы сам именно оттуда черпал все свои идеи. Он всегда говорил, что никогда ничего не создал «из ничего» – все открытия он сделал, основываясь исключительно на достижениях других ученых или наблюдая за природой.

Никола Тесла позирует с беспроводной лампой собственной конструкции.
Джон Астор, сам увлекающийся физикой, запатентовавший несколько изобретений и даже писавший фантастические романы, во многом разделял взгляды Теслы, однако в первую очередь он был финансистом и предпочитал вкладывать деньги только в то, что могло приносить прибыль. Он дал Тесле денег, чтобы тот завершил свою работу над флуоресцентными лампами, которые обещали огромные доходы, а Тесла вместо этого изучал в Колорадо-Спрингс грозовые разряды, что позволило ему открыть эффект стоячих электромагнитных волн. Наблюдения за грозами навели Теслу на мысль о возможности передачи энергии на большие расстояния без проводов, используя так называемый «эфир», – некую субстанцию, окружающую планету и несущую в себе безграничную энергию, – или саму планету, являющуюся, по мнению Теслы, огромным проводником. Ему даже удалось без проводов зажечь две сотни лампочек, находящихся на расстоянии в 40 километров, – эксперимент, который до сих пор никто не смог ни повторить, ни объяснить. Пытаясь самостоятельно создать гигантскую стоячую электромагнитную волну, Тесла построил «усиливающий передатчик», который моментально вывел из строя местную электростанцию, и Тесле пришлось лично чинить генераторы. Он утверждал, что ему удалось достичь желаемого результата, создав стоячие волны, которые, распространяясь от передатчика, в конце концов встретились в противоположной точке планеты, в Индийском океане. Правда, там в тот момент не было никого, кто мог бы подтвердить это достижение.

В Колорадо-Спрингс Тесла также проводил опыты с беспроводным телефоном, передатчиками, работающими разом на нескольких частотах (что позволяло добиться конфиденциальности сообщений), а также принял загадочные сигналы – три импульса через равные промежутки времени, – которые он счел посланием от марсиан, о чем немедленно сообщил газетам. Это известие всколыхнуло мир – в то время многие бредили контактом с другими планетами, и хотя позже стало известно, что полученные Теслой сигналы скорее всего были отзвуком опыта Маркони, который в то же самое время передавал по радио сообщение через Ла-Манш – букву «с» азбукой Морзе, то есть как раз три коротких импульса – истерию по марсианам это не уменьшило. Наоборот, через несколько лет сам Маркони будет говорить о том, что он пытается установить радиосвязь с Марсом.
Скоро деньги, отпущенные Астором, закончились. Тесла пытался получить дополнительную сумму, однако Астор, чьи дела были серьезно подорваны разразившимся в то время банковским кризисом, денег ему не дал. Помимо всего прочего, Астор был разочарован – обещанная ему флуоресцентная лампа так и не была закончена. Тесле пришлось закрыть лабораторию и вернуться в Нью-Йорк.
Однако мысль о передаче энергии без проводов не давала ему покоя. На следующий год ему удалось добиться крупного чека от известного банкира и промышленника Джона Пирпонта Моргана, «пирата с Уоллстрит». Как и в случае с Астором, Тесла заинтересовал Моргана конкретным проектом – постройкой радиоантенн для осуществления радиосвязи с кораблями в Атлантическом океане и европейским побережьем. Однако занялся он совершенно другими опытами. На Лонг-Айленде, на участке, названном Уорденклифф, Тесла начал строительство грандиозного сооружения: по плану в центре научного городка должна была возвышаться деревянная башня высотой в 47 метров, увенчанная огромным медным шаром. Башня также имела разветвленную сеть подземных помещений и огромную лабораторию. По задумке ученого, башня должна была быть не только радиомаяком, принимающим и передающим сигналы со всего света, но и служить для передачи огромной энергии в любую точку земного шара, стать источником энергетического и информационного объединения всего мира. Моргану Тесла загадочно писал:
То, что я задумал, господин Морган, не является простым, обычным передатчиком информации на большие расстояния без употребления проводов, а скорее преображение всего земного шара в чувствующее существо, каковым шар и является, могущее чувствовать во всех частях, и через которое мысль сверкает, как сквозь мозг.
По слухам, охотно распространяемым журналистами, Тесла проводил в Уорденклиффе множество самых загадочных экспериментов: на газетных иллюстрациях он спокойно читает книгу среди искр и огня, держит в руках горящую лампу, которая ни к чему не подключена, и жонглирует шаровыми молниями. Один из таких экспериментов 15 июля 1903 года наблюдали все жители Нью-Йорка и окрестностей. Газета The New York Sun писала об этом так:
Мы оказались свидетелями необычного феномена, в том числе молний разных цветов, собственноручно воспроизводимых Теслой, затем воспламененных частей атмосферы на разных высотах на довольно большой поверхности, так что ночь превратилась в день… случалось, что и весь воздух на несколько минут наполнялся искрящимся электричеством, сосредоточенным на поверхности человеческих тел, так что все присутствующие светились жутковатым светло-голубым сиянием… а мы сами себе казались духами…
Загадочные эксперименты в Уорденклиффе через полвека породили легенду о том, что именно Тесла «создал» Тунгусский метеорит: будто бы огромный взрыв в сибирской тайге был последствием одного из экспериментов Теслы по переносу энергии. Правда, падение метеорита наблюдали в июне 1908 года, когда все работы в Уорденклиффе давно были прекращены. Но сторонники «теории Теслы» утверждают, что великий ученый смог пронзить не только пространство, но и время.

Башня в Уорденклиффе.
К невероятному огорчению Теслы, работы в Уорденклиффе были прекращены, когда башня еще не была достроена до конца. Моргану надоело снабжать деньгами бездонную яму, в которую превратилась задумка Теслы, и к тому же не получать никакой отдачи. Тесла истратил все свои сбережения, назанимал денег у всех знакомых и даже выпросил некоторую сумму у родных в Хорватии, однако проект так и не удалось завершить. К началу 1904 года все работы в Уорденклиффе были прекращены, оборудование частично демонтировано, земля заложена в счет огромных долгов. Позднее лаборатория была буквально разграблена кредиторами, которые изломали или вывезли в неизвестном направлении много пенного оборудования. Тесла, который так и не смирился со столь печальным окончанием своего великого проекта, даже подал на них в суд, однако это ни к чему не привело. Он мечтал выкупить Уорденклифф и вернуться к прерванному эксперименту, но этого так и не случилось. В 1917 году башня была взорвана: местные власти побоялись, что ее используют немецкие шпионы.
Раздавленный неудачей с Уорденклиффским проектом, Тесла впал в продолжительную депрессию. Несколько лет он провел в постоянной борьбе с кредиторами, вынужденный изобретать ради денег, – что он всю жизнь терпеть не мог. Он получил патенты на изобретение электрического счетчика и частотомера, несколько моделей насосов, спидометра и безлопастной турбины, надолго опередившей свое время. В результате серии судебных процессов о приоритетах, прошедших в США и Европе, было установлено первенство Теслы, но это стоило ему немало денег и нервов. Когда в Европе началась Первая мировая война, он приложил много сил к тому, чтобы собрать средства для пострадавших и беженцев с Балкан – и сам пожертвовал немало, хотя его финансовые дела по-прежнему находились в плачевном состоянии.

Тесла на фоне так называемой «катушки Тесла» – высокочастотного трансформатора.
В 1915 году газеты обошло сообщение о том, что на Нобелевскую премию номинированы разом Томас Эдисон и Никола Тесла. Журналисты предлагали изобретателям разделить премию, однако непримиримые враги будто бы оба отказались от нее. На самом деле в том году Эдисон хоть и номинировался, но провалился на голосовании, а Тесла не номинировался вовсе – он был выдвинут на премию лишь в 1937 году, но так и не получил ее. Зато в 1917 году ему была присуждена Медаль Эдисона, присуждаемая ежегодно Американским институтом электроинженеров: хотя наградной комитет усиленно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к личности самого Эдисона, для Теслы получить медаль имени его заклятого врага было само по себе немалым унижением. Однако он все же согласился принять награду – это был неплохой повод напомнить о себе, о своих достижениях и идеях, к тому же к медали прилагалась денежная премия, а Тесле были очень нужны деньги.
Тесла продолжал усилено работать, но бедность все больше мешала ему. Приходилось постоянно менять гостиницы – у него не было средств на оплату счетов, – закладывать вещи, отказываться от оборудования. Верные друзья выручали его, но никто из них не мог дать ему сумму, достаточную для открытия лаборатории, а крупные магнаты больше не интересовались Теслой – после того, как от него отвернулся Морган, Тесла словно попал в «черный список» лиц, с которыми не стоит иметь дела. После войны он десять лет скитался по стране: работал в Чикаго и Милуоки, Бостоне и Филадельфии, проводя исследования и разработки по заказу различных компаний.
Он по-прежнему интересовался наукой – когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, Тесла выступил с резкой критикой: взгляды Эйнштейна противоречили его теории «эфира», однако позже ученые наладили переписку и не без удовольствия общались лично. Впоследствии Тесла очень заинтересовался работами по изучению строения атома, а в 1934 году опубликовал в журнале The Scientific American статью, посвященную получению сверхвысоких напряжений и возможностей изучения с их помощью атомного ядра. Статья вызвала огромный резонанс не только оригинальными идеями, но и именем автора. Молодое поколение американских ученых уже давно забыло о его истинных заслугах: изобретателем радио в США считался исключительно Маркони, хотя Тесла смог доказать, что сильно опередил итальянца в своих опытах, и к тому же Маркони пользовался оборудованием, созданным Теслой; а все заслуги в развитии светотехники приписывались исключительно Эдисону, хотя тот в свое время и выступал против многих из них. Увы, столь велика была сила общественного мнения, харизмы личности одних и неуживчивого, необщительного характера другого…
Статья породила новую волну интереса к личности Теслы. Он охотно давал интервью, где намекал на различные сделанные им зловещие изобретения, рассуждал на философские темы – об «эфире», зарождении и развитии идей, об использовании энергии земли и космоса, о едином информационном поле – по сути, Тесла придумал интернет еще тогда, когда идея компьютеров не зародилась даже в умах писателей-фантастов. Наконец к нему пришло признание: Югославия предложила ему пожизненную пенсию, а в 1934 году он был удостоен медали Джона Скотта, вручаемой за изобретения, способствующие «комфорту, счастью и благополучию человечества». Позже король Югославии наградил Теслу орденом Белого Орла, а Чехия – орденом Белого льва. Когда ученый праздновал свои юбилеи – 75 лет в 1931 году, 80 лет пять лет спустя – эти события широко отмечались по всему миру конференциями и торжествами в его честь, и крупнейшие ученые мира считали своим долгом принести ему свои поздравления.

Никола Тесла, 1935 г.
В 1936 году правительство Югославии выпустило специальную почтовую марку в честь Николы Теслы, а сам он был избран почетным директором только что основанного научно-исследовательского института, задачей которого стала разработка вопросов, связанных с применением токов высокой частоты и высоких напряжений, за что получал неплохой оклад в долларах. С тех пор в каждый свой день рождения Тесла собирал в своем номере журналистов и рассказывал им о себе и своих изобретениях, нередко позволяя себе нападки на бывших врагов – теперь, когда все они были мертвы, за ним и правда осталось последнее слово… Он рассказывал о придуманных им аккумуляторе космических лучей и устройстве для дешевого производства радия, о способе межзвездной связи и о загадочных «лучах смерти», способных будто бы поразить «эскадрилью из десяти тысяч самолетов на расстоянии в 250 миль». Однако он больше не сопровождал рассказы впечатляющими демонстрациями – более того, от самых громких его изобретений не осталось ни чертежей, ни набросков. «Человечество еще не готово принять мои открытия», – утверждал сам Тесла; скептики же уверяют, что все рассказы Теслы были лишь остроумной выдумкой, призванной отвлечь внимание прессы от истинных занятий ученого – или скрыть тот факт, что Тесла уже давно не создавал ничего, достойного внимания…
О том, чем действительно занимался Тесла в тридцатые годы, известно очень мало. Его бумаги последних лет либо были утеряны, либо засекречены. До нас дошли лишь легенды – выглядящие фантастическими, они, тем не менее, считаются истинными всеми поклонниками Теслы. Одна из самых распространенных легенд рассказывает о созданном Теслой в 1931 году электромобиле: он заменил на предоставленном ему автомобиле Pierce-Arrow двигатель на небольшое устройство, собранное из купленных в радиомагазине деталей, подсоединил провода к электромотору и поехал. Автомобиль ездил без подзарядки неделю, а на вопрос, откуда берется энергия, отвечал: «Из эфира вокруг всех нас». Потом Тесла будто бы рассердился на нескромные вопросы, отсоединил коробочку и унес. Что это было, да и было ли вообще, остается загадкой.
В последние годы Тесла почти ни с кем не общался, делая исключение лишь для пары ближайших друзей и племянника Савы Косановича – младшего сына сестры Теслы Марицы, ставшего послом Югославии в США. Он жил уединенно, много гулял, ежедневно в одно и то же время кормил голубей – за полвека не было ни дня, когда бы Тесла пренебрег этим обычаем; даже когда у него не было денег на еду, он всегда находил средства на зерно для птиц. Тесла придерживался строгой диеты – теплое молоко, хлеб, лук-порей, капуста и репа, – благодаря которой надеялся дожить до 110 лет. Когда в 1937 году он попал под машину и сломал три ребра, то не стал обращаться к врачам, понадеявшись на «внутренние резервы организма». Ему пришлось провести в постели полгода, но он так и не оправился от полученных травм.
Когда началась Вторая мировая война, здоровье Теслы, и так неважное, от волнений сильно ухудшилось. В редкие периоды хорошего самочувствия Тесла написал несколько статей, опубликованных в югославских изданиях и перепечатанных в США, например, свое знаменитое письмо «Моим братьям в Америке», исполненное гуманизма и страстной любви к родине.
В самом конце 1942 года Никола Тесла слег. Он лежал в своем номере в отеле New Yorker, отказываясь от врачебной помощи. Элеонора Рузвельт, супруга тогдашнего президента США, узнала о его болезни и хотела навестить ученого. Пятого января Сава Косанович пытался договориться с Теслой о визите миссис Рузвельт, но тот сослался на плохое самочувствие и отказался. Через три дня его нашли мертвым…
Говорят, в номер отеля тут же заявились агенты ФБР, которые будто бы вывезли все бумаги ученого. Что в них было и было ли в них что-то важное – в ближайшее время узнать не представляется возможным.
На похороны Николы Теслы собрались две тысячи человек – если бы не война, наверняка пришло бы гораздо больше. Сначала его отпели по православному обряду в церкви святого Иоанна, а затем он был кремирован – огненное погребение было данью буддистской традиции. Урна с его прахом установлена на кладбище Фернклиф. На панихиде Дэвид Сарнофф, президент Американской радиокорпорации, сказал: «Достижения Николы Теслы в области электрической науки являются символом Америки – страны свободы и равных возможностей… Ум Теслы был человеческим динамо, вращающимся на благо цивилизации». Газеты вторили ему в некрологах: «Будущие критики сравнят Теслу с да Винчи или мистером Франклином. Сегодняшний мир не оценил его величия».
Не прошло и двух десятков лет, как имя Теслы стало одним из символов своего времени, одной из икон массовой культуры. Он стал прообразом множества сумасшедших ученых, грозящих уничтожить мир своими ужасными изобретениями, в фантастической литературе, комиксах и мультфильмах. Тесла считается прототипом Джона Голта, одного из персонажей культового романа американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», и Томаса Джерома Ньютона – главного героя знаменитого фильма «Человек, который упал на землю», сыгранного Дэвидом Боуи. Оккультисты и эзотерики всех возможных направлений считают его одним из существ высшей расы, умевшим видеть недоступное другим, а уфологи – инопланетянином, после смерти вернувшимся в свой мир. Конференция уфологов 1957 года, проходившая в Нью-Йорке, постановила, что Тесла безусловно является выходцем с Венеры, оставленным в хорватских горах, дабы подарить человечеству инопланетные технологии. А сторонники «теории заговора» склонны видеть следы Теслы во всех загадочных событиях, от землетрясений до проекта «Филадельфия» – загадочного эксперимента то ли по телепортации, то ли по уходу от локаторов, во время которого якобы исчез, а затем мгновенно переместился в пространстве на несколько сотен километров эсминец «Элдридж». Печально известная секта «Аум Синрикё» будто бы даже пыталась выкрасть из белградского музея Теслы его чертежи, чтобы с помощью изобретенного им резонансного излучателя вызвать землетрясение. Землетрясение в Японии действительно случилось, но хотя «Аум Синрикё» и пыталась заявить о своей причастности к стихийному бедствию, ей никто не поверил. Тесла оставил после себя более 800 патентов – и, может быть, еще столько же изобретений было утрачено. Имя Теслы носят улица в Загребе и американский военный корабль, аэропорт в Белграде и американская рок-группа. Ему принадлежит слава ученого, который изобрел XX век, но многие из его открытий актуальны даже в двадцать первом столетии, а некоторые, возможно, опередили и его…
Альберт Эйнштейн

Теория гениальности
Возможно, он не был самым гениальным ученым прошлого века, но он, вне всякого сомнения, был самым знаменитым. Пусть вся глубина его открытий доступна лишь нескольким десяткам человек – все равно каждый знает, что благодаря Эйнштейну время и пространство навсегда перестали быть прежними. Однажды в письме он написал: «Если бы все жили, как я, не было бы приключенческих романов». Впрочем, даже гениальному ученому позволено ошибаться…
Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в Ульме, в старом доме с остроконечной крышей на площади Вейнхофплатц. Сегодня этого дома больше нет – в 1944 году он был разрушен при бомбардировке города американскими военно-воздушными силами.
Предки Эйнштейна, еврейские эмигранты, появились в Вюртемберге еще в XVI столетии. Они, как и большинство их соплеменников, были ремесленниками или занимались мелкой торговлей и за три века почти полностью слились по своему образу жизни и мышлению с коренным швабским населением этой местности. И сам Эйнштейн до конца своих дней даже по-английски говорил с заметным южнонемецким акцентом.
Родителями Альберта были Герман Эйнштейн и Паулина Кох, дочь зажиточного торговца зерном Юлиуса Дерцбахера, который еще в молодости сменил фамилию из соображений благозвучности. Герман и Паулина поженились в августе 1876 года, и всю жизнь их связывали любовь и взаимное уважение. Хотя у Германа были неплохие математические способности, он так и не смог получить высшее образование – у его родителей не было на это денег. Пришлось заняться торговлей, хотя к коммерции Герман не имел ни склонности, ни таланта. Впоследствии выяснилось, что сын унаследовал этот недостаток отца: его жена как-то отозвалась о нем: «Он умеет делать все, кроме денег».

Герман Эйнштейн.
На момент женитьбы Герман был совладельцем небольшого производства перьевой набивки для перин и матрасов, но вскоре продал дело и открыл магазин, торгующий механическими товарами. Предприятие почти не приносило дохода, и в 1880 году он перевез семью в Мюнхен, где вместе с братом Якобом основал фирму, торгующую электрическим оборудованием. Позднее в одном из пригородов появилась его мастерская по изготовлению динамо-машин, дуговых ламп, измерительных приборов и других технических новинок, которые в эпоху засилья газовых рожков плохо пробивали себе дорогу. В Мюнхене в 1881 году у Эйнштейнов родился второй ребенок – дочь Майя.

Паулина Кох.
Альберт рос тихим и рассеянным мальчиком, он с детства проявлял склонность к логическому мышлению и необузданное любопытство ко всему новому и неизведанному. Самым ярким детским воспоминанием юного Альберта был компас: «Когда я был маленьким мальчиком, отец показал мне компас, и то сильнейшее впечатление, которое он произвел на меня, несомненно, сыграло роль в моей жизни», – писал он. Благоговейный трепет и удивление, которые вызвала у пятилетнего мальчика стрелка, всегда указывающая на север, не угасали всю жизнь, побуждая его все больше и больше узнавать мир. Подобные же чувства он испытал в двенадцать лет, когда впервые открыл учебник геометрии.
Несмотря на явную тягу к знаниям и унаследованный от отца талант к точным наукам, в школе – Альберт поступил в местную католическую народную школу, которая была ближе всего к дому, – мальчик успевал весьма средне, выделяясь среди учеников лишь на уроках латыни и математики. Та же история повторилась и в Луитпольдовской гимназии. Он терпеть не мог механическую зубрежку, тупое заучивание и жесткую дисциплину, характерные для немецкой системы обучения, к тому же авторитарная манера преподавания, не предполагавшая не то что диалога с учеником, а вообще никаких вопросов учителю, вызывала у Эйнштейна глубокое неприятие. Он всю жизнь считал, что такое обучение наносит вред самому духу учебы и непоправимо калечит творческий дух учеников. Сам Эйнштейн предпочитал самостоятельные занятия – в особенности привлекали его геометрия и популярные книги по естествознанию. Вскоре он далеко опередил своих сверстников в точных науках, а к шестнадцати годам овладел основами высшей математики, включая дифференциальное и интегральное исчисления.
Альберт так и не окончил гимназию. В 1894 году его семья бежала от материальных неудач, преследовавших старшего Эйнштейна, из Пруссии в Италию и поселилась в Падуе, неподалеку от Милана. Здесь Герман опять основал предприятие, занимавшееся производством электротехнических товаров. Его сын остался в Мюнхене, чтобы получить гимназический аттестат зрелости, однако весной 1895 года, спустя несколько месяцев после отъезда родителей, он присоединился к ним в Италии без аттестата. Он уверил недовольного отца, что добьется права на поступление в высшее учебное заведение, занимаясь самостоятельно, и осенью того же года отправился в Швейцарию, чтобы в Цюрихе поступить в Высшее техническое училище (Политехникум) и получить профессию инженера. Блестяще сдав экзамены по специальности, Эйнштейн, однако, завалил испытания по французскому языку и биологии. К счастью, талантливый молодой человек понравился директору Политехникума, и тот посоветовал Эйнштейну поступить в выпускной класс школы, получить аттестат и на следующий год снова попробовать поступить в Политехникум.
Эйнштейн записался в кантональную школу в Аарау, городе в двадцати милях к западу от Цюриха. Он жил в семье профессора Йоста Винтелера – не без его влияния будущий физик решил оставить свою мечту стать инженером и заняться в будущем преподаванием физики. Целый год обучения в Аарау Эйнштейн наслаждался тесным контактом с учителями и либеральным духом, парившим в гимназии. В школьном сочинении он написал: Если мне посчастливится успешно выдержать экзамены, я поступлю в Высшее техническое училище в г. Цюрихе. Четыре года буду изучать там математику и физику. В мечтах вижу себя профессором этой области естественных наук, предпочитая их теоретическую часть. Вот причины, побудившие меня избрать этот план. Прежде всего, способность к абстрактному и математическому мышлению, отсутствие фантазии и практической хватки. Мои желания и склонности ведут меня к такому же решению. Это вполне естественно. Человеку всегда нравится делать то, к чему у него есть талант. К тому же профессия ученого дает человеку известную долю независимости, что очень привлекает меня. В свободное время он изучал электромагнитную теорию Максвелла и гулял по окрестностям в сопровождении Мари Винтелер, дочери профессора, с которой его связывали первые нежные чувства. В сентябре 1896 года Эйнштейн успешно сдал экзамены на аттестат зрелости и в октябре был зачислен на педагогический факультет Политехникума.
Как это часто бывает, из первой любви ничего не вышло – когда Эйнштейн поступил в Политехникум, Мари переехала в городок Ольсберг, где стала работать учительницей. Дружбу с семейством Винтелер Эйнштейн поддерживал многие годы – со временем его сестра Майя выйдет замуж за брата Мари, Пауля.

Альберт Эйнштейн в возрасте четырнадцати лет, 1893 г.
Стиль и методика преподавания в Политехникуме столь разительно отличались от принятых в Германской империи, что Альберт вознамерился навсегда порвать с прошлым и даже уговорил отца подать за него официальное прошение о выходе из германского подданства – сам он не мог этого сделать, поскольку был еще несовершеннолетним. Правда, для получения швейцарского гражданства требовалось уплатить тысячу швейцарских франков, которых у семьи не было: предприятие Эйнштейнов окончательно разорилось, и Герман переехал в Милан, где уже без брата открыл собственное дело – опять же по торговле электрооборудованием. Лишь спустя пять лет, в 1901 году, Альберт Эйнштейн стал гражданином Швейцарии.
Во время обучения в Политехникуме Эйнштейн завязал два знакомства, во многом определивших его жизнь: он подружился с однокурсником Марселем Гроссманом и со студенткой из Сербии Милевой Марич.
Милева была на четыре года старше Эйнштейна: она родилась 19 декабря 1875 года в городе Тител (в то время принадлежавшем Австро-Венгрии, а в настоящее время Сербии) и была старшей из трех детей состоятельного офицера Милоша Марича и его супруги Марии. Вскоре после рождения Милевы Милош оставил военную карьеру и перешел на юридическую стезю, прослужив в суде сначала в Руме, а затем в Загребе. Его старшая дочь с юных лет поражала учителей своими способностями, так что в 1891 году ее отец даже получил для Милевы специальное разрешение поступить в мужскую королевскую классическую среднюю школу в Загребе, которую она окончила в 1894 году с высшими оценками по математике и физике. По состоянию здоровья Милева переехала в Швейцарию, где сдала экзамены на аттестат зрелости, а затем целый семестр изучала медицину в Цюрихском университете. Осенью 1986 года, одновременно с Эйнштейном, Милева поступила на педагогический факультет Политехникума, рассчитывая со временем получить специальность преподавателя физики и математики. Она была единственной женщиной в группе, и всего пятой женщиной, кто изучал в Политехникуме математику и физику. На один семестр Милева отлучилась в Гейдельбергский университет, где посещала лекции по физике и математике в качестве вольнослушателя, а затем вернулась в Цюрих. Почти сразу они с Эйнштейном стали близкими друзьями, и с течением времени их дружба переросла в роман. В одном из писем Эйнштейн написал о ней так: «Создание, равное мне, такое же сильное и независимое, как я».
Учеба в Политехникуме давалась Эйнштейну, не в пример гимназической науке, легко, однако блестящих результатов он не показывал. Позже Эйнштейн вспоминал: «Я был третируем моими профессорами, которые не любили меня из-за моей независимости и закрыли мне путь в науку».
Альберт Эйнштейн окончил Политехникум в 1900 году. Хотя многие преподаватели ценили его несомненные способности, ему было отказано в просьбе остаться работать в училище.

Альберт Эйнштейн и Милева Мария.
Из-за пропущенного ради Гейдельберга года Милева закончила обучение позже Эйнштейна, а ее начинающейся карьере помешала беременность – в январе 1902 года в родной Сербии Милева родила внебрачного ребенка от Эйнштейна, дочь, которую они назвали Лизерль.
Держать незаконнорожденную дочь при себе родители не могли – внебрачный ребенок в то время безусловно означал прекращение научной карьеры. О дальнейшей судьбе Лизерль ничего неизвестно – считается, что скорее всего она умерла около 1903 года от скарлатины.
По окончании училища Эйнштейн долго не мог найти постоянную работу – его не брали даже школьным учителем. Недолгое время он преподавал физику в Шаффгаузене, иногда давал частные уроки, но все это не приносило ни денег, ни удовлетворения. Он практически голодал – известно, что в это время Эйнштейн не ел по нескольку дней, что в итоге привело к развитию
у него болезни печени, мучившей Эйнштейна всю оставшуюся жизнь. Однако жизненные трудности не мешали ему заниматься тем, что он любил больше всего, и что могло отвлечь его от любых проблем, – наукой. В 1901 году берлинский журнал Annalen der Physik опубликовал его первую статью «Следствия теории капиллярности», посвященную анализу сил притяжения между атомами жидкостей на основании теории капиллярности.
Помог Эйнштейну его приятель по училищу Марсель Гроссман – он в 1902 году порекомендовал Эйнштейна в Федеральное бюро патентования изобретений, находившееся в Берне. В июле Эйнштейн получил в бюро должность эксперта III класса с окладом в три с половиной тысячи швейцарских франков в год – для сравнения, студентом Эйнштейн жил всего на сто франков в месяц. В Бюро он занимался экспертной оценкой заявок на изобретения: эта работа не требовала много сил, и у него оставалось достаточно времени на занятия и размышления над интересовавшими его научными проблемами. Всего в патентном бюро Эйнштейн проработал семь лет – это время он считал самым счастливым и продуктивным в своей жизни.
Почувствовав, наконец, как говорится, уверенность в завтрашнем дне, Эйнштейн сделал предложение Милеве. Они поженились 6 января 1903 года. Этот брак просуществовал без малого семнадцать лет и принес супругам двух сыновей – Ганса-Альберта, родившегося в мае 1904 года, и Эдуарда, появившегося на свет в июле 1910-го.
Семья не могла отвлечь Эйнштейна от науки. В это время он постепенно превратился в одного из крупнейших физиков-теоретиков своего времени. Первые опубликованные им труды были посвящены силам взаимодействия между молекулами. Один из них – «Новое определение размеров молекул» – в 1905 году принес Эйнштейну степень доктора физических наук. Этот год был ознаменован многими событиями: в России прокатилась волна восстаний, в Англии был основан футбольный клуб «Челси», в Цусимском сражении Япония разгромила российский флот, Норвегия отделилась от Швеции и обрела долгожданную независимость, во французском городе Амьене скончался Жюль Берн… Но в историю физики этот год вошел как «год чудес» – Annus Mirabilis — благодаря Альберту Эйнштейну и его работам. В этом году журнал Annalen der Physik, ведущий журнал Германии в этой области, опубликовал три его работы, которые положили начало настоящей научной революции.

Альберт Эйнштейн во время работы в патентном бюро. 1905 г.
Хронологически первыми были исследования по молекулярной физике, результаты которых Эйнштейн изложил в статье «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты»: Эйнштейн связал движение частиц, наблюдаемое в микроскоп, со столкновениями этих частиц с невидимыми молекулами и предсказал возможность вычислить общие массу и число молекул, находящихся в данном объеме.
Другая его работа «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света», признанная одной из заложивших основы квантовой теории, объясняла фотоэлектрический эффект как испускание электронов металлической поверхностью под действием электромагнитного излучения в ультрафиолетовом или каком-либо другом диапазоне частот. Развивая идеи Макса Планка, Эйнштейн предположил, что число выбитых с поверхности электронов равно числу фотонов, связанных с яркостью света, а скорость и энергия этих электронов прямо пропорциональны частоте излучения. Исходя из своего представления о фотоэффекте, ученый выдвинул довольно смелое по тем временам предположение о двойственной природе света, который может вести себя и как волна, и как поток частиц. Правильность этой гипотезы впоследствии была подтверждена экспериментально, причем не только для видимых диапазонов светового излучения, но и для рентгеновских и гамма-лучей. Закон фотоэлектрического эффекта, открытый Альбертом Эйнштейном, стал основой фотохимии и позволил объяснить явления флюоресценции и фотоионизации, а также загадочные вариации удельной теплоемкости твердых тел при различных температурах.
В основу третьей работы, вышедшей под скромным названием «К электродинамике движущихся тел», были положены два универсальных допущения. Первое гласило, что все законы физики одинаково применимы для двух наблюдателей, независимо от того, как они движутся относительно друг друга, второе – что свет всегда распространяется в свободном пространстве с одинаковой скоростью, независимо от движения его источника. Из принятых допущений последовали выводы о том, что ни один материальный объект не может двигаться быстрее света; с точки зрения неподвижного наблюдателя размеры движущегося объекта сокращаются в направлении движения, а масса объекта возрастает; и чтобы скорость света была одинаковой для движущегося и неподвижного наблюдателей, движущиеся часы должны идти медленнее. В результате время становится такой же относительной переменной, как и пространственные координаты.
Изложенная в статье теория получила название специальной – то есть частной, в отличие от общей, – теории относительности. В другой статье, вышедшей в конце года, Эйнштейн, исходя из этой теории, вывел знаменитую формулу Е = тс2, определяющую взаимосвязь массы и энергии.
Многие ученые сразу приняли специальную теорию относительности: Макс Планк даже включил ее в свой курс лекций, который читал в Берлинском университете. Ученые начали переписываться, и вскоре Макс Планк и Альберт Эйнштейн совместно выстроили релятивистскую (то есть строящуюся на базе теории относительности) динамику и термодинамику, а бывший учитель Эйнштейна по Политехникуму, выдающийся математик Герман Минковский, создал математическую основу теории относительности. К тому же он высказал мысль, что пространство и время должны рассматриваться как единое целое, создав по сути картину четырехмерного мира, где в роли четвертого измерения выступает время.
Но не все физики были согласны с теорией относительности: многие сочли ее чересчур революционной, опровергающей незыблемые в течение двухсот лет постулаты ньютоновской механики – прежнюю основу физической науки. Возможные следствия специальной теории относительности – например, временные парадоксы, – казались им прямым доказательством того, что теория представляет собой в лучшем случае изящный математический этюд. Однако накапливающиеся со временем доказательства, как математические, так и полученные в результате опытов, подтвердили правоту Эйнштейна.
Он не обращал особого внимания на критику, продолжая исследования в заинтересовавшей его области. В 1907 году он опубликовал работу, где распространил идеи квантовой теории на физические процессы: изложенная в статье теория получила название квантовой теории теплоемкости. Эта статья тоже наделала немало шума. В результате всего за несколько лет Эйнштейн превратился из учителя-неудачника в знаменитого физика, обладающего немалым авторитетом в научном мире. Он переписывался и встречался с самыми прославленными учеными своего времени. В октябре 1908 года Эйнштейна пригласили прочесть факультатив в Бернском университете (правда, это приглашение было скорее почетным, чем полезным, ибо никакой оплаты ученому не полагалось), а в 1909 году он побывал на съезде в Зальцбурге, где присутствовали лучшие немецкие физики. В их числе был Макс Планк: за три года переписки в ходе работы над релятивистской динамикой они с Эйнштейном стали настоящими друзьями. После съезда, в декабре 1909 года, Эйнштейн получил место экстраординарного профессора теоретической физики в Цюрихском университете, где геометрию преподавал его старый друг Марсель Гроссман. Правда, оплата была небольшой, так что, когда в начале 1911 года ученого пригласили возглавить кафедру физики Немецкого университета в Праге, он без колебаний переехал в Чехию.
Работая в Праге, Эйнштейн продолжал публиковать работы по термодинамике, квантовой теории и теории относительности. В статье 1911 года «О влиянии силы тяжести на распространение света» он заложил основы релятивистской теории тяготения, выдвинув гипотезу, что лучи света, исходящие от звезд, при прохождении мимо Солнца должны изгибаться у его поверхности под влиянием гравитационных сил. Проверить это можно было в ходе астрономических наблюдений во время солнечного затмения, которого пришлось ждать восемь лет.

Нильс Бор и Альберт Энштейн.
Летом 1912 года Эйнштейн вернулся в Цюрих, где в ставшем ему родным Политехникуме была создана кафедра математической физики. Помимо преподавательской деятельности Эйнштейн был занят – вместе с верным другом Марселем Гроссманом – созданием математического аппарата, необходимого для дальнейшего развития теории относительности. Результатом их работы стал «Проект обобщенной теории относительности и теории тяготения», увидевший свет в 1913 году. Вместе с выпущенной в Праге эта статья стала основой для создания общей теории относительности и учения о гравитации, которые были закончены через два года.
В Цюрихе Эйнштейн пробыл недолго, всего три семестра, а затем его пригласили в Германию на должность профессора Берлинского университета, и одновременно предложили возглавить Физический институт кайзера Вильгельма (теперь институт Макса Планка). Эти приглашения Эйнштейн принял с большой неохотой: ему не хотелось ехать в Берлин, равно как и не хотелось покидать Швейцарию. Но он поехал – эта работа давала не только неограниченные возможности для научной работы, но и в материальном плане позволяла при желании не отвлекаться на преподавание. Весной 1914 года Макс Планк воспользовался торжественным заседанием Прусской академии наук, проведенным в честь Лейбница, чтобы поприветствовать Эйнштейна в качестве нового академика.
Эйнштейн с семьей обосновался в Берлине в апреле 1914 года. Летом Милева с детьми отправилась в Швейцарию навестить родных и из-за начавшейся Первой мировой войны не смогла вернуться. Эйнштейн несколько раз навещал семью, но уже в 1916 году он признавался, что твердо решил расстаться с ней. По его словам, она не позволяла ему полностью сосредоточиться на физике.
До сих пор в научной среде не утихают дебаты, оказывала ли Милева влияние на научные работы Эйнштейна, и насколько сильным оно было. Хотя некоторые считают, что все ранние открытия Эйнштейна были сделаны супругами совместно (а то и украдены им у Милевы), большинство все же считает, что влияние Марич было минимальным. Ни в училище, ни после него она не выказывала признаков выдающегося таланта, бесспорно имевшегося у Эйнштейна, к тому же нет ни одной работы, несомненно написанной Милевой Марич, – ни до, ни после семейной жизни с Эйнштейном.
Расставшись с Милевой, Эйнштейн стал проводить свободное время с Эльзой Лёвенталь, с которой он был знаком с детства, – Эльза была дочерью сестры его матери, Фанни Кох, и двоюродного брата его отца Рудольфа Эйнштейна. Детьми они нередко играли вместе, но с тех пор, как семья Альберта переехала в Италию, они долгие годы не виделись. За это время Эльза успела выйти замуж за торговца тканями Макса Лёвенталя, родить двух дочерей – Илзе и Марго – и развестись. В 1914 году Макс Лёвенталь скончался, и Эльза сочла себя полностью свободной и вправе строить свою личную жизнь заново, пусть даже ее избранник был формально женат.
В 1915 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою главную работу – общую теорию относительности (ОТО), включившую в себя движение как с постоянной, так и с переменной скоростью. Как следствие, ньютоновская механика стала частным случаем, применимым лишь при движении с малыми скоростями, и общая теория относительности, содержащая пространственно-временное описание влияния массивных тел на характеристики окружающего пространства, заменила теорию гравитационного притяжения тел Ньютона.
Общая теория относительности основывалась на очень небольшом количестве фактов, в основном она была результатом умозрительных заключений и математических вычислений. Эйнштейн указал на два возможных эффекта, которые способны подтвердить справедливость его теории: искривление световых лучей в поле тяготения Солнца и так называемое релятивистское «красное смещение» – смещение линий спектра к красному концу спектра относительно локальных масштабов при распространении света из гравитационной ямы наружу (то есть из области с меньшим гравитационным потенциалом в область с большим потенциалом). Так же теория относительности объяснила давно мучившее исследователей смещение перигелия Меркурия, который, как установили астрономы, смещается от Солнца быстрее, чем допускала ньютоновская теория тяготения.
Удивительное дело – в разгар мировой войны, в Берлине, столице главного воюющего государства, Эйнштейн создает научные труды, буквально революционизировавшие науку. Милитаристские настроения были глубоко противны Эйнштейну, пусть его пацифизм вызывал резкую критику даже среди коллег-ученых. В свою очередь сам Эйнштейн не скупился на нелестные высказывания в адрес своих оппонентов. Во время Первой мировой войны он воспринимал разразившийся повсюду военный психоз как возврат к неандертальской эпохе, и в марте 1915 года писал Ромену Роллану: «Даже ученые разных стран ведут себя так, словно у них восемь месяцев назад удалили головной мозг». А в июле 1917 года он сообщал друзьям в Лейден: «Я стал много терпимее, ничуть не изменив своих воззрений в главном… Перед нами эпидемический бред, который, принеся бесконечные страдания, вновь исчезнет и через несколько поколений будет вызывать всеобщее удивление, как нечто чудовищное и непостижимое».
Мало кому известно, что во время Первой мировой войны Эйнштейн имел отношение к конструированию самолетов. Германские военно-воздушные силы имели тогда на вооружении допотопные по сравнению с самолетами Антанты аэропланы и, стремясь преодолеть это отставание, Общество воздушного транспорта в Берлин-Иоганнистале обратилось к различным ученым с призывом принять участие в работе по техническому усовершенствованию воздушного флота. Одним из немногих, кто дал согласие, был Эйнштейн: ему было интересно попробовать себя в новом качестве, а возможности такой до этого момента не представлялось. Правда, сам он конструированием не занимался, предложив лишь одну идею – конструкцию крыла в виде «кошачьей спины»: Эйнштейн предположил, что крыло этого типа обеспечит наибольшую подъемную силу при нулевом угле атаки и при минимальной тяге движения. Однако его детище поднялось в воздух всего дважды, и оба испытательных полета дали далеко не блестящие результаты. В августе 1954 года летчик-испытатель Эрхардт, вспоминая об этом эпизоде, писал Эйнштейну:
Взлетев, я повис в воздухе, как беременная утка, и вздохнул с облегчением лишь после того, как, тяжело спланировав прямо над летным полем, снова почувствовал под колесами твердую почву у самой ограды Адлерсхофа (название аэродрома. – Прим. автора). Второй пилот преуспел не больше, чем я. До тех пор, пока крыло типа «кошачья спина» не было модифицировано так, чтобы придать ему угол атаки, мы не могли отважиться на то, чтобы сделать в полете вираж. Но даже после этого беременная утка просто превратилась в хромую.
Оставив неудавшуюся практическую работу, Эйнштейн продолжал теоретические исследования. За общей теорией относительности последовала работа об индуцированном излучении: он предположил, что при определенных условиях электроны в результате возбуждения могут перейти на определенный энергетический уровень, а затем лавинообразно возвратиться на более низкий уровень с выделением энергии. Этот процесс впоследствии лег в основу разработки современных лазеров.
В 1917 году вышла в свет статья «Космологические соображения к общей теории относительности» – первая в ряду трудов Эйнштейна по созданию общей теории поля. Словно в наказание за ниспровержение казавшихся непоколебимыми авторитетов в том же году на Эйнштейна напали болезни: он страдал разом от проблем с печенью, перешедших в желтуху, и язвы желудка. Несколько месяцев он не мог встать с постели – за ним ухаживала Эльза, в доме которой Эйнштейн отныне и поселился. В феврале 1919 года он наконец официально развелся с Милевой Марич – говорят, при разводе он пообещал ей, в знак благодарности, что, если когда-нибудь получит Нобелевскую премию, отдаст деньги ей и сыновьям. Второго июня 1919 года Альберт Эйнштейн зарегистрировал брак с Эльзой Лёвенталь. Она снова стала Эльзой Эйнштейн; две ее дочери тоже поменяли фамилии на Эйнштейн – Альберт удочерил их и воспитывал как родных. Все отмечали, что девочки очень любили отчима, и он отвечал им полной взаимностью. Что касается Эльзы, то, по выражению современников, «Эльза была женщиной недалекой, любила только наряды, драгоценности, сладости и Альберта Эйнштейна».

Альберт и Эльза Эйнштейн.
Она была идеальной женой гения: вела хозяйство, обеспечивала его быт, служила секретарем и сиделкой, охраняла его от назойливых посетителей и вела его переписку. В том же году к ним переехала Паулина Эйнштейн, которая была тяжело больна, и заботы о свекрови тоже легли на плечи Эльзы. Паулина скончалась в феврале следующего года, и Альберт тяжело переживал ее смерть.
Еще в 1918 году, после того как общая теория относительности была завершена, цюрихский Политехникум стал прощупывать почву – не согласится ли Эйнштейн оставить Берлин и вернуться в Цюрих на должность профессора. Он писал сестре по этому поводу (многоточие стоит и в подлиннике письма):
Не могу заставить себя бросить все в Берлине, где люди были так добры и так помогли мне. Как счастлив был бы я 18 лет тому назад, если бы мог тогда стать скромным ассистентом в Федеральном институте! Но мне это не удалось. Мир – сумасшедший дом. Известность означает все. В конце концов и другие люди могут читать хорошие лекции – но…
Однако его подлинная слава была еще впереди. Когда 29 мая 1919 года во время полного солнечного затмения английская экспедиция под руководством астрофизика Артура Эддингтона сумела обнаружить предсказанное теорией относительности искривление световых лучей в поле тяготения Солнца, тем самым доказав правильность специальной теории относительности, Эйнштейн в один миг стал всемирно знаменит. Статьи о нем напечатали газеты всей Европы, нередко, впрочем, до неузнаваемости искажая суть его теории. Сам ученый был не рад обрушившейся на него славе, считая, что она только мешает ему работать. В рождественской открытке, которую он отправил своему другу Генриху Зангеру в Цюрих, Эйнштейн написал: «Слава делает меня все глупее и глупее, что, впрочем, вполне обычно. Существует громадный разрыв между тем, что человек собою представляет, и тем, что другие думают о нем или, по крайней мере, говорят вслух».
Никто не мог предположить, каких масштабов достигнет слава Эйнштейна – между тем масштаб этот был огромен даже для тех несдержанных на эмоции времен, когда любопытство публики было неукрощенным и беззастенчивым. Эйнштейну не давали спокойно работать: ежедневно ученого осаждали журналисты с глупыми вопросами и жаждущие познакомиться экзальтированные барышни, которые беззастенчиво оттирали в сторону его пышущую праведным гневом супругу. Нередко любопытные богачи приглашали ученого прокатиться в автомобиле, и если он соглашался, забрасывали вопросами о том, как ему в голову пришла столь гениальная идея и что конкретно она может дать людям. Под его окнами стояли толпы любопытных, желающих хотя бы таким способом приобщиться к чему-нибудь великому – неважно, к чему именно. Особо настырные прорывались к нему в кабинет, желая услышать из его уст изложение теории относительности или поспорить с ним, или просто поздороваться. Говорят, когда одна из особенно настойчивых поклонниц попросила ученого объяснить ей разницу между временем и вечностью, тот в сердцах ответил: «Даже если бы у меня было время на подобные объяснения, то прошла бы вечность, прежде, чем вы поняли бы эту разницу!»
Любое его слово разносилось и перевиралось газетчиками. Своему другу он писал по этому поводу: «Что касается меня, то любой мой писк превращается в соло на трубе». В другом письме он развил эту мысль: «Раньше мне никогда не приходило в голову, что любое случайно оброненное мною замечание будет подхвачено и увековечено. Если бы знал, еще глубже спрятался бы в своей раковине».
Однажды кто-то из журналистов спросил Эйнштейна, есть ли у него блокнот, в который он записывает гениальные мысли, приходящие ему в голову. Ученый ответил, что по-настоящему гениальные мысли рождаются настолько редко, что их не грех и запомнить. Когда у него спрашивали, где находится его лаборатория, он, улыбаясь, показывал авторучку. На другой вопрос, который ему часто задавали – как это ему удалось создать теорию относительности – он полушутя отвечал: «Почему именно я создал теорию относительности? Когда я задаю себе такой вопрос, мне кажется, что причина в следующем. Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. По его мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда я стал уже взрослым. Естественно, я мог глубже проникать в проблему, чем ребенок с нормальными наклонностями».
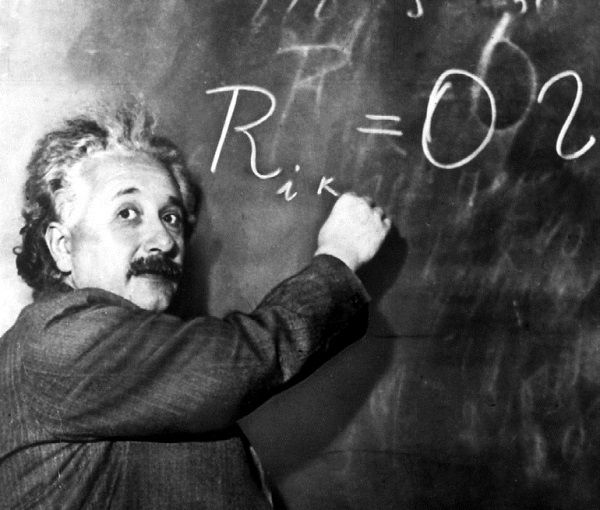
Подобно Эрвину Шредингеру – другому выдающемуся ученому нашего времени – Эйнштейн считал, что «первое требование для естествоиспытателя состоит в любопытстве». Он интересовался многими вещами – от построения модели Вселенной до изучения причин изменений речных русел. Эйнштейн сделал и несколько практических изобретений, например, оригинальный слуховой аппарат, гирокомпас и бесшумный холодильник. Позже он сосредоточил все усилия, за редкими исключениями, на работе по проблемам квантовой физики и созданию единой теории поля.
Начиная с 1910 года Альберта Эйнштейна почти ежегодно выдвигали на Нобелевскую премию (кроме двух лет, 1911-го и 1915-го). Но его открытия были слишком революционны, чтобы консервативно настроенный Нобелевский комитет осмелился наградить их. Наконец в ноябре 1922 года шведские академики телеграммой уведомили Эйнштейна о том, что ему присуждена премия за 1921 год: Эйнштейн был награжден за теорию фотоэлектрического эффекта, которая представлялась членам Нобелевского комитета более бесспорным вкладом в науку, впрочем, формулировка включала в себя также нейтральное «и за другие работы в области теоретической физики». Как и обещал ранее, денежное вознаграждение, прилагавшееся к медали Нобеля, Эйнштейн отдал Милеве. На эти деньги она купила три дома, в одном из которых она с сыновьями жила. Позже дома пришлось продать: у младшего сына, Эдуарда, талантливого музыканта, в двадцать лет диагностировали шизофрению, и на его лечение и содержание в клиниках требовались большие суммы, которые Эйнштейн не мог выплачивать самостоятельно. Милева скончалась в Цюрихе в августе 1948 года. Эдуард прожил еще семнадцать лет – все это время он провел в психиатрической больнице.
К началу 1920-х годов Эйнштейн уже был награжден немецким орденом «За заслуги» и званием почетного гражданина города Нью-Йорка. Позже его удостоили медали Копли, которая с середины XVIII века вручается английским Королевским обществом по развитию знаний о природе за выдающиеся достижения в науках, золотой медали Королевского астрономического общества Великобритании, медали имени Макса Планка Германского физического общества и еще несколькими подобными наградами.
Однако в родной Германии ему жилось все тяжелее. Его национальность вкупе с независимым характером, антимилитаристскими взглядами и теориями, ниспровергающими все то, чем кормились многие поколения физиков, нажили ему немало врагов: в то время, после поражения Германии в мировой войне, было крайне опасно быть евреем, независимым, или просто для кого-то неудобным. Еще в феврале 1920 года реакционно настроенные студенты Берлинского университета непристойными выкриками и безобразным поведением вынудили Эйнштейна прервать лекцию и покинуть аудиторию. А вскоре началась планомерная кампания против создателя теории относительности, которой руководила группа ученых-антисемитов, называвшаяся «Рабочее объединение немецких естествоиспытателей для сохранения чистой науки»: они считали, что ни один еврей не может и не должен диктовать немецкой науке свое мнение. В августе они организовали в зале Берлинской филармонии демонстрацию против теории относительности, а в одной из газет даже появился призыв к убийству ученого. Вскоре в газетах появились сообщения, что Эйнштейн, оскорбленный травлей, собирается покинуть Германию. Голландский Лейденский университет немедленно предложил Эйнштейну кафедру, но тот отказался, решив, что подобное бегство было бы предательством по отношению к коллегам-немцам, которые его самоотверженно защищали. Однако он согласился принять звание экстраординарного почетного профессора Лейденского университета и десять лет регулярно приезжал туда читать лекции.
Первую половину 1920-х годов Альберт Эйнштейн провел в разъездах: его приглашали читать лекции крупнейшие университеты и научные общества, многие организации привлекали его как обладающего огромным авторитетом ученого к различного рода политическим акциям, где Эйнштейн выступал за интернационализм, социальную справедливость и мирное сотрудничество. Нередко он выступал на благотворительных концертах, играя на скрипке: любовь к музыке передалась ему от матери, которая начала учить сына игре на скрипке, едва тому исполнилось шесть лет.
Вначале мальчик воспринимал эти уроки как скучную обязанность, но вскоре музыка увлекла его. С течением времени она стала его страстью и почти превратилась во второе призвание. Отправляясь в любые поездки, Эйнштейн брал с собой свою скрипку, и даже на заседаниях Прусской академии наук обычно появлялся со скрипичным футляром. А после заседания шел к одному из своих друзей-коллег – Планку, который был великолепным пианистом, или Борну, чтобы совместно музицировать. Он играл Генделя и Брамса, Шумана и Шуберта, а его любимыми композиторами были Гайдн, Бах и Моцарт. В их произведениях его покоряла та прозрачность и гармония, которую он искал, строя свои теории Вселенной. С его выступлениями связано немало забавных случаев: например, однажды Эйнштейн вместе со знаменитым виолончелистом Григорием Пятигорским принимал участие в благотворительном концерте. В публике сидел невежда-журналист, который не знал, кто выступает, и спросил об этом своих соседей. Те объяснили, что на сцене сам Эйнштейн – и на следующий день в газете появился отчет о выступлении Пятигорского вместе с Эйнштейном, «великим музыкантом, несравненным скрипачом-виртуозом, который своей блистательной игрой затмил самого Пятигорского». Рецензия всех очень рассмешила, и особенно самого Эйнштейна. Он вырезал заметку и постоянно носил ее с собой, показывал знакомым и говорил: «Вы думаете, я ученый? Нет, я знаменитый скрипач, вот кто я на самом деле!»
С игрой на скрипке связан и другой – не менее анекдотичный – случай. Однажды физик оказался в гостях в одной компании с известным композитором Гансом Эйслером. Хозяйка, не желая упускать такой случай, попросила их сыграть что-нибудь, на что оба из вежливости согласились. Эйслер сел за рояль, Эйнштейн взял в руки скрипку. Композитор трижды начинал играть вступление, но Эйнштейн постоянно сбивался, и все приходилось начинать заново. В конце концов Эйслер вскочил со стула и заявил, что не понимает, почему весь мир считает великим человека, который не в состоянии сосчитать до трех. На этом выступление и закончилось.

За несколько лет Эйнштейн объездил всю Европу, побывал в США, Индии и Китае, выступал в Японии и Иерусалиме, где предполагалось открыть Еврейский университет. Идеи сионизма – возвращения евреев на историческую родину, в Израиль, в то время были Эйнштейну уже достаточно близки. «Пока я жил в Швейцарии, – писал он, – я никогда не сознавал своего еврейства, и в этой стране не было ничего, что влияло бы на мои еврейские чувства и оживляло бы их. Но все изменилось, как только я переехал в Берлин. Там я увидел бедствия многих молодых евреев. Я видел, как их антисемитское окружение делало невозможным для них добиться систематического образования… Тогда я понял, что лишь совместное дело, которое будет дорого всем евреям в мире, может привести к возрождению народа». После 1925 года он осел в Берлине, выбираясь лишь в Лейден, где читал лекции, а летом – в Швейцарию или на морское побережье.
В марте 1929 года Эйнштейну исполнилось пятьдесят лет. Это событие широко отмечалось по всему миру: его поздравили королева Бельгии и Рабиндранат Тагор, Чарльз Чаплин и Зигмунд Фрейд. Подарки и поздравления прибывали отовсюду, и репортеры разнообразнейших газет добивались интервью. Эйнштейн, испугавшийся подобной шумихи, скрылся из Берлина. Магистрат Берлина подарил ему участок на берегу Темплин-ского озера в деревне Капут, где стараниями Эльзы был возведен летний дом, доставлявший Эйнштейну и его семье немало радости.
Начиная с 1930 года Эйнштейн обычно проводил зимние месяцы в Соединенных Штатах, в Калифорнии, где читал лекции по результатам своих исследований в Пасаденском технологическом институте. Хотя известно, что некоторые враждебно настроенные организации пытались воспрепятствовать въезду ученого в Америку: например, в 1932 году американская «Женская патриотическая корпорация» потребовала не пускать Эйнштейна в США, так как он известный смутьян и коммунист. Визу Эйнштейн все же получил, а о происшествии отозвался так: «Никогда еще я не получал от прекрасного пола такого энергичного отказа, а если и получал, то не от стольких сразу».
В начале 1933 года, когда в Германии пришел к власти Гитлер, физик находился в США. Он так больше никогда и не вернулся в родную Германию: на родине его обвинили в государственной измене, все его имущество, включая личные вещи, было конфисковано. Даже его открытия были либо отвергнуты, либо приписаны «истинным арийцам». Один из его гонителей, физик Филипп Ленард, провозглашал: «Наиболее важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями и математической болтовней, составленной из старых сведений и произвольных добавок… Мы должны понять, что недостойно немца быть духовным последователем еврея». В марте 1933 года Эйнштейн во второй раз – на этот раз окончательно – отказался от германского гражданства и заявил о своем выходе из состава Прусской академии наук.
Несколько месяцев Эйнштейн провел в бельгийском городке Ле Коксюрмер – король и королева Бельгии были давними друзьями Эйнштейна: их связывала любовь к музыке и общность взглядов. Когда по Европе пошли слухи о том, что нацисты назначили денежное вознаграждение за голову Эйнштейна, король Альберт приказал двум телохранителям оберегать его круглые сутки. Ученый некоторое время пробыл в Англии, а затем вернулся в США, чтобы работать в недавно созданном Принстонском институте перспективных исследований, штат Нью-Джерси. В Принстоне Эйнштейн проработал до конца жизни.
В 1936 году в Цюрихе умер верный друг Марсель Гроссман, через три месяца от болезни сердца скончалась Эльза. После ее смерти Эйнштейн больше не женился. Рядом с ним остались его падчерица Марго, сестра Майя и кот Тигр, а с 1938 года вместе с ними жил его старший сын Ганс-Альберт: он окончил тот же Политехникум, что и его отец, работал в Германии и затем переехал в США. С 1947 года он работал в Калифорнийском университете в Беркли, став видным специалистом в области гидротехники и гидравлики.

Макс Планк вручает Альберту Эйнштейну Медаль Немецкого физического общества, июнь 1929 г.
В 1940 году Альберт Эйнштейн, прожив в США семь лет как иностранный приглашенный работник, получил американское гражданство. В Принстоне Эйнштейн давно стал местной достопримечательностью, для всей страны он был национальной гордостью – тем более пенной, что родился во враждебной Штатам Германии. Ежедневно он получал сотни писем с вопросами, рассказами или просто выражениями признательности и на все, даже на детские, приходившие в большом количестве, старался ответить. Во многом благодаря стараниям журналистов, без устали рассказывающих о гениальном ученом, выбравшем Америку своей новой родиной, Эйнштейн превратился в настоящий символ, икону, чье значение для мировой культуры до сих пор не ослабело.
Эйнштейн был признан не только самым ярким гением в истории человечества, одним из самых уважаемых людей страны и образцом интеллектуальных вершин, которых может достичь человек, но и олицетворением образа «рассеянного профессора», позже растиражированного в кинофильмах, комиксах и литературных произведениях. Его внешний вид и привычки – простой свитер, растрепанные волосы, забывчивость, рассеянность и непрактичность, стали основой для образов десятков «безумных ученых» и «забывчивых профессоров». Журнал Time даже как-то назвал Эйнштейна «сбывшейся мечтой мультипликатора». Широкую известность приобрела фотография Альберта Эйнштейна, сделанная Артуром Сассом в 1951 году на семьдесят втором дне рождения физика: фотограф попросил Эйнштейна улыбнуться, а тот показал язык. Это изображение стало иконой современной популярной культуры, представляя портрет одновременно и гения, и жизнерадостного живого человека.

Альберт Эйнштейн получает сертификат об американском гражданстве, 1940 г.
Знавшие Эйнштейна вспоминают, что он был добрым, скромным, приветливым, нетребовательным и несколько эксцентричным человеком, с отличным чувством юмора и всегда готовым помочь. Все отмечали его покоряющее обаяние, позволявшее ему легко заводить друзей в любых кругах: он дружил с учеными и киноактерами, королевскими особами и простыми людьми, жившими с ним по соседству. Он увлекался филателией, музыкой, садоводством, любил плавать на яхте и даже написал статью о теории управления яхтами. В конце жизни Эйнштейн кратко сформулировал свою систему ценностей: «Идеалами, освещавшими мой путь и сообщавшими мне смелость и мужество, были добро, красота и истина».
Всю жизнь Альберт Эйнштейн оставался убежденным пацифистом, несмотря на то, что за свои антимилитаристские взгляды постоянно подвергался насмешкам со стороны коллег. Он всегда недвусмысленно высказывал свои взгляды: против преступной войны, против реакционных тенденций в Веймарской республике, фашизма в Италии, Болгарии и Германии, и прежде всего против преступного использования достижений естествознания и техники в целях массового уничтожения людей и гонки атомных вооружений. Но перед Второй мировой войной Эйнштейну пришлось пересмотреть свои пацифистские воззрения – он понял, что только военная сила способна остановить нацистскую Германию. В 1939 году по настоянию нескольких физиков-эмигрантов Эйнштейн обратился с письмом к президенту Франклину Делано Рузвельту. Он писал о том, что в Германии, по всей вероятности, ведутся работы по созданию атомной бомбы, и указывал на необходимость поддержки со стороны правительства США исследований по расщеплению урана. Но в последующем развитии событий, которые привели к взрыву 16 июля 1945 года первой в мире атомной бомбы в Аламогордо, Эйнштейн участия не принимал.
После Второй мировой войны, потрясенный ужасающими последствиями использования атомной бомбы против Японии и все ускоряющейся гонкой вооружений, автор теории относительности стал горячим сторонником мира. Он считал, что в современных условиях война может представлять угрозу самому существованию человечества. В 1947 году на торжественном заседании ООН в Нью-Йорке он выступил с докладом, где заявил о том, что ученые несут ответственность за судьбы мира, а через год призвал к запрещению ядерного оружия массового поражения. Незадолго до смерти он поставил свою подпись под воззванием Бертрана Рассела к правительствам всех стран, предупреждающим их об опасности применения водородной бомбы и призывающим к запрету ядерного оружия: «Не знаю каким оружием будут сражаться в третьей мировой войне, но в четвертой в ход пойдут камни и дубинки», – писал он.
До конца жизни Эйнштейн продолжал работать над единой теорией поля, которая, по его мнению, должна была объединить гравитацию, электромагнетизм и теорию микромира. Он разработал даже две версии теории, и обе были математически изящны, но не давали никаких физических следствий, а без них, по его выражению, они оставались «не более чем математической надстройкой над зданием, которое в этой надстройке совершенно не нуждалось».
В 1955 году здоровье Эйнштейна резко ухудшилось. В начале апреля состояние семидесятишестилетнего ученого стало угрожающим, и врачи предписали ему срочную госпитализацию. В больнице Эйнштейну стало немного лучше, и он попросил принести очки для чтения и писчей бумаги, чтобы работать. Но ему удалось написать лишь отрывок политического заявления, которое было посвящено его основной заботе последних лет – предотвращению атомной войны. Он спокойно принял надвигающийся конец: составил завещание, разобрал бумаги, закончил дела. Друзьям он сказал: «Свою задачу на земле я выполнил». Его падчерица Марго вспоминала о последней встрече с ученым в больнице: «Он говорил с глубоким спокойствием, о врачах даже с легким юмором, и ждал своей кончины как предстоящего «явления природы». Насколько бесстрашным он был при жизни, настолько тихим и умиротворенным он встретил смерть. Без всякой сентиментальности и без сожалений он покинул этот мир». Его не стало в 1 час 25 минут утра 18 апреля 1955 года. Причиной смерти великого физика стала аневризма аорты.

Альберт Эйнштейн на прогулке по Принстону, конец 1940-х гг.
Эйнштейн, которому культ личности казался смешным и ненавистным, запретил проводить какие-либо торжественные траурные церемонии. Он не хотел надгробных речей и не желал ни памятника, ни даже могилы, поэтому в зале крематория собрались лишь его ближайшие родственники и друзья, а прах его был, согласно собственному пожеланию ученого, развеян по ветру в месте, которое должно было остаться неизвестным.
Когда он умер, в Принстон полетели сотни и сотни телеграмм с соболезнованиями, подписанные самыми известными людьми в мире науки, искусства, культуры. Весь мир скорбел о великом ученом и о прекрасном человеке. А Пабло Казальс, знаменитый испанский виолончелист-виртуоз, писал: «После смерти Эйнштейна кажется, будто мироздание утратило в весе и потеряло часть своей субстанции».
В честь Альберта Эйнштейна названы единица энергии и химический элемент, астероид и лунный кратер, обсерватории и учебные заведения, физические явления и несколько престижнейших научных наград. Возможно, он не был самым гениальным ученым своего времени. Но без него мир стал совсем другим…
Сергей Королев

Мечта о космосе
Таких падений и взлетов, какие были в его биографии, раньше даже не могли себе представить: он прошел путь от умирающего заключенного концлагеря до покорителя космоса. Никто не знал и его имени: создатель советских космических кораблей был так глубоко засекречен, что его имя впервые появилось в прессе лишь в сообщении о его смерти. Вся его жизнь была пронизана мечтой о небе – и хотя во многом благодаря ему человечество взлетело к звездам, он больше всего жалел, что не смог полететь в космос сам.
Сергей Королев появился на свет 30 декабря 1906 года (12 января 1907 года по новому стилю) в глубоко провинциальном украинском Житомире в семье учителей гимназии Павла Яковлевича Королева и его жены Марии Николаевны, урожденной Москаленко. Семья распалась, когда мальчику было около трех лет, и по решению матери его отправили на воспитание к ее родителям и родным, жившим большой и дружной семьей в Нежине. Там Сережа рос в любви и заботе до десяти лет, когда его отправили в Киев, чтобы он поступил на подготовительные курсы гимназии. Через два года Сережа вместе с матерью и ее новым мужем Георгием Михайловичем Баланиным, тоже учителем, переехал в Одессу, где наконец поступил в первый класс гимназии. В то смутное и непростое время все прежние устои рушились, не оставляя почти ничего взамен: гимназию вскоре закрыли, открывшаяся вместо нее единая трудовая школа просуществовала всего четыре месяца, и Сереже пришлось учиться дома – благо и мать, и отчим были педагогами, а Баланин к тому же еще имел инженерное образование: его обширные познания оказались весьма полезными для талантливого мальчика.

Сережа Королев, ок. 1910 г.
В то время воплощением прогресса была недавно зародившаяся авиация: летчики считались полубогами, а те, кто строил для них самолеты, – властителями мира. Преклонение перед покорителями небес граничило с повсеместной истерией, и ничего удивительного не было в том, что Сергей разделил это повальное увлечение, сохранив зародившуюся в детстве любовь к небу на всю жизнь. Он страстно мечтал взлететь – и так же страстно мечтал, что когда-нибудь сможет сам строить летательные аппараты. Он познакомился с первыми одесскими летчиками, вступил в Общество авиаторов Украины и Крыма (ОАВУК), и как член общества выступал с лекциями в рамках кампании по ликвидации авиабезграмотности. В 1922 году Сергей поступил в Одесскую строительную профессиональную школу № 1 – несмотря на название, работали там преподаватели из высших учебных заведений, так что уровень обучения был действительно высоким, а круг преподаваемых дисциплин вовсе не ограничивался чисто строительными специальностями: здесь стремление Сергея к получению необходимых для постройки летательных аппаратов знаний могло быть удовлетворено в полной мере. Его рано проявившиеся способности, как и непреодолимая тяга к небу, привели к первым успехам: Королеву было всего семнадцать, когда его планер К-5 был рекомендован к постройке авторитетной комиссией. Не менее удачными были и следующие модели: на «Коктебеле» был установлен рекорд дальности полета, а на «СК-3 Красная Звезда», названном в честь известной газеты, в октябре 1930 года впервые были выполнены три мертвых петли – причем планер не понадобилось, как это обычно делалось, поднимать в воздух самолетом.

Сергей Королев в кабине планера «Коктебель».
Королев собирался лететь сам, но тяжело заболел тифом, и на испытаниях фигуры высшего пилотажа выполнял другой. Рассказывали, что первые модели планеров на полигон Королев возил в трамвае – а в 1935 году он сам привел планер в Коктебель, одиннадцать часов управляя невесомой машиной, прицепленной к самолету.

Королев – студент Киевской Политехники.
У Королева не было ни малейших сомнений в том, чем он будет заниматься в дальнейшем – безусловно, вся его жизнь будет связана с небом, с авиацией. В 1924 году он поступил в Киевский политехнический институт, где решил специализироваться по авиатехнике. Освоив за два года основные инженерные дисциплины, Королев осенью 1926 года перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана. В Москве Королев успевал не только учиться: он участвовал в организации первой в стране планерной школы, которую вскоре и окончил, оставшись там инструктором, окончил летную школу, строил и испытывал планеры, а начиная с четвертого курса параллельно с учебой работал в конструкторских бюро и на авиазаводах. Однажды Королева, который изображал на доске принцип работы нового планера, увидел прославленный в будущем авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Оригинальные решения студента так его впечатлили, что он немедленно взял его под свое крыло и даже стал у Королева руководителем диплома – проекта легкого самолета СК-4, названного по первым буквам имени и фамилии молодого конструктора.
В то время Королева больше всего занимал вопрос дальности полета: пытаясь найти новые принципы построения сверхдальних планеров, в 1929 году он с друзьями навестил в Калуге жившего там Константина Эдуардовича Циолковского. Прославленный ученый, одержимый идеей космических полетов, сумел за одну встречу обратить в свою веру и Королева. На прощание Циолковский подарил Сергею свою книгу «Космические ракетные поезда», в которой впервые высказал идею многоступенчатых ракет – много лет спустя именно по этому принципу (хотя способ будет сильно отличаться от предложенного Циолковским) будут строиться все космические ракеты.
Легко и сильно увлекающийся, отдающийся своей мечте целиком и без остатка, Королев загорелся идеей космических полетов так же страстно, как ранее – авиацией. Однако в то время его мечты казались обреченными остаться лишь мечтами; время показало, что даже самые сумасшедшие мечты могут сбыться…

Константин Эдуардович Циолковский.
По совету Циолковского Королев пришел в ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт, где весной 1931 года начал работать старшим инженером по летным испытаниям: в частности, Королев с товарищами отрабатывали первый советский автопилот. Но самым важным событием того времени стало знакомство Королева с Фридрихом Артуровичем Цандером: ученик Циолковского, один из организаторов Общества изучения межпланетных сообщений, он был среди первых ученых, всерьез задумавшихся о покорении космоса. Цандер уже выдвинул идею крылатой ракеты и рассчитал траекторию полета на Марс (этот полет был мечтой всей его жизни – даже своим девизом Цандер выбрал фразу «Вперед, на Марс!»), а в начале тридцатых разрабатывал ракетный двигатель – к его испытаниям активно подключился Королев.
Осенью 1931 года при Осоавиахиме в Москве и Ленинграде были организованы Группы по изучению реактивных двигателей и реактивного летания (ГИРД), объединившие на общественных началах энтузиастов ракетного дела: в шутку сами гирдовцы расшифровывали аббревиатуру как «Группа инженеров, работающих даром». Поначалу Королев возглавлял бригаду, занимавшуюся конструированием летательных аппаратов, а уже в мае 1932 года стал во главе группы. При нем ГИРД работал удивительно активно: были созданы жидкостной ракетный двигатель ОР-2 и работающий с ним ракетный планер РП-1, а так же ракета на жидком топливе ГИРД-Х, послужившая прототипом для многих советских ракет позднего времени. А благодаря агитационной работе членов группы отделения ГИРД появились во многих городах страны. Королев был, что называется, харизматичным лидером: его увлеченность, целеустремленность и вера в то, что он сможет добиться всего, заражали всех вокруг. Такой работоспособности, какой обладал Королев, можно было только завидовать: он был готов работать по 20 часов в сутки и всегда жалел, что приходится тратить бесценное время на сон. Он умел быть жестким и строгим, требовал неукоснительной дисциплины, лично влезал во все мелочи и детали всех разрабатываемых его группой проектов: если многие руководители требовали лишь выполнения плана и соблюдения инструкций, Королев всегда прекрасно разбирался во всем, что происходило с его подчиненными – от творческих замыслов до личных проблем.

Сергей Королев с женой Ксенией Винцентини, Севастополь, 1932 г.
Но не следует думать, что Королев был увлечен только работой: в его душе нашлось место и для другой, не менее постоянной страсти – любви. Еще в 1924 году в Одессе он влюбился в юную красавицу Ксению Винцентини, которая училась в той же Строительной школе. У Ляли, как звали ее друзья, отбоя не было от поклонников, но Королев смог доказать ей, что он – самый лучший. Впрочем, дальше поцелуев дело не шло: Ксения и Сергей учились в разных городах, и Ксения категорически отказывалась выходить замуж до того, как получит профессию. После окончания харьковского мединститута ее распределили в Донецк – и снова она отказалась от свадьбы, объясняя влюбленному Сергею, что нет смысла жениться, пока они вынуждены жить в разных городах: получив распределение, молодые специалисты по закону несколько лет не имели права менять место работы. Путем неимоверных усилий Королеву удалось устроить ее перевод в Москву, и в августе 1931 года они наконец поженились. Их дочь Наталья родилась 10 апреля 1935 года: имя для долгожданной дочки Королев выбрал сам – в честь своей любимой героини Толстого Наташи Ростовой.
В 1933 году ГИРД была объединена с ленинградской Газодинамической лабораторией и на их основе создан Реактивный институт – РНИИ, заместителем директора которого был назначен Королев. Он надеялся, что на базе института ему удастся всерьез заняться ракетостроением, однако курировавший РНИИ Наркомат тяжелой промышленности был больше заинтересован в ракетных снарядах, которыми раньше занималась ГДЛ, – скоро на их базе были созданы прославленные «катюши». Королев был смещен со своего поста: некоторое время он продолжал работать в РНИИ простым инженером, а позже возглавил отдел по разработке ракетных летательных аппаратов.
Многие биографы склонны считать, что это понижение в должности спасло Королеву жизнь: после ареста Тухачевского, который был инициатором создания РНИИ, вся верхушка института была арестована. Был расстрелян директор института Иван Клейменов, его заместитель (сменивший на этом посту Королева) Георгий Лангемак, арестованы многие другие. Самому Королеву поначалу отказали в продлении допуска к секретным работам – это был плохой знак. А в мае 1938 года на испытаниях первого советского ракетоплана РП-218-1 произошла авария, и Королев с травмой головы попал в больницу. Едва он выписался, пришли и за ним…
Его арестовали 27 июня 1938 года. Еще днем у подъезда дежурили подозрительные «люди в штатском», и Королев знал, что это пришли за ним. Наталья Сергеевна Королева рассказывала в одном из интервью: «Остаток того вечера мои родители просидели рядом. Не зажигая свет, слушали патефон – только что купленную пластинку русских народных песен. В полдвенадцатого ночи в двери громко постучали: «Открывайте! НКВД». Вошли те двое и управдом в качестве понятого. Предъявили ордер, вверх дном перевернули всю квартиру, опечатали одну из двух комнат и под утро ушли, забрав документы, чертежи, деньги, письма, фотографии. И увели отца. «Ты же знаешь, что я не виноват», – вот и все, что он сказал своей жене».
Как оказалось, сломавшийся под пытками Лангемак признался, что в РНИИ существовала троцкистская организация, членами которой были, кроме него, Клейменов, Королев, Валентин Глушко и другие. Все они шли под суд «по первой категории» – что означало, что в качестве меры наказания им рекомендуется расстрел. Однако каким-то чудом ни Королева, ни Глушко – видного инженера, ранее работавшего в Газодинамической лаборатории, – не расстреляли, но пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. По печально знаменитой 58-й статье (контрреволюционная деятельность) Сергея Королева приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей, пяти годам поражения в правах и конфискации имущества.
Еще до суда на допросах ему сломали челюсть, позже к перелому добавилось и сотрясение мозга. Летом 1939 года Королев – отныне «заключенный № 1442» прибыл во Владивосток, откуда на пароходе был отправлен в бухту Нагаева и оттуда – на золотой прииск Мальдяк, в семистах километрах от Магадана. На этом прииске – от тяжелой работы, невыносимых погодных условий, ужасной кормежки и притеснений охранников – ежемесячно умирали две-три сотни человек, мало кто выживал больше года… Всего за несколько месяцев Королев превратился в лагерного доходягу: из-за опухших ног он не мог ходить, сломанная челюсть мешала есть, от цинги вываливались зубы… Спасло его чудо.
Как пишет в своей книге Наталья Королева, в то время на прииск попал Михаил Усачев – бывший директор Московского авиазавода, арестованный после того, как на самолете, выпущенном его заводом, разбился Валерий Чкалов. Бывший тренер по боксу, Усачев быстро приструнил распоясавшихся уголовников, а потом кто-то показал ему Королева, который был уже на грани смерти. По настоянию Усачева его перевели в санчасть, где местные врачи – лишенные даже права лечить – отпаивали зэков соком из картошки, которую тайком приносили из дома.
Много лет спустя Королев, который никогда ничего не забывал, разыскал Усачева и взял его на работу.
Тот за много лет унижений опустился, стал выпивать, но Королев заявил заместителю: «Что бы ни делал этот человек, ты его не тронь».
Пока Королев добирался до Магадана, оставшиеся в Москве родные как могли хлопотали за арестованного. На семейном совете было решено, что, поскольку жена с малолетней дочерью были следующими кандидатами на арест, по инстанциям будет ходить мать Королева, Мария Николаевна Баланина. Она обивала все возможные пороги, и даже обратилась к знаменитым летчикам Михаилу Громову и Валентине Гризодубовой – те, не побоявшись разделить участь Королева, написали на имя Лаврентия Берии запрос о судьбе авиаконструктора. Наконец его вызвали для пересмотра дела в Москву.
Обратную дорогу Королев едва смог преодолеть. По дороге до Магадана он едва не умер от голода – спасла оставленная кем-то на дороге буханка хлеба. В Магадане Королев должен был сесть на пароход «Индигирка», однако к его великому огорчению, на борт его не пустили: мест на корабле уже не было. Как оказалось, к счастью – через несколько дней пароход во время шторма потерпел крушение в проливе Лаперуза. Подошедшие на помощь японские суда смогли спасти лишь команду и пассажиров с палубы, а более семисот заключенных навсегда остались в трюмах… В Хабаровске начальник пересыльной тюрьмы в нарушение всех инструкций отправил обессиленного заключенного без конвоя к местному врачу – если бы не все эти поистине счастливые случайности, Сергей Королев так никогда бы не вернулся в Москву.
Повторное следствие шло несколько месяцев. Накануне судебного заседания Королев написал письмо Сталину – но не для того, чтобы просить об освобождении, а чтобы рассказать о необходимости реактивного самолетостроения, за которым, по мнению авиаконструктора, было будущее. «Я могу доказать свою невиновность и хочу продолжать работу над ракетными самолетами для обороны СССР». Однако желанного оправдания не последовало: суд лишь сократил срок с десяти лет лагерей до восьми, вернул осужденному политические права и присудил денежную компенсацию за часть конфискованного имущества. Однако вместо указанного в новом приговоре Севжелдорлага Королева отправили – по запросу Туполева – в спецтюрьму НКВД ЦКБ-24, в так называемую «шарашку»: полноценное авиаконструкторское бюро, все работники которого были заключенными. Это изобретение сталинской эпохи было одновременно и спасительным (условия жизни здесь были не в пример лучше лагерных), и губительным для творческих людей: о каком полете мысли можно говорить, если люди фактически находились на положении рабов, а все изобретения делались строго по спущенному сверху плану, в тюремных условиях и под охраной?
В «туполевской шарашке» Королев работал над самолетами-бомбардировщиками Ту-2 и Пе-2, проектами управляемой радиоторпеды и ракетным перехватчиком. Леонид Кербер в своих воспоминаниях «Туполевская шарага» описывал Королева: «Небольшого роста, грузный, с косо посаженной головой, умными карими глазами, скептик, циник и пессимист, абсолютно мрачно смотревший на будущее. «Хлопнут без некролога», – была любимая его фраза».

Андрей Николаевич Туполев – учитель и друг Королева, 1944 г.
Но даже в тюрьме Королев продолжал мечтать о ракетах – и когда узнал, что в Казани, в другой «шарашке» его бывший коллега Валентин Глушко разрабатывает ракетные двигатели, попросил перевода туда. По словам дочери Королева Натальи Сергеевны, этим он продлил себе срок заключения – туполевцев за создание Ту-2 освободили почти на год раньше – но любимое дело Королеву было дороже даже свободы…
Сергея Королева освободили по амнистии, за заслуги, только в июле 1944 года – со снятием судимости, но без реабилитации. Ее он добьется только в 1957 году, когда до запуска первого спутника оставались считанные месяцы.
Никогда Сергей Королев не вспоминал о времени, проведенном на Колыме: лишь однажды, едва вернувшись, рассказал все семье – «чтобы больше не вспоминать». Но и забыть он так и не смог: всю жизнь ненавидел золото, всегда был готов к худшему, да и его здоровье после перенесенных тягот было серьезно подорвано. Старался не тратить время зря: каждая минута должна была быть потрачена с пользой, пусть даже в ущерб отдыху или сну. И в то же время Королев отучился бояться: словно уверовав, что ничего хуже с ним уже не может случиться, он мог в лицо сказать самым первым людям страны все, с чем он был не согласен. И точно так же мог броситься на защиту тех, кто, по его мнению, нуждался в помощи, невзирая на обстоятельства и звания. Всегда брал на себя ответственность за любые просчеты подчиненных, не стеснялся признавать собственные ошибки и никогда не переставал мечтать.
В 1945 году Королев за его работу по созданию ракетных двигателей для военных самолетов получил свою первую награду – орден «За заслуги». К этому времени Королев был одержим новой идеей – он предложил создавать баллистические ракеты на жидком топливе, однако оказалось, что в Германии подобные ракеты – Фау-2 – уже были созданы. Королева вместе с сотрудниками отправили в Германию, изучать завод Нордхаузен (а точнее, то, что от него осталось), который производил Фау-2. Вскоре на базе этих ракет Королев создал несколько собственных проектов. Его семья смогла приехать к нему лишь в марте 1946 года – однако после долгих лет, проведенных врозь, совместную жизнь построить оказалось невероятно сложно. Ксения Максимилиановна, которая в Москве была успешным врачом-хирургом, изнывала от безделья и тоски – Королев, постоянно занятый на работе, дома появлялся лишь изредка. В дневнике она писала: «Да, поистине, не умею я быть домашней хозяйкой, ничего не представляющей собой, как «Я», человеком и просто женой». Через несколько месяцев она с дочерью вернулась в Советский Союз…
В мае 1946 года правительство СССР приняло постановление о развитии ракетостроения в стране, согласно которому в подмосковном Калининграде (ныне город носит имя Королева) был учрежден Государственный союзный НИИ реактивного вооружения (НИИ-88), а Сергей Королев был назначен начальником одного из отделов и главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. Под его руководством был не только налажен выпуск ракет Р-1 (аналогов Фау-2) из отечественных материалов (задание, которое Королеву дал лично Сталин), но и создано несколько более совершенных вариантов.
Королев был так занят работой, что почти не уделял внимания семье, предпочитая случайные связи. У Ксении Максимилиановны была собственная карьера, которую она не собиралась ломать ради переездов вслед за мужем, и к тому же его постоянные измены ей порядком надоели. Весной 1948 года она написала матери Королева: «Всю историю нашей любви вы знаете хорошо. Много горя еще до 38-го года пришлось мне пережить, и, несмотря на оставшееся чувство привязанности и какой-то любви к С, я твердо решила… оставить его для продолжения им жизни под его любимым лозунгом «Дайте каждому жить, как ему хочется».
К этому моменту Королев уже несколько месяцев жил с другой: молодой переводчицей Ниной Ивановной Котенковой, которая работала в том же НИИ-88. После долгих колебаний Королев летом 1949 года все же попросил у жены развода, чтобы жениться на Нине Ивановне: хотя, по слухам, Королев не перестал интересоваться женщинами и дальше, Нина Ивановна всегда была ему самым близким человеком, единственной, которой он мог доверить свои переживания, тайные мысли и сомнения.

Сергей Королев с женой Ниной Котенковой, начало 1960-х гг.
Сразу после войны, всего за несколько лет Королевым и его сотрудниками было создано несколько видов управляемых баллистических ракет, из которых наиболее перспективными оказались Р-1, Р-5, обладавшая проектной дальностью около 1200 километров, Р-7 – первая межконтинентальная ракета, имевшая две ступени, с проектной дальностью 5–7 тысяч километров, и Р-11, которую из-за малого размера можно было размещать даже на подводных лодках. Каждый из проектов имел несколько различных модификаций, например Р-5М могла нести ядерный заряд, а Р-7А преодолевала расстояние в 11 тысяч километров. С помощью именно этой ракеты – еще до проведения летных испытаний – Королев с сотрудниками в мае 1954 года предложили вывести на орбиту Земли первый искусственный спутник. Поначалу власти никак не отреагировали на это предложение, всего смысла которого они просто не в состоянии были понять. Тогда Королев начал разработку спутников практически на свой страх и риск, параллельно с работой над Р-7.
Всего за три года были построены и отлажены ракетные комплексы, выстроен в районе казахстанской станции Тюра-Там полигон (позже получивший название Байконур), созданы необходимые для запуска и слежения службы. Когда собрали первую ракету, сборочный цех посетила делегация из крупных чиновников и деятелей науки. Одним из посетителей был Андрей Дмитриевич Сахаров, вошедший в историю как один из создателей советской атомной бомбы. Он позже вспоминал: «Мы [ядерщики] считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто, на порядок большее. Поразила огромная, видимая невооруженным глазом, техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело…» Никита Хрущев, видевший в баллистических ракетах залог превосходства страны на мировой арене, был так доволен увиденным, что согласился на спутник: при условии, что он не помешает разработке ракет.
Первоначально планировалось запустить в космос спутник массой около тонны с полутора центнерами научной аппаратуры на борту, однако к концу 1956 года стало ясно, что всю необходимую технику просто не успеют создать. Между тем сроки поджимали: стало известно, что США, главный политический противник СССР, собирается запустить свой спутник в начале 1958 года – в связи с Международным геофизическим годом, в рамках которого свои усилия по изучению Земли объединили 67 стран. Хотя на самом деле США почти заморозили проект, не желая тратить миллионы долларов «на воздух», советское правительство решило форсировать покорение космоса. С подачи Королева было принято решение запустить простейший спутник, несущий лишь два радиопередатчика.
Первый искусственный спутник Земли представлял из себя алюминиевую сферу диаметром 58 сантиметров с четырьмя штырями-антеннами, общим весом 83 с половиной килограмма. Внутри сферы помещались блок электрохимических источников, радиопередающее устройство, вентилятор, система терморегулирования, коммутирующее устройство бортовой электроавтоматики, датчики и бортовая кабельная сеть. Диапазон сигнала радиопередатчика был выбран с таким расчетом, чтобы его могли ловить радиолюбители – сделано это было в рамках борьбы с предполагаемой вражеской пропагандой, которая, как считали, не замедлит обвинить Советский Союз во лжи. Но радиолюбители по всему свету, поймав передаваемый спутником сигнал, легко убедятся в том, что первый искусственный спутник действительно находится на орбите.
После нескольких неудачных испытаний – несколько раз из-за неправильных установок клапанов отказывала автоматика, затем случилось замыкание, в результате чего ракета отклонилась от курса, потом долго не могли справиться с температурной нагрузкой на головную часть – ракета Р-7 была наконец признана готовой к запуску. 22 сентября 1958 года ракета прибыла на полигон Тюра-Там, и 2 октября все системы были приведены в состояние готовности, о чем Королев уведомил правительство – однако, вопреки ожиданиям, никакого ответа не последовало. На свой страх и риск Королев принял решение о запуске.
Первый искусственный спутник Земли был запущен 4 октября в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени (19 часов 28 минут 34 секунды по Гринвичу). После того, как через 314 с половиной секунд в эфире впервые прозвучали его ставшие знаменитыми позывные «Бип! Бип!», космодром огласили радостные крики: все причастные к запуску отметили начало Космической эры.
Спутник еще не закончил свой первый виток, когда ТАСС сообщило всему миру о том, что Советский Союз покорил космос:
…В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли… В России еще в конце XIX века трудами выдающегося ученого К.Э. Циолковского была впервые научно обоснована возможность осуществления космических полетов при помощи ракет. Успешным запуском первого созданного человеком спутника Земли вносится крупнейший вклад в сокровищницу мировой науки и культуры. Научный эксперимент, осуществляемый на такой большой высоте, имеет громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы.
В течение Международного геофизического года Советский Союз предполагает осуществить пуски еще нескольких искусственных спутников Земли. Эти последующие спутники будут иметь увеличенные габариты и вес, и на них будет проведена широкая программа научных исследований.
Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового, социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества.
Позже выяснилось, что запуск едва не сорвался: двигатели спутника оказались рассинхронизированы, из-за чего один из двигателей отключился на секунду раньше рассчитанного времени. Однако все обошлось – и первый спутник отправился в свой великий полет. Рэй Бредбери позже вспоминал:
В ту ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я (…) глядел вверх и думал о предопределенности будущего. Ведь тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества. (…) Тот огонек в небе сделал человечество бессмертным. Земля все равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды ее может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонек в небе надо мной был первым бликом бессмертия.
Кстати, несмотря на распространенное мнение, спутник нельзя было увидеть с Земли невооруженным глазом. «Общепринятое в то время представление, что без специальной оптики, визуально, мы наблюдаем ночью подсвечиваемый солнцем спутник, неверно – писал в своей книге «Ракеты и люди» Борис Черток, один из ближайших соратников Королева. – Отражающая поверхность спутника была слишком мала для визуального наблюдения.

Первый искусственный спутник Земли.
На самом деле наблюдалась вторая ступень – центральный блок ракеты, который вышел на ту же орбиту, что и спутник. Эта ошибка многократно повторялась в средствах массовой информации». Впрочем, для ликующего человечества было неважно, что именно они видят на ночном небе: сам факт, что отныне в космической черноте есть что-то, созданное человеческими руками, вводил людей по всему миру в состояние эйфории. «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества», – писал Сергей Королев.
Сигналы, испускаемые спутником, позволили изучить верхние слои ионосферы, однако гораздо важнее было его значение не для науки, а для политики: активно распространяемые западной прессой слухи о том, что в СССР после войны техническое развитие находится на ужасающе низком уровне, были опровергнуты раз и навсегда. США, которые с большой шумихой готовились к запуску собственного спутника (в то время как в СССР все работы были засекречены), оказались «позади прогресса». Недаром The New York Times писала: «90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию…» Первый американский спутник Explorer-I был запущен лишь 1 февраля 1958 года.
К этому времени в космосе уже летал запущенный 3 ноября 1957 года Спутник-2, на борту которого находился первый космический пассажир – собака Лайка (правда, из-за перегрева она погибла через несколько часов полета). Создан Спутник-2 был всего за четыре недели – власти требовали успеть к сороковой годовщине Октябрьской революции. А 15 мая 1958 года был запущен Спутник-3 – управлявшаяся командами с Земли полноценная лаборатория, имевшая на борту 12 различных приборов и солнечные батареи.
Первоначально планировалось запустить еще три спутника, но политика снова внесла свои коррективы: США, стремившиеся вернуть себе статус самой технически развитой державы, начали развивать лунную программу: американские корабли серии «Пионер» были призваны изучить Луну и – главное – сфотографировать ее темную сторону, которую доселе не видел никто из людей. Однако первые запуски «Пионеров» были неудачными: по разным причинам три первых корабля так и не смогли покинуть Землю, а четвертый из-за недобора скорости сгорел в верхних слоях атмосферы. Пока американцы один за другим запускали «Пионеров», Королев с сотрудниками не менее упорно запускали аппараты типа «Луна». После трех аварий 2 января 1959 года станция «Луна-1» наконец успешно стартовала. И хотя программу выполнить так и не удалось – из-за ошибок в расчетах станция прошла слишком далеко от Луны – запуск был признан успешным. Станция стала первым искусственным спутником Солнца, а СССР снова обогнали Америку – первый успешный «Пионер» стартовал лишь два месяца спустя, а от лунной поверхности оказался еще дальше.
Как вспоминали сотрудники Королева, вскоре после запуска первого спутника знаменитый французский винодел Анри Мэр поспорил с советским консулом, что даже так люди никогда не увидят обратную сторону Луны, и поставил на кон тысячу бутылок шампанского из своих подвалов. Когда 31 октября 1959 года станция «Луна-3» передала на Землю снимки обратной стороны, Анри Мэр честно прислал всю тысячу бутылок в консульство. Говорят, чиновники долго думали, куда отправить вино, пока не решили поступить по справедливости – все бутылки отправились к конструкторам. Новый 1960 год все, имевшие отношение к космической программе, встречали настоящим французским шампанским…
Следующим грандиозным проектом Королева был запуск человека в космос, благо уже была возможность создавать надежные и безопасные космические корабли. Корабль «Восток» с одним пассажиром на борту должен был в полностью автоматическом режиме облететь Землю и суметь вернуться. Первый прототип совершил 64 витка вокруг планеты – однако вернуться так и не смог. Потом еще четыре раза запускали корабль, пассажирами которых были собаки: прославленные Белка и Стрелка, а также две крысы и двенадцать мышей, летевшие в августе 1960 года на Спутнике-5, стали первыми живыми существами, побывавшими в космосе и сумевшими вернуться на Землю. Беспородные Белка и Стрелка, отобранные за свои малые размеры и обаятельные мордашки, моментально стали самыми знаменитыми собаками в мире. Одного из щенков, которых Стрелка родила через несколько месяцев после полета, Никита Хрущев отправил в подарок Каролине Кеннеди, дочери тогдашнего президента США.
К этому времени уже был набран и начал тренировки первый отряд космонавтов, куда вошли двадцать молодых летчиков – в возрасте до 30 лет и ростом до 170 сантиметров (иначе бы они не поместились в космический корабль, чьи размеры были весьма ограничены), обладавшие прекрасным здоровьем, в основном славянской внешности, пролетарского происхождения и обязательно члены партии: ведь будущий космонавт должен быть лицом страны! Из двадцати позже были отобраны шестеро, а из них трое назначены в полет: Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и резервный космонавт Григорий Нелюбов.
На запуск работали десятки организаций, сотни специалистов, тысячи производственников, и за каждой деталью, каждой мелочью Королев следил лично: он даже сидел в кресле будущего космонавта и примерял скафандр, заботясь о том, чтобы летчик чувствовал себя комфортно. Он же вдохновлял, исправлял, требовал, выбивал средства, контролировал, согласовывал, успокаивал, уговаривал… Организаторская работа, которую выполнил Королев, была колоссальной – вряд ли кто-нибудь другой в одиночку справился с таким объемом задач, не говоря уже о грузе ответственности.

Сергей Королев (в центре) с космонавтами первого отряда.
Первый полет планировался коротким: никто не мог предсказать, как повлияет космос на человеческую психику. Многие были уверены, что человек просто сойдет с ума от перегрузок или невесомости: на этот случай корабль «Восток-1», имевший ручное управление (хотя все действия должны были выполняться автоматически по командам с Земли), был заблокирован от посягательств космонавта. А код разблокировки находился в особом конверте, достать и распечатать который мог по идее только человек в здравом уме. По легенде Королев, не желавший подвергать Гагарина лишнему риску, перед старом прошептал ему код на ухо… К счастью, все обошлось: и человеческий разум устоял перед невесомостью, и корабль не понадобилось переключать на ручное управление.
Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин за 108 минут облетел Землю и благополучно приземлился в Саратовской области.
Вернувшийся на родную планету космонавт стал героем для всего человечества. Когда Гагарин прибыл в Москву, его встречали с неописуемым восторгом и радостью – практически как бога, покорившего небо. Его приветствовали все главные лица страны – вот только Сергея Королева на Красной площади не было. Как вспоминала Наталья Сергеевна Королева, главный конструктор вместе с женой был среди тех, кто встречал Гагарина на Внуковском аэродроме, но в колонне официальных лиц машина Королева ехала одной из последних, и к площади они просто не смогли пробиться. Митинг пришлось смотреть по телевизору.
Королев и все его сотрудники всегда были «неизвестными героями». Их не то что не знали в лицо – даже имена их были государственной тайной, надежно скрывавшей покорителей космоса от возможных происков иностранных разведок. Рассказывают, что еще после запуска первого искусственного спутника Нобелевский комитет запросил у Советского Союза данные главного конструктора – на что Хрущев будто бы ответил, что создал спутник весь советский народ. Та же история повторилась и после полета Гагарина – Королев снова остался неизвестным. Доходило до анекдота: однажды на праздновании Дня космонавтики его не пустили к первым рядам, где он должен был сидеть: охранники заявили, что там места для тех, кто имеет непосредственное отношение к празднуемому событию…
Вспоминают, что Королев относился к Юрию Гагарину с отеческой нежностью; столь же трепетно он относился ко всем космонавтам. Всего при жизни Королева было совершено восемь полетов – он отправлял в космос Германа Титова на «Востоке-2», Андрияна Николаева и Павла Поповича, совершивших совместный полет на кораблях «Восток-3» и «Восток-4», Валерия Быковского и Валентину Терешкову – первую женщину в космосе. На более совершенных кораблях «Восход» космонавты уже летали группами и без скафандров – а с борта «Восхода-2» Евгений Леонов впервые шагнул в открытый космос. Королев гордился космонавтами, словно собственными детьми, но больше всего он мечтал полететь в космос сам. По словам дочери, когда Гагарин прилетел после приземления в Москву, Королев произнес: «Это я должен был лететь. Но годы уже не те, да и не пустили бы меня». Мечта о космическом полете не отпускала его никогда…
Всего за восемь первых космических лет при непосредственном участии Королева были запущены два простейших спутника, первая космическая станция, две системы «Электрон» – каждая состояла из двух спутников-станций, связные спутники и фоторазведчики, 15 исследовательских станций, изучавших Луну, Венеру и Марс, шесть кораблей «Восток» и два корабля «Восход». При его участии были разработаны многоцелевой корабль «Союз» и лунный экспедиционный комплекс, им были задуманы орбитальная станция и межпланетный корабль. Перечень просто фантастический даже для целого проектного института, но воплощенный в жизнь одним человеком…
Несмотря на официальное признание и обилие наград – две Звезды Героя Социалистического Труда, три ордена Ленина, Ленинская премия, множество почетных званий (впрочем, так и оставшиеся тайной для большинства современников – даже указы о награждении космических конструкторов были засекречены, как и они сами) – Королев до последних дней оставался очень простым и непритязательным в быту человеком, единственной настоящей страстью которого была работа, а главной радостью – успешное исполнение задуманного. Вспоминали, что он почти никогда не пил, жил очень скромно, никогда ни на что не жаловался. Говорят, он был довольно суеверным: не любил, когда ответственные запуски назначали на понедельник, не терпел на космодроме женщин, а в кармане всегда носил две копеечные монетки – на счастье.

Юрий Гагарин.
У него было отличное чувство юмора, хотя и с несколько мрачным оттенком – последствия лагерного прошлого. Даже в последние годы Королев, обласканный властью, не переставал подшучивать над тем, как похожа его жизнь главного конструктора на существование лагерного зэка: ведь даже охрану на его даче несли точно такие же «люди в сером», что стояли когда-то в коридорах «туполевской шарашки».
Но главным наследством лагерной жизни было расшатанное здоровье, и образ жизни Королева не добавлял ему крепости. Когда в 1960 году он перенес свой первый инфаркт, во время лечения было обнаружено расстройство почек: врачи заявили ему, что, если он не будет отдыхать, дни его будут сочтены. Однако Королев поступил ровно наоборот: он вполне справедливо рассудил, что если он не будет работать, СССР потеряет приоритет в освоении космоса, и тогда все его программы просто закроют. И он стал работать еще больше, старясь успеть совершить все, что задумал.
Болезни накапливались, словно за каждый успех он буквально расплачивался своим здоровьем: к проблемам с сердцами и почками добавились заболевания желчного пузыря, расстройство сосудов, опухоли, от рева двигателей развилась глухота. Наконец было принято решение положить его в госпиталь для операции.
…Пятого января 1966 года он, отправляясь из дома в больничную палату, так и не смог найти своих счастливых монеток. Видимо, это был знак: во время операции, которую проводил сам министр здравоохранения СССР профессор Петровский, у Королева открылось кровотечение, которое не удалось остановить. Четырнадцатого января Сергей Королев скончался от остановки сердца, так и не придя в сознание после операции…
Через два дня его некролог был опубликован в газете «Правда»: так весь мир впервые познакомился с тем, кому обязан был открытием космической эры. Для прощания тело было выставлено в Колонном зале Дома Союзов: туда шел нескончаемый поток людей, желавших отдать должное великому человеку хотя бы после его смерти… Прах Сергея Королева был захоронен в Кремлевской стене – его могила на несколько метров ближе к небу.
Политика
Уинстон Черчилль

Человек, который был Британией
Этот человек полвека воплощал собою Британию – ее власть, ее слабости, ее политику и ее эксцентричность. И пусть он возглавлял страну недолго, но это было самое тяжелое и, пожалуй, самое важное время в новейшей истории Великобритании. Уинстон Черчилль пережил шесть монархов и две мировые войны, при нем мир изменился до неузнаваемости, но он всегда был верен себе, своей стране и своим принципам.
Самый известный – после королевы – британец был потомком древнего рода, свято блюдущего свои традиции, и в то же время выходцем из семьи, которую никак нельзя назвать традиционной. Его предками по отцу были герцоги Мальборо – один из самых прославленных британских родов. Первым герцогом был живший в конце XVII – начале XVIII века маршал Джон Черчилль, которого считают самым выдающимся полководцем в истории страны: он отличился во время войны за «испанское наследство». Именно о нем французские солдаты сочинили песенку «Мальбрук в поход собрался». Отец будущего премьер-министра Рэндольф Черчилль был вторым (точнее третьим, но его старший брат скончался еще ребенком) сыном седьмого герцога Мальборо и его жены, дочери маркиза Лондондерри. Рэндольф обучался в Итоне, куда по традиции отправлялись все мальчики из рода Черчиллей, затем поступил в Оксфорд, где выделялся среди сверстников любовью к спорту и пристрастием к чтению, и по окончании получил степень по юриспруденции. В августе 1873 года во время королевской регаты в Каусе он познакомился с Дженни Джером, влюбился в нее и уже через три дня объявил о помолвке.
Дженни была потрясающе красива – современники говорили, что она была «больше похожа на пантеру, чем на женщину», очень умна и весьма честолюбива, но она никак не подходила в жены сыну герцога. Она была дочерью американского миллионера Леонарда Джерома, финансиста, спортсмена и известного волокиты. Ему принадлежали солидный пакет акций The New York Times, пароходная компания и половина Мэдисон-авеню. Когда Дженни было тринадцать, ее мать Кларисса Холл, устав от постоянных измен супруга, забрала детей и переехала в Париж, ее тепло принимала сама императрица Евгения. Когда началась франко-прусская война, Джеромы перебрались в Лондон, где их благодаря состоянию и приобретенным в Париже связям принимали в высшем обществе, однако, когда стало известно о помолвке «американской мисс» и лорда Черчилля, в свете поднялась волна возмущения. Было еще далеко до тех времен, когда союзы богатых наследниц из США и аристократов из Старого Света станут такими привычными, что о них будут острить, будто каждая уважающая себя американская мамаша учит дочерей говорить с английским акцентом и заставляет учить наизусть «Книгу лордов».

Сэр Рэндольф Черчилль.
Герцог писал сыну: «Ты сам понимаешь, что для нас несколько унизительно рассматривать возможность подобного родства». Однако Рэндольф был упрям и к тому же влюблен. Тогда отец запретил ему жениться, пока он не пройдет в парламент, – но неожиданно для всех Рэндольф выиграл выборы в Оксфордшире, получив место в палате общин как член консервативной партии. Последнее слово в этой истории сказал принц Уэльский (будущий король Эдуард VII), очень симпатизировавший американцам, который заявил герцогу, что мисс Джером прекрасная пара для его сына. Позже он не преминул заметить и Уинстону: «Если бы не было меня, вы бы не появились на свет».
Наконец 15 апреля в британском посольстве в Париже состоялось бракосочетание лорда Рэндольфа Черчилля и мисс Дженни Джером. После медового месяца, проведенного на континенте, пара вернулась в Лондон, где зажила на широкую ногу и, несмотря на щедрое содержание от мистера Джерома, быстро наделала долгов. Как писал биограф Уинстона Норманн Роуз, «Дженни стремилась «пить жизнь полной чашей» и часто своей своенравной опрометчивостью испытывала терпение родных. Ее экстравагантная расточительность стала притчей во языцех. Как едко заметил позже кто-то из ее знакомых, «она принадлежала к тому типу женщин, для которых иметь меньше сорока пар туфель означает жить в нищете».
Ее первый сын родился всего через семь с половиной месяцев после свадьбы. По легенде, леди Черчилль слишком активно танцевала на балу, и ее едва успели довести до соседней комнаты, по случаю бала превращенной в женскую гардеробную. Там и появился на свет Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Газеты поспешили оповестить мир о том, что «30 ноября во дворце Блен-хейм леди Рэндольф Черчилль преждевременно разрешилась от бремени сыном», однако злые языки шутили, что «поспешил не Уинстон, а Рэндольф», намекая на то, что отец новорожденного не стал тянуть с первой брачной ночью до свадьбы.

Дженни Черчилль с сыновьями, 1899 г.
Надо заметить, что хотя лорд Рэндольф и именовался как сын герцога лордом, реального титула у него не было – он мог унаследовать его только в случае смерти старшего брата, не оставившего наследника. Говорят, когда девятый герцог Мальборо женился, его бабушка заявила новой леди Мальборо, а в прошлом еще одной американской наследнице, знаменитой красавице Консуэло Вандербильд: «Ваша первейшая задача – родить мужу наследника! Недопустимо, чтобы титул перешел к этому недоноску Уинстону!» Консуэло справилась с задачей, и титул герцога Мальборо Уинстону не достался. Впрочем, оно и к лучшему: герцоги должны были заседать в палате лордов и не имели никаких реальных шансов на политическую карьеру, а ведь именно этим и прославился в будущем Уинстон Черчилль.
Как было принято в те времена, родители почти не занимались своими детьми – ни старшим, наследником рода, ни родившимся через шесть лет Джоном Стрэнджем. К этому времени лорд Рэндольф всерьез увлекся политикой и постоянно пропадал на заседаниях Палаты общин, а его супруга, оказывавшая ему всяческую поддержку, тоже не имела свободного времени для общения с детьми, появляясь перед ними лишь изредка. «Она казалась мне яркой вечерней звездой, – будет через много лет вспоминать Уинстон. – Я очень ее любил и любовался ею, но, как и всеми небесными светилами, на расстоянии».
Уинстона воспитывала няня Элизабет Энн Эверест, которую Уинстон очень любил: «Она заботилась обо мне и выполняла все мои желания. Ей я поверял все мои беды, и сейчас, и в школьные годы», – писал Черчилль в воспоминаниях. Даже когда он стал крупным политиком, фотография няни всегда стояла на его рабочем столе.
Когда Уинстону исполнилось восемь, его отправили в подготовительную школу для мальчиков Сент-Джордж в Аскоте, однако мисс Эверест обнаружила, что там к детям слишком часто, по ее мнению, применяют телесные наказания, и его перевели в школу сестер Томпсон в Брайтоне. Учился Уинстон неважно, но самые большие проблемы были с дисциплиной – по поведению его оценка была низшей в классе. Когда подошло время поступать в традиционный для Мальборо Итон, Уинстон перенес тяжелое воспаление легких, и заботливые родители решили, что влажный климат Итона (а также суровые требования к дисциплине) не подходит для их старшего сына.
Он поступил в Харроу – не менее престижное закрытое учебное заведение, где готовили к поступлению в университет юношей из самых привилегированных слоев общества. Юный Уинстон демонстрировал очень неплохие результаты в учебе – но только по тем предметам, которые его интересовали. У него была прекрасная память, он любил читать и мог глубоко закопаться в заинтересовавший его предмет. А вот древние языки, которые традиционно составляли основу классического образования, его совершенно не интересовали; математика до конца его дней осталась его слабым местом. Зато английский язык и литература были его коньком. Страдала и дисциплина: Уинстон отвергал почти все принятые в школе правила поведения, дерзил учителям, был упрям и своеволен. Неудивительно, что на каких-то экзаменах он получал очень низкие оценки.
Лорд Рэндольф, который к тому времени стал лидером Палаты общин и канцлером казначейства, был весьма огорчен плохой учебой сына. Сам он мечтал о том, чтобы Уинстон стал по его примеру юристом – однако было понятно, что на такую профессию у Уинстона не хватит способностей, и лорд Рэндольф решил избрать для сына военную карьеру, благо тот с детства любил играть в солдатики. Так что в 1889 году его перевели в так называемый «военный класс», где учеников не перегружали гуманитарными предметами, зато усиленно учили ездить верхом и фехтовать – в последнем Уинстон достиг заметных успехов и даже стал в 1892 году чемпионом школы.
Но даже несмотря на специальную подготовку, в Королевское военное училище в Сандхерсте он поступил лишь с третьей попытки (каждый раз заваливаясь на латыни). Живя под родительским кровом, Уинстон наблюдал за политиками, которые во множестве толпились в доме, и постепенно сам заинтересовался политикой. К этому времени лорд Рэндольф в результате неудачной политической авантюры потерял свои высокие посты в консервативной партии: однажды он, недовольный политикой премьер-министра лорда Солсбери, пригрозил подать в отставку, надеясь, что таким образом добьется желаемого, однако его отставка была принята. Для лорда Рэндольфа, а еще больше для его сына, это была катастрофа: Уильям до конца своих дней был уверен, что отставка отца была ужасной ошибкой. Всю жизнь он считал своего отца образцом политика и был верен как его идеям, так и способам их достижения.

Уинстон Черчилль во время учебы в Сандхерсте.
Наконец в августе 1893 года У пистон был зачислен в Сандхерст, но не по классу пехоты (а ведь лорд Рэндольф уже успел выхлопотать сыну место в полку своего друга, герцога Коннаутского), а в менее востребованный класс кавалерии – туда стремилось гораздо меньше курсантов – в первую очередь потому, что не всякому под силу содержать положенных по штату нескольких лошадей. В училище Уинстону было на удивление хорошо: никаких древних языков и прочих ненужных предметов, зато много спортивных занятий, верховой езды и книг по истории и военному делу. Он мечтал о военной карьере, блестящих подвигах и громкой славе, и ради этого на удивление хорошо учился, став первым по таким дисциплинам, как фортификация и военная тактика. Он окончил колледж в декабре 1894 года восьмым из ста пятидесяти учащихся (по другим данным, двадцатым из ста тридцати – как бы то ни было, весьма неплохо для ученика, который едва сдал вступительные экзамены) и выпустился вторым лейтенантом в Четвертый Ее Величества гусарский полк.
В это время пришло известие о том, что его отец, лорд Рэндольф, скончался в доме своей матери. Официально было объявлено об общем параличе, однако исследователи считают, что причиной смерти послужила последняя стадия сифилиса. Леди Черчилль, которая уже давно перестала воспринимать его как мужа, но продолжала поддерживать как политика, не расставалась с ним до последних мгновений. Образ отца всегда много значил для Уинстона, в 1906 году он даже выпустил книгу «Лорд Рэндольф Черчилль», где с сыновней любовью и немалым искусством рассказал о его жизни.
Размышления о судьбе лорда Рэндольфа, которому было дано столь многое и который успел сделать так мало, неотступно занимали Уинстона несколько месяцев. Даже военная карьера уже не так привлекала его: матери он писал, что «чем дольше я служу, тем больше мне нравится служить, но тем больше я убеждаюсь в том, что это не для меня». Он давно мечтал о политической карьере, однако теперь, когда отца не было рядом, на самостоятельное вступление в политику у Уинстона не было денег – избирательные кампании обходились дорого, а Черчилли давно испытывали недостаток в средствах. Мечтам о быстром продвижении по карьерной лестнице тоже, казалось, не суждено сбыться: для военных это возможно только во время войны, а никаких войн в то время Британия не вела. Единственным более-менее крупным конфликтом было столкновение кубинских поселенцев с испанскими властями: Уинстон выпросил себе отпуск и благодаря связям матери отправился на Кубу в качестве военного корреспондента газеты The Daily Graphic. По дороге он посетил Соединенные Штаты, которые поразили его огромными территориями и деловой хваткой населения, однако он был разочарован, обнаружив там полное пренебрежение традициями.
С Кубы Уинстон прислал пять статей, которые принесли ему 25 гиней (весьма значительную для него сумму) и первую известность. В Лондон он вернулся с полученной от испанского правительства медалью, а также оставшейся у него навсегда страстью к гаванским сигарам – всю жизнь он ежедневно выкуривал по десятку сигар, добиваясь возможности курить в самых неожиданных местах. Говорят, по его заказу была даже сделана маска для авиаполетов – с отверстием для сигары.
В конце лета стало известно, что полк переводят в Индию. Хотя Черчиллю и не хотелось на неопределенный срок отправляться на край света, делать было нечего. В октябре 1896 года полк был отправлен в Бангалор, город на юге Индии. Во время высадки Уинстон вывихнул плечо, и последствия травмы давали о себе знать еще долгое время. Однако это не помешало ему увлеченно играть в поло и даже достичь в этой игре больших успехов.
Служба в Индии лейтенанту Черчиллю казалась невообразимо скучной, чтобы развеяться, Уинстон занимался самообразованием: во множестве читал книги по истории, экономике, философии и военному делу, жизнеописания великих людей, сборники речей великих ораторов и английские политические журналы. Окончательно решив, что дальнейшая его жизнь будет связана с политикой, Черчилль усилено развивает в себе талант оратора – то, что в дальнейшем доставит ему настоящую славу.
Когда на северо-западе страны, в области Макаланд, разгорелся конфликт между британскими властями и племенами пуштунов, Черчилль добился того, что его прикомандировали к экспедиционному корпусу. Перед отъездом он предложил свои услуги двум газетам – местной The Pioneer и лондонской The Daily Telegraph. Во время операции он, принимая участие в жестоких рукопашных схватках, проявил храбрость и мужество (хотя во многом и излишние). Свои впечатления Черчилль изложил в книге «История Макаландского полевого корпуса», которая вышла в 1898 году и принесла автору определенную известность – в немалой степени потому, что в книге Черчилль критиковал собственных военачальников за не всегда разумное командование операцией.
Едва вернувшись в свой полк, Черчилль тут же стал добиваться нового назначения – в Судан, где английские войска подавляли махдистское восстание. Командование, считавшее, что лейтенант Черчилль слишком мало внимания уделяет службе, не желало его отпускать, кроме того, многие были обижены на него за высказанную им в книге критику. Уинстону пришлось обратиться со своей просьбой напрямую к премьер-министру, который и дал необходимое распоряжение.
Черчилль получил перевод в Судан – и договор с The Morning Post. В своих репортажах он обвинял командующего операцией генерала Китченера в жестокости и неуважении к местным обычаям («Он великий генерал, но никто еще не обвинял его в том, что он великий джентльмен», – сострил как-то Черчилль, и остроту стали повторять повсюду). Он рассказывал о жизни североафриканских племен и о сражениях прекрасно вооруженной англо-египетской армии с многочисленными, но уступающими британцам в вооружении отрядами восставших. В генеральном сражении при Омдурмане 2 сентября 1898 года Черчилль принял участие в кавалерийской атаке: «Я перешел на рысь и поскакал к отдельным [противникам], стреляя им в лицо из пистолета, – писал он, – и убил нескольких – троих наверняка, двоих навряд ли, и еще одного – весьма сомнительно». Его книга о Суданской операции под названием «Речная война» вышла уже в 1899 году, она пользовалась немалым успехом благодаря прекрасному стилю, красочным описаниям битв и этнографическим зарисовкам, и принесла Черчиллю не только славу, но и немалые денежные средства. Вдохновленный таким успехом, двадцатитрехлетний Черчилль решил оставить военную службу и жить за счет литературных заработков. Он вернулся в Индию, чтобы принять участие в турнире по поло в составе полковой команды, и после победы подал рапорт об отставке.

Молодому писателю тут же предложили баллотироваться в парламент от консервативной партии, и Черчилль выставил свою кандидатуру в городке Олдхэм, графство Ланкашир, но выборы проиграл: ему не хватало опыта и финансов, к тому же в Олдхэме всегда традиционно сочувствовали либералам. Неугомонный Черчилль сразу нашел себе новое занятие – на юге Африки разгоралась англо-бурская война, и Уинстон немедленно отбыл туда как главный военный корреспондент The Morning Post с окладом 250 фунтов в месяц и оплатой всех издержек.
Едва прибыв на место, Черчилль отправился на бронепоезде в тыл противника, но по дороге поезд попал в засаду, и бесстрашный корреспондент оказался в плену: его отвезли в Преторию, в лагерь для военнопленных. Однако ему удалось бежать. Буры объявили награду за его голову, правда, всего 25 фунтов. К счастью, встреченный им английский горный инженер Дэ-ниэл Дьюснап помог перебраться через линию фронта.
Описанная Черчиллем в статьях история плена и побега обеспечила ему славу героя. По легенде, избиратели из Олдхэма даже отправили телеграмму, где обещали на ближайших выборах отдать ему свои голоса вне зависимости от того, какую партию он будет представлять. Но Черчилль на некоторое время предпочел вернуться в армию: в составе легкой кавалерии он участвовал в нескольких сражениях и даже был представлен к Кресту Виктории, который, однако, не получил, ибо подал в отставку раньше, чем представлению был дан ход.
В июле 1900 года Черчилль вновь выдвинул свою кандидатуру от Олдхэма – и на этот раз легко выиграл. Ему было двадцать шесть лет, и его первая речь была посвящена критике собственной консервативной партии (которая к тому же имела большинство в парламенте). Это была тактика лорда Рэндольфа: именно так он завоевал себе популярность в обеих партиях – критикуя собственных коллег с позиций, близких к их противникам: в конце концов лидеры консерваторов поняли, что ему проще дать видный пост в правительстве, чем и дальше подвергаться остроумным нападкам. Однако у Уинстона старый трюк не сработал: хотя блестящие речи завоевали ему немало сторонников, в члены кабинета он так и не попал. В 1904 году Черчилль демонстративно порвал с консерваторами и перешел в ряды либералов: это решение, вызванное не только обидой на обошедших его товарищей, но и все большим разногласием по идейным соображениям, оказалось правильным. Уже через два года долгому правлению консерваторов наступил конец, и к власти пришли либералы во главе с Дэвидом Ллойд Джорджем, немедленно предложившие Черчиллю пост заместителя министра по делам колоний. Через два года в результате перестановок в правительстве он получил пост министра торговли и промышленности; на этом посту Черчилль отличился последовательным проведением социальных реформ – в частности, именно он провел закон о минимальной заработной плате, а в 1910 году ему был предложен портфель министра внутренних дел.
Весной 1908 года Черчилль, который тогда проводил избирательную кампанию в шотландском городе Данди, познакомился с двадцатитрехлетней Клементиной Хозье, дочерью офицера и внучкой шотландских графов Эйрли. На самом деле впервые они встретились за пару лет до этого на званом ужине, но хотя Уинстон весь вечер не отводил глаз от красавицы Клементины, он так и не решился к ней подойти. Он влюбился с первого взгляда, однако не смог преодолеть свою застенчивость, часто нападавшую на него в общении с женщинами. Это не было первое увлечение Черчилля – он уже дважды был помолвлен: первый раз с известной в то время актрисой Мэйбл Лав, в которую был без памяти влюблен, а во второй – с красавицей Памелой Плоуден, известной своей гордостью и независимостью, однако оба раза помолвка расстраивалась. Впрочем, как вспоминал сам Черчилль, один раз увидев прекрасные глаза Клементины, он забыл про всех остальных женщин.
Я постоянно вспоминал ее удивительные, совершенно неземные зеленовато-карие глаза. В них было столько мудрости, столь необычной для столь юной особы. А ее пышные волосы! Эти завитки, выбивающиеся из пышной прически! Как можно забыть такую красоту! – писал он позже.
Наконец в марте 1908 года на званом обеде, который давала известная светская львица леди Сент-Хелье, они оказались рядом за столом и разговорились. Общение продолжилось в письмах; затем молодые люди снова встретились, проводя уик-энд в поместье Бленхейм. Однажды вечером Уинстон предложил Клементине прогуляться по саду; она чувствовала, что он намерен объясниться ей в любви, но никак не может набраться мужества.
Мы сидели на скамейке в гроте Дианы, – вспоминала она много лет спустя. – Уинстон молчал, уставившись куда-то в каменный пол, а я все гадала, решится ли он, наконец, заговорить о своих чувствах или мне так и не суждено будет услышать эти слова. Я бросила взгляд вниз и увидела медленно ползущего жука. Я подумала: – Если этот жук доползет до трещины, а Уинстон так и не сделает мне предложение, значит, он не сделает его никогда.
Однако Уинстон успел – и в тот же вечер было объявлено о помолвке. Они обвенчались 12 сентября 1908 года в вестминстерской церкви святой Маргариты. Говорят, что во время свадебного банкета на тысячу человек жених в основном разговаривал с шафером о политике. Сам король Эдуард VII преподнес Черчиллю палку с золотым набалдашником с надписью: «Самому молодому из моих министров». Медовый месяц молодые провели в Венеции.
В одной из книг Черчилль писал: «Моим самым выдающимся достижением в жизни было то, что я смог уговорить мою будущую жену выйти за меня замуж». Он был прав: Клементина стала не только любящей, терпеливой, верной и преданной женой, но и другом, соратником и помощником во всех делах. «Она не придиралась, не ворчала, не приставала к Уинстону с расспросами, но, когда она говорила, он всегда внимательно слушал», – писала газета The Sun. У Черчиллей родилось пятеро детей: Диана (в 1909 году), Рэндольф (1911), Сара (1914), Мэри (1922) и Мэриголд, которая умерла, не дожив до трех лет.

Клементина Черчилль, 1915 г.
Но если семейную жизнь Черчиллей можно с полным правом назвать безоблачной, то его жизнь в политике такой не была. В бытность Уинстона министром внутренних дел он вызвал резкую критику своими чересчур решительными действиями при подавлении рабочих выступлений (например, министр Черчилль направил 50 тысяч вооруженных солдат против бастующих железнодорожников в Ливерпуле), и в итоге его сочли необходимым перевести на другую должность.

Уинстон Черчилль в бытность Первым лордом Адмиралтейства.
В октябре 1911 года Уинстон Черчилль стал Первым лордом Адмиралтейства, то есть морским министром – на этом посту он проводит коренную реорганизацию британского флота, переведя его с угля на жидкое топливо и увеличив количество тяжеловооруженных линкоров, к тому же создает морские военно-воздушные силы. Будучи весьма опытным политиком, Черчилль прекрасно понимал неизбежность войны с Германией, и во многом благодаря его личным стараниям Англия вошла в Первую мировую войну прекрасно подготовленной. По его же инициативе и при его личном участии Англия разработала «сухопутные линкоры» – танки. Свое название (от английского tank – «бак, цистерна») эти машины, по легенде, получили из соображений секретности: их перевозили на открытых платформах, тщательно укутав брезентом, и в документах указывали как цистерны для нужд фронта.
В октябре 1914 года Черчилль лично возглавил оборону Антверпена; город после больших потерь был сдан, однако это позволило оттянуть силы противника от более важных Кале и Дюнкерка, которые удалось удержать. В ноябре Черчилль задумал новую операцию – «демонстрацию силы» военного флота в проливе Дарданеллы, которая в случае успеха позволила бы захватить Константинополь. Однако на деле эта операция, начавшаяся в феврале 1915 года, обернулась крупнейшим за всю историю войны провалом: Англия потеряла 10 из 16 линкоров и более 70 тысяч человек. Это была трагедия огромного масштаба, ответственность за которую возложили на Черчилля. Он тяжело переживал эту неудачу и всю жизнь чувствовал себя виноватым в гибели тысяч людей; до конца своих дней он будет стремиться любой ценой избегать лишних смертей.
Конечно, с должности лорда Адмиралтейства пришлось уйти. Некоторое время Черчилль продолжал работать в парламенте, а в ноябре внезапно сорвался с места и отправился во Францию, где вступил в ряды Второго гренадерского гвардейского батальона, которым когда-то командовал его предок герцог Мальборо. В полку он был принят довольно прохладно, однако сумел завоевать уважение своей смелостью и отвагой. Вскоре его повысили до подполковника и назначили командовать Шестым королевским полком шотландских стрелков – говорят, чтобы поднять их боевой дух, он читал им Роберта Бернса, – однако уже через четыре месяца сдал командование и вернулся в Англию. Участие в боях несколько утолило обуревавшую его жажду деятельности, однако его масштабной натуре не хватало простора, и Уинстон решил вернуться в политику.
В 1916 году премьер-министром стал Ллойд Джордж, старый друг и соратник Черчилля, который через год назначил его министром военного снабжения. Правда, Черчилль мечтал вернуться в ставшее родным Адмиралтейство, однако этого так и не случилось. Вскоре после окончания Первой мировой войны Черчилль получил посты военного министра и министра авиации. Однако его внимание привлекали не столько проблемы восстановления разрушенной за годы войны армии, – хотя Черчилль, безусловно, делал все от него зависящее, – сколько зарождение в далекой России большевизма: Черчилль был уверен, что «большевизм надо задушить в колыбели». Он был одним из инициаторов интервенции – преодолевая немалое сопротивление парламента, Черчилль выбивал деньги, средства и людей ради оказания помощи белогвардейскому движению, чем вызвал немалое неудовольствие как соратников по партии, так и простых избирателей. В 1921 году его перевели на должность министра по делам колоний, в коем качестве он подписал Англо-Ирландский договор, в результате которого появилась независимая Ирландия.
Накануне избирательной кампании 1922 года Черчилль попал в больницу с приступом аппендицита – операция помешала ему как должно провести избирательную кампанию, и в результате впервые за двадцать с лишним лет он не попал в парламент. «Я оказался без министерского поста, без места в парламенте, без своей партии и без аппендикса», – писал Черчилль. Лишь через два года он снова попадет в парламент – уже в качестве депутата от Консервативной партии, к которой официально вернулся.
Он был назначен Канцлером казначейства – пост, который занимал когда-то его отец, – и руководил возвращением экономики к «золотому стандарту», чем вверг страну в глубокий кризис. В результате в 1929 году и консерваторы, и Черчилль потерпели сокрушительное поражение на выборах.
Уинстон Черчилль, которому было уже за пятьдесят, счел свою политическую карьеру оконченной. Он уединился в своем поместье и посвятил досуг семье, а также многочисленным хобби.
Много времени Черчилль отдавал живописи, которой увлекался еще с 1915 года: его картины, подписанные «Чарльз Морин», несколько раз с успехом появлялись на выставках и даже участвовали в парижских салонах. Эти работы – в основном пейзажи и натюрморты – критики хвалили за яркий колорит, смелые мазки и интересные композиции. Сам же он главным своим призванием – конечно, после политики – считал литературу.

Уинстон Черчилль с супругой.
В 1923–1929 годах он написал весьма объемный труд «Мировой кризис», представляющий собой подробную историю Первой мировой войны, затем последовала автобиография «Мои ранние годы» (1930) и шеститомная биография его великого предка, первого герцога, под заглавием «Мальборо: его жизнь и время». Все эти книги пользовались огромным успехом как у критики, так и у читателей, и принесли Черчиллю немалый доход – только гонорар от «Мирового кризиса» позволил ему купить поместье Чартвелл в графстве Кент. Черчилль сам обустроил его: руководил перестройкой дома, распланировал сад, где были каскад прудов, конюшня и розарий, нередко вдохновлявший его в занятиях рисованием.
Однако не надо думать, что все это время Черчилль был далек от политики: оставаясь членом парламента, он не прекращал выступать по различным вопросам, особенное внимание с начала тридцатых годов обращая на угрозу, которая начинает исходить от нацистской Германии. Он критиковал за нерешительность премьер-министра Стэнли Болдуина, отзываясь о нем весьма язвительно: «Он решителен в проявлениях своей нерешительности, непоколебим в своей привычке всегда колебаться, тверд в своей постоянной мягкотелости, надежен в своей безнадежной необязательности, всесилен в своем бессилии». Болдуин в 1937 году по состоянию здоровья ушел в отставку, его сменил Невилл Чемберлен, который стремился замириться с Германией, хотя бы и за счет других стран.
Черчилль без устали выступает с критикой политики Чемберлена, и хотя много лет его считали разжигателем войны, агрессором и выжившим из ума германофобом, он все же оказался прав. После Мюнхенского соглашения Черчилль заявил Чемберлену: «У Вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь Вы получите войну».
Первого сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, тем самым начав Вторую мировую войну. Уже 3 сентября в войну вступили Франция и Великобритания. Уинстону Черчиллю немедленно было предложено возглавить Адмиралтейство. По легенде, военные корабли обменялись радостными сообщениями: «Уинстон вернулся!»

Лорд Чемберлен сообщает нации об объявлении войны Германии, 3 сентября 1939 г.
Хотя в первые месяцы боевые действия на суше почти не велись, британский флот под руководством Черчилля активно воевал: преследовал немецкие подлодки, топил корабли, смело вступая в открытые столкновения. Когда лорд Чемберлен, печально прославившийся своей нерешительностью, был вынужден уйти в отставку, король Георг Шестой предложил Черчиллю сформировать коалиционное правительство. Десятого мая 1940 года Уинстон Черчилль стал премьер-министром Великобритании. Позднее он писал: «У меня было ощущение, что меня ведет, держа за руку, сама Судьба и что вся моя прошлая жизнь была не более чем подготовкой к этому часу и ждущим меня испытаниям».
Ему досталось нелегкое наследство, однако он вступил в должность с отвагой и решимостью бороться до конца. Всего через несколько дней капитулировала Голландия, за ней признала свое поражение Франция. Одной из важнейших заслуг Черчилля историки считают его решимость воевать до конца, хотя многие члены кабинета надеялись на мирный договор с Германией. В своей первой речи в качестве премьера Черчилль заявил: «Победа любой ценой, победа невзирая ни на какие ужасы войны, победа, какой бы длинной и трудной ни была дорога, ведущая к ней, но без победы у нас не может быть будущего… Все, что я могу вам предложить – это кровь, тяжкий труд, слезы и пот». В следующей речи он сказал: «Мы будем защищать наш остров любой ценой. Мы будем сражаться на побережье. Мы будем сражаться на аэродромах. Мы будем сражаться на полях и на улицах. Мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся».
Одним из первых шагов Черчилля на посту премьера было объединение под своим началом флота, армии и ВВС – раньше они подчинялись разным министерствам, что вызывало немало проблем при планировании крупномасштабных операций. Когда началась воздушная «битва за Британию», Черчилль неоднократно объезжал пострадавшие от бомбежек районы, постоянно выступал на радио и завоевал себе невиданную популярность: по данным опросов, летом 1940 года его поддерживали более 80 процентов британцев, и показатель оставался столь же высоким до конца войны. Он появлялся в самых опасных местах, с рукой, поднятой в характерном жесте – с раздвинутыми в виде буквы V указательным и средним пальцами в знак победы – «victory». Хотя силы противника во многом превосходили английские, битва за Британию была выиграна Британией, во многом благодаря героизму и самоотверженности английских летчиков. «Впервые за всю историю военных конфликтов столь много людей обязано столь небольшой группе героев столь многим», – сказал Черчилль в знак признательности.

Выигрыш этот обошелся очень дорого: страна находилась в состоянии, близком к полному коллапсу: не было ни денег, ни ресурсов, ни войск. И продлись битва чуть дольше, обессиленная страна не выдержала бы. Победа, казалось, принесла лишь недолгую передышку. Но тут развитие событий приняло благоприятный для Британии оборот: получение помощи от США в рамках ленд-лиза и нападение Германии на СССР дало время и возможность перевести дух.
Почти сразу же Черчилль предложил Советскому Союзу всяческую поддержку. Хотя он по-прежнему ненавидел большевизм, оставаясь, наверное, самым ярым его противником, он счел, что перед лицом германской опасности политические разногласия должны быть на время забыты. «Что может быть хуже, чем воевать одним фронтом вместе с союзниками? – говорил он. – Только одно: воевать без союзников».
В августе 1941 года на борту линкора «Принц Уэльский» Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт подписали Атлантическую хартию – документ, провозглашающий основы послевоенного сотрудничества. После этой встречи Черчилль и Рузвельт стали близкими друзьями. Кстати, последние генеалогические изыскания установили, что оба политических деятеля имели общего предка – некоего Джона Кука, приплывшего в Америку на борту «Мэйфлауэра», – к одной из его дочерей восходит род Сары Делано, матери Рузвельта, от другой ведет свое происхождение Дженни Джером, будущая леди Черчилль.
Присоединение СССР к Атлантической хартии послужило основой для создания антигитлеровской коалиции. Когда в декабре 1941 года Америка вступила в войну, Черчилль отправился в США для выработки совместной стратегии. «В дни ожидающих наш мир испытаний, – говорил Черчилль, выступая в конгрессе США, – американский и английский народы будут идти рука об руку, объединив свои силы во имя справедливости, всеобщего блага и мирной жизни всех людей на земле».
В мае 1942 года был подписан союзнический договор Англии и Советского Союза, и Черчилль взял курс на преимущественное использование британских сил в районе Средиземного моря: там у Британии не только были исторические стратегические интересы, но и таким путем силы противника отвлекались от многострадального острова. Хотя Сталин требовал немедленного открытия второго фронта, Черчилль не мог пока этого допустить: его страна была разорена и обескровлена, и ему требовалось время на то, чтобы восстановить силы. На январской конференции в Касабланке в 1943 году было постановлено, что война окончится лишь с полным разгромом Германии и союзников – решение, которого давно добивался Черчилль, чьи политические противники уже начали снова говорить о возможном досрочном выходе Великобритании из войны. Черчилля уже упрекали в том, что он фактически стал диктатором, сосредоточив в своих руках три ключевые должности – премьер-министра, лидера Палаты общин и министра обороны, он практически не прислушивался к мнению других, сводя все заседания кабинета и палаты к одобрению своих решений. Однако никто не мог упрекнуть Черчилля в том, что он уклоняется от работы: по воспоминаниям, все военные годы он спал по четыре часа в сутки, восстанавливая силы несколькими короткими десятиминутными периодами отдыха, и все время напряженно работал, изучая сотни документов, выслушивая доклады и ведя переписку с представителями иностранных держав. Не отставала от мужа и Клементина: она возглавляла комитет Красного Креста «Фонд помощи России» и Христианскую ассоциацию молодых женщин, организовывала больницы и приюты, выступала на митингах и собирала пожертвования в пользу нужд фронта и пострадавших от бомбежек.
На тегеранской встрече «тройки» в 1943 году было, наконец, решено открыть второй фронт: Черчилль уже понимал, что СССР, на ослабление которого он так надеялся, выйдет из войны победителем, и старался сделать все, чтобы эту честь – а равно влияние на Европу – с ним разделили союзники. Черчилль всячески старался убедить Рузвельта в том, что необходимо не допустить распространения влияния СССР на Восточную Европу, и поэтому предлагал открытие второго фронта в районе Балкан, однако к нему не прислушались. Союзники высадились в июне 1944 года в Нормандии. Это было началом конца для стран оси гитлеровской коалиции.
На Ялтинской конференции, открывшейся в феврале 1945 года, лидеры «тройки» обсуждали судьбу побежденной Германии – в том, что она скоро будет повержена, не было уже никаких сомнений. Говорят, в Ялте Черчилль пристрастился к горной форели, черной икре и армянскому коньяку, которым его снабжали по распоряжению Сталина. На банкете по случаю окончания конференции Сталин назвал английского премьера «человеком, какой рождается раз в сто лет», и «самым храбрым из государственных деятелей всего мира». Однако несмотря на столь явные проявления дружелюбия Черчилль по-прежнему не доверял Сталину. Он даже сумел во многом убедить Рузвельта, с начала войны считавшего Сталина своим другом. Но произошло непредвиденное – через два месяца после конференции Рузвельт скончался. Вместо него капитуляцию Германии вместе с Черчиллем принимает Гарри Трумэн. Это был звездный час Уинстона Черчилля: он был человеком, который спас Британию, тем, кто привел страну и нацию к победе.

«Большая тройка» на Ялтинской конференции: Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Иосиф Сталин, 1945 г.
Но на открывшейся в июле Потсдамской конференции Черчилль уже не играл ведущей роли: было понятно, что мир разделят между собой США и Советский Союз. В самый разгар переговоров в работе конференции был сделан перерыв, чтобы Черчилль смог лично присутствовать при объявлении результатов парламентских выборов. Он уезжал на пару дней – но так и не вернулся.
Неожиданно для всех консерваторы – и их глава Уинстон Черчилль – проиграли выборы. Британия ценила их заслуги в победе, но не смогла им простить просчеты в руководстве страной – опустошенной казны, развала промышленности, инфляции. А либералы пришли на выборы с пакетом социальных реформ, обещавших в короткий срок поставить страну на ноги, и закономерно выиграли. Вместо Черчилля в Потсдам вернулся новый премьер-министр Клемент Ричард Эттли.
Для Черчилля это поражение в минуту триумфа стало тяжелейшим ударом. Но, как и всегда в его жизни, он не собирался сдаваться и даже демонстративно отказался от предложенного ему по традиции ордена Подвязки и связанного с ним рыцарского титула: принятие этой награды в его глазах означало бы окончательный уход на покой. Он согласился на врученный ему орден Заслуг.

Формально Черчилль оставался главой оппозиции, не переставая заявлять о том, что необходимо поддерживать обороноспособность страны: Европу необходимо оградить от растущей коммунистической угрозы. Выступая в марте 1946 года перед студентами колледжа в американском городке Фултон, Черчилль в своей знаменитой речи «Мускулы мира» призвал объединиться против усиления влияния Советского Союза: «Мы не можем допустить, чтобы события развивались самотеком и чтобы наступил такой час, когда что-то изменить будет уже слишком поздно… От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, опустился «железный занавес».
Эту речь принято считать началом «холодной войны», хотя сам Черчилль в первую очередь стремился к предотвращению новых военных конфликтов, залогом чего он видел НАТО, основные принципы которого сформулировал еще в 1942 году, и Организацию Объединенных Наций. «ООН создали не для того, чтобы помочь нам попасть в рай, а для того, чтобы спасти от ада», – говорил он.
В 1951 году Черчилль снова стал премьер-министром Великобритании. Основное свое внимание он, как и прежде, уделял внешней политике, особо стараясь упрочить англо-американские отношения, за что в 1963 году конгресс США избрал Черчилля почетным гражданином США – редчайшая честь, которой были удостоены всего семь человек (из них только двое – Черчилль и мать Тереза – при жизни). В апреле 1953 года он все же принял из рук королевы Елизаветы орден Подвязки и рыцарский титул, став сэром Уинстоном. В том же 1953 году он получил еще одну награду: за «высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности», Черчилль был удостоен Нобелевской премии по литературе, обойдя Эрнеста Хемингуэя. Как заметил в своей речи член Шведской академии Сиверц, «политические и литературные достижения Уинстона Черчилля столь велики, что его можно сравнить как с Цезарем, так и с Цицероном».

Уинстон Черчилль и президент США Дуайт Эйзенхауэр.
В ноябре 1954 года сэр Уинстон отпраздновал свое восьмидесятилетие: со всех сторон сыпались поздравления, где на все лады восхваляли его разнообразные таланты, его вклад в развитие Великобритании и особенно его роль в победе над Германией. Черчилль лишь заметил: «Я не вижу здесь своей особой заслуги – она всецело принадлежит нашей великой нации, представители или потомки которой живут во всех уголках мира. Это в их груди пылает львиное сердце, а мне лишь выпала честь издавать львиный рык».

В стране все чаще стали говорить о пошатнувшемся здоровье премьер-министра. Он терял слух, у него развивалась экзема и были проблемы с сердцем. С конца 1940-х годов он перенес несколько сердечных приступов, не о каждом из которых сообщали парламенту и стране. После одного из них у него начались проблемы с речью и координацией, к тому же старый политик стал просто уставать от постоянной деятельности.
В апреле 1955 года было объявлено о том, что Уинстон Черчилль по состоянию здоровья вынужден оставить свой пост. Следующим премьер-министром по предложению Черчилля стал Энтони Идеи. Королева предложила сэру Уинстону титул герцога, однако он отказался: это означало бы его переход в Палату пэров, а он хотел остаться верным Палате общин. «Всем тем, чего мне удалось добиться в жизни, я обязан нашей Палате общин, чьим преданным слугой я являюсь», – признавался он. И хоть выступал, да и бывал в палате он уже редко, свое место Черчилль сохранил до 1964 года, когда впервые за несколько десятилетий не выставил свою кандидатуру на выборах. Всего Черчилль пробыл членом парламента более шестидесяти лет, установив своеобразный рекорд.
Уйдя на покой, сэр Уинстон не сидел сложа руки. Он по-прежнему много рисовал, писал (в 1956–1958 годах вышел его четырехтомный труд «История англоязычных народов»), основал в Кембридже колледж своего имени, которому отдавал немало времени, общался с семьей. К сожалению, его дети не доставляли ему той радости, которую он получал от политики: почти все они, росшие без надлежащей родительской опеки, имели массу недостатков и рано умерли: Рэндольф, строивший из себя международного плейбоя, много пил и вел беспорядочный образ жизни, и в результате скончался в возрасте пятидесяти семи лет – весьма скромный результат для потомка такого долгожителя, каким был сэр Уинстон. Его дочь Сара превратилась в запойную алкоголичку, а Диана, пережившая два тяжелых развода, в 1963 году покончила с собой.
Когда Черчилля спрашивали, в чем секрет его долголетия, он отвечал: «Ешьте и пейте, что вам вздумается. И главное – никакого спорта!» До последних дней он выпивал ежедневно три-четыре стакана виски: «Алкоголь гораздо больше дал мне, чем забрал у меня», – говорил он. Он беспрестанно курил, любил путешествовать – часто ездил на Французскую Ривьеру, где любил играть в казино, или по родной Британии. Лето неизменно проводил в любимом Чартвелле, где в свое время лично обустроил парк, а зиму – в Лондоне, поближе к друзьям и политике. В 1962 году Черчилль, поскользнувшись на мраморном полу казино, сломал бедро. Переживающей Клементине он сказал: «Хочу, чтобы меня похоронили, как простого солдата». Исполнения этого желания он ждал три года.
Пятнадцатого января 1965 года сэр У пистон Черчилль скончался от кровоизлияния в мозг. Весть об этом мгновенно облетела весь мир, став для многих таким же ударом, каким в свое время стало известие о кончине королевы Виктории, – выросло уже не одно поколение британцев, для которых Черчилль воплощал собой высокую политику. По распоряжению королевы Елизаветы ее верного слугу похоронили с почестями, которых удостаивались лишь члены королевской фамилии: панихиду служили в Вестминстерском соборе, оттуда гроб, покрытый государственным флагом, был перенесен к Темзе, а затем военным катером его доставили в родовое поместье герцогов Мальборо. Там, на семейном кладбище недалеко от Бленхейма, нашел свое последнее пристанище человек, который полвека воплощал собой Британию.
Франклин Делано Рузвельт

Человек, изменивший мир
Франклин Делано Рузвельт – один из тех людей, про которых говорят: «Таких раньше не было. И больше не будет». Единственный в истории президент США, четырежды избиравшийся на этот пост. Политик, вытащивший страну из глубочайшего кризиса и из крупнейшей войны. Человек, который изменил мнение всего мира о том, каким должен быть президент и политик. Его заслуги перед американским обществом – да и перед всем миром – невозможно переоценить. Умерший на посту, он, казалось, отдал буквально всю свою жизнь на благо обществу. Но в его жизни была не только политика…
Будущий президент происходил из самых верхов американского общества. Основатель рода Рузвельтов прибыл в Нью-Амстердам из Голландии в XVII веке: со временем он купил на Манхэттене ферму, на территории которой сейчас стоит, в частности, Эмпайр Стейт билдинг. В знак уважения к своим корням члены семьи произносили свою фамилию на голландский манер «Роузевельт». В XVIII веке семья поделилась на две ветви: Рузвельты из Гайд-парка (городок на реке Гудзон, где поселились потомки этой части семьи) и Рузвельты из Ойстер-Бей. Несмотря на некоторые политические разногласия (Рузвельты из Ойстер-Бей традиционно были республиканцами, а их родственники со временем стали сторонниками демократической партии), на протяжении двух веков обе ветви жили в дружбе и тесно общались. К началу двадцатого века среди Рузвельтов были изобретатели, министры, художники, банкиры, епископ, поэт и чемпионка США по теннису.
Отец будущего президента Джеймс Рузвельт, потерявший в 1876 году первую жену Ребекку (от этого брака у него остался сын Джеймс-младший), вел жизнь, достойную его благородных предков, успешно сочетая роли фермера, коммерсанта и светского льва, любившего театр и преклонявшегося перед европейский культурой. Он владел поместьем Спрингвуд и крупными пакетами акций нескольких угольных и транспортных компаний, в некоторых из них занимал крупные посты. Через четыре года после смерти жены, на вечеринке по случаю окончания своим родственником Теодором Рузвельтом Гарвардского университета, Джеймс познакомился с Сарой Делано, которая тоже приходилась ему дальней родственницей. Семья Делано принадлежала к потомкам первых поселенцев и была по американским меркам одной из самых аристократичных: среди ее предков было семь пассажиров «Мэйфлауэра» и трое, подписавших Мэйфлауэрский договор. Их потомки весьма успешно вели дела, со временем сделав семью Делано одной из богатейших в Новой Англии. В 1880 году Сара Делано стала женой Джеймса Рузвельта, принеся ему в приданое миллион долларов, а 30 января 1882 года она родила своего единственного ребенка, названного Франклин Делано.
Много позже президент Рузвельт говорил, что его первым детским воспоминанием был случай, когда он в возрасте трех лет едва не утонул. Если не считать этого, его детство было весьма счастливым и полностью соответствовало традициям благородных семей. Мальчик рос в атмосфере избранности и роскоши: с юных лет его приучали к мысли о привилегированности его положения, почти не допуская общения с теми, кто стоял ниже по иерархической лестнице. У него был свои пони и яхта, его учили ездить верхом, стрелять, играть в поло и теннис, грести и вести себя как подобает юному аристократу. Когда Франклин родился, его отцу было уже 54 года, и воспитанием мальчика в основном занималась мать, обожавшая сына и старавшаяся держать его под своим неусыпным контролем. Позже Франклин признавался, что в детстве даже боялся ее. Она лично отбирала для сына гувернанток и учителей и тщательно следила за тем, что и как изучает ее сын. С семи до четырнадцати лет Франклин обучался дома, а на каникулах вместе с родителями путешествовал по Европе, выучив во время поездок французский и немецкий языки. Говорят, даже в зрелые годы Франклин говорил по-английски с заметным британским акцентом. С детства его отличали неуемное любопытство, потрясающая работоспособность, прекрасная память и отменное честолюбие. То ощущение стабильности и непоколебимого счастья, которое окружало юного Франклина в родительском доме, со временем развилось в свойственное Рузвельту чувство несокрушимой уверенности в себе и в мире.

Франклин Делано Рузвельт, ученик Гротона, с родителями, 1900 г.
В четырнадцать лет Франклина отдали в одну из лучших частных школ в стране – интернат в городе Гротон, штат Массачусетс, куда его приняли сразу в третий класс. Первое время он учился весьма прилежно, но уже через пару месяцев написал матери: «Сегодня счастливый день – я заслужил первый «неуд». Очень этому рад, так как до сих пор считалось, что у меня нет чувства школьной корпоративности». Иметь только отличные отметки считалось признаком дурного тона, и Франклин с блеском настоящего дипломата все годы учебы умело лавировал между требованиями школьного братства и аттестатом с отличием. Особое влияние на мальчика оказал директор школы Эндикотт Пибоди, который проповедовал детям христианские принципы, обязывающие удачливых помогать более слабым и неустроенным, и призывал учеников поступать на государственную службу.
Окончив Гротон, Франклин по совету родителей поступил в Гарвард, где изучал языки, литературу, историю, право, экономику и ораторское искусство. Сара переехала поближе к сыну: она сняла и обставила для него апартаменты в Уэстморли Корт – самом роскошном из общежитий Гарварда, – где и прожила с ним все четыре года обучения. В Гарварде студента Рузвельта любили за активность, дружелюбие и личное обаяние, однако в то время никто не замечал в нем никаких выдающихся талантов. Франклин был членом студенческого общества Phi-Alpha-Delta и десятка клубов, редактором школьной газеты Harvard Crimson и входил в состав учредителей «Фонда помощи бурам».
Во время обучения Франклина в Гарварде президентом США был избран Теодор Рузвельт, его пятиюродный брат. На Франклина успех его кузена произвел неизгладимое впечатление: отныне Теодор стал его кумиром и образцом для подражания. Семья Франклина всегда была связана с политикой: его мать была в родстве с Улиссом Грантом и Калвином Кулиджем, мать его отца была двоюродной сестрой Элизабет Монро, супруги пятого президента США, и сам Джеймс Рузвельт находился в дружеских отношениях с несколькими президентами. Впервые его сын побывал в Белом доме в пятилетнем возрасте, когда его представили президенту Кливленду. По легенде, тот сказал мальчику: «Мой маленький мужчина, я выскажу тебе странное пожелание. Пусть ты никогда не будешь президентом Соединенных Штатов!» Однако у Франклина по любому вопросу всегда было свое мнение. Известно, что еще в Гарварде Франклин составил себе план своей будущей карьеры, который до мелочей повторял путь в Белый дом, пройденный Теодором: сначала избрание депутатом легислатуры штата Нью-Йорк, затем место статс-секретаря в военно-морском министерстве, пост губернатора штата Нью-Йорк и, наконец, президентское кресло. План был рассчитан на 25 лет и включал в себя также юридическое образование, практику и удачную женитьбу.
На приеме в честь наступающего 1903 года, который давал в Белом доме Теодор Рузвельт, Франклин встретился с Элеонорой, племянницей президента. Молодая девушка только что вернулась из Англии, где училась в привилегированном пансионе Алленсвуд, и ее спокойные и изысканные манеры очаровали Франклина.

Элеонора Рузвельт.
Энн Элеонора Рузвельт была дочерью младшего брата президента Элиота Рузвельта и Энн Холл: первое имя она получила в честь своей матери и любимой сестры отца, а второе – в честь отца, которого в семье звали Элли. В детстве Элеонора – она всегда предпочитала именно это имя – была столь серьезна и сдержанна, что мать дразнила ее «бабушкой», хотя на самом деле девочка просто была болезненно застенчива. Энн Рузвельт умерла от дифтерии, когда ее дочери было всего восемь, а через два года скончался и отец. Элеонору и ее братьев взяла на воспитание бабушка, Мэри Ладлоу Холл. Биографы пишут, что Элеонора считала себя гадким утенком, особенно по сравнению с матерью – признанной красавицей; однако уже в 14 лет она понимала, что одной физической красоты мало для достижения успеха в жизни: «Женщина может быть какой угодно некрасивой, но если на ее лице отпечатались искренность и преданность, все будут тянуться к ней». В пятнадцать лет Элеонору отправили в английский пансион, где девушка отточила свои манеры, научилась говорить по-французски и приобрела определенную уверенность в себе. Вернувшись на родину, она с успехом дебютировала в нью-йоркском свете, однако балы и приемы не нравились ей: среди толпы незнакомцев она по-прежнему оставалась застенчивой и пугливой. Для души Элеонора устроилась волонтером в один из центров социальной помощи в трущобах Ист-Сайда.
Когда Франклин стал демонстрировать свой явный интерес к ней, Элеонора поначалу не поверила: он был слишком красив, обаятелен и блестящ, чтобы обращать внимание на такую, как она. Однако тот серьезно увлекся: еще ни в одной девушке он не встречал такой серьезности и образованности, такого интереса к общественным и политическим проблемам и такого обаяния в разговоре. Уже в ноябре 1903 года он сделал ей предложение. Элеонора переживала: «Я не смогу удержать его возле себя, он слишком хорош!» Однако потом все же согласилась.
О помолвке не объявляли целый год – на этом настояла Сара Рузвельт. Она не одобряла намерений сына: нет, она ничего не имела против Элеоноры – хорошая девушка, из прекрасной семьи, ее связи в высших кругах пойдут на пользу ее сыну, – однако Франклину еще слишком рано жениться: он только что поступил на юридический факультет Колумбийского университета, ему надо учиться, а не строить семейное гнездо! В 1904 году она повезла сына в морской круиз по Карибам в надежде, что морские приключения развеют образ Элеоноры, однако, вернувшись в Нью-Йорк, он с удвоенным пылом стал ухаживать за своей невестой. Франклин написал матери: «Я знаю, какую боль я причиняю вам, однако я знаю свои мысли, и я знаю, что я не могу думать иначе». В конце концов Сара уступила. Сам Теодор Рузвельт согласился быть посаженым отцом невесты, заметив с иронией: «Хорошо, что имя остается в семье!» Свадьбу назначили на 17 марта 1905 года, с тем, чтобы президент, который в этот день должен был в Нью-Йорке принимать традиционный парад в день Святого Патрика, смог отвести невесту к алтарю.
Бракосочетание Франклина и Элеоноры Рузвельт стало заметным событием в жизни Нью-Йорка. Было приглашено двести гостей, чей покой охраняли 75 полицейских. После венчания молодые отправились на две недели в Гайд-парк, а настоящий медовый месяц перенесли на лето: Франклин еще был студентом, и поездку в Европу приурочили к летним каникулам.
Вернувшись, молодые поселились в доме, который Сара Рузвельт сняла и обставила для них рядом со своим. Она держала жизнь юных супругов в своих руках: сама подбирала им прислугу и места отдыха, цвет занавесок и семейного доктора. Элеонора, которую раздражал и обескураживал такой напор родственной заботы, все же была ей благодарна: она, выросшая без примера матери перед глазами, ко многому в семейной жизни просто не была готова, а Сара всегда была рядом, чтобы помочь советом или делом. У Элеоноры и Франклина родилось шестеро детей: дочь Энн Элеонора-младшая (родилась в 1906 году) и сыновья Джеймс (1907), Франклин (1909, умерший в возрасте восьми месяцев), Эллиот (1910), Франклин Делано (1914) и Джон Аспинуол (1916).
В 1907 году Франклин окончил Колумбийский университет, однако получать диплом не стал, вместо выпускных сдал экзамены нью-йоркской коллегии адвокатов и поступил стажером в юридическую фирму Carter, Ledyard & Millburn, обслуживающую крупнейшие корпорации. Как пишут его биографы, «так как он не испытывал никакой тяги вникать в детали экономического права и права картелей и уже имел финансовое обеспечение и социальное признание, то единственным объектом его ярко выраженного честолюбия стала политика». Уже в 1910 году Франклин Рузвельт был избран депутатом легислатуры (законодательного собрания) штата Нью-Йорк от демократической партии и быстро стал одним из лидеров ее «либерального» крыла. Он с женой переехал в Олбани – столицу штата: наконец Элеонора смогла зажить собственным домом, без оглядки на вездесущую свекровь. «Только теперь я поняла, что во мне росло желание развивать собственную личность», – признавалась она. Поначалу она считала политику уделом мужчин, отводя себе место надежного домашнего тыла и матери их детей, и ее очень удивляло стремление Франклина предоставить женщинам избирательное право. Однако со временем он сумел убедить ее – более того, Элеонора сама увлеклась политикой, отойдя от традиционных для ее семьи республиканских взглядов на позиции демократов. «Долг каждой женщины – жить интересами мужа», – говорила она.
Франклин без устали колесил по своему округу, встречаясь с избирателями, особенное внимание уделяя фермерам, традиционно сочувствующим республиканцам. В предвыборной кампании 1912 года он активно поддерживал Вудро Вильсона – и когда тот победил, в знак признательности назначил Рузвельта на давно намеченный им пост заместителя министра военно-морского флота США. На этом посту Рузвельт проработал семь лет, всячески заботясь о расширении и укреплении флота. Он принимал самое активное участие в создании резервного флота США и в написании конституции Гаити, которую США ввели там в 1915 году. Накануне Первой мировой войны он пытался баллотироваться в Сенат, но, проиграв еще на стадии первичных выборов, вернулся в министерство. Во время войны Рузвельт был ярым сторонником строительства подводных лодок, предлагая использовать их против немецких судов, а также составил план строительства минного заграждения через Северное море из Норвегии в Шотландию. В 1918 году он с инспекцией посетил американские военно-морские базы в Великобритании и Франции, впервые встретившись с Уинстоном Черчиллем.

Рузвельт во время службы в морском министерстве, 1913 г.
Из поездки он вернулся с двусторонним воспалением легких; Элеонора, разбирая его чемоданы, нашла в них любовные письма, которые писал ее муж – и адресатом которых была не она. Много лет спустя она рассказала своему биографу Джозефу Лашу: «Земля ушла у меня из-под ног. Весь мир рухнул в одночасье. И я впервые честно взглянула на себя, на то, что меня окружало. Я как бы заново выросла в тот миг». Оказалось, что у Франклина уже несколько лет был роман с Люси Мерсер, которая работала секретарем самой Элеоноры. Высокая красавица с роскошными волосами и прекрасным бархатным голосом, она сначала заменяла миссис Рузвельт, пока та отдыхала с детьми, на приемах и балах, а затем и в постели Франклина. Они вместе совершили круиз по реке Потомак, а затем провели уикэнд в городке Вирджиния-Бич, зарегистрировавшись в мотеле как супруги.
Узнав обо всем, Элеонора послала за Сарой, а потом в ее присутствии предъявила Франклину ультиматум: если тот хочет оставаться с Люси, пусть разводится, если нет – он должен обещать никогда с ней больше не встречаться. Говорят, Франклин был склонен развестись, но Сара намекнула ему, что в таком случае она лишит его наследства, да и с политической карьерой можно будет распрощаться: никто никогда не проголосует за разведенного, бросившего жену с пятью детьми. И Франклин пообещал бросить Люси.

Люси Мерсер.
По мнению биографов, все это сильно изменило их брак. Элеонора, для которой плотская сторона брака, несмотря на все усилия мужа, всегда оставалась лишь тяжкой обязанностью, с этих пор окончательно переселилась в отдельную спальню. Из супругов они окончательно превратились в друзей и соратников, объединенных общими интересами, взаимным уважением, но не любовью… Одному из своих друзей она призналась: «У меня память как у слона. Я могу простить, но я не могу забыть». Со временем они зажили отдельными домами, хотя и оставались под одной крышей; когда в 1942 году Франклин – ввиду своего ухудшающегося здоровья – предложил ей вернуться и снова создать семью, она отказалась.
Когда война закончилась, Рузвельт как заместитель министра руководил демобилизацией, в то же время выступая против намерения многих политиков полностью ликвидировать военно-морской флот: после той войны люди были уверены, что больше такого кошмара не повторится. А в начале 1920 года он покинул этот пост: конвент демократической партии избрал молодого политика кандидатом в вице-президенты на будущих президентских выборах (в президенты выдвинули Джеймса М. Кокса). Решающим аргументом для делегатов конвента стала речь Рузвельта, в которой он заявил: «Мы против влияния денег на политику, мы против контроля частных лиц над финансами государства, мы против обращения с человеком как с товаром, мы против голодной заработной платы, мы против власти групп и клик».
Однако выборы 1920 года демократы проиграли: президентом стал республиканец Уоррен Хардинг, сумевший воспользоваться благоприятным настроем избирателей, которые сочли послевоенный подъем заслугой республиканского правительства. После выборов Рузвельт занял пост вице-президента одной из крупнейших
финансовых корпораций Нью-Йорка, однако мало кто сомневался, что скоро он снова попробует свои силы в выборах на какой-нибудь государственный пост.
Лето 1921 года Рузвельты проводили в своем излюбленном месте – на канадском острове Кампобелло, что близ Ист-Порта, штат Мэн. Однажды августовским днем Франклин искупался в холодной воде – и уже к вечеру еле смог ходить. Считается, что лечивший его поначалу местный врач поставил неверный диагноз, лишь через несколько дней прибывший из Бостона доктор Роберт Ловетт диагностировал полиомиелит. Время было упущено, и в результате Франклин Рузвельт на всю жизнь остался парализован ниже пояса. Ему тогда было тридцать девять лет.
Последние медицинские исследования показали, что у Рузвельта, скорее всего, был не полиомиелит, как традиционно считается, а синдром Гийена-Барре. Однако, поскольку все его медицинские карты до сих пор находятся в закрытых архивах, сказать наверняка ничего нельзя.
Сара считала, что теперь ее сыну следует отойти от политики. Элеонора – возможно впервые – решительно возражала. Она искренне была убеждена, что если ее муж будет занят только своей болезнью, он скоро сойдет с ума от безделья и тоски. Она преданно и терпеливо ухаживала за мужем, невзирая на обещанную врачами опасность заражения, и именно она убедила его в том, что инвалидная коляска не является помехой для активной жизни; более того, по ее настоянию Рузвельт стал искать способы излечения.
Он испробовал все известные методы, от гидролечения до физиотерапии. Результаты были малы, но Рузвельт был рад всему. Однажды друзья рассказали ему про заброшенный курорт Уорм-Спрингс в штате Джорджия, в свое время славившийся целебными горячими источниками: Рузвельт купил его и устроил там курорт для больных, а себе построил дом, где проводил все свободное время. Со временем он научился держаться на воде и освоил инвалидную коляску, но желание самостоятельно ходить не прошло. Специально для Рузвельта были сконструированы ортопедические шины весом в десять фунтов, позволявшие ему стоять без посторонней помощи, а передвигался он только с помощью костылей или опираясь на чье-то плечо. Из-за боязни погибнуть при пожаре Рузвельт выучился очень быстро ползать. Он не позволял себе отчаиваться, более того – он смог, во многом благодаря поддержке Элеоноры, стать сильнее, закалившись духом. Детлеф Юнкер, биограф Рузвельта, писал: «Как бы внутренне он ни роптал на судьбу, внешне надевал безукоризненную маску, полную надежд и уверенности. Он запретил себе всякую мысль о разочарованности и жалости к себе, а своему окружению – любой сентиментальный жест».
По заключению врачей, на половую функцию Рузвельта болезнь не повлияла, повредив лишь мышцы ног, – что Франклин без сомнения счел подарком шутницы-судьбы. В 1923 году секретаршей Рузвельта стала двадцатитрехлетняя Маргарет Энн Ле Ханд, которую он нежно звал Мисси: она почти сразу же влюбилась в Рузвельта, который и в инвалидном кресле оставался обаятельным мужчиной и остроумным собеседником, и, по мнению некоторых биографов, между ними начался роман, который продолжался около двадцати лет. Спальня Мисси всегда была рядом со спальней Рузвельта (а комнаты Элеоноры нередко находились в другом конце дома), она же в отсутствие миссис Рузвельт исполняла обязанности хозяйки дома.

Франклин Рузвельт и Альфред Смит, 1930 г.
Возможно, болезнь стала тем испытанием, после которого из просто талантливого политика Франклина Делано Рузвельта родился будущий великий президент, человек, сумевший переломить ход истории. Инвалидность стала не концом его карьеры, а началом новой жизни – хотя многие даже не догадывались о ней. На людях Франклин никогда не позволял себе появляться в инвалидной коляске: даже тем, кто знал про его болезнь, он давал понять, что здоров, что с ним надо обращаться так же, как с остальными. Он всегда – кроме того короткого промежутка времени, когда он только заболел и еще не решил, что делать дальше, – был активен и общителен, поглощен работой и общественной деятельностью, занимая множество постов в различных организациях – от члена наблюдательного совета Гарварда до председателя клуба бойскаутов Нью-Йорка. Даже заболев, Франклин поддерживал постоянные контакты с демократической партией: в этом ему помогала Элеонора, ставшая буквально его глазами, ушами и руками. Она приглашала политиков, выступала с докладами, разъезжала по избирательным участкам и собирала пожертвования. Чтобы успеть как можно больше, она даже получила водительские права, хотя боялась машин. Рузвельт выступал на двух конвентах партии, настойчиво продвигая кандидатуру Альфреда Э. Смита, которому сначала помог получить пост нью-йоркского губернатора, а затем и выдвижение в кандидаты в президенты. В 1928 году, когда Смит пошел на президентские выборы, он настойчиво рекомендовал Рузвельта как своего преемника на посту губернатора Нью-Йорка: по легенде, Рузвельт отказывался выдвигать свою кандидатуру, и лишь Элеонора смогла убедить его. Рузвельт выиграл выборы, хотя сам Смит с разгромным счетом проиграл Герберту Гуверу.
Став главой самого влиятельного штата, победив кандидата-республиканца в тот год, когда демократы всюду проигрывали, Рузвельт мог почивать на лаврах – но это было не в его характере. Он активно занялся вопросами, в которых разбирался лучше всего: социальным обеспечением, помощью безработным, борьбой с коррупцией и установлением контроля за городскими службами. Его манера руководства разительно отличалась от работы предшественников: Рузвельт много разъезжал по штату, проводил огромное количество встреч и митингов, бывая в школах и больницах, на мелких фермах и огромных заводах, и везде губернатор демонстрировал искреннюю заинтересованность, дружелюбие и готовность не просто говорить, но и добиваться обещанного. Он взял привычку выступать по радио, рассказывая избирателям о своих планах и достижениях, чего до него не делал никто. В результате в 1930 году он был переизбран на второй срок с огромным перевесом в более чем 700 тысяч голосов. При вступлении в должность он сказал: «Одна из обязанностей государства заключается в заботе о тех своих гражданах, которые оказались жертвами неблагоприятных обстоятельств, лишающих их возможности получать даже самое необходимое для существования без помощи других. Эти обязанности признаются в каждой цивилизованной стране. Помощь этим несчастным гражданам должна быть представлена правительством не в форме милостыни, а в порядке выполнения общественного долга».
В стране начиналась Великая депрессия: акции падали, банки разорялись один за другим, и вслед за ними разорялись миллионы американцев. Безработица и нищета достигли неимоверных размеров – а правительство заявляло, что депрессия скоро кончится сама собой, и не предпринимало никаких мер. В этих условиях губернатор Рузвельт делал все, чтобы облегчить участь своих избирателей. В августе 1931 года, когда кризис достиг, казалось, своего максимума, он создал в своем штате Временную чрезвычайную комиссию помощи, для которой было выделено 20 миллионов долларов, а для разработки дальнейших мер мобилизовал профессоров из Гарварда и Колумбийского университета – экономистов, социологов, юристов и так далее. «Я не самый умный парень на свете, но я умею подбирать умных сотрудников», – объяснял Рузвельт удивленным чиновникам. Этот же «мозговой трест» помог Рузвельту сформировать его идеи по выводу страны из кризиса, получившие название «Новый курс», – программу, с которой в 1932 году Рузвельт баллотировался на пост президента США против находящегося в должности Герберта Гувера.
Фраза Гувера, что «эта предвыборная борьба больше, чем борьба между двумя мужчинами. Это больше, чем борьба между двумя партиями. Это борьба между двумя точками зрения на цель и задачи правительства» очень точно характеризовала происходящее: основным различием между двумя партиями стал вопрос, имеет ли правительство право и обязанность вмешиваться в экономику для наведения в ней порядка. Гувер считал, что государство не должно вмешиваться в экономические – или какие угодно другие – проблемы, ибо свобода от любого диктата есть основа американского государства; Рузвельт же утверждал, что если правительство будет сидеть, сложа руки и бездействуя наблюдать, как миллионы людей гибнут от голода, то оно будет просто преступно. Он не стеснялся озвучивать свои мысли на всех предвыборных митингах: «В переживаемое нами тяжелое время, нужны планы, в которых возлагается надежда на забытого человека, находящегося в основе социальной пирамиды». На выборах Рузвельт одержал убедительную победу, завоевав большинство в 42 штатах из 48 и получив 472 голоса выборщиков против 59.

Франклин Рузвельт и Герберт Гувер направляются на инаугурацию Рузвельта, 4 марта 1933 года.
Перспектива попасть в Белый дом пугала Элеонору: в одном из писем она написала о том чувстве ненужности, которое возникает у нее при мысли о супруге-президенте, и о страхе потерять собственную личность за протокольными мероприятиями. Однако ее опасения оказались напрасными: и в Белом доме она продолжала свою активную деятельность, начатую ею когда-то ради заболевшего супруга. Она часто ездила по стране, встречаясь с избирателями, бывала в тюрьмах и трущобах, на фабриках и фермах, и всюду пропагандировала идеи своего мужа. Хотя ее собственные родственники нередко обвиняли ее в предательстве интересов своего класса, она продолжала делать то, что считала нужным. Накануне инаугурации, в феврале 1933 года, выступая в Майами, Рузвельт едва не стал жертвой покушения: безработный каменщик Джузеппе Зантара открыл огонь по выступавшим, убил стоявшего рядом с Рузвельтом мэра Чикаго Антона Чермака и ранил еще четверых. Позже Зантара объяснял, что хотел убить Гувера, но поскольку того не было, стрелял в Рузвельта. Он промахнулся, однако это не спасло его от электрического стула…
В инаугурационной речи Рузвельт сказал фразу, моментально ставшую крылатой: «Нам нечего бояться, кроме самого страха». Еще никто из американских президентов не получал столь печального наследства: Рузвельту досталась страна с разрушенной экономикой, остановленным производством, обанкротившимся сельским хозяйством, страна, в которой миллионы человек потеряли веру в будущее. Едва поселившись в Белом доме, Рузвельт буквально перетряс всю страну: первые сто дней его управления вошли в историю как беспрецедентное время самых радикальных реформ, зачастую неподготовленных и непродуманных, зато честных и действенных. Рузвельт сам признавался, что во многом действует, полагаясь лишь на интуицию, и надо отдать ему должное, она редко его подводила. Верный поговорке «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть», он развернул такую бурную деятельность, что привел в настоящий ужас привыкших к спокойной жизни чиновников. Закрыв банки на принудительные каникулы, Рузвельт обновил банковскую систему, за одну ночь напечатав 2 миллиарда долларов; он осуществил ряд мер по восстановлению сельского хозяйства и промышленности; под его давлением были приняты меры по социальной защите населения – введено страхование безработных и пенсия по старости. «Одна из обязанностей государства заключается в заботе о тех гражданах, которые оказались жертвами неблагоприятных обстоятельств. Помощь должна быть предоставлена правительством не в форме милостыни, а в порядке общественного долга», – говорил президент. По сравнению с политикой его предшественников, эти заявления звучали почти революционно.

Президент Рузвельт подписывает свои первые законы.
Ввел Рузвельт и еще одно новшество: он гораздо активнее, чем его предшественники, использовал прессу. Дважды в неделю он давал пресс-конференцию, на которой любой мог задать президенту свой вопрос. Вошли в историю прославленные «Беседы у камина» – радиопередачи из гостиной Белого дома, где президент рассказывал американцам о своей работе. Не отставала и Элеонора: раз в неделю она собирала журналисток, чтобы побеседовать с ними о насущных женских проблемах, но со временем расширила рамки возможных вопросов, перестав ограничивать круг приглашенных. К тому же она постоянно выступала со статьями в крупнейших изданиях США, а в некоторых у нее была постоянная колонка. Говорят, что нередко с помощью своих статей она проверяла реакцию американцев на деятельность своего супруга, за что тот был ей благодарен.
Такая открытость президентской жизни, демонстрируемая готовность к диалогу создавала у простых людей ощущение причастности к происходящему, вселяя в них уверенность в том, что все, что президент обещал, он сделает, а все, что он делает, делается ради блага общества.
Вопрос о том, насколько действенен был «Новый курс», до сих пор открыт: говорят, что подъем экономики был вызван естественными причинами; что принятые Рузвельтом меры были бессистемны, ограниченны и недостаточно радикальны; что созданный им аппарат был на редкость неэффективен – недостаточное разграничение обязанностей, взаимное дублирование и отсутствие контроля в его администрации стали притчей во языцех. Однако факт, что при Рузвельте страна восстала из Великой депрессии, остается бесспорным, и за одно это американцы ему навечно признательны. По данным статистики, в результате проведения «Нового курса» 8 миллионов человек получили работу, индекс производства удвоился, а национальный доход увеличился на 30 процентов.
Президентские выборы 1936 закончились триумфом Рузвельта: он победил во всех штатах, кроме Мэна и Вермонта. Пять миллионов республиканцев отдали свои голоса за демократа Рузвельта. Его популярности не помешал даже спад производства 1937 – 38 годов: оперативно принятые меры и доверительный тон выступлений президента сумели сохранить доверие избирателей.

Франклин Рузвельт и Мисси Ле Ханд, 1938 г.
Когда началась Вторая мировая война, Рузвельт оказался перед определенной проблемой: он был уверен в том, что война в Европе угрожает безопасности и экономике США, и поэтому Америке не удастся – и она ни в коем случае не должна – остаться в стороне от происходящего. Но американцы были уверены в том, что, раз их страна надежно защищена океанами от театра военных действий, самое правильное – ни во что не вмешиваться, сохраняя нейтралитет. Рузвельт приложил немало усилий, объясняя в своих выступлениях, к каким проблемам для США может привести война в Европе, и почему Америка не должна оставаться в стороне – на помощь он призвал Голливуд, прессу и самых видных представителей интеллигенции. Выступая в ноябре 1937 года в Чикаго, Рузвельт произнес так называемую «карантинную речь», в которой сказал: «Мир, свобода и безопасность для 90 % населения земного шара находятся под угрозой со стороны остальных 10 %, которые угрожают разрушением всех международных законов и установлений… Похоже, к несчастью, верно, что эпидемия всемирных беззаконий распространяется вширь. Когда эпидемия заразной болезни начинает распространяться в разные стороны, общество объединенными усилиями устраивает карантин для больных, с тем чтобы защитить здоровье остальных и предотвратить распространение заразы»
Конгресс, как мог, противодействовал Рузвельту, взгляды которого в вопросах внешней политики многие рассматривали как попытку втянуть Америку в войну, но он не сдавался. Его успехи можно проследить по четырем законам о нейтралитете, принятым с 1935 по 1939 год: если вначале запрещались любые экономические контакты с воюющими странами – с кем бы и за что они ни воевали, – то в конце концов почти прямо разрешалась военная помощь всем, кто воевал с Германией и ее союзниками. Когда у Великобритании кончились наличные деньги (по закону странам разрешалось покупать вооружение только за наличные и только при условии вывоза на собственном транспорте), Рузвельт изобрел систему «ленд-лиза», по которой вооружение и необходимая техника считались предоставленными в аренду, с обещанием заплатить после войны (причем уничтоженное в результате военных действий не оплачивалось). Американскому народу Рузвельт представил эту идею в упрощенной форме: «Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед вернет тебе шланг, а если тот окажется поврежденным, то заплатит за него, когда поднакопит деньжат». Кроме того, благодаря Рузвельту было начато перевооружение армии США.

Семья Рузвельтов на Рождество 1939 года.
Когда заканчивался второй срок его президентства, Рузвельт не собирался выдвигать свою кандидатуру: еще со времен Джорджа Вашингтона, отказавшегося от третьего срока, президенты США традиционно не находятся у власти больше двух сроков подряд, хотя в то время законодательно это не было закреплено. Но когда на конвенте партии зачитывали послание Рузвельта о нежелании баллотироваться, зал взорвался: «Рузвельта в президенты», «Все за Рузвельта»… Элеонора Рузвельт выдвинула кандидатуру мужа, и на следующий день его единогласно избрали кандидатом партии, и Рузвельт вынужден был согласиться. На выборах 1940 года он победил с перевесом в 5 миллионов голосов, став первым в истории президентом, избранным на третий срок подряд.

Франклин и Элеонора Рузвельт.
Снова заняв Белый дом, Рузвельт продолжал настаивать на необходимости подготовки к войне. В открытых дебатах, когда противники обвинили его в попытке нарушить нейтралитет и развязать войну, Рузвельт ответил, что речь идет о национальной безопасности: если в Европе и на Дальнем востоке победят диктаторы, стремящиеся к ограничению связей с независимыми странами, экономика США рухнет. Когда Германия напала на Советский Союз, Рузвельт заявил о готовности своей страны оказать поддержку борьбе советского народа – и добился от конгресса выделения СССР помощи по ленд-лизу в размере одного миллиарда долларов. В то же время он всеми силами старался не допустить войны с Японией: переговоры, казалось, были готовы успешно закончиться, когда 7 декабря 1941 года японская авиация нанесла удар по американской базе на Перл-Харбор. На следующий день США и Великобритания объявили войну Японии, all декабря войну Штатам объявили Германия и Италия. Обязанности главнокомандующего, согласно Конституции, взял на себя Рузвельт.
Антивоенные настроения моментально испарились, и вся страна сплотилась вокруг Рузвельта, превратившегося из разжигателя войны в пророка. Хотя разгневанные американцы требовали немедленно отомстить Японии, Рузвельт все же настоял на том, что война против Германии и Италии имеет приоритетное значение. Через две недели в США прибыл английский премьер-министр Уинстон Черчилль, вместе с которым Рузвельт выработал план совместных действий. Он всегда считал, что все глобальные решения должны приниматься совместно, – так же, как после окончания войны мир должен управляться ООН как советом всех стран, под руководством и с помощью четырех сверхдержав – «четверых полицейских» – США, Великобритании, СССР и Китая.
Известно, что Черчилль настаивал на том, чтобы наступление на Германию вести через Балканы – «мягкое подбрюшье Европы»: таким образом, преследовались сразу две цели – победить Гитлера и не дать СССР распространить свое влияние на страны Балканского региона. Однако Рузвельт настаивал на том, что наступление со стороны Нормандии будет эффективнее. На Квебекской конференции 1943 года его точка зрения наконец победила.
Это было триумфальное время Рузвельта: тонкий и хитрый дипломат, он дипломатическими способами заставил действовать в своих интересах и Великобританию, и Францию, связав их обязательствами – как политическими, так и экономическими, – на много лет вперед: недаром историки говорят, что единственной страной, по-настоящему выигравшей от Второй мировой, были Штаты, превратившиеся благодаря политике Рузвельта в главную сверхдержаву.
Пока Рузвельт встречался с главами государств и вел беседы с прессой, Элеонора не сидела на месте. Раз ее муж был не в состоянии лично разъезжать по стране, этим должна была заниматься она – и Элеонора без устали летала из одного города в другой, а после объявления войны – и по военным базам, добираясь даже туда, куда опасались прибывать военные инспекторы. Ее визиты всегда были неожиданны, и дело нередко доходило до анекдотов: например, на опорном пункте Эспериту-Санту на Новых Гебридских островах командир запретил солдатам нагишом находиться под дождем, опасаясь неожиданного приезда Элеоноры Рузвельт.
Политическая деятельность Элеоноры была столь яркой и заметной, что ее популярность нередко превосходила популярность ее мужа: например, в 1939 году, по данным общественных опросов, 67 % американцев положительно оценили ее активность, в то время как Франклину Рузвельту такую оценку дали лишь 58 %. Давно уже не считая себя связанной настоящими, а не политическими, семейными узами, Элеонора поддерживала мужа даже в самых на посторонний взгляд двусмысленных ситуациях: когда в июне 1941 года Мисси Ле Ханд перенесла инсульт, после которого она осталась частично парализована, Элеонора утешала Мисси, всерьез задумывавшуюся о самоубийстве, и организовала ее лечение. Кстати, в своем завещании Рузвельт оставил Мисси половину доходов от своей недвижимости, что в то время составляло около трех миллионов долларов; однако она скончалась раньше него. В последний путь верную подругу Рузвельта провожала тоже Элеонора – ее муж в это время был занят государственными делами.

Марта, крон-принцесса Норвегии, 1940 г.
Говорят, что удар случился с Мисси, когда она поняла, что ее место рядом с Рузвельтом занято другой. Все чаще на приемах и прогулках вместе с президентом была не она, а принцесса Марта. Дочь шведского короля и супруга норвежского крон-принца бежала вместе с детьми из занятой немцами Норвегии и, пока ее муж находился в Великобритании, работая с норвежским правительством в изгнании, она по приглашению американского правительства находилась в США. Первое время принцесса жила в Белом доме, нередко близко общаясь с президентом, и, как говорят, эта незаурядная женщина – элегантная, красивая, обаятельная, прекрасно образованная – очаровала Рузвельта. Иногда ее даже называют его последней любовью, хотя докопаться до того, какие именно отношения их связывали, еще никому не удалось.

Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. Ливадийский дворец, февраль 1945 г.
Когда в 1944 году Рузвельт стал президентом в четвертый раз, уже никто не удивился: менять в такое тяжелое время лидера страны, который столь хорошо себя зарекомендовал, к тому же при отсутствии какой-либо альтернативы, было бы сродни самоубийству. Успехи его правительства были очевидны: война активизировала промышленность, сведя безработицу к минимальным за последние годы цифрам, США не проиграли ни одного сражения, а количество убитых и раненых в них было в несколько раз ниже, чем у других стран, – все это считалось (да во многом и было) заслугой Франклина Рузвельта, никогда не ленившегося лично вникать во все мелочи и не стеснявшегося спрашивать совета у тех, кто разбирался в вопросе. Хотя его здоровье было уже серьезно подорвано – давали знать о себе и возраст, и тяжелая обстановка последних лет, и отсутствие какого-либо отдыха – Рузвельт не собирался давать себе ни малейшей поблажки. В феврале 1945 года он – несмотря на возражения врачей – полетел в Ялту на встречу «большой тройки», где беседовал с Черчиллем и Сталиным о судьбе послевоенной Европы.
Вернувшись из Ялты, он с удовлетворением говорил о своих отношениях с Черчиллем и Сталиным: «Мы достигли единомыслия и нашли способ ладить друг с другом». Рузвельт, несмотря на ухудшившееся здоровье, продолжал заниматься государственными делами, возглавляя подготовку к намеченному на 23 апреля открытию конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Однако врачи настояли, чтобы президент взял небольшой отпуск и отдохнул. Рузвельт выехал в Уорм-Спрингс. Двенадцатого апреля он, по воспоминаниям, позировал для портрета, как вдруг схватился за голову, упал – и больше не поднялся. Не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния в мозг.
Элеонора находилась в Вашингтоне, когда ей сообщили о смерти мужа. По легенде, она сказала: «Я больше сочувствую нашей стране и всему миру, чем себе». Она вызвала в Белый дом вице-президента Гарри Трумэна и сама сообщила ему о случившемся. После долгого молчания он тихо спросил Элеонору, может ли он что-то сделать для нее. «Можем ли мы что-либо сделать для тебя? – ответила она вопросом. – Тебе предстоят большие трудности». Четырем сыновьям, находящимся на различных фронтах, Элеонора послала одинаковые телеграммы: «Мои дорогие. Сегодня пополудни отец ушел от нас. Он до конца выполнил свой долг, и вы должны поступать так же».

Мемориал Франклина Делано Рузвельта в Вашингтоне.
Когда она приехала в Уорм-Спрингс попрощаться с мужем, ее ждал новый удар. Как оказалось, свой последний день Франклин Рузвельт провел в обществе Люси Мерсер: за прошедшие годы она вышла замуж, овдовела и снова стала встречаться с Рузвельтом. В Белый дом ее приглашала – в отсутствие Элеоноры – дочь Рузвельтов Энн. Этого Элеонора не смогла простить ей до конца жизни – как не смогла она простить и мужа.
Франклина Делано Рузвельта, согласно его завещанию, похоронили в Гайд-Парке, в семейной усадьбе Спрингвуд. Хотя многое из того, за что он боролся, было со временем отвергнуто или не было исполнено вовсе, он все равно остается одним из величайших политиков современности, одним из тех, кто изменил лицо мира.
Шарль де Голль

Спаситель Франции
С его именем неразрывно связана вся новейшая история Франции. Он дважды, в самое тяжелое для страны время, принимал на себя ответственность за ее будущее и дважды добровольно отказывался от власти, оставляя страну процветающей. Он был полон противоречий и недостатков, но обладал одним бесспорным достоинством – превыше всего генерал де Голль ставил благо своей страны.
Шарль де Голль принадлежал к старинному роду, ведущему свое происхождение из Нормандии и Бургундии. Как считается, приставка «де» в фамилии была не традиционной для Франции частицей дворянских имен, а фламандским артиклем, однако дворянство де Голлей насчитывало не одно поколение. Де Голли издревле служили королю и Франции – один из них участвовал еще в походе Жанны д’Арк, – и даже тогда, когда французская монархия перестала существовать, они оставались, по выражению генерала де Голля, «тоскующими монархистами». Анри де Голль, отец будущего генерала, начинал военную карьеру и даже участвовал в войне с Пруссией, однако потом вышел в отставку и поступил преподавателем в коллеж иезуитов, где обучал литературе, философии и математике. Он женился на своей кузине Жанне Майо, происходившей из богатого купеческого рода из Лилля. Всех своих детей – четверых сыновей и дочь – она приезжала рожать в дом матери в Лилль, хотя семья жила в Париже. Второй сын, получивший при крещении имя Шарль Андре Жозеф Мари, родился 22 ноября 1890 года.
Детей в семье воспитывали так же, как и многие поколения до них: религиозность (все де Голли были глубоко верующими католиками) и патриотизм. В своих мемуарах де Голль писал:
Отец мой, человек образованный и мыслящий, воспитанный в определенных традициях, был преисполнен веры в высокую миссию Франции. Он впервые познакомил меня с ее историей. Моя мать питала к родине чувство беспредельной любви, которое можно сравнить лишь с ее набожностью. Мои три брата, сестра, я сам – все мы гордились своей родиной. Эта гордость, к которой примешивалось чувство тревоги за ее судьбу, была нашей второй натурой.
С детства детям прививали любовь к истории, литературе и природе родной страны, знакомили их с достопримечательностями, биографиями выдающихся людей и трудами отцов церкви. Сыновьям внушали, что они – потомки славного рода, представители великого сословия, которое испокон веков служит во славу отечеству, нации
и религии. Юный Шарль был столь впечатлен мыслями о собственном великом происхождении, что искренне верил в свое великое предназначение. «Я считал, что смысл жизни состоит в том, чтобы свершить во имя Франции выдающийся подвиг, и что наступит день, когда мне представится такая возможность», – вспоминал он позже.
С 1901 года Шарль учился в иезуитском коллеже на улице Вожирар, в котором преподавал его отец. Он любил историю, литературу и даже сам пробовал писать. Выиграв местный поэтический конкурс, Шарль отказался от денежного приза ради возможности опубликовать свое произведение. Рассказывают, что Шарль постоянно тренировал силу воли – отказываясь от обеда, пока не закончит уроки, и даже лишая себя десерта, если уроки, по его мнению, были сделаны недостаточно хорошо. Он также усиленно развивал память – в зрелые годы легко запоминал речи на десятки страниц, – и увлеченно читал философские труды. Хотя мальчик был очень способным, учеба все же вызывала у него определенные трудности – Шарль с детства с трудом переносил любые мелочные ограничения и жесткие установления, которые не мог объяснить логически, а в коллеже иезуитов был безусловно регламентирован каждый чих. Последний год Шарль обучался в Бельгии: после правительственного кризиса 1905 года церковь была отделена от государства, и католические учебные заведения закрылись. По настоянию отца Шарль перебрался за границу вместе с родным учебным заведением – в Бельгии он обучался в специальном математическом классе и демонстрировал такие таланты к точным наукам, что преподаватели советовали ему избрать научную карьеру. Однако Шарль с детства мечтал о военной стезе: получив степень бакалавра, он вернулся в Париж и после подготовительного обучения в престижнейшем коллеже Stanislas в 1909 году поступил в военную школу в Сен-Сире – основанное еще Наполеоном, это высшее военное учебное заведение считалось одним из лучших в Европе. Своим родом войск он выбрал пехоту – как наиболее близкую к настоящим военным действиям.
Шарль с детства мечтал стать военным, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от врагов. Еще в детстве, когда маленький Шарль плакал от боли, отец успокаивал его словами: «Разве генералы плачут?» Став постарше, Шарль уже вовсю командовал братьями и сестрой, и даже заставил их изучить секретный язык, представлявший собой слова, прочитанные наоборот, – учитывая невероятную сложность французской орфографии, дело это было далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
Учеба в Сен-Сире на первых порах разочаровала его: бесконечная муштра и необходимость постоянно бездумно слушаться приказов угнетала Шарля, который был убежден, что подобное обучение годится лишь для рядовых – полководцы должны учиться подчинять, а не подчиняться. Однокашники справедливо считали де Голля заносчивым, и за высокий рост, худобу и постоянно задранный длинный нос прозвали его «длинной спаржей». Шарль мечтал выделиться на поле брани, но в то время, когда он учился в Сен-Сире, никакой войны не предвиделось, а слава французского оружия была делом давно минувших дней – последнюю войну, с Пруссией в 1870 году, французы позорно проиграли, а во время «Парижской коммуны» армия, расправлявшаяся с восставшими, и вовсе потеряла последние остатки уважения среди народа. Шарль мечтал о преобразованиях, которые могут снова сделать французскую армию великой, и ради этой цели был готов трудиться день и ночь. В Сен-Сире он много занимался самообразованием, а когда в 1912 году окончил училище, начал внимательно изучать армейские порядки изнутри, подмечая любые недостатки системы. Лейтенант де Голль был зачислен в расквартированный в Аррасе 33-й пехотный полк под командованием полковника Анри Филиппа Петена – одного из талантливейших французских военачальников того времени.
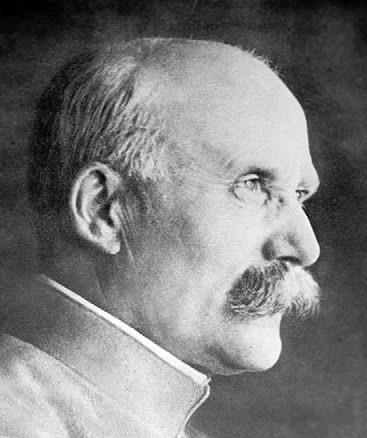
Генерал Филипп Петен.
В июле 1914 года началась Первая мировая война. Уже в августе Шарль де Голль, воюя под Динаном, был ранен и выбыл из строя на два месяца. В марте 1915 года он снова ранен в сражении при Мениль-ле-Юрлю – в строй он вернулся уже капитаном и командиром роты. В Верденской битве, которую французы выиграли благодаря полководческим талантам генерала Петена, де Голль был ранен в третий раз, причем так сильно, что его сочли погибшим и оставили на поле боя. Он попал в плен; несколько лет находился в военных лагерях, пять раз неудачно пытался бежать и был освобожден лишь после подписания перемирия в ноябре 1918 года.
Но даже в плену де Голль не сидел без дела. Он совершенствовал свое знание немецкого языка, изучал организацию военного дела в Германии, а выводы заносил в дневник. В 1924 году он опубликовал книгу, в которой обобщил накопленный за время плена опыт, назвав ее «Раздор в стане врага». Де Голль писал, что к поражению Германию привели в первую очередь отсутствие воинской дисциплины, самоуправство немецкого командования и плохая согласованность его действий с распоряжениями правительства – хотя вся Европа была уверена, что германская армия была лучшей в мире и проиграла она по экономическим причинам и потому, что у Антанты военачальники были лучше.
Едва вернувшись с войны, де Голль тут же направился на другую: в 1919 году он, как и многие французские военные, завербовался в Польшу, где сначала преподавал теорию тактики в военном училище, а затем в качестве офицера-инструктора участвовал в советско-польской войне.

Ивонн де Голль.
В 1921 году он вернулся во Францию – и неожиданно для самого себя влюбился. Его избранницей стала юная красавица Ивонн Вандру, дочь богатого кондитера. Для нее этот роман тоже стал неожиданностью: еще недавно она заявляла, что никогда не выйдет замуж за военного, однако очень быстро забыла о своем зароке. Уже 7 апреля 1921 года Шарль и Ивонн обвенчались. Выбор оказался удачным: Ивонн стала верной соратницей де Голля, поддерживая его во всех начинаниях и обеспечивая ему понимание, любовь и надежный тыл. У них родилось трое детей: сын Филипп, названный в честь генерала Петена, появился на свет 28 декабря 1921 года, дочь Элизабет родилась 15 мая 1924 года. Младшая, любимая дочь Анна, родилась первого января 1928 года – у девочки был синдром Дауна и прожила она всего двадцать лет. В ее память генерал де Голль посвящал много сил благотворительным фондам, занимавшимся детьми с подобными заболеваниями.
Вернувшемуся из плена де Голлю предложили занять место преподавателя в Сен-Сире, однако он сам мечтал попасть в Высшую военную школу – заведение по подготовке высшего офицерского состава, аналогичное академии Генерального штаба, – куда и был зачислен осенью 1922 года. С 1925 года де Голль служил в канцелярии генерала Петена, своего бывшего командира, ставшего после Первой мировой войны одним из авторитетнейших военных в Европе, а затем – в штабах в разных местах. В 1932 году он был назначен в секретариат Высшего совета национальной обороны.
С середины двадцатых годов де Голль начал приобретать известность как военный теоретик и публицист: он опубликовал несколько книг и статей – «Раздор в стане врага», «На острие шпаги», «За профессиональную армию», – где высказывал свои взгляды на организацию армии, тактику и стратегию ведения войн, организацию тыла и многие другие вопросы, не всегда напрямую связанные с военным делом и еще реже отражающие взгляды, присущие армейскому большинству.
Де Голль обо всем имел свое мнение: он считал, что армия даже во время войны должна подчиняться гражданской власти, что будущее – за профессиональной армией, что самым прогрессивным оружием являются танки. Последняя точка зрения шла вразрез со стратегией Генерального штаба, полагавшегося на пехоту и оборонительные укрепления типа линии Мажино. Писатель Филипп Баррес в книге о де Голле, рассказывая о своей беседе с Риббентропом в конце 1934 года, приводит такой диалог:
– Что касается линии Мажино, – откровенничал гитлеровский дипломат, – то мы прорвем ее с помощью танков. Наш специалист генерал Гудериан подтверждает это. Я знаю, что такого же мнения придерживается ваш лучший технический специалист.
– Кто наш лучший специалист? – спросил Баррес и услышал в ответ:
– Голль, полковник Голль. Это верно, что он так мало известен у вас?
Де Голль всеми силами старался добиться от Генштаба создания танковых войск, однако все его попытки закончились неудачей. Даже когда его предложениями заинтересовался Поль Рейно, будущий премьер-министр, и на их основе создал законопроект о реформе армии, то Национальное собрание отклонило его как «бесполезный, нежелательный и противоречащий логике и истории».
В 1937 году де Голль все же получил звание полковника и танковый полк в городе Меце, а с началом Второй мировой войны под его командование перешли танковые подразделения 5-й армии, действовавшей в Эльзасе. «На мою долю выпало играть роль в ужасной мистификации, – писал он по этому поводу. – Несколько десятков легких танков, которыми я командую, – это всего лишь пылинка. Мы проиграем войну самым жалким образом, если не будем действовать». Благодаря возглавившему правительство Полю Рейно уже в мае 1940 года де Голлю поручили командование 4-м полком – в битве при Камоне де Голль стал единственным французским военным, кто смог принудить немецкие войска к отступлению, за что был представлен к званию бригадного генерала. Хотя многие биографы утверждают, что генеральское звание де Голлю так и не успели присудить официально, именно с этим титулом он вошел в историю. Через неделю де Голль стал заместителем министра национальной обороны.
Проблема была в том, что никакой обороны собственно не было. Французский Генштаб так надеялся на линию Мажино, что не подготовился ни к наступлению, ни к обороне. После «странной войны» стремительное наступление немцев прорвало оборону, и всего за несколько недель стало ясно, что Франции не выдержать. Несмотря на то, что правительство Рейно было против капитуляции, 16 июня 1940 года ему пришлось уйти в отставку. Страну возглавил генерал Петен, герой Первой мировой, который больше не собирался воевать с Германией.
Де Голль чувствовал, что мир сходит с ума: мысль о том, что Франция может сдаться, была для него невыносима. Он вылетел в Лондон, где договаривался с английским премьер-министром Черчиллем об организации эвакуации французского правительства, и там узнал, что Петен ведет переговоры о капитуляции.

Это был самый черный час в жизни генерала де Голля – и он стал его звездным часом. «Восемнадцатого июня 1940 года, – писал он в мемуарах, – отвечая на призыв своей родины, лишенный какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию». В восемь часов вечера он выступил по английскому радио, призывая всех французов не сдаваться и сплотиться вокруг него ради свободы Франции.
Действительно ли сказано последнее слово? Должны ли мы отказаться от всякой надежды? Окончательно ли наше поражение? Нет!.. Я, генерал де Голль, призываю всех французских офицеров и солдат, которые уже находятся на британской земле или прибудут сюда в будущем, с оружием или без него, я обращаюсь ко всем инженерам и квалифицированным рабочим военной индустрии, которые уже находятся на британской земле или прибудут сюда в будущем. Я призываю вас всех связаться со мной. Чтобы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно угаснуть – и не угаснет.
А вскоре по всей Франции были распространены листовки с обращением де Голля: «Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну! Ничего не потеряно, потому что эта война – мировая. Настанет день, когда Франция вернет свободу и величие… Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды».
22 июня 1940 года Франция капитулировала: согласно подписанным соглашениям она была разделена на две части – оккупированную и неоккупированную зоны. Последней, занимавшей юг и восток Франции, управляло правительство Петена, называвшееся по месту нахождения в курортном городке «правительством Виши». На следующий день Англия официально разорвала дипломатические отношения с вишистами и признала главой «свободных французов» де Голля.

«Франция проиграла сражение, но не проиграла войну!» Шарль де Голль по английскому радио зачитывает обращение к французам, 18 июля 1940 г.
Такие действия не могли понравиться капитулировавшему правительству Петена. 24 июня генерал де Голль был официально уволен, 4 июля французский военный трибунал в Тулузе заочно приговорил его за дезертирство к четырем годам тюрьмы, а 2 августа – к расстрелу. В ответ 4 августа де Голль создал комитет «Свободная Франция», который сам и возглавил: за первые недели к комитету присоединились две с половиной тысячи человек, а уже в ноябре «Свободная Франция» располагала 35 тысячами человек, 20 военными кораблями, 60 торговыми судами и тысячей летчиков. Символом движения был избран Лотарингский крест – древний символ французской нации, представляющий собой крест с двумя перекладинами. Никто из более-менее заметных политических деятелей не поддержал де Голля, не примкнул к его движению, но простые французы видели в нем свою надежду. Ежедневно два раза он выступал по радио, и, хотя мало кто знал де Голля в лицо, его голос, говорящий о необходимости продолжать борьбу, стал знаком почти каждому французу. «Я… вначале ничего собою не представлял, – признавался сам де Голль. – Во Франции – никого, кто мог бы за меня поручиться, и я не пользовался никакой известностью в стране. За границей – никакого доверия и оправдания моей деятельности». Однако за довольно короткий срок ему удалось добиться весьма значительных успехов.
Сотрудник де Голля, антрополог и политик Жак Сустель описывал его в этот период:
Очень высокого роста, худощавый, монументального телосложения, с длинным носом над маленькими усиками, слегка убегающим подбородком, властным взглядом, он казался намного моложе пятидесяти лет. Одетый в форму цвета хаки и головной убор того же цвета, украшенный двумя звездами бригадного генерала, он ходил всегда широким шагом, держа, как правило, руки по швам. Говорил медленно, резко, иногда с сарказмом. Память его была поразительна. От него просто веяло властью монарха, и теперь, как никогда, он оправдывал эпитет «король в изгнании».
Постепенно главенство де Голля признали французские колонии в Африке – Чад, Конго, Камерун, Таити и другие, – после чего де Голль высадился в Камеруне и официально принял колонии под свой контроль. В июне 1942 года «Свободная Франция» была переименована в «Сражающуюся Францию», во главе которой стоял Французский национальный комитет, который фактически являлся правительством в изгнании, а его комиссары – министрами. Посланники де Голля разъезжали по всему миру, агитируя в поддержку генерала и «Сражающейся Франции», а особые агенты наладили связи с французским Сопротивлением и коммунистами, ведущими борьбу на оккупированной территории, снабжая их деньгами и вооружением, в результате чего в 1943 году Национальный комитет Сопротивления признал де Голля как главу страны.
«Сражающаяся Франция» была признана СССР и США. Хоть правительство Рузвельта крайне неодобрительно относилось к самому де Голлю, считая его узурпатором, выскочкой и «высокомерным французом», оно все же признавало его движение единственной реальной силой, способной оказать сопротивление Гитлеру. Черчилль, во многом с подачи Рузвельта, тоже недолюбливал генерала, называя его «вздорной личностью, возомнившей себя спасителем Франции» и «Жанной д’Арк с усами»: во многом такая антипатия была вызвана активной англофобией де Голля, который не мог простить Великобритании веков соперничества и ее нынешнего относительно благополучного положения, чем британские дипломаты, что скрывать, не раз пытались воспользоваться.
Де Голль мог быть самонадеянным, авторитарным, заносчивым и даже несносным, он менял свои убеждения и лавировал среди врагов и союзников, словно не видел между ними никакой разницы: ненавидя коммунизм, он дружил со Сталиным, недолюбливая англичан, сотрудничал с Черчиллем, умел быть жестоким с друзьями и легкомысленным в важных делах. Но он имел лишь одну цель – спасти страну, возродить ее величие, не дать более сильным союзникам поглотить ее, и вопросы личной власти и личных отношений отходили на второй план.
В ноябре 1942 года американские войска высадились в Алжире и Марокко – в то время тоже французских территориях. Союзники назначили главнокомандующим Алжира генерала Жиро. Со временем они планировали вывести Жиро в национальные лидеры, подменив его правительством, где должно было быть много вишистов, Национальный комитет де Голля. Однако в июне 1943 года де Голлю удалось стать сопредседателем (наряду с Жиро) созданного в Алжире Французского комитета национального освобождения, а уже через несколько месяцев безболезненно удалить Жиро от власти.
Когда союзники готовили высадку в Нормандии, де Голля снова попытались отстранить от участия в большой политике, но тот во всеуслышание заявил, что не позволит подчинить правительство Франции (то есть ФКНО) американскому командованию. Генерал вел переговоры со Сталиным, Черчиллем и Эйзенхауэром и в итоге добился того, что именно он въехал в столицу как победитель, когда союзники и силы Сопротивления освободили Париж.
Правительство Петена было эвакуировано в замок Зигмаринген, где весной 1945 года арестовано союзниками. Суд признал генерала Петена виновным в государственной измене и военных преступлениях и приговорил к расстрелу, общественному бесчестью и конфискации имущества. Однако генерал де Голль, из уважения к преклонным годам Петена и в память о службе под его началом, помиловал его, заменив расстрел пожизненным заключением.
С августа 1944 года де Голль возглавил Совет министров Франции: он снова принял на себя единоличную ответственность за судьбу родной страны, противодействуя планам союзников, согласно которым Франция, как капитулировавшая страна, должна быть отстранена от решения судеб послевоенного мира. Исключительно благодаря де Голлю и его усилиям Франция, подобно другим странам-победительницам, получила собственную оккупационную зону в Германии и позже – место в Совете Безопасности ООН.

Заседание Комитета национального освобождения Франции, де Голль сидит в центре, 1944 г.
Для самой Франции, как и для почти всех европейских стран, послевоенные годы были очень тяжелыми. Разрушенная экономика, безработица и политический разброд требовали от правительства немедленных решительных действий, и де Голль действовал молниеносно: были национализированы крупнейшие предприятия – шахты, авиазаводы и автомобильный концерн Renault, проведены социальные и экономические реформы. Во внутренней политике он провозгласил лозунг «Порядок, закон, справедливость».
Однако порядок в политической жизни страны так и не удалось навести: выборы в Учредительное собрание, проведенные в ноябре 1945 года, не дали преимущества ни одной партии – простое большинство получили коммунисты, проект конституции неоднократно отклонялся, любые законопроекты оспаривались и проваливались. Де Голль видел будущее Франции за президентской республикой, но депутаты собрания ратовали за сильный многопартийный парламент. В итоге 20 января 1946 года де Голль добровольно ушел в отставку. Он заявил, что выполнил свою главную задачу – освобождение Франции, – и теперь может передать страну в руки парламента. Однако историки считают, что со стороны генерала это был хитрый, но, как показало время, не совсем удачный ход: де Голль был уверен, что разнородное и полное непримиримых противоречий собрание не сможет сформировать устойчивое правительство и справиться со всеми трудностями, и тогда он снова сможет стать спасителем страны – на своих, разумеется, условиях. Однако такого триумфального возвращения де Голлю пришлось ждать двенадцать лет. В октябре была принята новая конституция, отводившая всю власть парламенту при чисто номинальной фигуре президента страны. Четвертая республика началась без генерала де Голля.

Вместе с семьей де Голль удалился в семейное поместье в городке Коломбэле-дёз-Эглиз, расположенном в Шампани в трехстах километрах от Парижа, и засел за создание мемуаров. Свое положение он сравнивал с заключением Наполеона на острове Эльба – и как Наполеон, не собирался сидеть сложа руки без надежды на возвращение. В апреле 1947 года он вместе с Жаком Сустелем, Мишелем Дебре и другими соратниками создал партию Объединение французского народа – Rassemblement du Peuple Frangais, или сокращенно RPF, эмблемой которого стал Лотарингский крест. RPF планировало установить во Франции однопартийную систему, однако на выборах 1951 года не получило абсолютного большинства в парламенте, позволившего бы ему добиться намеченной цели, и в мае 1953 года было распущено. Хотя голлизм как идейно-политическое течение (ратующее за величие страны и сильную президентскую власть) оставался заметным на политической карте тогдашней Франции, сам де Голль взял продолжительный отпуск. Он скрылся от любопытствующих в Коломбэ и отдался общению с семьей и написанию воспоминаний – его военные мемуары в трех томах, озаглавленные «Призыв», «Единство» и «Спасение», были опубликованы с 1954 по 1959 год и пользовались огромной популярностью. Могло показаться, что он счел свою карьеру законченной, и многие из его окружения были уверены в том, что генерал де Голль больше никогда не вернется в большую политику.

Де Толль выступает на митинге RPF, 1948 г.
В 1954 году Франция потеряла Индокитай. Воспользовавшись случаем, националистическое движение в тогдашней французской колонии Алжире, называвшееся Фронтом национального освобождения, развязало войну. Они требовали независимости Алжира и полного вывода французской администрации и готовы были добиваться этого с оружием в руках. Поначалу действия были вялотекущими: у ФНО не хватало вооружений и людей, а французские власти во главе с Жаком Сустелем считали происходящее просто серией локальных конфликтов. Однако после филиппвильской резни в августе 1955 года, когда повстанцы убили больше сотни мирных жителей, стала очевидной вся серьезность происходящего. Пока ФНО вел жестокую партизанскую войну, французы стягивали в страну войска. Через год ФНО устроил серию терактов в городе Алжир, и Франция была вынуждена ввести парашютную дивизию под командованием генерала Жака Массю, сумевшего за короткий период весьма жестокими методами навести порядок. Позднее де Голль писал:
Многие руководители режима сознавали, что проблема требует кардинального решения.
Но принять жесткие решения, которых требовала эта проблема, снести все препятствия на пути их осуществления… было выше сил неустойчивых правительств… Режим ограничивался тем, что с помощью солдат, вооружения и денег поддерживал борьбу, свирепствовавшую по всей территории Алжира и вдоль границ. Материально это стоило очень дорого, ибо приходилось держать там вооруженные силы общей численностью 500 тысяч человек; это обходилось дорого и с точки зрения внешнеполитической, ибо весь мир осуждал безысходную драму. Что же касалось, наконец, авторитета государства, это было буквально разрушительно.
Франция разделилась надвое: одни, считавшие Алжир неотъемлемой частью метрополии, рассматривали происходящее там как мятеж и угрозу территориальной целостности страны. В Алжире жило немало французов, которые в случае получения колонией независимости оказались бы брошенными на произвол судьбы, – известно, что повстанцы из ФНО обращались с французскими поселенцами с особой жестокостью. Другие считали, что Алжир достоин независимости – или по крайней мере его будет проще отпустить, чем поддерживать там порядок. Ссоры между сторонниками и противниками независимости колонии протекали весьма бурно, выливаясь в массовые манифестации, беспорядки и даже террористические акты.
США и Великобритания предложили свои услуги по поддержанию порядка в регионе, но когда об этом стало известно, в стране разразился скандал: согласие премьер-министра Феликса Гайара на иностранную помощь сочли предательством, и ему пришлось уйти в отставку. Его преемника не могли назначить три недели; наконец страну возглавил Пьер Пфлимлен, который заявил о готовности вступить в переговоры с ФНО.
Это заявление вызвало настоящую бурю: все сторонники сохранения целостности страны (то есть выступавшие за то, чтобы Алжир оставался французской колонией) почувствовали себя преданными. Тринадцатого мая французские алжирские генералы выдвигают парламенту ультиматум, требующий не допустить отказа от Алжира, принять новую конституцию и назначить премьер-министром де Голля, а в случае отказа угрожали высадить десант в Париже. Фактически это был путч.
Де Голль не был причастен ни к провалу в Индокитае, ни к алжирскому кризису, он все еще пользовался авторитетом в стране и на мировой арене. Его кандидатура, казалось, устраивала всех: одни надеялись, что он, патриот и верный сторонник целостности страны, не допустит независимости Алжира, другие считали, что генерал в состоянии навести порядок в стране любым способом. И хотя сам де Голль не желал прийти к власти в результате переворота (любое политическое потрясение, по его мнению, лишь ухудшало положение в стране, следовательно, было недопустимо), он согласился в столь трудное для Франции время снова возглавить страну. Пятнадцатого мая он выступил по радио с многозначительным заявлением: «Некогда в тяжелый час страна доверилась мне с тем, чтобы я повел ее к спасению. Сегодня, когда стране предстоят новые испытания, пусть она знает, что я готов принять на себя все полномочия Республики».
Первого июня 1958 года Национальное собрание утвердило де Голля в должности, вручив ему чрезвычайные полномочия для пересмотра конституции. Уже в сентябре был принят новый основной закон, ограничивавший полномочия парламента и утверждавший сильную власть президента. Четвертая республика пала. На выборах 21 декабря 1958 года 75 процентов выборщиков отдали голоса за президента де Голля. Осенью де Голль обнародовал так называемый «план Константины» – пятилетний план экономического развития
Алжира, – и объявил о скором военном наступлении на партизан. Кроме того, он пообещал амнистию для повстанцев, добровольно сложивших оружие. За два года ФНО был практически разгромлен.
К разочарованию военных, де Голль имел свое решение алжирской проблемы: независимое государство, экономически и политически тесно связанное с бывшей метрополией. Это решение было закреплено подписанными в марте 1962 года соглашениями в Эвиане. Алжир был не единственной страной, которой де Голль дал свободу: только в 1960 году независимость получили более двух десятков африканских государств. Де Голль настаивал на сохранении тесной культурной и экономической связи с бывшими колониями, укрепляя тем самым влияние Франции в мире. Недовольные политикой де Голля «ультраправые» начали на него настоящую охоту – по подсчетам историков, всего генерал пережил более двух десятков покушений, но ни в одном не получил серьезных повреждений, что лишний раз укрепило де Голля в его мнении о себе как об избранном Богом для спасения страны. Причем генерал не отличался ни мстительностью, ни особой жестокостью: так, после покушения в августе 1962 года, когда его автомобиль неудачно обстреляли из автоматов, де Голль подписал смертный приговор лишь главарю заговорщиков полковнику Бастьен-Тьери: потому что тот, офицер французской армии, так и не научился стрелять.
Соединенным Штатам, которые нередко высказывали свое недовольство политикой Франции, де Голль не стесняясь заявлял, что Франция имеет право поступать «как хозяйка своей политики и по своему почину». В 1960 году он в пику США устроил собственные ядерные испытания в Сахаре.
Де Голль был полон решимости ограничить европейское влияние США, от которых многие страны были зависимы, а вместе с ними и Великобритании, всегда более ориентированной на Америку, чем на Европу.

Шарль де Голль с президентом США Джоном Ф. Кеннеди и его супругой Жаклин, Елисейский дворец, 1961 г.
Он слишком хорошо помнил, как Черчилль заявил ему во время войны: «Помните, когда бы мне ни пришлось выбирать между свободной Европой и морскими просторами, я всегда выберу морские просторы. Когда бы мне ни пришлось выбирать между Рузвельтом и вами, я выберу Рузвельта!»
Сначала де Голль провалил вступление Британии в Общий рынок, а затем объявил о том, что не считает больше возможным использовать доллар в качестве международной валюты, и потребовал обменять на золото все имеющиеся в распоряжении Франции доллары – около полутора миллиардов. Эту операцию он называл своим «экономическим Аустерлицем». Как пишут историки, отношение к доллару, как к «зеленой бумажке», у де Голля сформировалось под впечатлением анекдота, рассказанного ему когда-то министром финансов: «На аукционе продается картина Рафаэля. Араб предлагает нефть, русский – золото, а американец выкладывает пачку стодолларовых банкнот и покупает Рафаэля за 10 000 долларов. В итоге американец получил Рафаэля за три доллара, потому как стоимость бумаги за одну стодолларовую банкноту – три цента!»
Когда президенту Джонсону доложили, что в гавани Нью-Йорка стоит французский корабль, груженный долларовыми бумажками, а в аэропорту приземлился самолет с таким же грузом, его чуть не хватил удар. Он пытался пообещать де Голлю крупные неприятности – а тот взамен пригрозил, что выведет с территории Франции все базы НАТО. Джонсону пришлось согласиться и выплатить де Голлю более трех тысяч тонн золота, а в феврале 1966 года де Голль все равно объявил о выходе Франции из состава НАТО, и об эвакуации с ее территории всех американских баз.
В то же время он не забывал о собственной стране: при де Голле во Франции была проведена деноминация (один новый франк равнялся ста старым), в результате чего упрочилась экономика и стабилизировалась политическая обстановка, столь бурная в начале пятидесятых. В декабре 1965 года он был переизбран на второй срок.
Однако уже в это время стало заметно, что де Голль теряет авторитет: молодому поколению он казался слишком авторитарным, не прислушивающимся к чужим советам, закоснелым в своих устаревших принципах, другие не одобряли его слишком агрессивной внешней политики, постоянно угрожавшей рассорить Францию с остальными странами. На выборах он получил лишь небольшое преимущество над Франсуа Миттераном, представлявшим широкий блок оппозиции, однако никаких выводов из этого де Голль не сделал. Экономический кризис 1967 года еще сильнее пошатнул его позиции, а майские события 1968 года окончательно подорвали его влияние.

Официальный портрет президента де Голля, 1968 г.
Все началось с того, что после студенческих беспорядков был закрыт университет в Нантерре. Студенты Сорбонны подняли мятеж в поддержку Нантерра и выдвинули собственные требования. В результате неудачных действий полиции пострадали сотни человек. За несколько дней мятеж охватил всю Францию: все уже забыли о студентах, но долго копившееся недовольство властью выплеснулось наружу, его уже было невозможно удержать. Тринадцатого мая – ровно через десять лет после знаменитого выступления де Голля во время алжирских событий – прошла грандиозная демонстрация, люди несли плакаты: «13.05.58–13.05.68 – пора уходить, Шарль!», «Десять лет – этого достаточно!», «Де Голля в архив!», «Прощай, де Голль!». Страну парализовала бессрочная забастовка.
В этот раз де Голлю удалось навести порядок. Он распустил сенат и Палату депутатов и назначил досрочные выборы, на которых неожиданно абсолютное большинство опять получили голлисты. Причину этого видят в том, что при всей сумбурности майских событий никакой реальной альтернативы де Голлю не было.
Однако он устал. Воочию столкнувшись с тем, что его дело и он сам уже не так популярны в стране, как он того хотел бы, и что его авторитета недостаточно, чтобы вовремя справиться с происходящим, де Голль принял решение покинуть арену. В апреле 1967 года он выдвинул на всенародный референдум заведомо непопулярные законопроекты о реорганизации сената и реформе территориально-административного устройства Франции, пообещав в случае неудачи уйти в отставку. Накануне голосования генерал выехал со всем архивом из Парижа в Коломбэ – относительно результатов у него не было никаких иллюзий. Референдум он проиграл. 28 апреля де Голль по телефону передал премьер-министру Морису Кув де Мюрвилю: «Я прекращаю выполнение обязанностей Президента Республики. Это решение вступает в силу сегодня в полдень».

Выйдя в отставку, де Голль впервые за много лет посвящал время только себе и семье. Его сын стал сенатором, дочь вышла замуж за полковника Анри де Буассо, потомка аристократов и талантливого военачальника. Шарль с женой отправились путешествовать – наконец он смог увидеть соседние страны не из окна правительственной машины, а просто гуляя по улицам. Они посетили Испанию и Ирландию, объездили Францию, а осенью 1970 года вернулись в Коломбэ, где де Голль хотел закончить свои мемуары. Он так и не успел их дописать: десятого ноября 1970 года, за две недели до своего восьмидесятилетия, генерал де Голль скончался от разрыва аорты.
Сообщая нации о смерти генерала, Жорж Помпиду, его преемник, сказал: «Генерал де Голль скончался, Франция овдовела».
Согласно завещанию, де Голль был похоронен на кладбище Коломбэле-дёз-Эглиз, рядом с дочерью Анной, в присутствии лишь самых близких друзей и родственников. В тот же самый день в соборе Парижской Богоматери состоялась траурная месса, которую с особой торжественностью и по большому чину отслужил кардинал-архиепископ Парижский. Это было меньшее, что могла сделать страна для человека, который дважды ее спас.
Через несколько лет при въезде в Коломбэле-дёз-Эглиз был установлен монумент – строгий лотарингский крест из серого гранита. Он символизирует не просто величие Франции, не просто скрытую мощь всей этой страны, но и отдельную личность, ее верного сына и защитника – генерала Шарля де Голля, столь же строгого и непреклонного в своем служении. После его смерти многое из того, что он сделал, было забыто или переоценено, и ныне фигура генерала в истории Европы стоит в одном ряду с такими колоссами, как Наполеон или Карл Великий. До сих пор его взгляды остаются актуальными, его дела – великими, его последователи по-прежнему правят Францией, и, как и раньше, его имя является символом величия страны.
