| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Зеленый свет (fb2)
 - Зеленый свет (пер. Александра Питчер) 10626K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мэттью Макконахи
- Зеленый свет (пер. Александра Питчер) 10626K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мэттью МакконахиМэттью Макконахи
Зеленый свет
Тому, кем я всегда
хотел быть, и семье
Matthew McConaughey
GREENLIGHTS

Copyright © 2020 by Matthew McConaughey
Photo on page 287 by Anne Marie Fox
Photo on page 121 courtesy of Universal Studios Licensing LLC
Photo on page 156 licensed by Warner Bros. Entertainment
All other photos are courtesy of the author
All rights reserved
Перевод с английского Александры Питчер

© А. Питчер, перевод, примечания, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021
Издательство АЗБУКА®


Это не традиционные мемуары. Да, я рассказываю о прошлом, но безо всякой ностальгии, сантиментов и отстранения, чего обычно ждут от мемуаров. И советов в этой книге нет. Я люблю проповедников, но не намерен читать проповеди и учить, как поступать.
Это концептуальная книга. Я рассказываю о своем прошлом, делюсь своими наблюдениями и соображениями, которые можно объективно осознать и, при желании, субъективно принять, изменив либо окружающую действительность, либо свой взгляд на нее.
Это своего рода пособие, основанное на случаях из моей жизни. Случаях важных, назидательных и забавных, иногда намеренно смешных, но чаще потому, что просто так сложилось. По натуре я оптимист и считаю юмор одним из главных наставников в жизни. С помощью юмора я превозмог боль, утраты и недоверие. Я не без изъяна; я все время влезаю в какое-то дерьмо, зато понимаю, куда я влез. Я научился соскребать грязь с ботинок и идти дальше.
Каждый из нас когда-нибудь влезает в дерьмо. Всю жизнь мы сталкиваемся с преградами и подставами, лажаем, болеем, не получаем того, чего хотим, переживаем тысячи «можно было и лучше» и «жаль, что так вышло». Так или иначе, но в дерьмо наступает каждый, поэтому можно либо считать, что это на счастье, либо найти способ делать это пореже.
К жизни
Я прожил пятьдесят лет, сорок два из которых пытался разгадать загадку жизни, а в течение последних тридцати пяти вел дневники, записывая в них подсказки к этой разгадке. Записи об успехах и неудачах, о радостях и горестях, о поразительном и о смешном. Тридцать пять лет я осмысливал, вспоминал, распознавал, собирал и записывал то, что меня восхищало или помогало мне на жизненном пути. Как быть честным. Как избежать стресса. Как радоваться жизни. Как не обижать людей. Как не обижаться самому. Как быть хорошим. Как добиваться желаемого. Как обрести смысл жизни. Как быть собой.
Я делал записи не для того, чтобы запомнить события, а наоборот, чтобы их забыть. Я боялся заглянуть в прошлое, встретиться со своими тогдашними мыслями, заранее опасаясь, что они мне не понравятся. Не так давно я наконец-то набрался смелости и перечитал все то, что написал за тридцать пять лет о том, кем я был в последние пятьдесят. И знаете что? Мне понравилось. Я смеялся, я плакал, я понял, что мне запомнилось много больше, а забылось гораздо меньше, чем я предполагал.
Что же я там отыскал? Всевозможные байки, жизненные уроки, которые я выучил и о которых забыл, стихи, молитвы, предписания, ответы на вопросы, заметки о вопросах без ответа, подтверждение некоторых сомнений, вера в то, что важно, всякие теории относительности и множество бамперок[1]. Я обнаружил постоянство в своем подходе к жизни, которое приносило мне удовлетворение и тогда, и сейчас.
Я обнаружил основную тему.
Тогда я собрал все свои дневники и отшельником отправился в пустыню, где начал писать то, что сейчас перед вами: альбом, записки, историю своей жизни.
То, что я видел, о чем мечтал, к чему стремился, что давал и что получал.
Взрывы истины, которые неумолимо сотрясали мое жизненное пространство.
Договоренности с самим собой – и те, что я исполнил, и те, которые соблюдаю до сих пор.
Все это – мои взгляды и впечатления, чувства и ощущения, достойные и постыдные.
Благостыня, истина и красота жестокости.
Посвящения, приглашения, вычисления и восхождения.
Увертки, ловкие и не очень, и безуспешные попытки не намокнуть, танцуя между каплями дождя.
Ритуалы и испытания.
Все в пределах или за пределами упорства и уступок, на пути к науке удовлетворения великим экспериментом, который называют жизнью.
Хочется верить, что это не горькое лекарство, всего лишь пара таблеток аспирина, а не больничная койка, экспедиция на Марс без полетного удостоверения, поход в церковь без того, чтобы рождаться заново, смех сквозь слезы.
Любовное послание.
К жизни.

Иногда, чтобы продвинуться вперед, надо вернуться. Вернуться, но не ради того, чтобы предаваться воспоминаниям или гоняться за призраками прошлого. Вернуться, чтобы понять, откуда ты пришел, где был, как оказался ЗДЕСЬ.
– МДМ, реклама «линкольна», 2014
Как я оказался здесь?
На человеческом родео я заработал немало шрамов. Иногда получалось хорошо, иногда плохо, и в конце концов я привык наслаждаться и тем и другим. Расскажу-ка я кое-что о себе, чтобы было понятнее, в чем дело.
Я младший из трех братьев, сын родителей, которые дважды разводились и три раза вступали в брак. Друг с другом.
С детства мы говорили друг другу: «Я тебя люблю». Искренне.
В десять лет я налепил переводную татуировку, и за это меня выпороли так, что задница посинела.
Когда я в первый раз пригрозил, что уйду из дома, родители собрали мне рюкзак.
Отец не присутствовал при моем рождении. Он позвонил маме и сказал: «Только очень прошу, если родится мальчик, не называй его Келли».
Всю жизнь больше всего на свете я хотел быть отцом.
Я научился плавать, когда мама столкнула меня в реку Льяно – либо сорвусь с водопада в тридцати ярдах ниже по течению, либо выберусь на берег. Я выбрался на берег.
Я всегда первым до дыр протирал коленки в суперпрочных джинсах «тафскин».
Два года подряд я получал больше всех красных карточек в детской футбольной лиге (до 12 лет). Я был вратарем.
Когда я начал ныть, что мои единственные кеды старые и немодные, мама сказала: «Не канючь, а то познакомлю тебя с безногим мальчиком».
В пятнадцать лет меня шантажом вынудили заняться сексом. Тогда я свято верил, что секс вне брака – прямая дорога в ад. Сейчас я всего лишь смею надеяться, что это не так.
В восемнадцать меня избили до беспамятства, швырнули в автофургон и надругались надо мной.
В мексиканском городке Реал-де-Каторсе я, наевшись пейотля, оказался в клетке с кугуаром.
Мне на лоб наложили семьдесят восемь швов. Зашивал ветеринар.
Я заработал четыре сотрясения мозга, свалившись с четырех разных деревьев. Три из них – в полнолуние.
Я барабанил укуренный в чем мать родила, и меня арестовали.
Я оказал сопротивление при аресте.
Собираясь поступать в колледж, я подал документы в университет Дюкa, Техасский университет в Остине, Южный методистский университет и университет Грэмблинга. Меня согласились принять три из четырех.
Я никогда не чувствовал себя жертвой.
У меня есть много доказательств того, что существует мировой заговор сделать меня счастливым.
В жизни мне удалось выкрутиться из бо́льших неприятностей, чем я предполагал.
Мне часто попадались чужие стихи, автором которых был я, сам того не зная.
Я был наивен, озлоблен и циничен. Но я неколебимо верю в добросердечность – присущую и мне, и всему человечеству, – которая объединяет всех нас.
Я считаю, что правда оскорбительна, только если мы лжем.
Я воспитан на экзистенциальной логике вольнодумцев, на пышном наборе несуразностей, на фикции фантасмагорической физики, ведь это должно быть правдой, даже если неправда.

А вот любовь – не фикция. Любовь настоящая. Иногда кровожадная, но без вопросов.
Я очень рано усвоил принцип относительности: как справляться с трудностями.
Я узнал, что такое стойкость, последствия, ответственность и тяжелый труд. Я научился любить, смеяться, прощать, забывать, играть и молиться. Я научился ловчить, продавать, очаровывать, менять курс, превращать поражения в победы и травить байки. Я научился лавировать меж бед и радостей, меж похвал и гадостей, меж достатка и нехватки, меж любовных песнопений и отборных оскорблений. Особенно когда сталкиваешься с неизбежным.
Это рассказ о том, как справляться с неизбежным.
Это рассказ о зеленом свете.

Это первые пятьдесят лет моей жизни, мой послужной список, пока еще не дописанный до последнего слова.
Что такое зеленый свет?
Зеленый сигнал светофора означает «идите» – шагайте вперед, двигайтесь, продолжайте. Светофоры регулируют дорожное движение, и если их правильно настроить, то машина попадет в «зеленую волну». Зеленый свет означает «следуйте вперед».
В жизни зеленый светзеленый свет. Он не сбивает с пути. С ним легко. Он – как босоногое лето. Он говорит «да» и дает то, чего ты хочешь.
Иногда зеленый свет притворяется желтым или красным. Предупреждение, объезд, пауза для размышлений, временная остановка, спор, несварение желудка, болезнь, боль. Точка, нож, помеха, неудача, страдание, пощечина, смерть. Никто не любит желтый и красный свет. Они замедляют, останавливают твой бег. С ними трудно. Они – босоногая зима. Они говорят «нет», но иногда дают то, что тебе необходимо.
Для того чтобы поймать зеленый свет, нужно умение: намерение, контекст, осмысление, выносливость, предвидение, стойкость, скорость и дисциплина. Зеленый свет можно поймать, если определить, где в твоей жизни горит красный, и изменить курс так, чтобы его избежать. А еще зеленый свет можно заслужить или разработать и создать самому. Можно даже запланировать, где он должен быть в будущем – чтобы облегчить себе путь, – но для этого нужны сила воли, тяжкий труд и правильный выбор. Мы сами можем создавать зеленый свет.
Для того чтобы поймать зеленый свет, нужно уметь улучить момент. Момент в жизни мира, а не в твоей собственной. Когда попадаешь в струю, настраиваешься на волну. Зеленый свет можно поймать по счастливой случайности, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Удастся ли поймать зеленый свет, в будущем во многом зависит от интуиции, кармы и везения. Иногда поймать зеленый свет помогает судьба.
Успешное движение по магистрали жизни означает правильное отношение к неизбежному в нужный момент. Неизбежность ситуации не относительна; когда признаешь, что какая-то ситуация приведет к неизбежному результату, относительным является то, как ты намерен к этому отнестись. Можно либо и дальше настойчиво добиваться желаемого, либо изменить направление и зайти с другой стороны, либо признать поражение и смириться с судьбой. Продолжаешь, меняешь планы или поднимаешь белый флаг и живешь себе дальше.
Это и есть секрет того, как жить в свое удовольствие: что из перечисленного выбирать и когда.
Такое вот искусство жизни.
Я верю, что все наши поступки – часть плана. Иногда все идет по плану, а иногда нет. И это тоже часть плана. Осознание этого – очередной зеленый свет.
В конце концов сегодняшние трудности в зеркале заднего вида твоей жизни окажутся скрытым благословением. Со временем вчерашний красный свет ведет тебя к зеленому свету. Все разрушения рано или поздно приводят к созиданию, смерть ведет к рождению, боль – к наслаждению. В этой жизни или в следующей все, что падает, обязательно поднимется.
Все дело в том, как относиться к стоящим перед нами проблемам и как с ними справляться. Настойчиво добивайся, меняй курс или признавай поражение. Выбор делаешь ты сам, и всякий раз выбор зависит лишь от тебя самого.
Эта книга о том, как поймать больше «да» в мире, полном «нет», и как распознать, когда именно «нет» на самом деле оказывается «да». Эта книга о том, как ловить зеленый свет и как осознать, что желтый и красный в конце концов становятся зеленым.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Сознательно и намеренно… Удачи.
Часть первая
Логика вольнодумцев
1974 г. Среда, вечер
Отец только что вернулся с работы. Швырнул в стиральную машину замызганную синюю рубаху (на левом нагрудном кармане вышито «Джим») и в одной майке сел во главе стола. Проголодался. Мы с братьями уже поужинали. Мама вытащила из духовки отцовскую порцию и метнула тарелку по столешнице.
– Солнышко, пюрешки побольше, – сказал отец, принимаясь за еду.
Он был человеком крупным: ростом шесть футов четыре дюйма, весом 265 фунтов. «Самый что ни на есть бойцовый вес, – говорил он. – Был бы легче, слег бы с простудой». В его сорок четыре года 265 фунтов выпирали в местах, которые в этот вечер совершенно не привлекали маму.
– Тебе пюрешки мало, ЖИРДЯЙ? – рявкнула она.
Я спрятался за диван в жилой комнате, занервничал.
Отец, не поднимая головы, продолжал есть.
– Глянь, какое пузо отрастил. Ну жри, жри, ЖИРДЯЙ, – приговаривала мама, наваливая в отцовскую тарелку невероятное количество пюре.
И понеслось. БАБАХ! Отец оттолкнул стол к потолку, встал и подступил к маме.
– Черт побери, Кэти, я целыми днями горбачусь, прихожу домой отдохнуть, дай хоть поесть спокойно.
Ну, дальше пошло-поехало.
Мои братья знали, что будет. И я знал. И мама знала, поэтому бросилась к телефону на дальней стене кухни, чтобы вызвать полицию.
– А тебе все неймется, да, Кэти? – процедил отец сквозь сжатые зубы и, тыча указательным пальцем, двинулся к ней через кухню.
Мама с размаху зафигачила ему по лицу телефонной трубкой.
Из разбитого носа хлынула кровь.
Мама подбежала к шкафчику, схватила двенадцатидюймовый поварской нож и пригрозила:
– Что, слабó тебе, ЖИРДЯЙ?! Вот я тебе сейчас все кишки выпущу!
Они кружили посреди кухни. Мама грозила ножом, отец с разбитым в кровь носом злобно скалился. Он сгреб початую четырнадцатиунциевую бутылку кетчупа «Хайнц», открыл крышку и стал размахивать бутылкой, как клинком.
– Давай-давай, ЖИРДЯЙ! Я тебе живо пузо пропорю!
Отец встал в позу матадора и начал прыскать на маму кетчупом.
– Ага! Попал! – с издевкой вопил он, прыгая из стороны в сторону.
Он ловко уворачивался от поварского ножа и поливал маму кетчупом, отчего она злилась все больше и больше.
– И снова попал! – язвил отец, когда маму пересекала очередная красная полоса.
Так продолжалось некоторое время, пока мама не обессилела от гнева. Перепачканная кетчупом, она швырнула нож на пол и выпрямилась, тяжело дыша и размазывая слезы по щекам.
Отец отбросил бутылку кетчупа, перестал изображать матадора и ткнул носом в предплечье, вытирая кровь.
С минуту они глядели друг на друга: на мамином лице слезы смешались с кетчупом, на отцовскую грудь стекала струйка крови. Внезапно родители сорвались с мест и стиснули друг друга в безумных объятьях, потом упали на колени, повалились на окровавленный, залитый кетчупом линолеум… и занялись любовью. Красный свет стал зеленым.
Потому что у моих родителей были вот такие отношения.
Поэтому мама, вручив отцу приглашение на их собственную свадьбу, заявила: «На обдумывание – сутки».
Поэтому мама с отцом трижды вступали в брак и дважды разводились – друг с другом.
Поэтому отец четыре раза ломал маме средний палец, чтобы она не тыкала ему в лицо.
Вот такая у них была любовь.



Покинув Ирландию, клан Макконахи расселился по миру – от Ливерпуля в Англии до Нового Орлеана и Литтл-Рока в Западной Виргинии. Среди моих предков нет благородных особ. Зато есть скотокрады, азартные игроки на прогулочных пароходах и телохранитель Аль Капоне.
Мой отец родился в Паттерсоне, штат Миссисипи, но вырос и считал родным домом Морган-Сити в Луизиане.
Мама родом из Алтуны, штат Пенсильвания, но всем говорила, что из Трентона, в Нью-Джерси, потому что «кому ж понравится быть родом из Алтуны».
У меня два брата. Старшего, Майкла, вот уже сорок лет зовут Рустером, потому что даже если он ложится спать за полночь, то все равно просыпается с петухами, на рассвете. Когда ему исполнилось десять, он заявил, что хочет в подарок братика, поэтому в 1963 году родители усыновили моего второго брата, Пэта, из методистского детского приюта в Далласе. Каждый год они предлагали Пэту устроить встречу с его настоящими родителями, но он упрямо отказывался, а когда ему исполнилось девятнадцать, вдруг согласился. В назначенную дату мама, отец и Пэт отправились в Даллас. Мама с отцом остались в машине, припаркованной на обочине у дома. Пэт подошел к двери, позвонил и вошел, а спустя пару минут вышел и уселся на заднее сиденье.
– В чем дело? – спросили родители.
– Да я хотел взглянуть, не облысел ли отец, потому что у меня начала редеть шевелюра.


Первая свадьба
22.12.1954

Вторая свадьба
18.12.1959
Мое появление на свет было случайностью. Родители много лет пытались завести еще одного ребенка, но безуспешно, поэтому до пятого месяца беременности мама считала, что у нее опухоль. Когда начались роды, отец отправился не в больницу, а в бар, так как подозревал, что я – не от него.
А все-таки я – от него.

В первый раз меня выпороли за то, что в детском саду я откликнулся на имя Мэтт («Ты же не щенок какой-нибудь!» – орала мама), второй – за то, что я сказал брату: «Я тебя ненавижу!», третий – за «не могу», а четвертый – за то, что солгал об украденной пицце.
За «дерьмо», «черт» и «твою мать» мне мыли рот мылом, но в общем ругали только за те слова, употребление которых было чревато большими неприятностями. Для меня самого. За оскорбительные слова. Вообще-то, слова сделали меня тем, кто я есть, потому что они были больше чем просто слова. Они выражали определенные ожидания, приводили к определенным последствиям. Они были ценностями.
От родителей я узнал, что имя мне дали не случайно.
Узнал, что нельзя ненавидеть.
Научился не говорить «не могу».
И никогда не лгать.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ


Родители не надеялись, что мы будем следовать установленным правилам, а ожидали этого. Несбывшиеся ожидания ранят больнее несбывшихся надежд, а сбывшиеся надежды доставляют больше счастья, чем сбывшиеся ожидания. У надежд бо́льшая отдача счастья и меньшие затраты на исполнение, но измерению они поддаются плохо. А мои родители предпочитали измерять.
Я ни в коем случае не пропагандирую телесные наказания как воспитательный метод, но знаю, что в детстве не делал того, что запрещалось, потому что не хотел порки. А еще я знаю, что делал то, что следовало, потому что хотел заслужить родительскую похвалу. Такие вот последствия.
Я родился в любящей семье. Мы всегда любили друг друга, даже когда в ком-то что-то и не нравилось. Мы до сих пор обнимаемся, целуемся, дурачимся и в шутку деремся. Мы не злопамятны.
Среди моих предков много тех, кто нарушал правила. Много свободомыслящих вольнодумцев, которые всегда голосовали за республиканцев, веря, что это не позволит другим вольнодумцам вторгаться на нашу территорию.
В нашей семье придерживались строгости и требовали соблюдать правила, до тех пор, пока у тебя не хватит смелости их нарушить. Мы вели себя так, как велели мать с отцом, потому что «так сказано», а непослушание наказывалось не запрещением гулять, а ремнем или оплеухами, потому что «так доходчивее и отнимает меньше драгоценного времени». Часто сразу после порки родители вели нас в нашу любимую кафешку, на чизбургеры и молочный коктейль, отмечая затверженный урок. Нас могли отругать за нарушение правил, но если уж попался с поличным, то порки было не избежать. Такое обращение на первый взгляд кажется жестоким, и то, что для нас привычно, часто задевает других, но мы с этим вполне справляемся и ни на что не жалуемся.
Подобная жизненная философия сделала меня ловчилой во всех смыслах этого слова. Я привык работать, и мне нравится ловчить. А еще благодаря этому мне есть о чем рассказать.

Как истинный сын американского Юга, начну с рассказа о маме. Она – та еще штучка, живое доказательство того, что ценность отпирательства целиком и полностью зависит от степени упрямства. Мама дважды победила рак – с помощью аспирина и упрямого нежелания признать болезнь. Она из тех женщин, которые не задумываясь, с ходу заявляют «я сделаю» и «я готова» и говорят «я обязательно приду», не дожидаясь приглашения. Ярая приверженка всего, что выгодно для нее, она не привыкла ни поступать сообразно ситуации, ни учитывать чужое мнение, потому что не терпит ждать чьего-то позволения. Может быть, она и не самый умный человек на свете, но ее это нисколько не волнует.
Сейчас ей восемьдесят восемь лет, но мне все равно редко когда удается лечь спать позже или проснуться раньше, чем она. В молодости она не возвращалась с танцев до тех пор, пока не протирала чулки до дыр.

Она с такой скоростью находит себе извинения, что никогда не расстраивается. Однажды я спросил ее, жалеет ли она о чем-то в конце дня, и она тут же ответила: «Каждый день, сынок, только к утру я по-любому об этом забываю». Она всегда заявляла: «В чужой дом надо входить не как покупатель, а как владелец». Естественно, ее любимое слово – «да».
В 1977 году мама отправила меня на конкурс «Юный мистер Техас» в городе Бандера.
Я выиграл приз.
Мама вставила фотографию в рамку и повесила на стену в кухне.
Каждое утро за завтраком она показывала на фотографию и говорила: «Вот полюбуйтесь, победитель, юный мистер Техас семьдесят седьмого года».

В прошлом году я случайно наткнулся на эту фотографию в мамином фотоальбоме и заметил какую-то надпись на призе. Увеличив изображение, я прочел: «Второе место».

Я позвонил маме, королеве относительности, и сказал:
– Мам, ты всю жизнь утверждала, что я победил на конкурсе «Юный мистер Техас», а на самом деле я занял второе место.
– Нет, первое место отдали мальчишке из богатой семьи, потому что его нарядили в дорогой костюмчик с жилеткой, – ответила она. – Это нечестно. Так что юный мистер Техас – это ты.

Потом, в 1982 году, в седьмом классе, я принял участие в поэтическом конкурсе. За день до конкурса я показал маме свое стихотворение.
– Неплохо, – сказала она, – но надо доработать.
Я ушел к себе в комнату сочинять новый вариант.
Пару часов спустя, довольный написанным, я снова принес стихи маме.
Она прочитала. Ничего не сказала.
– Ну как? – спросил я.
Она не ответила. Открыла книгу в твердой обложке на заложенной странице, положила передо мной, ткнула пальцем и заявила:
– А как тебе вот это?
Это было стихотворение Энн Эшфорд.
– Мне нравится, – сказал я. – А что?
– Вот так и напиши, – сказала мама.
– Как – так? В каком смысле?
– Ты ведь его понимаешь?
– Да, но…
– Если оно тебе нравится и если ты его понимаешь, то оно – твое.
– Мам, но оно ведь на самом деле не мое, а Энн Эшфорд.
– А что оно для тебя означает?
– Ну, когда тот, кого ты любишь, просто хочет посидеть с тобой и поговорить…
– Вот именно. Значит, если оно тебе нравится, если ты его понимаешь и если оно для тебя что-то означает, то оно – твое. Вот и напиши его.
– И подписать своим именем?
Да.
Я так и сделал.
И выиграл поэтический конкурс.
Мама не получила никакого воспитания и, поскольку не любила свое детство и юность, отвергла свое прошлое и придумала себе новое. Она твердо верила: то, что ты понял, принадлежит тебе, а значит, его можно присвоить, пользоваться как своим, продавать как свое и получать за это награды. Плагиат?
– Да плевать. Все равно никто ничего не узнает, а если узнают, то ничего плохого не сделают. Только обвинят и медаль отберут. Да ну их, – говорит мама.
Очевидно, что мама готовила меня в актеры задолго до того, как я сам избрал эту профессию.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ


Мама учила нас рисковому экзистенциализму, а отец – здравому смыслу. Он ценил почтительное обращение, «да, сэр», «нет, сэр», дисциплину, верность, настойчивость, добросовестность, честный труд, скромность, ритуалы взросления, уважение к женщинам и способность зарабатывать деньги на содержание семьи. А еще он писал картины, учился балету, играл в футбольной команде «Грин-Бей Пэкерс», не брезговал азартными играми, не пропускал мошеннических схем-«пирамид», любил выигрывать, а не покупать вещи и мечтал, «если сильно повезет», открыть закусочную на флоридском пляже.
Воспитывая сыновей, отец сперва ломал, а потом строил. Он уважал желтый свет, поэтому первым делом заставил нас усвоить основополагающие принципы поведения и лишь после этого проявлять индивидуальность. Выражаясь языком футболистов, сначала он учил нас играть в защите, а потом в нападении.
Всем было ясно, кто в доме хозяин, и если кто-то из нас троих пытался поставить это под сомнение, то отец хмыкал: «Ну вы знаете, где меня искать». Мы его боялись. Не потому, что он нас бил или еще как-то измывался, а потому, что он был наш отец. Мы брали с него пример. Для нас он был и высшим законом, и властью. Он не выносил дураков, но смягчался, если ты признавал, что сглупил. Огромный, как медведь, он был снисходителен к неудачникам и беспомощным людям, а к миру и к себе самому относился с грубоватым юморком. «Лучше потратить деньги на веселье, чем зарабатывать их скукой». Однажды, в конце 1980-х, банк отказал ему в выдаче кредита, и отец заявил банковскому служащему: «Ну, либо сейчас вы захлопнете передо мной дверь, либо мы с вами выйдем из банка друзьями». Кредит ему все-таки выдали. Отец обожал устраивать вечеринки, пить пиво и травить байки – и все это у него прекрасно получалось.

Майк – его старший сын. Майком отец занимался больше, чем Пэтом или мной, во-первых, потому что Майк был его первенцем, а во-вторых, к появлению нас с Пэтом отец работал в разъездах. У Майка – уверенного в себе, трудолюбивого, смышленого и запальчивого парня – была душа хиппи, и он вставал на защиту всех, кто послабее. Он никогда не терял головы, был равнодушен к боли, как барсук, и при первом же признаке неприятностей все обращались к нему. Мама всегда говорила, что он любую смерть переживет и, в отличие от нас с Пэтом, за него даже молиться не надо.

В нас воспитали уважение к Ветхому Завету, но адскими муками особо не пугали. В родительских принципах воспитания нашлось место и для милосердного учения Иисуса Христа.
В старших классах Майк отрастил патлы такой длины, что тренер футбольной команды Джим Колдуэлл попросил его подстричься. Отец с ним согласился, но Майк отказался.
На следующий день отец повез Майка в школу и по дороге сказал:
– Сынок, ты прямо как настоящий хиппи. Если не обкорнаешь патлы, тренер погонит тебя из команды.
– А мне плевать, пап. Мои волосы, что хочу, то и делаю. Пусть себе гонит, мне все равно. Стричься я не буду.
– Слушай, сынок, лучше не упрямься и подстригись.
Возмущенный Майк возразил:
– Нет, папа. Не буду я стричься.
– Сынок, я же тебе сказал…
– А у Иисуса тоже были патлы, – выпалил Майк.
Отец молчал. Майк знал, что совершил ловкий ход, помянув религию, и что, возможно, все сложится в его пользу. Отец молча вел машину. Когда они подъехали к школе, Майк окончательно уверился, что Иисус ему помог, но тут отец газанул и промчался мимо школы.
– Эй, пап, ты чего? – спросил Майк.
Не говоря ни слова, отец отъехал на восемь миль от школы, потом вдруг свернул на обочину, потянулся к пассажирской дверце, распахнул ее, вытолкал моего брата из салона и буркнул:
– Иисус ходил пешком.
В тот день мой брат явился в школу с опозданием. Не только потому, что ему пришлось пройти восемь миль, но еще и потому, что по пути он зашел в парикмахерскую.

Трудовой путь отец начал на бензозаправке «Тексако», потом занялся перевозкой труб, а потом стал поставщиком труб в местной компании «Генско». Он был хорошим продавцом. Он устроил Майка в отдел продаж, и Майк стал замечательным продавцом, причем очень быстро. Спустя два года, когда Майку исполнилось двадцать два, его признали лучшим продавцом компании. Директор компании поручил ему самого важного клиента, Дона Ноулса. Отец очень гордился Майком, но при этом помнил, что Майк – его сын.
За нашим домом был деревянный амбар, выходивший в проулок. В амбаре стоялa фура, оставшаяся с тех времен, когда отец занимался перевозкой труб. Как-то субботним вечером отец сказал Майку:
– Давай-ка выпьем пивка и пойдем в амбар, ножи метать.
– Договорились, пап. Вечером увидимся.
Часов в десять вечера, основательно залившись пивом, отец предложил:
– А пойдем покатаем трубы! Давненько мы с тобой этим не занимались.
«Катать трубы» означало подогнать пустую фуру к чужому складу труб, загрузить ее под завязку и умыкнуть товар. Когда отец занимался перевозкой труб, они с Майком частенько такое проделывали по субботам.
– А на чей склад поедем, пап?
Отец уставился на Майка и заявил:
– К Дону Ноулсу.
Вот же ж черт.
– Нет, пап, я пас. Ты же знаешь, Ноулс теперь мой клиент.
– Знаю. А еще знаю, что это я пристроил тебя в «Генско». Без меня не видать тебе таких клиентов как своих ушей. Кто для тебя важнее, сынок? Родной отец или долбаный Дон Ноулс?
– Пап, ну так нечестно!
– Что нечестно? С чего ты нос воротишь? Западло с отцом трубы покатать? Важной птицей заделался, а?
Вот же ж черт.
– Пап, ну не шуми…
Отец снял рубашку.
– Нет уж, давай-ка посмотрим, что ты за важная птица такая! Против родного отца выступаешь? Ну-ка, докажи, хватит ли у тебя силенок.
– Пап, я ж не хочу…
Бац! Отец влепил Майку увесистую оплеуху. Майк отступил на шаг, выпрямился и закатал рукава:
– Ах вот, значит, ты как?
– Да вот так! Давай-давай, молокосос, покажи, на что ты способен.
В отце было 265 фунтов веса и 6 футов 4 дюйма роста. В Майке – 180 фунтов и 5 футов 10 дюймов.
Вот же ж черт.
Отец, пригнувшись, хуком справа врезал Майку в челюсть. Майк упал. Отец подступил к нему. Майк приподнялся и заметил рядом пятифутовый отрезок бруса сечением два на четыре дюйма. Не успел отец в очередной раз ударить сына, как Майк схватил брус, замахнулся им, как бейсбольной битой, и стукнул отца в правый висок.
Отец покачнулся, слегка оглушенный, но устоял на ногах.
– Прекрати, пап! Я не хочу с тобой драться! И воровать трубы у Дона Ноулса тоже не хочу!
Из отцовского уха текла кровь. Отец повернулся и врезал Майку еще одним хуком справа.
– Хрен тебе! – сказал он, повалив сына на землю.
Брус отлетел в сторону. Майк, защищаясь от ударов, сгреб горсть мелкого гравия и швырнул отцу в лицо, на время ослепив его.
Отец отшатнулся.
– Пап, ну хватит уже! Все, закончили.
Но отец не унимался. Ничего не видя, он бросился на голос сына. Майк легко увернулся.
– Хватит, пап!
Отец взревел, как слепой медведь с окровавленными ушами, и снова накинулся на Майка.
– Где ты, сопляк? Где мой сын, который не желает с отцом трубы катать?
Майк поднял брус и перехватил поудобнее.
– Папа, я тебя предупреждаю, завязывай. Еще раз ко мне полезешь, я тебя этой деревяшкой шарахну.
Услышав это, отец выпрямился и заявил:
– Ну, попробуй.
И метнулся к Майку.
БАЦ!
Отец огреб брусом по голове. И в беспамятстве упал.
– Ох, черт! Папа!!! – встревоженно крикнул Майк и внезапно испугался, что убил отца.
Из глаз брызнули слезы. Майк опустился на колени:
– Папа! Ну я же просил, не лезь ко мне!
Отец не шелохнулся. Четыре с половиной минуты Майк на коленях рыдал над поверженным отцом:
– Пап, я не хотел, я же просил, не нарывайся!!!
Отец наконец-то очухался и медленно встал.
– Папа, извини, пожалуйста! Прости меня! – закричал Майк.
Отец расправил плечи и стряхнул гравий со щек. Майк, всхлипывая от страха и волнения, приготовился к очередной атаке. Отец свежим взглядом смотрел на молодого человека, который только что его оглушил. На своего первенца.
Драка закончилась. По отцовским щекам струились слезы – слезы гордости и радости. Он раскинул руки, подошел к Майку и сдавил его в медвежьих объятиях, нашептывая ему на ухо:
– Молодец, мальчик мой! Молодец, сынок!
С того самого дня отец признал Майка ровней себе и держался с ним на равных. И больше никогда не бросал ему вызов и не мерился с ним силами – физическими, духовными или моральными. Они стали лучшими друзьями.
Видите ли, для отца были очень важны ритуалы взросления. Если ты считал, что можешь с ним справиться, то должен был это доказать. Что Майк и сделал.


Пэту тоже выпала честь испытать на себе отцовские методы превращения мальчиков в мужей. За последние сорок лет, пока Рустер делал карьеру в нефтяном бизнесе Западного Техаса, а я – в Голливуде, Пэт оставался верен семье и поддерживал самые близкие отношения с мамой. В юности он со мной нянчился, защищал меня, принимал в компанию своих друзей, познакомил меня с рок-н-роллом, научил играть в гольф, водить машину и приглашать девушек на свидание.
Для меня Пэт был героем. Его же героем был Ивел Книвел.

Пэт прошел отцовское испытание на прочность в пятницу, ранней весной 1969 года, за восемь месяцев до моего чудесного рождения. Отец с друзьями отправился на охоту, в угодья Фреда Смизера, в нескольких часах езды от нашего дома.
Вечером подгулявшие охотники решили развлечься, устроив соревнования «кто поссыт выше головы». Все выстроились вдоль амбарной стены, пометили меловой чертой рост каждого, а затем по очереди «подходили к снаряду». Отец одержал уверенную победу, окропив свою отметку на высоте 6 футов 4 дюйма. Какой приз ему достался? Право хвастаться.
Однако же самым высоким среди собравшихся был не отец, а Фред Смизер, ростом 6 футов 7 дюймов. И хотя отца уже объявили победителем, он решил проверить, сможет ли взять и эту высоту.
– Давай, Большой Джим! – подбадривали его приятели. – У тебя получится!
Отец выхлебал еще банку пива, изготовился и пустил струю.
Но выше шести футов четырех дюймов не попал.
– Вот, я же говорил, выше моей головы не поссышь! Такого никто не сможет! – заявил Фред Смизер.
На что отец тут же ответил:
– А мой сын сможет!
– Ну ты загнул, Джим, – ухмыльнулся Фред. – Выше моей головы никто не поссыт, даже твой сын.
– Ни фига. Хочешь на спор?
– Ладно. На что спорим?
В углу амбара стоял неновый мотоцикл-внедорожник «Хонда ХR-80». Дело в том, что Пэт целый год просил подарить ему внедорожник на Рождество, а отцу такие расходы были не по карману.
– А вот спорим на этот мотоцикл, Фред, что мой сын поссыт выше твоей головы.
Все захохотали.
Фред посмотрел на мотоцикл, перевел взгляд на отца и сказал:
– По рукам. А если не поссыт, с тебя двести долларов.
– Ну, таких денег у меня не водится, Фред. Но если мой сын не поссыт выше твоей головы, забирай мой пикап.
– Заметано, – сказал Фред.
– Договорились. Я съезжу за сыном, к рассвету вернемся, так что не вздумайте дрыхнуть.
Отец сел в свой старенький пикап и отправился домой, в Ювалде, за 112 миль от охотничьих угодий Фреда Смизера.
– Просыпайся, дружок, – негромко сказал отец, расталкивая спящего Пэта. – Надевай куртку и обувайся, мы сейчас поедем.
Восьмилетний Пэт вылез из постели, надел кеды, натянул куртку поверх белья и пошел в туалет.
– Нет-нет, сынок, – остановил его отец. – Терпи.
И повез Пэта за 112 миль, заставив по пути выпить две банки пива. К Фреду Смизеру они приехали без двадцати пять. Мочевой пузырь Пэта раздулся до предела.
– Пап, мне невтерпеж…
– Знаю, сынок, знаю. Погоди еще минуточку.
Отец с Пэтом (кеды, куртка, нижнее белье) вошли в амбар. Охотники поутихли, но не заснули. И Фред Смизер тоже.
– Ребята, это мой сын Пэт. И сейчас он поссыт выше Фредовой головы.
Все расхохотались.
Фред подошел к амбарной стене и провел над головой меловую черту – на высоте шесть футов семь дюймов.
– Пап, чего это он? – спросил Пэт.
– Видишь отметку на стене?
– Да, сэр.
– Сможешь до нее доссать?
– Делов-то! – Пэт стянул трусы до колен, обеими руками взялся за писюн, прицелился и пустил струю.
На два фута выше отметки Фреда Смизера.
– Молодец, сынок! Ну, что я вам говорил? Мой сын ссыт выше головы Фреда!
Отец метнулся в угол амбара, схватил мотоцикл и подкатил его к Пэту.
– Счастливого Рождества, сынок!
Они загрузили «хонду» в кузов отцовского пикапа и, проехав еще 112 миль, вернулись домой к завтраку.

Четырнадцать лет спустя Пэт стал лучшим гольфистом в команде университета Дельта штата Миссисипи. Пэта, игрока с нулевым гандикапом, прозвали Техасским Жеребцом. Он как раз стал победителем турнира Юго-Восточной спортивной студенческой конференции в игре на счет ударов, проходившего на гольф-поле ассоциации «Арканзас рейзорбекс». В автобусе по дороге домой тренер объявил, что намерен провести общее собрание команды.
– Завтра утром у меня дома, ровно в восемь.
На следующее утро тренер собрал игроков в своей гостиной и сказал:
– Мне стало известно, что вчера перед началом турнира кто-то из вас курил марихуану в городском парке Литтл-Рока. Необходимо выяснить, во-первых, кто привез марихуану в Литтл-Рок, а во-вторых, кто ее курил.
При этом он смотрел на Пэта. Пэт, воспитанный на отцовском принципе «всегда говори правду», сделал шаг вперед:
– Тренер, это я. Я привез марихуану, и я ее курил.
Он одиноко стоял в центре комнаты. Его товарищи по команде не шелохнулись и не произнесли ни слова, хотя косячок в парке Литтл-Рока курили на троих.
– И больше никто? – уточнил тренер.
Молчание.
– Решение я приму завтра и вас извещу, – сказал тренер. – А пока свободны.
На следующее утро тренер пришел к Пэту в общежитие.
– Об этом проступке я сообщу твоему отцу. А ты на семестр отстранен от соревнований.
Пэт вздохнул.
– Послушайте, я же честно признался. А вдобавок я лучший игрок в команде.
– Это не имеет значения, – сказал тренер. – У нас запрещено употреблять наркотики, а ты это правило нарушил. Поэтому и отстранен. И я сообщу твоему отцу.
– Ну хорошо, – сказал Пэт. – Хотите – отстраняйте. Но отцу ни в коем случае не говорите. Да поймите же, ему можно сказать, что я пьяным сел за руль. А за марихуану он меня убьет.
Подростком Пэта дважды уличали в курении марихуаны, и он, испытав на себе отцовские методы дисциплинарного воздействия, был твердо намерен не допустить третьего раза.
– А это уж ваше дело, – заупрямился тренер.
Пэт снова вздохнул:
– Ну ладно, тренер. А давайте мы с вами прокатимся.

Они уселись в машину Пэта, «Шевроле-камаро Z-28» 1981 года выпуска, и поехали по кампусу университета Дельта. Минут через десять Пэт нарушил молчание:
– Знаете, вот я вам честно скажу: хотите отстранить – отстраняйте. Но если вы позвоните отцу… я вас убью.
Пэта отстранили.
Отец об этом не узнал.

Как я уже говорил, мое рождение было незапланированным – мама до сих пор зовет меня «случайностью», а отец полушутя заявил ей: «Это не мой сын, Кэти, а твой». В моем детстве отец работал в разъездах, поэтому бо́льшую часть времени я провел с мамой. И это правда. Я был маминым сыном. Когда я был с отцом, то радовался каждому мигу.
Мне очень хотелось заслужить его одобрение, и иногда мне это удавалось. А иногда он весьма изобретательно и радикально изменял мои представления.

В детстве у меня был любимый сериал: «Невероятный Халк» с Лу Ферриньо.
Я восхищался его мускулами и, стоя перед телевизором, скидывал рубашку и копировал его позы: сгибал руки, сжимал кулаки, что было сил напрягал бицепсы, воображая себя бодибилдером.
Как-то раз отец застал меня за этим занятием.
– А что это ты делаешь, сынок? – спросил он.
– Когда-нибудь у меня будут такие же мышцы, – заявил я, указывая на экран. – Бицепсы как бейсбольные мячики!
Отец хмыкнул, скинул с плеч рубаху и встал перед телевизором в той же позе, что и я.
– Ну да, при виде бицепсов девчонки визжат от восторга, и выглядит все это впечатляюще, но этот тип такой перекачанный, что без посторонней помощи задницу себе не подотрет… Бицепсы эти его… фуфло.
Он медленно опустил руки, сжал кулаки, вывернул локти наружу и напряг массивные трицепсы.
– А вот трицепсы, сынок, – продолжил он, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, к бугрящимся мускулам на задней стороне плеча, – это рабочие мышцы, они тебя и прокормят, и крышу над головой построят. Трицепсы – вот это бабло.
Отец предпочитал ворочать мешки на складе, а не красоваться напоказ.


Летом 1979 года отец перевез маму, меня и Пэта из города Ювалде, штат Техас (население 12 000 чел.), в Лонгвью (население 76 000 чел.), самый быстро растущий – на волне нефтяного бума – населенный пункт Восточного Техаса. В Ювалде я научился справляться с трудностями, а в Лонгвью – мечтать.
Как и все, мы переехали из-за денег. Отец по-прежнему торговал трубами, а на буровых скважинах в Лонгвью можно было быстро разбогатеть. Едва мы обосновались в Лонгвью, Пэт уехал на сборы гольфистов, а мама решила провести «продолжительный отпуск» на пляже Наварре-Бич во Флориде. Рустер, которому еще не исполнилось и тридцати, уже стал мультимиллионером и переехал в Мидленд, штат Техас, так что в автодоме на окраине Лонгвью остались только мы с отцом.
Отцовские руки могли искалечить, а могли и исцелить. Когда мама страдала мигренями, отцовский массаж снимал боль лучше любых лекарств. Отцовские руки и отцовские объятья с одинаковой легкостью лечили и переломы, и сердечные раны, особенно у беспомощных слабаков.
Кроме нас, в автодоме жил попугай по кличке Везунчик. Отец обожал попугая, а попугай – отца. Каждое утро отец открывал клетку и выпускал Везунчика полетать по автодому. Попугай любил сидеть на отцовском плече или на предплечье. А еще они разговаривали друг с другом.
На ночь Везунчика запирали в клетку, а весь день он порхал себе по автодому, только надо было осторожно закрывать и открывать входную дверь, чтобы попугай не вылетел на свободу.
Однажды вечером, за день нагулявшись по окрестностям, я пришел домой как раз тогда, когда отец вернулся с работы.
Мы вошли в автодом, но Везунчик почему-то не взлетел к отцу на плечо. Странно. Мы обыскали весь автодом. Везунчик пропал. Черт, может, утром попугай выпорхнул в раскрытую дверь, а я не заметил? Или кто-то приходил сюда без нас?
Внезапно из дальнего конца автодома послышался отцовский голос:
– Ох, Везунчик! Боже мой! Ну надо же…
Я бросился к отцу. Он опустился на колени перед толчком. В воде на дне телепался Везунчик. По отцовским щекам струились слезы. Он обеими руками достал попугая из воды и, нежно покачивая в ладонях, причитал сквозь всхлипы:
– Ох, Везунчик! Как же ты так….
Везунчик сдох. Отец держал в горсти мокрое неподвижное тельце. Похоже, попугай случайно свалился в толчок, крышка захлопнулась, и он не смог из-под нее выбраться.
Рыдая, отец поднес дохлого попугая к лицу и вгляделся в поникшую птичью головку. Потом широко раскрыл рот и осторожно всунул в него Везунчика, так что наружу торчали только кончики крыльев и хвост. И начал делать попугаю искусственное дыхание. Он втягивал носом воздух, чтобы поддерживать ровный приток, и дышал размеренно и осторожно, чтобы не повредить крошечные птичьи легкие. Он стоял на коленях у толчка, наполовину засунув в рот попугая по кличке Везунчик, и делал птице искусственное дыхание. Один выдох… Второй выдох… Третий выдох… Отцовские слезы орошали и без того мокрое птичье тельце. Четвертый выдох… Пятый… Дрогнуло перышко. Шестой выдох… Седьмой… Затрепетало крыло. Восьмой… Отец чуть разжал руки и ослабил напряженные губы. Девятый… Затрепетало другое крыло. Отец раскрыл рот пошире. Десятый выдох… И тут из отцовского рта послышалось слабый писк. Горькие слезы стали слезами радости. Отец бережно вытащил голову Везунчика изо рта. Попугай дернулся, стряхнул с себя капли воды и слюны. Отец и птица смотрели друг другу в глаза. Попугай издох. А теперь ожил. Везунчик прожил еще восемь лет.


Тем же летом, пока отец был на работе, я целыми днями шастал по окрестным лесам Пайни-Вудс – босоногий, обвязав вокруг пояса фланелевую рубаху и сжимая в руках духовое ружье «Дейзи». В Ювалде таких деревьев не было. Тысячи высоченных сосен подпирали небо. Среди них была одна, которая нравилась мне больше всего, – белoствольная канадская сосна среди бесчисленных орегонских. Ее ствол был шести футов в поперечнике, а вершина устремлялась в космос.
Однажды, ближе к вечеру, в полумиле от дома, пытаясь подстрелить белку, я набрел на заросли, среди которых виднелась ограда футов десяти высотой, увитая густым плющом и увешанная обшарпанными табличками «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Я пробрался сквозь кусты и заглянул за ограду. Во двор лесопилки. Повсюду расхаживали рабочие в касках, работали вилочные погрузчики и высились аккуратные штабеля бруса, досок и листов фанеры. Отлично, подумал я. Самое то для домика на дереве.
На том самом дереве. Я дождался, когда погрузчики остановятся, рабочие разойдутся, а лесопилку закроют, и часов в шесть побежал домой. У меня родился план, о котором я не мог рассказать отцу. План на все три летних месяца.
На следующее утро отец позавтракал и, как всегда, в половине седьмого отправился на работу. Как только он ушел, я залез в ящик с инструментом и отыскал кусачки для проволоки. Потом надел рубаху, схватил воздушку, оставил кеды в чулане и бегом бросился на разведку.
Как бы все это провернуть? На лесопилке целый день люди, поэтому надо приходить по ночам, решил я. А если меня там поймают? Или отец узнает, что я по ночам сбегаю из дома? А потом выяснится, что я ворую доски с лесопилки в полумиле от нас? Я волновался. И радовался.
После ужина я, как обычно, посмотрел очередную серию «Невероятного Халка», а потом мы с отцом пожелали друг другу спокойной ночи. Я лег в кровать и задумался, сколько придется ждать, пока я смогу улизнуть через окно. Было хорошо слышно, как отец возится в противоположном конце трейлера. Когда все звуки смолкли, я на всякий случай выждал еще час, тихонько встал с кровати, повязал на пояс фланелевую рубаху, оставил кеды в чулане, схватил воздушку, фонарик и кусачки, сбросил их через окно на газон, вылез в окно сам и отправился на лесопилку.
Было около часа ночи. Я рассчитал, что домой вернуться надо до пяти, так что мне предстояло несколько часов работы. На лесопилке было тихо. Я швырнул через ограду пару камней, проверить, нет ли сторожевых псов. Никаких собак не оказалось. Тогда я очистил участок ограды от плюща, прижал фонарик подбородком к груди и обеими руками поднес кусачки к проволоке. Щелк. Чтобы разрезать металлические звенья, понадобилась сила обеих рук. Щелк, щелк, щелк, щелк. Наконец я проделал отверстие шириной футов в шесть и высотой в фут – вполне достаточное для того, чтобы просунуть сквозь него доски, брусья и фанеру, но не очень заметное. Хотелось верить, что не очень.
Дрожа от возбуждения, я лег на спину и скользнул под ограду, в чужие владения. Подошел к штабелю бруса квадратного сечения, четыре на четыре дюйма, вытянул один, подтащил к отверстию в ограде, вытолкнул наружу, снова пролез под оградой и поволок брус за собой в лес. К большой белоствольной сосне. Потом побежал за следующим брусом. К тому времени, как я второй раз вернулся к дереву с добычей, было уже полпятого. Я сгонял к ограде, замаскировал отверстие плющом и ветками и помчался домой. Влез в окно, положил ружье и фонарик на полку, спрятал кусачки под матрас, лег в кровать и уснул. В шесть утра меня разбудил отец, готовить завтрак.
Так продолжалось больше месяца. По ночам я не спал, дремал днем, под белоствольной сосной, рядом с растущей горкой досок, возвращался домой к ужину, и все повторялось снова. Каждую ночь я уходил на лесопилку, до тех пор, пока у меня не накопилось пиломатериалов на огроменный дом на дереве.
Наконец самая опасная часть моего плана завершилась. Лета оставалось всего два месяца, пора было начинать строительство. С лесопилки я умыкнул футов сорок гвоздевой ленты, а молоток и ручную пилу взял дома, из ящика с инструментом. Теперь мне нужен был только дневной свет.
Следующие два месяца я каждый день просыпался в шесть, уходил из дома в семь и дотемна строил дом на дереве. Босиком, без рубахи, с грудью, крест-накрест перевязанной гвоздевой лентой, и с молотком в руке – то ли индеец-команч, то ли Панчо Вилья – я принялся за работу. Начал с первого уровня и постепенно надстраивал дом. В каждом листе фанеры, служившем полом, я прорезал у ствола квадратную дыру, два на два фута, для лесенок, чтобы перемещаться с этажа на этаж. А еще я соорудил подъемник. Каждое утро я брал с собой бутерброд, приходил на свою стройплощадку, укладывал пакет с бутербродом в подъемник, забирался на самый верхний этаж и подтягивал к себе еду. И съедал бутерброд, когда устраивал перерыв на обед.
Спустя шесть недель в моем доме на дереве насчитывалось тринадцать ярусов. Тринадцатый был в ста футах над землей. Оттуда открывался вид на окрестности и даже на Лонгвью, в пятнадцати милях отсюда. В две последние недели лета я каждый день забирался на самый верх, поднимал туда свой бутерброд и оставался один над целым миром. И мечтал. Мне казалось, что оттуда видно даже, как на горизонте скругляется Земля. Там я и понял, почему город назвали Лонгвью – «дальнозор».
Так я провел лучшее лето в своей жизни.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Наступил сентябрь, я пошел в школу. Мама вернулась из Флориды, и вскоре мы переехали в дом на противоположном конце города. Своего дома на дереве я больше не видел.
Мне до сих пор интересно, сохранился ли он. На съемках фильма «Мад» я вспоминал об этом доме – он был для меня таким же убежищем, как «лодка на дереве» для юных героев фильма. Тайна, секрет, опасное, удивительное место, где можно мечтать. Если бы «Мад» сняли в 1979 году, отец, наверное, сказал бы мне: «Слушай, сынок, я тут посмотрел чертовски хороший фильм, „Мад“ называется, давай посмотрим его вместе». А я в ответ сказал бы ему: «Пап, знаешь, я тут построил в лесу дом на дереве, хочу тебе показать. Чертовски хороший дом».

А помните мамин «продолжительный отпуск» во Флориде? Лишь двадцать лет спустя я узнал, что это был вовсе не отпуск – родители тогда второй раз разводились.

Я уже был в старших классах. Мы жили все там же, в доме на противоположном конце Лонгвью. Мама решила заняться предпринимательством и стала торговать вразнос косметическими средствами «Норковое масло». Реклама утверждала, что они обладают лечебными свойствами, «великолепно очищают кожу» и что если «напитать кожу норковым маслом, то она будет здоровой и чистой всю жизнь».
Тем временем у меня начался подростковый возраст – ну вы представляете, растут волосы в паху, отвисают яйца, ломается голос… и, разумеется, высыпают прыщи.
В один прекрасный день мама посмотрела на меня и заявила:
– Тебе нужно «Норковое масло».
Я всегда считал, что забота о своей внешности – один из признаков уважения к себе, поэтому стал каждый вечер перед сном щедро мазать физиономию «Норковым маслом». Количество прыщей увеличилось.
– Это потому, что кожа очищается, – сказала мама.
Я ей поверил и продолжал еженощно умащать себя «Норковым маслом».
Прошла неделя. Прыщей стало больше.
Прошло двенадцать дней. Теперь пошли угри.
– Мам, а ты уверена, что мне можно пользоваться этим кремом? – спросил я.
– Конечно уверена. Но давай позвоним моей начальнице Элейн, она придет, посмотрит и скажет точно.
Пришла Элейн, посмотрела на мое воспаленное лицо и завопила:
– Ух ты! Крем действует как положено. Очищает. Вытягивает всю грязь. У тебя очень грязная кожа, Мэттью! Так что пользуйся кремом каждый вечер, и в конце концов кожа станет чистой и здоровой. На всю жизнь.
Что ж, ничего не поделаешь. Придется терпеть. Я упорно мазался кремом. Через три недели щеки покрылись воспаленными волдырями. Появились жировики, угри загноились. Я был сам на себя не похож.
Вопреки советам мамы я решил сходить к дерматологу. Доктор Хаскинс посмотрел на меня:
– Ох, Мэттью, что за… у тебя все поры забиты жиром. Коже нечем дышать. Чем ты пользуешься?
Я вытащил тюбик «Норкового масла».
Дерматолог внимательно прочитал этикетку.
– И как долго ты им мажешься?
– Двадцать один день.
– О господи, это крем для сорокалетних женщин, а не для подростков переходного возраста. Твоя кожа и так выделяет много жира. Крем забил тебе все поры, Мэттью, и теперь у тебя тяжелая форма узловато-кистозного акне. Еще десять дней – и ты бы на всю жизнь покрылся оспинами. Я пропишу тебе таблетки изотретиноина. Надеюсь, удастся купировать воспаление, и ты за год избавишься от прыщей. Хочется верить, что следов не останется.
– Ах, Мэттью, неужели «Норковое масло» не подействовало? Какая жалость! – с невинным видом воскликнула мама.
– Угу… не подействовало.
Я немедленно выбросил чудодейственный крем и начал пить изотретиноин. У него оказалась целая обойма побочных эффектов. Кожа стала сухой, шелушилась, пересохшие уголки губ растрескались и кровоточили, колени ломило, жутко болела голова, выпадали волосы. Я страдал аллергией и с виду напоминал распухшую черносливину. И, несмотря на все это, я был неимоверно счастлив избавиться от акне, вызванного «Норковым маслом».
Но история на этом не окончилась. В семействе Макконахи все доводили до логического завершения. Отец учуял возможность поживиться.
– Подадим в суд на эту проклятую фирму! Так и поступим. Засудим их и стрясем денег. Сам знаешь, сынок, зря они всучили тебе этот крем. Элейн не должна была уговаривать маму, чтобы та его тебе навязала. Так что у нас есть все основания для иска.
Отец привел меня к своему юристу, Джерри Харрису, приятному и эрудированному человеку, весьма уверенному в себе, который держался с таким апломбом, будто жил в Далласе, а не в Лонгвью.
– Совершенно верно, у нас есть все основания для иска, – сказал Джерри. – Во-первых, этот продукт явно не предназначен для подростков, но на упаковке нет никаких предупреждений и указаний на возможные побочные эффекты. Мало того, что это доставило тебе определенные физические неудобства, так еще и…
Джерри с отцом многозначительно уставились на меня.
– Ты ведь испытал и значительный моральный ущерб, правда, Мэттью?
– Ну… ага.
Джерри вытащил кассетный магнитофон и нажал красную кнопку «запись».
– Так что? – спросил он.
– Да, в то время я испытывал значительный моральный ущерб.
– Почему? – спросил он, кивая.
– Потому… Потому что у меня высыпали ужасные прыщи, которых не было до того, как я начал пользоваться «Норковым маслом»?
– Совершенно верно, – подтвердил Джерри. – И это повлияло на твою самооценку?
– Да, сэр.
– Как?
– Она снизилась.
– Очень хорошо. А как это повлияло на твои отношения с девушками?
– Ну… раньше с девушками все было хорошо, а теперь не очень.
– То, что надо, – заявил Джерри, выключив магнитофон. – Джим, вчиняем иск. Нанесение морального ущерба ставит истца в преимущественную позицию. Да и вообще, посмотри на него – весь распух и выглядит ужасно. Можно рассчитывать на сумму от тридцати пяти до пятидесяти тысяч в качестве компенсации.
По отцовскому лицу расплылась довольная ухмылка. Он горячо пожал Джерри руку и похлопал меня по спине:
– Отлично сработано.
Как всем известно, судебные разбирательства – дело долгое. Прошло два года, мои прыщи исчезли, от угрей не осталось и следа. Изотретиноин подействовал. Меня вызвали давать показания в присутствии адвоката ответчика, фирмы-производителя «Норкового масла». На столе стоял кассетный магнитофон, включенный на запись.
– Мэттью, как ты себя чувствуешь?
– Намного лучше, спасибо.
– Мне очень жаль, что с тобой это произошло. Наверное, тогда это тебя очень расстроило?
Я не верил своим ушам: адвокат задал вопрос, который играл мне на руку. У меня был готов ответ:
– Да, сэр. Я был очень расстроен. Мало того, что я выглядел как человек-слон, у меня пересохла кожа, выпадали волосы, болели колени и спина, шелушилась кожа. Я полностью утратил уверенность в себе, а девушки не обращали на меня внимания. «Норковое масло» искалечило мне жизнь.
– Боже мой! Представляю, как тебе было тяжело. И сейчас трудно, наверное, да?
Я с готовностью согласился:
– Да, сэр, трудно.
Он внимательно посмотрел на меня и, сложив губы в едва заметную улыбку Чеширского кота, достал из-под стола школьный фотоальбом – мой школьный фотоальбом – за тот самый 1988 год. Потом медленно раскрыл его на заложенной странице, повернул альбом ко мне, придвинул поближе и, наклонившись через стол, ткнул пальцем в фотографию:
– Вот это – ты?
Разумеется, это был я. С Камиссой Спринг. На груди у меня и у Камиссы красовались ленты наискось. На ленте Камиссы была надпись: «Первая красавица». На моей ленте: «Первый красавец». Черт возьми! Я сразу понял, что дело не выгорит. Меня подловили.
– Искалечило жизнь, говоришь? Да, заметно, что ты очень расстроен, – сказал адвокат, ухмыляясь.
Так оно и вышло, что иск отозвали.

Отец долго не мог успокоиться. Тянулись недели, а он все бурчал себе под нос:
– Черт бы тебя побрал, сопляк! Профукал такой шанс выиграть дело и заработать тридцать пять, а то и все пятьдесят тысяч компенсации! Нет, надо было обязательно стать «Первым красавцем». Все дело испортил! Черт бы тебя побрал!


Спустя несколько месяцев мама отправилась в Наварре-Бич, во второй «продолжительный отпуск» (на этот раз родители не разводились, а просто решили немного отдохнуть друг от друга), и мы с отцом снова остались вдвоем, только не в трейлере, а в доме с тремя спальнями. Я вернулся домой к установленному сроку – к полуночи. Как ни странно, отец не спал. Разговаривал по телефону. Я заглянул в отцовскую спальню.
– Да, мистер Фелкер, он только что пришел, – говорил он в трубку. – Сейчас я у него спрошу.
В спальне горел свет. Отец в нижнем белье сидел на кровати. Он зажал трубку плечом и посмотрел на меня:
– Чем сегодня развлекались, сынок?
Мне бы сразу все честно рассказать, но я решил, что выкручусь – перед тем, кто учил меня выкручиваться.
– Да так… Сходили с Бадом Фелкером в «Пиццу-хат», а потом он подвез меня домой.
– Вы за пиццу заплатили, сынок?
Отец давал мне возможность признаться во всем начистоту и избежать наказания за самое худшее – хуже, чем быть пойманным на озорстве, – за ложь. Но вместо этого, хотя мне и было ясно, что ему все известно, я уклончиво ответил:
– Кажется, да. Ну, я первым пошел к машине, потому что Бад должен был заплатить.
Я сам себе вырыл яму, из которой теперь было не выбраться.
Отец вздохнул, расстроенно поморгал и снова поднес телефонную трубку к уху:
– Мистер Фелкер, спасибо. Я с ним разберусь.
И положил трубку на рычаг.
Меня пробил пот.
Отец невозмутимо оперся ладонями о колени, поднял голову, поглядел мне в глаза и стиснул зубы.
– В последний раз спрашиваю, сынок. Ты знал, что вы крадете пиццу?
Мне бы сказать: «Да, папа, знал», – и все бы закончилось строгой отповедью за то, что мы попались по дури. Ну и попробовал бы ремня – собственно, за то, что попались. Но нет.
На мотне моих джинсов появилось крошечное мокрое пятнышко. Широко раскрыв глаза, я с запинкой произнес:
– Н-нет, сэр. Пап, я же сказал…
ХЛОП! Прерывая мою жалобную мольбу, отец вскочил с кровати и хлестнул меня рукой по лицу. Я упал – не от удара, а потому, что меня не держали ноги, внезапно ослабевшие от страха.
Я это заслужил. Заработал. Сам напросился. Хотел. И получил.
Я соврал отцу и разбил его сердце.
И дело было не в украденной пицце. Он и сам не раз воровал пиццу, и не только пиццу. Мне надо было сразу признаться. А я солгал.
Я стоял на коленях, рыдая от ужаса – так же, как когда-то мой брат Майк, но он рыдал из-за другого. Мне было стыдно. В отличие от Майка в амбаре, я был ссыклом, подлецом, рохлей. Трусом.
«Это не мой сын, Кэти, а твой», – звучало у меня в ушах.
Отец стоял надо мной.
– Официантка в «Пицце-хат» узнала Бада, нашла номер его телефона, позвонила ему домой и попросила его отца, чтобы тот велел ему на следующий день принести деньги за пиццу. Бад признался отцу, что это он решил умыкнуть пиццу, а ты просто его не остановил. Но ты мне солгал, сынок, сказал, что ничего не знал.
Он хотел, чтобы я поднялся, признал свою вину, посмотрел ему в глаза и принял положенное наказание. Но я этого не сделал.
Я струсил, начал оправдываться и канючить. Он молча смотрел на меня. По моим джинсам расплывалось мокрое пятно.
Отец, разъяренный моей бесхарактерностью, встал передо мной на четвереньки, как медведь, и начал дразнить:
– Ну-ка, засвети мне в морду! Даю тебе четыре попытки против моей одной. Ну же, не трусь!
Парализованный страхом, я не отреагировал. При одной мысли о том, чтобы ударить отца, руки стали картонными. Мысль о том, что он меня снова ударит, ужасала еще больше.
– Ну почему?! Почему?! – завопил он.
Не в силах ответить, я на коленях отполз в угол и сжался в комок. Отец встал и сокрушенно покачал головой, пытаясь понять, почему его сын вырос таким трусом.
Я часто жалел о том, что сделал и чего не сделал в тот вечер.
Отец предоставил мне возможность пройти ритуал взросления – стать мужчиной в его глазах, – но я перепугался, обоссал штаны и провалил испытание. Спасовал.
Часть вторая
Найди волну
1988 г., весна
Выпускной класс школы. У меня все было прекрасно: отличные оценки, работа, которая гарантировала мне сорок пять долларов в кармане, гандикап 4 в гольфе, звание «Первый красавец». Вдобавок я встречался с самой красивой девчонкой из нашей школы – и из соседней школы тоже. В общем, меня несла зеленая волна.
Крутой парень, который на вечеринках невозмутимо стоит у стены и курит, – это не про меня. На вечеринках я танцевал, охмурял девчонок и на всех концертах проталкивался в первый ряд, даже если приходил последним. Я старался изо всех сил. Я ловчил.
У меня был пикап-внедорожник. После уроков именно в нем я катался с девчонками по грязи[2]. К решетке радиатора я прикрутил мегафон и по утрам на школьной автостоянке прятался в кабине и вопил на всю округу: «Эй, поглядите, Кэти Кук сегодня в клевых джинсах! Классно выглядит!»
Всем нравилось. Все хохотали. Особенно Кэти Кук.
Я был своим парнем. Весельчаком. Всеобщим любимцем.
Однажды, проезжая мимо местного автодилерского центра, я увидел выставленный на продажу ярко-красный «ниссан 300-ZX».
У меня никогда прежде не было спортивной машины. Тем более со съемными панелями крыши.
Я подъехал к центру навести справки. Продавец очень хотел заключить сделку.
В обмен на свой пикап я получил ярко-красный «ниссан 300-ZX». Со съемными панелями.
Теперь у меня была красная спортивная машина.
Каждое воскресенье я полировал ее до глянца и наводил лоск на свою красавицу.
Я стал парковаться на третьей, обычно пустующей стоянке за зданием школы, чтобы мою новенькую машину случайно не поцарапали и не помяли.
Я знал, что девчонки заценят мою красную спортивную машину куда больше, чем обшарпанный пикап, а значит, заценят и меня. Поэтому каждое утро я пораньше заезжал на третью парковку, ставил машину и небрежно опирался на капот.
Крутой парень.
С крутой тачкой. С красной спортивной машиной.
Через пару недель я заметил перемены. Девчонки почему-то не спешили меня заценивать. Им почему-то было скучно смотреть, как я небрежно опираюсь на капот.
После уроков девчонкам было интереснее кататься по грязи с другими, чем рассекать по улицам со мной, в красной спортивной машине со съемной крышей.

И свиданий у меня стало меньше. Девчонки утратили ко мне интерес.
Я не понимал, в чем дело.
И в один прекрасный день до меня дошло.
Пропал пикап.
Пропали возможности стараться, крутиться и ловчить. Пропал мегафон. Пропало веселье.
А вместо всего этого я небрежно опирался на капот красной спортивной машины со съемными панелями крыши на третьей школьной парковке.
Я обленился, слишком часто смотрел в зеркало и думал, что моя красная спортивная машина гарантированно привлечет внимание ко мне самому. Ни фига подобного.
Обменяв пикап на красную спортивную машину, я сам себя перехитрил. Лоханулся.
На следующий день после уроков я поехал в автоцентр и обменял красную спортивную машину на свой старенький пикап.
На следующий день я, поставив машину на первой школьной парковке, охмурял девчонок в мегафон, а после уроков поехал с ними кататься по грязи.

И все пошло по заведенному.
И фиг с ней, с красной спортивной машиной.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ


Когда мне исполнилось восемнадцать, родители сказали: «Если ты еще этого не усвоил, то уже не усвоишь». В нашей семье восемнадцатилетие – знаменательный момент. Оно знаменует отсутствие правил. Отсутствие родительского надзора. Независимость. Свободу.
Я окончил школу и, как многие выпускники, не знал, что делать дальше. То есть я думал, что хочу поступить на юридический факультет и выучиться на адвоката, но полной уверенности в этом у меня не было. Тут маме пришла в голову замечательная мысль:
– Мэттью, ты ведь любишь путешествовать. Не хочешь стать студентом по обмену?
Я сразу же согласился:
– А что, интересно же! Приключения…
Мы обратились в местное отделение Ротари-клуба, который вел программу студенческого обмена, и выяснили, что как раз есть два места – одно в Швеции, а второе в Австралии. Солнце, пляжи, серфинг, Эль Макферсон, английский… Я выбрал Австралию. Меня тут же усадили за стол в конференц-зале Ротари-клуба, перед двенадцатью мужчинами в строгих костюмах. Они приняли и рассмотрели мои документы, все одобрили, а потом один из них сказал:
– Мы считаем, что ты станешь великолепным представителем штата Техас и всей нашей страны в далекой Австралии, и готовы отправить тебя в поездку, но сначала ты должен подписать вот эту бумагу – заявление, что домой ты вернешься только по истечении года.
Очень странно.
– Но я и собирался уехать на целый год.
– Все так говорят, – ответил он. – Дело в том, что каждый студент рано или поздно начинает тосковать по дому и возвращается раньше. А этого допускать нельзя, поэтому подписывай. Вот: «Я, Мэттью Макконахи, обещаю не возвращаться домой раньше срока, если только этого не потребуют семейные обстоятельства».
– Я не буду ничего подписывать, – возразил я. – Но готов дать вам честное слово, что не нарушу своего обещания и пробуду в Австралии полный год. – Я посмотрел ему в глаза. – Договорились?
Он кивнул, мы обменялись рукопожатием, и вскоре я уже собирал вещи для путешествия в Австралию. До отъезда оставалось десять дней.

Чуть позже я получил первое письмо из Австралии, от семейства Дулей – с ними мне предстояло провести год. В письме говорилось: «Мы с нетерпением ждем встречи с тобой, Мэттью. Мы живем в настоящем раю. Недалеко от пляжа, в пригороде Сиднея, тебе очень понравится».
Ура! Великолепно. Все, на что я надеялся, – пляж, Сидней. Отлично. Встречай меня, Австралия!
ДЕНЬ 1
Я прибыл в международный аэропорт Сиднея и, забросив вещмешок за плечо, пошел по длинной наклонной дорожке в огромный зал, где стояли тысячи встречающих. Среди шума и гама послышался крик: «Мэттью! Мэттью! Мэттью!» Я обвел зал взглядом и заметил, что над морем голов то и дело появляется чья-то рука, приближаясь к концу дорожки.
– Мэттью! Мэттью! Мэттью!
Я добрался до зала, где меня сразу встретил тот, кто размахивал рукой и выкрикивал мое имя. С ласковой улыбкой на лице он опустил руку, и я ее пожал. Норвел Дулей. Рост 5 футов 4 дюйма, вес 220 фунтов, усы, плешивая голова и английский акцент – как я потом узнал, напускной, для пущей благопристойности.
– Ах, вы только посмотрите! Вот и он – сильный, красивый американский парень! Добро пожаловать в Австралию. Тебе здесь очень понравится.
Он познакомил меня с женой, Марджори: рост 4 фута 10 дюймов, белое полиэстеровое платье с большими зелеными горошинами и ходунки – из-за кифотической деформации позвоночника (в те годы это называлось горб). Я наклонился, обнял ее и поцеловал, а она приложила руки мне к щекам и ласково сказала:
– Добро пожаловать в Австралию, Мэттью. Добро пожаловать в твою новую семью. Познакомься, это мой сын Майкл.
Майкл – застегнутая на все пуговицы рубашка, аккуратно заправленная в брюки; пластмассовый защитный чехольчик в нагрудном кармане; огромная связка ключей на поясе. Как я потом узнал, из всех ключей Майкл пользовался только двумя, но связка явно придавала ему уверенность в себе, как напускной акцент – его отцу. Я протянул ему руку, но он порывисто меня обнял, а потом весьма чувствительно похлопал по спине, приговаривая:
– Мой братишка! Мой братишка!
Такое вот семейство Дулей, прошу любить и жаловать.
Мы уселись в машину и выехали из аэропорта. Я сидел на переднем пассажирском сиденье, Норвел – за рулем, Марджори и Майкл устроились сзади. Где-то через час я заметил, что мы давно проехали и Сидней, и все его пригороды.
– Получается, что, вообще-то, вы живете не в Сиднее? – спросил я Норвела.
– Да, дружище, – гордо ответил он. – В большом городе – большой грех. Грех и разврат. Цивилизованным людям там делать нечего. Мы живем в Госфорде, неподалеку отсюда, на Центральном побережье. Великолепное место. Прекрасные пляжи. Тебе понравится.
За разговорами прошло еще минут сорок. Мы доехали до Госфорда – города с населением в несколько сотен тысяч человек. И пляжи, и сам город выглядели замечательно.
– Прекрасно! – воскликнул я. – Меня вполне устраивает.
Все молчали.
Мы проехали через центр города, а минут через двадцать я вдруг сообразил, что Госфорд остался позади. Странно.
– Значит… вообще-то, вы живете не в Госфорде? – вежливо осведомился я.
– Да, дружище, – с прежней гордостью заявил Норвел. – В Госфорде все слишком по-городскому. Греховные порядки, распущенные нравы. Жить за городом куда лучше. Мы обосновались здесь, неподалеку, в Тукли. Тебе понравится.
Спустя сорок минут мы доехали до Тукли (население 5 000 человек). Один светофор, один бар и один небольшой супермаркет. Действительно, очень живописный городок на побережье.
– Что ж, очень похоже на мой родной город, – сказал я. – Приятно вспомнить.
Никто не произнес ни слова. Норвел вел машину.
Минут через шесть или семь мы доехали до кольцевой развязки на противоположной стороне города.
– Значит… вообще-то, вы живете не в Тукли? – на всякий случай уточнил я.
Норвел без промедления ответил:
– Да. Тукли – неплохой городок, но для нас слишком шумный. Мы живем в поселке, тут неподалеку. Очаровательное местечко, называется Горокан. Тебе понравится.
Мощеная дорога превратилась в асфальт.
Спустя несколько минут мы доехали до Горокана (население 1800 чел.). Захолустный поселок вдали от побережья. Никаких пляжей. Одна центральная улица. Деревянные одноэтажные домишки по правую и левую сторону. Я вздохнул – не очень глубоко, – и тут оказалось, что мы подъехали к очередной кольцевой развязке у городской черты, асфальт сменился грунтовкой, а Горокан остался позади.
Тут уж я занервничал и бесцеремонно заявил:
– Значит, вы живете не в Горокане.
– Совершенно верно! – восторженно откликнулся Норвел. – Мы уже почти дома. Тут недалеко, по проселку, прекрасное местечко, дружище. Тебе понравится.

Мы проехали еще миль пять по проселочной дороге. Я смотрел на пустынный пейзаж за окном и лихорадочно пересматривал свои ожидания. Мимо пронесся зеленый указатель: «Уорнервейл (население 305 чел.)». Мы проехали еще милю, не встретив никаких признаков цивилизации, свернули налево, затем направо и по гравийной дорожке подъехали к гаражу единственного дома в округе. Норвел остановил машину, выключил зажигание и напыщенно произнес:
– Добро пожаловать в Австралию, Мэттью. Здесь тебе очень понравится.
ДЕНЬ 4
Я мыл посуду после ужина. На кухню вошли Норвел и Марджори.
– Мэттью, мы собираемся позвать родственников в гости на выходные, вот и подумали, может, тебе захочется угостить их чем-нибудь таким, чисто американским?
– С удовольствием, – сказал я, раздумывая, что бы такое приготовить. – А, знаю. Гамбургер – самое американское блюдо, поэтому на выходные у нас будут гамбургеры.
– Прекрасный выбор, Мэттью, – сказал Норвел и направился к двери.
– Нет, погодите! – воскликнул я. – Я передумал. У нас будут чизбургеры. Потому что гамбургеры придумал умный человек, а вот чизбургеры изобрел гений.
Я начал составлять список продуктов для своего кулинарного шедевра – белые булочки, соленые огурцы, американский сыр и чеддер, красный лук, авокадо, острый перец-халапеньо, настоящий майонез, хороший кетчуп… – как вдруг меня тронули за плечо. Норвел.
– Мэттью, пройдем со мной, пожалуйста. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
Мы вышли из кухни, пересекли жилую комнату и попали в коридор, где Норвел открыл вторую дверь справа.
– Сюда, пожалуйста, – сказал он, приглашая меня в комнату.
Точнее, в свой кабинет. Норвел закрыл за собой дверь и указал на стул перед письменным столом. Я сел. Норвел обошел стол, поднялся на помост, где стояло его кресло, и уселся.
Теперь Норвел, ростом всего пять футов и четыре дюйма, возвышался надо мной фута на полтора. Он поудобнее устроился в кресле, наклонился к столу, уперся локтями в столешницу, сплел пальцы в замок, посмотрел мне в глаза и сурово изрек:
– Мэттью, я должен поговорить о твоем выборе слов.
– Да, сэр, – сказал я. – О каком именно?
Норвел опустил подбородок на сплетенные пальцы, обратил взор к портрету Уинстона Черчилля на стене, задумчиво вздохнул и произнес:
– Ты сказал, что гамбургеры придумал умный человек, а чизбургеры изобрел гений. Так?
– Да, сэр. Именно так.
Он изобразил еще один снисходительный вздох:
– Мэттью… видишь ли, это исключительно твое мнение. За время пребывания в семействе Дулей ты научишься ценить хорошее вино и благородные сыры, а также поймешь, что выражать свое мнение вслух неприлично.
– Норвел, это же просто шутка, – сказал я. – Я имел в виду, что чизбургеры мне нравятся больше, чем просто гамбургеры.
Он укоризненно погрозил мне пальцем:
– Как я уже говорил, за время пребывания в семействе Дулей ты научишься ценить хорошее вино и благородные сыры, а также поймешь, что выражать свое мнение вслух неприлично.
Он был совершенно серьезен.
Если не считать того, что в семействе Дулей «пригородом Сиднея» называли глухомань в двух часах езды от города, эта идиотская нотация была первой странностью, с которой я столкнулся в Австралии.
Слегка ошалевший, я списал это на «культурные различия».
ДЕНЬ 8
Начало школьных занятий.
Вообще-то, я уже окончил американскую школу, но в Австралии меня записали даже не в выпускной, а в предпоследний класс, объясняя это тем, что я приехал в середине семестра, а на следующий год перейду в выпускной вместе с той же группой одноклассников.
Первые две недели я отучился по программе, усвоенной еще полтора года назад. Математика давалась так легко, что я заскучал, зато мне очень нравились уроки творческого мастерства. А вот учителям мое творчество не нравилось. Все мои сочинения были исчерканы красными чернилами, и за каждое я получал неудовлетворительную отметку – за то, что употреблял сокращения, эвфемизмы, выдуманные слова и даже ругательства.
– Послушайте, – говорил я, – я знаю, как надо писать. Я же сдал все экзамены! А теперь я пишу так, как мне хочется. Я творю. Самовыражаюсь.
И что же я получил в ответ? «Неудовлетворительно».
Общение с одноклассниками тоже не складывалось.
Ученики носили форму, а на переменах играли в догонялки. Машин никто не водил и на права не сдавал, никто не устраивал вечеринок, а местные девчонки меня не заценили. Я перестал ощущать себя выпускником и с грустью вспоминал свой пикап, школьных друзей – и подруг, – Техас и былую свободу. Впрочем, я решил, что все это – часть приключений, «культурные различия».
Вскоре я перестал приходить на уроки, а вместо этого сидел в библиотеке, где открыл для себя великого английского поэта лорда Байрона. У меня было три магнитофонных кассеты: «Kick» INXS, «Maxi/Maxi Priest» и «Rattle and Hum» U2[3]. Под эту музыку в наушниках плеера «Уокмэн» я читал романтические поэмы.
Спустя две недели в библиотеку пришел директор и сказал:
– Мэттью, школьное обучение явно не для тебя. Я тут подумал, может, тебе попробовать нашу программу стажировки? Ознакомишься с разными профессиями на практике. Платить тебе за это не будут, но выставят оценки в аттестат.
Ух ты!
– Да, конечно, – сказал я.

Сначала я стажировался кассиром в отделении Банка Австралии и Новой Зеландии. В обществе взрослых мне было легче. Я подружился с управляющим банка, Коннором Харрингтоном. Мы с ним часто обедали и выпивали по кружке пива после работы.
Странности в семействе Дулей не прекращались.
Ужинали мы рано, в пять или в полшестого. За столом на кухне всегда собирались одни и те же: я, Норвел, Марджори, Майкл и Мередит – подруга Майкла. У двадцатидвухлетней Мередит была небольшая задержка в развитии, поэтому ей нельзя было водить машину. А если она нервничала, то начинала пятерней давить прыщи на щеках. Впрочем, мы с ней были в хороших отношениях, а вдобавок у нее было прекрасное чувство юмора.
Однажды вечером я включил телевизор в жилой комнате – шла трансляция Олимпийских игр, а с моего места за кухонным столом был хорошо виден экран. В эстафете 4 x 100 метров выступала женская команда США. Кроме меня, это никого не интересовало. Громыхнул выстрел стартового пистолета, и меньше чем через сорок две секунды США выиграли золотую медаль. Я гордо прижал кулак к груди и пробормотал себе под нос: «Ура!»
Норвел решил, что это самый подходящий момент прочитать мне лекцию по истории. Он вскочил с места, выбежал в жилую комнату, выключил телевизор, торжественно вернулся на кухню и заявил:
– Мэттью, пройдем со мной, пожалуйста. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
Что, опять?
Он вывел меня из кухни через жилую комнату в коридор и распахнул вторую дверь справа. Естественно, его кабинет. На этот раз Норвел схватил с полки томик энциклопедии, уселся в кресло на помосте, посмотрел на портрет Черчилля, раскрыл книгу на заложенной странице и заявил:
– Настоящий спортсмен, Мэттью, по-настоящему великий спортсмен – это англичанин Дэвид Брум, который на Олимпийских играх в тысяча девятьсот шестидесятом году выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по конкуру.
– Да, конечно, – сказал я.
– И вот еще что, Мэттью. Ты тут недавно смотрел фильм, «Добровольцы поневоле»? Так вот, это очень глупый фильм. Можно сказать, инфантильный. Еще одно доказательство того, что низкосортный американский юмор не идет ни в какое сравнение с английским.
Ну и дела!
– Ладно тогда… а можно я досмотрю Олимпийские игры?
В семействе Дулей мне все больше становилось не по себе, но я продолжал думать: «Ничего страшного, это все культурные различия».
ДЕНЬ 90
Теперь я проходил стажировку помощником адвоката. Мне нравилось проводить дни в суде, участвовать в подготовке заключительных заявлений, знакомиться с составом присяжных, искать исторические прецеденты законодательства и составлять конспекты для юристов. Все это было подспорьем для моих дальнейших планов стать юристом. А вот «культурные различия» семейства Дулей действовали мне на нервы.
Целостность моего самосознания была нарушена, и, чтобы ее восстановить, мне требовалось своего рода сопротивление, которое следовало преодолеть. Мне нужна была цель, чтобы сохранить здравый ум в этом странном месте. Я решил стать вегетарианцем. Правда, я понятия не имел, как быть вегетарианцем, поэтому просто ужинал зеленым салатом, приправленным кетчупом.
А еще каждый день после работы я делал шестимильную пробежку. Я очень исхудал.
А еще я решил стать абстинентом до конца года. До конца года оставалось девять месяцев.
Я начал думать, что мое призвание – пойти в монахи.
А после того, как закончится год учебы по обмену, я собрался поехать в Южную Африку и освободить Нельсона Манделу.
Я писал письма маме, отцу, друзьям и бывшим подругам. Мое самое первое письмо, написанное, когда я только поселился у Дулей, было накорябано толстым черным фломастером:
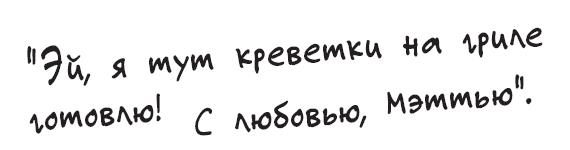
А теперь мои письма занимали девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шестнадцать страниц, мелким четким почерком, с разветвленными предложениями на восемь строк, изобилующими прилагательными и наречиями. На письма отвечали только мама и мой старый приятель Робб Биндлер. Робб и сам был писателем, поэтому невозмутимо воспринимал мои маниакальные опусы и в ответ присылал мне послания не меньшей длины, хотя и не такие путаные. Впрочем, по большей части я писал для себя.
Но со мной все было в порядке, правда же? Просто я соскучился по дому. Ну и «культурные различия». Ладно, перетерплю…


ДЕНЬ 122
Вечер, четверть шестого. Норвел, Марджори, Майкл, Мередит и я ужинали на кухне. Я жевал свой зеленый салат с кетчупом. Принесли ягнятину с мятным соусом, и я немедленно передал блюдо дальше. Норвел резко встал и обратился ко мне:
– Мэттью, ты американец, еще совсем юный и неразвитый. За время пребывания в нашем семействе ты должен усвоить, что ягнятину следует подавать с мятным соусом.
– Я уже пробовал мятный соус, – ответил я. – Мне он не нравится. И вообще, я мяса не ем.
Спустя несколько недель, под конец очередного барбекю с родственниками (на этот раз без гамбургеров), я мыл посуду на кухне, и тут меня окликнула Марджори.
– Мэттью! Иди сюда! Иди к нам, Мэттью!
Я вошел в жилую комнату и увидел, что все восемнадцать человек родни – тетки, дядья, двоюродные братья и сестры – выстроились в шеренгу вдоль стены. В конце шеренги стояла Мередит, застенчиво потупившись и поглаживая лоб кончиками пальцев. Все дожидались меня.
– В чем дело? – спросил я.
Майкл стоял в противоположном углу комнаты и нервно теребил тяжелую связку ключей. Марджори, которая весь день потягивала вино, радостно заявила:
– Мэттью, Мередит собирается уезжать, поэтому поцелуй ее на прощание. В губоньки!!!
Все притворно заахали и гаденько захихикали. Мередит, не поднимая головы, ущипнула себя за щеку. Майкл, сжав кулаки, расхаживал по комнате.
– Марджори, я уже попрощался с Мередит, – напомнил я. – И даже обнял ее.
Марджори упрямо стояла на своем:
– Нет-нет, Мэттью, давай целуй ее! В губоньки!
– Что? – Я посмотрел на Мередит.
Она чуть вздернула подбородок и тут же его опустила.
Я не мог понять, что происходит. Неужели Мередит сочла мое хорошее к ней отношение знаком романтической привязанности? Или Марджори в подпитии решила сыграть злую шутку со мной, Мередит и Майклом? В любом случае это надо было пресечь.
«Мой старший брат» Майкл теперь яростно метался по комнате, крутя тяжелую связку ключей.
Родственники Дулей стали меня подначивать:
– Давай, Мэттью! Целуй ее!
Как разрулить эту ситуацию? Я глубоко вздохнул, подошел к Мередит и спокойно сказал:
– Мередит, мы ведь с тобой уже попрощались, правда?
До смерти смущенная Мередит молчала, не поднимая глаз.
Я по-отцовски взял ее за плечи. Наконец она посмотрела на меня.
Присутствующие понемногу трезвели.
– Мы ведь с тобой уже попрощались, Мередит? И я тебя обнял на прощание, правда?
Она медленно кивнула.
– Спасибо, – сказал я.
– Спасибо, – еле слышно прошептала она.
Я повернулся к Марджори и сурово заявил:
– Марджори, не смейте так со мной обращаться. Это несправедливо. Это нечестно по отношению ко мне, к Мередит и к вашему сыну Майклу.
После этого я снова ушел на кухню домывать посуду.
Черт бы побрал эти «культурные различия».
ДЕНЬ 148
Я весил 140 фунтов и постоянно сопливил.
Вот уже месяц каждый вечер после ужина я уходил к себе в спальню, принимал горячую ванну, слушал одну из трех моих кассет в «Уокмэне», писал очередное пятнадцатистраничное послание самому себе и дрочил, читая Байрона.
Каждый вечер.
Теперь я проходил стажировку на шестой работе. До этого я был кассиром в банке, лодочным механиком, помощником в фотолаборатории, помощником адвоката, строителем и помощником тренера по гольфу.
Не поднимая головы, я сидел за столом, жевал зеленый салат с кетчупом и ждал, когда наступит без четверти шесть, чтобы уйти к себе и приступить к ежевечернему ритуалу. Внезапно Норвел заявил:
– Мэттью, мы с Марджори решили, что все оставшееся время пребывания в нашем семействе ты должен называть нас мама и папа.
Я не ожидал такого поворота и на миг утратил дар речи.
– Спасибо, Норвел, – поразмыслив, ответил я. – Спасибо… что вы так обо мне думаете, но… У меня уже есть мама и папа… и они пока что живы[4].
Норвел немедленно повторил:
– Как я уже сказал, мы с Марджори решили, что все оставшееся время пребывания в нашем семействе ты должен называть нас «мама» и «папа».
Я промолчал и доел политый кетчупом салат. После этого вежливо собрал все грязные тарелки, вымыл посуду, вернулся к столу и громко обратился к каждому:
– Спокойной ночи, Нор-вел. Спокойной ночи, Мар-джо-ри. Спокойной ночи, Майкл. Спокойной ночи, Мередит.
Впервые за 148 дней мой ум, сердце и душа обрели согласие. Ни за что на свете я не назову посторонних людей мамой и папой. Это не обсуждается. И на «культурные различия» это не спишешь. А если это все-таки пресловутые «культурные различия», то прошу прощения, но мне на них наплевать.
Один-одинешенек, в чужой стране, в странном окружении, я осознал ответственность за себя и за свои убеждения. Я все осмыслил и сделал выбор. Мне не требовалось ничьих уверений. Эта ясность укрепила мою сущность. Я сохранил свою целостность – из принципа и ради того, чтобы выжить.

На следующее утро вместо звонка будильника раздались женские вопли в другом конце дома. Было шесть утра.
– Он! Не желает! Называть! Меня! Мамой!!! Он! Не желает! Называть! Меня! Мамой!!!
Я вскочил с кровати, выбежал из спальни и бросился к Марджори, которая рыдала за кухонным столом и выла в голос.
Я приобнял ее за плечи:
– Марджори, ну поймите же, в этом нет ничего личного. Вот вам понравилось бы, если бы ваш Майкл стал еще кого-то называть мамой и папой?
Потом мы поплакали вместе, каждый по своей причине.
Тогда я и решил, что пришла пора подыскать другую семью на «оставшееся время моего пребывания» в Австралии.
После обеда поднялся ураган, обещали смерчи. Улицы опустели. Струи дождя хлестали наискось, ветер дул со скоростью 45 миль в час, небо стало багрово-оранжевым. Я все равно решил отправиться на пробежку, до самого дома Харриса Стюарта, президента местного отделения Ротари-клуба.
Харрис открыл дверь:
– Ты что, спятил? Что случилось?
– Я тут вышел на пробежку, вот решил заглянуть к вам. У меня есть просьба.
– Входи скорее. Тут смерч обещают, а ты на пробежку отправился? Нашел время!
Я вошел, и он дал мне полотенце обсушиться.
– Что случилось? – повторил он.
Я вздохнул:
– Послушайте, я подумал… А нельзя ли мне переехать в какую-нибудь другую семью?
– А что у Дулеев? Тебе не нравится?
– Нет-нет, все хорошо, – ответил я, чтобы не наябедничать. – Просто… хотелось бы посмотреть, как живут другие.
– Понимаешь, Мэттью, в другой семье ты будешь лишним ртом, – сказал он. – А экономическая ситуация в стране сейчас не очень. Но… в общем, я поспрашиваю.
Благослови, Господи, Харриса Стюарта.
Он обратился к Коннору Харрингтону, управляющему банка, где я стажировался кассиром. Коннор с женой согласились взять меня к себе. Благослови, Господи, Коннора Харрингтона. В четверг, на еженедельном собрании Ротари-клуба, Харрис Стюарт во всеуслышание объявил в микрофон:
– Наш студент по обмену Мэттью вот уже полгода живет в семействе Дулей. Спасибо, Норвел, за твое гостеприимство.
Бурные аплодисменты.
– А теперь Мэттью переедет к Харрингтонам. Спасибо, Коннор.
Снова аплодисменты.
Собрание закончилось, все были довольны.
В общем, все устроилось без особых хлопот. Никаких трагедий. На собрании Норвел Дулей сидел рядом со мной, спокойно выслушал объявление Харриса, а теперь обменивался рукопожатиями с остальными членами клуба и всем меня расхваливал, зная о моем предстоящем переезде.
– Во вторник вечером, в половине седьмого я заеду к вам за Мэттью, – сказал Коннор Норвелу.
– Договорились, – ответил Норвел. – До встречи.
Все складывалось прекрасно.
Мы с Норвелом вернулись домой. Он молчал всю дорогу.
Вечером я пожелал Норвелу и Марджори спокойной ночи, они пожелали мне того же – и больше ни слова. На следующее утро я проснулся, позавтракал, ушел на работу, вернулся домой, поужинал и снова пожелал всем спокойной ночи. В ответ ни слова.
В субботу – никаких родственников, никакой вечеринки, никаких «тебе осталось несколько дней с нами, что бы такого устроить…»
В воскресенье – ничего.
В понедельник – ничего.
Во вторник утром – ничего.
Я пришел с работы пораньше, проверил, не забыл ли каких вещей. Два своих чемодана я собрал еще в прошлый четверг.
За пять дней о моем переезде никто не упомянул. Наконец в пять часов я в последний раз сел за стол с Норвелом, Марджори, Майклом и Мередит. Жевал зеленый салат с кетчупом. Все молчали.
В половине шестого я встал из-за стола и начал мыть посуду. Молчание. После этого я ушел в свою комнату, еще раз проверить, все ли собрал. Через полчаса за мной должен был заехать Коннор. Поскорее бы. Я расхаживал по комнате, каждую минуту поглядывая на часы.
В дверь постучали.
Я открыл.
На пороге стоял Норвел – подбоченившись, расставив ноги, весь такой решительный.
– В чем дело, Норвел?
Нимало не смущаясь, он заявил:
– Мэттью, мы с Марджори решили, что на время пребывания в Австралии ты останешься жить с нами. В нашем доме. Распаковывай вещи.
В сумраке Сумеречной зоны я ошалело поглядел на него. Мой дух восстал.
– Кхм… Спасибо, Норвел, – как можно спокойнее начал я, – за ваше радушное предложение. Но за год пребывания в Австралии мне хотелось бы увидеть и узнать как можно больше. Поэтому я предпочитаю переехать в другую семью.
Он вздернул голову и не двинулся с места.
– Мэттью, распаковывай вещи. Мы с Марджори решили, что на время пребывания в Австралии ты останешься жить с нами, – повторил он.
И тут я не выдержал. Размахнулся и с такой силой саданул кулаком по двери, что пробил фанеру насквозь. Потом высвободил окровавленную, утыканную занозами руку и, дрожа от гнева, уставился на Норвела. Он тоже дрожал, ошеломленно вытаращив глаза.
– Норвел, – прорычал я, – уйди с дороги, не то я тебя размажу перед домом, так что до смерти будешь выковыривать гравий из своей жирной жопы.
У него отвисла челюсть. Он затрясся и потихоньку попятился.
Я стоял, не сводя с него глаз и не разжимая окровавленных кулаков. От ярости я чуть не обоссался.
Он повернулся и убежал в коридор.
Я вытащил занозы из руки, смыл кровь в умывальнике, намочил полотенце холодной водой и обтер лицо. А потом заметался по комнате, пытаясь успокоиться, осмысливая, что я натворил, и соображая, как быть дальше. За окном раздался гудок автомобиля. Я посмотрел на часы. Половина седьмого.
Я выкатил чемоданы в коридор, мимо кабинета Норвела, протащил их через жилую комнату, кухню и гараж на подъездную дорожку, где в «лендкрузере» сидел Коннор Харрингтон. В дверях стояли Норвел, Марджори, Майкл и Мередит, печальные, будто провожали сына в армию. Марджори заливалась слезами. Майкл, рыдая, сгреб меня в объятья. Мередит всхлипывала и щипала себя за щеки. Я поцеловал ее в лоб. Даже Норвел смахнул слезу. Чемоданы погрузили в багажник «лендкрузера», и мы с Коннором уехали. В зеркале заднего вида семейство Дулей, утирая слезы, дружно махало вслед удаляющейся машине, пока она не скрылась из виду.
ДЕНЬ 326
Субботний вечер, мой последний в Австралии. На следующий день я улетал домой. Я пробыл здесь без малого целый календарный год. Последние месяцы я жил у Стюартов, а перед этим провел два месяца у Трэверсов, а до них – месяц у Харрингтонов. Все они были прекрасными, компанейскими людьми и добрыми приятелями. В тот день все собрались у Харриса на мою прощальную вечеринку. Развлекались как обычно по субботам: Харрис играл на гитаре, мы по очереди читали вслух рассказы из сборника Вуди Аллена «Побочные действия», хохотали и пили портвейн до трех часов ночи.
К полуночи Коннор Харрингтон ни с того ни с сего спросил:
– Эй, Мака! – (Мне дали такое австралийское прозвище.) – Как тебе удалось так долго продержаться у Дулеев?
Я ошарашенно спросил:
– В каком смысле?
Все захихикали.
– Они же все того… с приветом, – рассмеялся он.
Все разразились громовым хохотом.
Раскрыв рот, я смотрел на них. Народ корчился от смеха, надрывал животы, только что не бился в истерике.
– Вот сволочи! – завопил я. – Вы знали! Вы с самого начала все знали! Знали, что они психованные! И вы меня с ними оставили? Да я с ними чуть сам с ума не сошел!
Хохот не умолкал. Тут я и сам засмеялся, и вскоре мы все катались по полу от смеха.
Такие вот у австралийцев шуточки.

Если честно, то у Дулеев мне было очень плохо. Для моего духа это была беспрерывная адская пытка. Красный сигнал светофора. Все мои грандиозные ожидания пошли прахом.
Но я дал слово, и о возвращении домой раньше срока не могло быть и речи. Я терпел. Только потом я понял, что мои мучения и мое одиночество были одним из самых важных моментов в моей жизни.
До поездки в Австралию я не задумывался о себе. А в Австралии впервые был вынужден разбираться в своих внутренних ощущениях, чтобы понять, что происходит вокруг.
Моя жизнь в Техасе была лучезарна и радужна, лето круглый год: «первый красавец», отметки, подруга – самая красивая в школе (да и во всем городе), мой собственный пикап. И гуляй сколько влезет. Никакого надзора.
Австралия – страна солнечных пляжей, бикини и серфинга, но такой я ее не увидел. В этой поездке я научился уважать зиму. Целый год я был наедине с самим собой. Каждый вечер лежал в ванне и дрочил, читая Байрона и слушая «Rattle and Hum». Ежедневно уговаривал себя: «Все в порядке. Со мной все хорошо. Ты справишься, Макконахи. Это просто культурные различия». Я стал абстинентом и вегетарианцем, весил 130 фунтов, собирался пойти в монахи и освободить Нельсона Манделу.
Да, меня отправили в зиму. Заставили разбираться в себе, потому что никого больше рядом не было. И ничего не было. Никаких подпорок. Ни родителей, ни друзей, ни подруг, ни отличных оценок, ни телефона, ни пикапа. Ни «первого красавца».
Зато постоянный надзор. И комендантский час.
Этот год сделал меня тем, кем я в итоге стал.
Я нашел себя, потому что деваться было некуда.
Этот год заронил в меня убеждение, которое я сохранил по сей день. Жизнь трудна. В ней случаются неприятности. Мы сами создаем себе неприятности. В Австралии я должен был провести год, и для меня это было неизбежным, потому что я дал слово. Я добровольно пообещал себе, что раньше времени не вернусь. Поэтому я выработал особое отношение к происходящему. Относительное. Я отказывался признавать, что семейство Дулей – ненормальные люди. Я жил в кризисе, но старался не обращать на него внимания. Держался на плаву до самой финишной черты. Упорствовал. Доказывал себе, что унаследовал отцовскую принципиальность.
И чтобы окончательно не сойти с ума, говорил себе, что из всего этого можно и нужно извлечь урок, что в этом есть и положительная сторона, нужно только пройти через этот ад. И я прошел. Невозможно по-настоящему ценить свет, не ведая тьмы. Чтобы твердо встать на ноги, надо сначала потерять равновесие. Лучше прыгнуть, чем упасть. И это – я.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
P. S. Пока я жил у Дулеев по программе студенческого обмена, их второй сын, Рис, жил с моими родителями. Как он проводил время?
Мои родители свозили его на экскурсию в НАСА и в парк развлечений «Шесть флагов», а на лето поехали с ним во Флориду, где он каждые выходные устраивал вечеринки. Он ухлестывал за девчонками, упирая на неотразимый австралийский акцент, и катал мою бывшую подругу на моем пикапе. Ходили слухи, что две впечатлительные американки поддались его чарам по полной программе. Домашний бар был опустошен. Рис Дулей прекрасно провел время в Америке.

Я вернулся домой, в Техас. Мне было девятнадцать, я провел год в Австралии и теперь официально имел право употреблять спиртные напитки. Однажды вечером мы с отцом поехали в универмаг «Уолмарт», за бумажными полотенцами и едой для собаки, а на пути домой заглянули в бильярдную в торговом центре на юго-западе Хьюстона.
Выпили пивка, пообщались с отцовскими приятелями. Я держался почтительно, но мне хватало уверенности принимать участие в разговоре. Через пару часов мы расплатились в баре и направились к выходу. Я шагнул за порог, отец следом, и тут мускулистый вышибала подступил к отцу и спросил:
– Вы оплатили счет?
Отец, не останавливаясь, бросил: «Да, конечно» – и продолжал шагать. То, что случилось потом, я до сих пор вижу как в замедленной съемке. Вышибала решил остановить отца и приложил ладонь к его груди. Он посмел прикоснуться к моему отцу! Прежде чем отец указал обидчику на ошибочность такого поведения, это сделал я.
Каким-то образом я оказался верхом на вышибале, который растянулся на бильярдном столе в пятнадцати футах от входа. Я с таким усердием и так долго молотил кулаками, что одобрительные пьяные выкрики сменились испуганным перешептыванием. Меня оттащили и схватили за руки, а я плевался и пинал поверженного противника. Наконец невозмутимый голос у меня над ухом произнес:
– Ну все, хватит, сынок. Хватит.
Так я прошел свой ритуал взросления. Отец меня принял. В его глазах я в тот вечер стал мужчиной. В тот вечер мы стали друзьями. В тот вечер он обзвонил всех своих приятелей и сказал:
– С моим младшеньким все в порядке, ребята. Он сегодня вышибале в баре приложил, мало не показалось. Только за ним нужен глаз да глаз, он как психанет, так удержу не знает.
С того самого вечера в любом баре, куда ходили отец, мой брат Майк и отцовские приятели, меня считали полноправным участником компании все те, к кому я прежде обращался на «вы». Да, таким примитивным образом я заслужил отцовское уважение, зато теперь не просто слушал рассказы о попойках, а принимал в них непосредственное участие.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
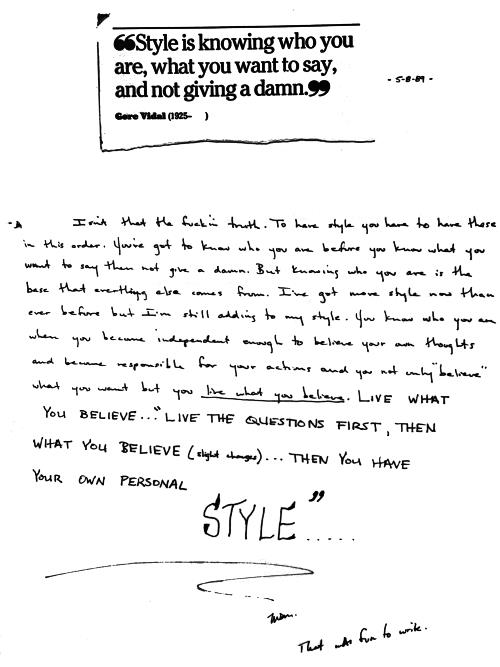

Часть третья
Проселочные дороги и магистрали
1989 г., июль
Подавать заявления в колледжи я начал еще в Австралии. Я послал документы в университет Дьюка, университет Грэмблинга, Техасский университет в Остине и в Южный методистский университет. Еще с девятого класса я хотел поступить на юридический факультет, чтобы стать адвокатом. Я любил участвовать в дебатах, и в семье полушутя говорили, что «Мэттью заделается нашим адвокатом, будет защищать семейный бизнес, подавать в суд на крупные корпорации и стрясет кучу денег с какого-нибудь „Норкового масла“».
Мне хотелось поступить в Южный методистский университет в основном из-за того, что он находится в Далласе, поскольку я считал, что в большом городе больше возможностей устроиться интерном в юридическую фирму, чтобы увеличить шансы найти хорошую работу после окончания университета.
Однажды мне позвонил отец:
– Сын, ты уверен, что не хочешь стать «лонгхорном»?
Названия университетов он всегда подменял названиями их спортивных клубов и особое предпочтение выказывал Техасскому университету в Остине.
– Нет, пап, я хочу быть «мустангом».
(Спортивный клуб Южного методистского университета называется «Мустанги».)
Он что-то пробурчал.
– Пап, ты не возражаешь?
– Да вроде нет. Просто думал, что, может, тебе захочется стать «лонгхорном».
– Нет, сэр, я хочу быть «мустангом».
– А, ну ладно, – сказал он и повесил трубку.
Через час позвонил мой брат Пэт.
– Что случилось? – спросил я.
– Ты точно знаешь, что не хочешь быть «лонгхорном», братишка?
– Точно.
– Ты уверен?
– Да, уверен. А почему вас с отцом это так интересует?
– Понимаешь, отец тебе не скажет, конечно, но в нефтяном бизнесе сейчас застой. Так что дела плохи. Отцу грозит банкротство.
Нефтяной бум, из-за которого в 1979 году мы переехали из Ювалде в Лонгвью, давно закончился, и в последние годы отцу приходилось крутиться, чтобы платить по счетам.
– Правда?
– Да. Год обучения в Южном методистском обходится в восемнадцать тысяч долларов, потому что это частный университет. А Техасский университет – публичный, поэтому обучение там стоит всего пять тысяч в год.
– Черт, я же не знал.
– Вот так-то. Между прочим, братишка, ты когда-нибудь был в Остине?
– Нет.
– Тебе понравится. Честное слово, это просто твой город. Гуляешь себе в шлепанцах, заходишь в бар, справа – ковбой, слева – лесбиянка, рядом с ней индеец, а за стойкой – лилипут. В таком городе легче легкого быть собой.
На следующий день я позвонил отцу:
– Пап, я передумал. Я хочу быть «лонгхорном».
– Точно знаешь? – спросил он, не скрывая волнения.
– Да, сэр.
– Ох, черт возьми, дружище, отличный выбор! А почему ты передумал?
– Просто мне «лонгхорны» нравятся больше «мустангов».
Из уважения к отцу я поступил в Техасский университет в Остине, но не признался, почему именно. Я знал, что мое решение обрадует отца. Вскоре я передумал еще раз, хоть и не был уверен, как отец на это отреагирует.


Второй курс подходил к концу, надвигались экзамены, и я не высыпался. Не потому, что кровать была неудобная, а потому, что мысли не давали покоя. Что-то не складывалось. Четыре года обучения, и после выпуска мне будет двадцать три. Потом еще три года на юридическом факультете – получается, что на работу я устроюсь в двадцать шесть и лишь к тридцати чего-нибудь добьюсь. Мне очень не хотелось тратить десять лет на подготовку к дальнейшей жизни.
Я сочинял рассказы, записывал их в дневник и показал парочку своему другу Роббу Биндлеру, который учился на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете. Робб назвал их достойными и оригинальными. «А ты не думал о факультете кинематографии? – спросил он. – Ты ведь очень хороший рассказчик». Факультет кинематографии? Звучало лестно и как-то загранично, по-европейски. Радикально, легкомысленно, разгульно. Вычурно. У меня отсутствовали слова, чтобы сформулировать такую мысль даже в мечтах, не говоря уже о том, чтобы рационально стремиться к этому поприщу. Нет, это не для меня.
За несколько часов до экзамена по психологии я заглянул в свой студенческий клуб «Дельта Тау Дельта», захватил что-то перекусить и ушел к одноклубникам, которые всю ночь готовились к экзаменам, а сейчас отсыпались. Я уселся на диван, раскрыл учебники и начал повторять материал. Я был прилежным студентом, каждую свободную минуту посвящал подготовке к экзаменам и гордился тем, что на экзамен приходил спокойно, выучив все необходимое. По большей части у меня были отличные оценки.
Но в этот день, когда до экзамена оставались считаные часы, я непонятно почему сказал себе: «Не трусь, Макконахи, ты все знаешь», сложил учебники и конспекты в рюкзак и включил телевизор на спортивный канал И-эс-пи-эн. Вообще-то, я люблю спорт и готов смотреть все подряд, даже «Самый сильный человек планеты», если больше ничего интересного не показывают. Транслировали бейсбольный матч. Великолепно. Однако через пять минут я выключил телевизор. Мне было неинтересно.
Я огляделся. На полу слева от меня лежала стопка журналов. «Плейбой», «Хастлер». Я люблю женщин и люблю разглядывать обнаженных женщин. Но сегодня, непонятно почему, мне было неинтересно. Я рассеянно перебирал журналы и вдруг наткнулся на тоненькую книжицу. Белая обложка, название выписано красным курсивом.
«Величайший торговец в мире»
«Интересно, это про кого?» – подумал я, раскрыл книгу и начал читать.
Спустя два с половиной часа я дошел до первого «свитка». Только что выяснилось, что «величайший торговец» в названии – это читатель книги, то есть в данном случае я, и теперь мне следует на протяжении месяца трижды в день перечитывать этот свиток, прежде чем приступать к следующему. Я посмотрел на часы. До экзамена оставалось двадцать минут.
Я растолкал спящего приятеля и спросил:
– Брэдон, можно я возьму ее почитать?
– Да бери насовсем, – ответил он.
Я схватил книгу и отправился на экзамен.
Я был очень взволнован. Мне казалось, что и книга, и ее название, и ее содержание, и тайна десяти свитков – все это нечто особенное, предназначенное только для меня. Как будто книга меня нашла.
Я сдал экзамен. Меня больше не интересовала ни психология, ни экзаменационная оценка – больше всего мне хотелось прочитать свиток. Я каким-то образом осознал, что в книге содержится нечто большее, чем в университетской аудитории.
Свиток первый
«Я приобрету благие привычки и стану их рабом».
Меня осенило, что лгать себе самому – дурная привычка. Карьера юриста не для меня. Я хотел сочинять и рассказывать истории. Я метался по своей комнате в общежитии, пытаясь сообразить, когда лучше всего позвонить отцу и сказать ему, что я передумал и не хочу учиться на юридическом факультете, а хочу пойти на факультет кинематографии. В половине восьмого, думал я, он как раз поужинает, нальет себе чего-нибудь горячительного и усядется на диван смотреть с мамой телевизор. Вот в половине восьмого и надо позвонить.
Отец учил нас добросовестному труду и честной работе от звонка до звонка. В семье «синих воротничков» я должен был стать адвокатом. Факультет кинематографии… Ох.
Обливаясь потом и тяжело дыша, в 07:36 я позвонил домой.
Отец поднял трубку.
– Привет, пап, – сказал я.
– Привет, сынок. Как дела? – спросил он.
Я собрался с духом.
– Да вот, хотел с тобой кое-чем поделиться.
– Ну рассказывай.
Ох.
– Понимаешь, я передумал. Все-таки я не хочу быть адвокатом. Хочу поступить на факультет кинематографии.
Молчание. Секунда, другая, третья. Четвертая. Пять секунд.
А потом раздался голос. Добрый, заинтересованный.
– Ты в этом уверен?
– Да, сэр. Да, папа.
Молчание. Еще пять секунд.
– Что ж… Только смотри не облажайся.
«Смотри не облажайся…» Я совершенно не ожидал от отца ни такой реакции, ни таких слов. А ведь лучше и не скажешь. Этими словами он дал мне не только свое благословение и согласие, но и выразил одобрение. Дело было еще и в том, как он это сказал. Он подтвердил, что я этого достоин, и оказал мне честь, предоставив полную свободу действий. Этими словами он, если можно так выразиться, вывел меня на орбиту. В тот день мы с ним заключили своеобразный договор. Спасибо, папа.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

При поступлении на факультет кинематографии необходимо показать либо свой короткометражный фильм, либо другое произведение искусства. У меня не было ни того ни другого, но мой средний балл составлял 3,82, и меня не просто приняли, но и включили в программу повышенной подготовки.
Однако же в моей новой карьере, в отличие от юриспруденции, средний балл ничего не значил. Ни голливудских продюсеров, ни режиссеров не интересуют мои школьные отметки. Им надо увидеть то, что заслуживает внимания. Мне надо было что-то сделать – снять фильм, исполнить роль. Короче, мне нужна была работа.
Я зарегистрировался в местном актерском агентстве Донны Адамс и устроился интерном в рекламную компанию, где работал четыре дня в неделю, в свободное от занятий время. Обзавелся пейджером и без колебаний пропускал занятия, чтобы съездить в Сан-Антонио или в Даллас, на пробы актеров для музыкальных клипов или рекламы пива. Накопил массу отказов.
Первый оплачиваемый заказ я получил как «модель рук». При первой встрече Донна Адамс сказала, что у меня красивые руки, и посулила мне большое будущее, если я перестану грызть ногти. Она оказалась права. С тех самых пор ногти я не грызу.
Да, красотой сыт не будешь, но она открывает двери, и я был твердо намерен проскользнуть в любую. Я ставил черно-белые короткометражки и снимал их на 16-миллиметровую пленку камерой «Болекс», я монтировал фильмы, был помощником режиссера в фильмах однокурсников, делал постановочные фотографии, писал сценарии и играл роли. И регулярно пропускал занятия из-за поездок в Сан-Антонио и в Даллас.
Однажды декан вызвал меня к себе.
– Мэттью, посещение занятий обязательно, особенно для тех, кто учится по программе повышенной подготовки. Если ты и дальше будешь прогуливать или уходить с лекций, я не смогу поставить тебе зачет.
Я посмотрел ему в глаза:
– Мы же с вами знаем, что директорам голливудских и нью-йоркских студий абсолютно безразлично, есть у меня профильный диплом или нет. Для тех, кто снимает кино, дипломы ничего не значат. Их интересует готовый продукт: фильм или сыгранная роль. Я прогуливаю занятия по одной-единственной причине – чтобы создать то, что они захотят приобрести. А в университетских стенах меня учат стремиться к тому, к чему я и сам стремлюсь вне университетских стен. – Тут мне в голову пришла замечательная мысль, и я выпалил: – Давайте так: я прихожу на все экзамены без исключения, а вы выставляете мне «удовлетворительно» по всем предметам программы.
Он промолчал.
А я упрямо придерживался предложенного мной плана: продолжал прогуливать занятия, но на все экзамены являлся, подготовившись как можно лучше.
В конце семестра я получил удовлетворительные отметки по всем предметам университетской программы, однако накопил гораздо больше практических знаний, чем если бы учился исключительно на «отлично».
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ


В компанию сокурсников я не вписывался. Из всех студентов факультета кинематографии только я был членом студенческого братства. Ходил в сапогах и в отглаженных рубашках, застегнутых на все пуговицы и заправленных в брюки. Загорелый. Учтивый. Не нервный.
Все остальные носили черное, отличались нездоровой бледностью, предпочитали готские прикиды и жались по углам.
Один из наших преподавателей заставлял нас каждые выходные ходить в кино, а в понедельник обсуждать просмотренные фильмы на семинарах. Я отправлялся в «Метроплекс», смотрел какой-нибудь блокбастер, а в понедельник как ни в чем не бывало заявлял что-нибудь типа: «Я тут посмотрел „Крепкий орешек“ и…» Мои однокурсники, не дослушав, отмахивались: «Да ну, фигня». Они на выходных посещали, скажем, ретроспективу Эйзенштейна.
Меня начали терзать сомнения. «Ты должен делать то, что подобает творческому человеку, Макконахи. Смотреть артхаусные фильмы в артхаусных кинотеатрах, а не блокбастеры в „Метроплексе“. Тебе недостает независимости. Нужно быть более эксцентричным и менее дружелюбным». Я решил носить рубашку навыпуск.
И продолжал смотреть блокбастеры. В очередной понедельник я рассказал о просмотренном фильме, и мои сокурсники начали недовольно бормотать: «Большие студии выпускают всякую дрянь… продажная корпоративная Америка…»
– Погодите-ка, – возразил я. – Объясните мне, пожалуйста, почему эти фильмы – дрянь. Что в них плохого? Что вам в них не понравилось?
Все замолкли и стали переглядываться. Наконец один из них ответил:
– Вообще-то… мы их не видели. Просто знаем, что это дрянь.
– Да пошли вы все! – не выдержал я. – Вы заранее считаете дрянью все то, что пользуется популярностью.
И после этого я перестал стыдиться того, что был и членом студенческого братства, и студентом кинематографического факультета.
А рубашку я снова стал заправлять в брюки.

Меня всегда интересовали различия в поведении и культуре разных народов. Мне нравилось искать и находить общий знаменатель ценностей, фундамент, кроющийся под нашими различиями. По вечерам мы с приятелями-студентами тусовались на Шестой улице, только они предпочитали бары, где можно было снять девчонок из студенческих обществ, а я уходил в «Кэтфиш-стейшн», душное заведение с преимущественно чернокожими посетителями, где подавали жареного сома, наливали пиво и играли блюз. Туда было не протолкаться, когда выступал саксофонист Кайл Тернер или давала концерт слепая группа Blue Mist. Я пробирался к сцене, поближе к холодильнику с пивом, прислонялся к нему и, наслаждаясь относительной прохладой, доставал себе бутылку. Заправлял всем Ларон, а официанткой была Тэмми, негритянка полуночной красоты, недосягаемая, как рок-звезда. За ней ухлестывали все посетители мужского пола, оставляя щедрые чаевые в надежде, что повезет. Не везло никому, включая и меня, но на размер чаевых это не влияло.

Как-то раз перед закрытием, расплачиваясь с Лароном за шесть выпитых бутылок, я сказал ему, что хочу устроиться к нему на работу, официантом. Заработок «модели рук» был скромным и весьма нестабильным, а деньги были нужны. Вдобавок я любил блюз. Ларон рассмеялся. Я был единственным белым посетителем кафе.
– Я не шучу, – сказал я. – Мне деньги нужны, и музыка нравится.
Он снова захохотал, а потом с минуту смотрел на меня.
– Ну ладно, обалдуй хренов. – Он вытащил ручку и что-то написал на чеке. – Во вторник утром, к девяти, приходи по этому адресу и спроси Хомера. Он – хозяин кафе. Я ему про тебя скажу.
В назначенное время я пришел по указанному адресу, тоже на Шестой улице. Это был просторный клуб, куда вскоре и переехало «Кэтфиш-стейшн». Посреди зала огромный негр – в нем было фунтов 340, а то и больше, – в белом комбинезоне уборщика, обливаясь потом, елозил шваброй по бетонному полу. Еще один негр стоял за барной стойкой и занимался какой-то бухгалтерией.
– Хомер? – спросил я.
Негр за стойкой не шелохнулся. Второй продолжал орудовать шваброй.
– Хомер Хилл? – повторил я погромче.
Человек за стойкой склонил голову к правому плечу:
– Ну, я это.
– Меня зовут Мэттью. Меня к вам прислал Ларон. Я хочу устроиться официантом в «Кэтфиш-стейшн».
– А, да, – небрежно бросил он. – Бери швабру и помоги Карлу убрать мужской туалет.
Карл повернулся и шваброй стал толкать ведро с водой к туалетам, на ходу указав мне на еще одно ведро и швабру у стены.
Я такого не ожидал. Улыбнулся. Хомер без улыбки смотрел на меня. Тогда я взял ведро, пошел в мужской туалет и стал мыть пол с таким усердием, будто собирался отнять работу у Карла.
Минут черед пятнадцать, когда я отмывал унитаз, послышался голос:
– Ладно, бросай швабру.
Я обернулся. В туалете стоял Хомер.
– Ты правда хочешь работать у меня официантом?
– Правда, – сказал я.
Хомер покачал головой и хихикнул:
– В четверг вечером, к шести, приходи в «Кэтфиш-стейшн». Будешь помогать Тэмми, она тебе покажет, что и как делать.
В четверг вечером я пришел в «Кэтфиш-стейшн» без четверти шесть. Я был частым гостем в заведении, Тэмми меня помнила, но ей пришлось не по нраву, что теперь меня надо учить обслуживанию. Тэмми была королевой заведения, а я вторгся на ее территорию и покусился на ее чаевые. Однако же за три вечера Тэмми научила меня всему: где отмечать приход на работу, как управляться с кассой, где оставлять заказы для кухни, какую долю чаевых давать поварам, какие столы я буду обслуживать и к каким посетителям, отличавшимся особенной щедростью, мне не позволено ни подходить, ни даже глядеть в их сторону.
Спустя неделю мне доверили обслуживать столы самостоятельно. Девяносто процентов посетителей составляли чернокожие мужчины, десять процентов – чернокожие женщины, подруги этих самых мужчин. Восемьдесят процентов посетителей были неженатыми и приходили в «Кэтфиш-стейшн» не столько слушать блюз, сколько ухлестывать за Тэмми, так что к белому парню-официанту особой приязни они не испытывали. Это отражалось на размере чаевых. В конце одного вечера мне досталось 32 доллара, а вот Тэмми набрала 98 долларов.
Следующие два года, с четверга по субботу, я работал официантом в «Кэтфиш-стейшн». Многие посетители в конце концов стали мне друзьями и со временем сами садились за «мои» столы. Многие, но не все. Мы с Тэмми тоже подружились, но мне, как и всем остальным мужчинам, посещавшим заведение, не досталось даже поцелуя в щеку. Хотя я очень старался. А еще так и не смог заработать чаевых больше, чем она.

С Хомером мы дружим уже много лет. В прошлом году вместе ходили на футбол, смотреть игру «лонгхорнов».
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Теперь, когда я работал в «Кэтфиш-стейшн», у меня завелись деньги, но не то чтобы много, и от бесплатной выпивки я не отказывался. Однажды я пригласил свою подругу, Тоню, в бар отеля «Хайятт», где барменом был мой одноклассник Сэм. Бесплатная выпивка.
– Две водки с тоником, Сэм.
Он принес нам коктейли и сказал:
– Вон там, за стойкой, сидит тип, который приехал снимать кино. Он торчит у нас каждый вечер. Давай я вас познакомлю.
Так я познакомился с единственным и неповторимым Доном Филлипсом. Я поздравил его с приездом в Остин. Оказалось, что мы оба увлекаемся гольфом, и разговор зашел о гольф-полях, на которых нам довелось играть. Дон тоже пил водку с тоником. С удовольствием.
Несколько часов спустя Дон, взобравшись на стул, что-то вещал, а распорядитель бара безуспешно пытался его утихомирить. Когда стало ясно, что утихомириваться он не намерен, его выставили из бара.
Я пил вровень с Доном, утихомириваться тоже не собирался, поэтому нас обоих бесцеремонно выпроводили из отеля. В третьем часу ночи Дон взял такси и предложил подвезти меня до дома. Я согласился, потом вытащил косячок, и мы закурили.
– Мэттью, а ты где-нибудь снимался? – спросил Дон.
Я честно сказал, что на полторы секунды мелькнул в рекламе пива «Миллер-лайт» и засветился в музыкальном клипе Триши Йервуд.
– Я сейчас подбираю актеров для одного фильма. В нем есть небольшая роль, на которую ты подойдешь. Завтра утром, в половине десятого, приходи по этому адресу, возьмешь сценарий. Я помечу твои три сцены.
Тут мы подъехали к моему дому. Я попрощался с Доном и вышел из такси.
На следующее утро, к половине десятого (то есть в то же самое утро, только на шесть часов позже), я приехал по указанному Доном адресу, где мне вручили сценарий с моим именем на обложке и записку от Дона: «Вот сценарий, персонажа зовут Вудерсон. Пробы начинаются через две недели».
Сценарную реплику, которая дает толчок к пониманию роли, я стал называть «стартовой». В сценарии фильма «Под кайфом и в смятении» такой репликой для меня стало:
«Знаешь, чувак, вот поэтому мне и нравятся выпускницы. Я старею, а они всегда одного возраста».
Вудерсону двадцать два года, но он все время ошивается у школы. Эта реплика раскрывает его внутренний мир и становится энциклопедией его души. Я вспомнил своего брата Пэта. Он учился в старших классах и для меня, одиннадцатилетнего, был настоящим героем. Однажды, когда его «шевроле-камаро Z28» был в ремонте, мы с мамой поехали забирать Пэта после уроков. На стоянке Пэта не оказалось.
– Куда он подевался? – спросила мама.
Я покрутил головой во все стороны и сквозь заднее окно увидел Пэта. Он стоял в тени школьного двора, ярдах в ста от нас, на площадке для курильщиков, согнув ногу в колене, небрежно опираясь о кирпичную стену, и как ни в чем не бывало покуривал «Мальборо» – круче Джеймса Дина и на два фута его выше.
– Вооон… – начал я и тут же умолк, сообразив, что за курение ему влетит от мамы.
– Где? – уточнила мама.
– Нет, показалось.
В тот момент мой брат – то, как он стоял, как расслабленно опирался о стену, как небрежно курил сигарету, – представился мне, одиннадцатилетнему, романтическим воплощением невероятной крутизны. Великаном десяти футов ростом. Он навсегда запечатлен в моем сердце и памяти.

И вот из этого образа одиннадцать лет спустя и родился образ Вудерсона.

На подготовку к кинопробам у меня было десять дней. Я вжился в образ. Но поскольку формально это было собеседование о приеме на работу, я побрился и надел свою лучшую рубашку, аккуратно заправив ее в брюки. Когда я приехал на пробы, Ричард Линклейтер – Рик, режиссер, – посмотрел на меня и спросил:
– Это ведь не твой типаж?
– Верно, – ответил я. – Но я его знаю.
Я откинулся назад, полуприкрыл глаза, зажал сигарету между растопыренных пальцев и показал ему моего Вудерсона.
Меня утвердили на роль.
Линклейтер попросил меня не бриться.
Съемки уже шли полным ходом. Вскоре меня пригласили на «пробы грима и костюма», то есть меня должны были загримировать и одеть в заранее подобранный наряд, чтобы Рик, в перерывах между снимаемыми сценами, мог подойти и одобрить или отвергнуть полученный результат.
В тот день съемки проходили у закусочной «Топ-нотч». Из трейлера-гримерки я, в полном прикиде Вудерсона, прошествовал по тротуару вдоль Бурнет-роуд к съемочной площадке. Рик меня заметил и, оглядев с головы до ног, широко улыбнулся и всплеснул руками:
– Тааак… Оранжевые штаны… футболка с Тедом Ньюджентом… прическа… усы… А это что за татуировка на руке? Черная пантера?
– Ага. Сечешь, чувак?
– Секу. Отлично. Классный Вудерсон.
В тот день сцен с моим участием не снимали. Меня пригласили для того, чтобы Рик одобрил грим и костюм персонажа.
Но тут у Рика родилась счастливая мысль, и мы занялись тем, что часто делаем и по сей день: устроили словесный пинг-понг.
– Вот прикинь, Вудерсон снимает старшеклассниц – красоток, чирлидеров, мажореток, в общем, клевых девчонок. А как ты думаешь, рыжая заучка его заинтересует?
– Конечно, – ответил я. – Вудерсону нравятся любые девчонки.
– Ну да. Слушай, Марисса Рибизи играет Синтию, такую рыжую заучку. Вон она, сидит за рулем, а в машине ее друзья-ботаны. Как по-твоему, попытается Вудерсон ее снять, если подъедет?
– Дай мне полчаса.
Я отошел в сторонку и начал размышлять: «Кто такой Вудерсон? Что вообще происходит в этой сцене? Это последний день занятий. Все собираются на вечеринку. А еще я могу кое-что сказать по-испански».
В общем, на съемочной площадке меня (то есть Вудерсона) усадили за руль, подключили микрофон.
– Когда я скомандую «мотор!», подъезжай к ее машине и попытайся охмурить, – объяснил Рик.
– Ага, понял.
В сценарии этой сцены не было, никакого диалога тоже. Я впервые оказался на съемочной площадке. Я никогда в жизни не снимался в кино. Естественно, я волновался. Начал снова вспоминать, кто такой мой персонаж.
Кто он? Кто такой Вудерсон? Что я люблю?
Люблю свою машину.
Ну вот, я сижу в своем «шевроле-шевель» 1970 года выпуска. Это раз.
Люблю курить травку.
Рядом со мной сидит Слейтер, а у него всегда с собой косячок. Это два.
Люблю рок-н-ролл.
А в кассетнике играет ньюджентовская «Stranglehold». Это три…
И тут раздалось: «Мотор!»
Я взглянул на машину, где сидела Синтия, рыжая заучка, и сказал себе: «А еще я люблю девчонок».
Тронул «шевель» с места и медленно поехал по стоянке, размышляя: «Значит, три из четырех у меня есть, а четвертую сейчас подхватим…», а вслух протянул:
Эти три слова, три подтверждения того, что у меня, Вудерсона, есть, стали моими первыми словами, произнесенными в камеру. В сценарии моему персонажу отводилось всего три сцены, но в итоге я провел на съемочной площадке три недели.

Сейчас, двадцать восемь лет спустя, эти слова продолжают преследовать меня повсюду. Их цитируют. Их воруют. Их пишут на футболках и бейсболках. Их татуируют на руках и ногах. Мне это очень нравится. Я считаю это огромной честью. Ведь эти три слова были первыми словами, которые я произнес в свое первое появление на съемочной площадке, еще не догадываясь, что кино станет для меня не хобби, а карьерой.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Через пять дней после начала съемок, около семи часов вечера, мне позвонила мама. Я был на кухне.
– Отец умер.
У меня подкосились ноги. Я не поверил. Мой отец – снежный человек, незыблемый, несокрушимый, здоровый, как викинг, и сильный, как бык. Невозможно. Это же мой отец. Никто и ничто не смогло бы его убить.
Кроме моей мамы.

Он всегда говорил мне и моим братьям: «Ребята, умру я только в постели, занимаясь любовью с мамой».
Так оно и случилось.
Он проснулся утром, в половине седьмого, в любвеобильном настроении и занялся любовью с женщиной, с которой развелся дважды и на которой женился трижды. Со своей женой Кей. С моей мамой.

И когда он кончил, с ним случился инфаркт.
Отец все верно предсказал.

Тем же вечером я уехал в Хьюстон. Два дня спустя мы устроили ирландские поминки, куда пришли сотни друзей, рассказывали истории из его жизни, как он и просил, когда говорил с нами о смерти и похоронах.

Смерть отца стала для меня, как для многих, серьезным испытанием, последним ритуалом взросления. В моей жизни началась новая эпоха. Без страховочной сетки. Оберегать меня было больше некому. Пора было становиться взрослым. Распрощаться с детством, с мальчишкой, который по ночам строил дом на дереве.
Я многое осознал. И вырезал на стволе эти слова:
меньше кичиться
больше вовлекаться.
Чем меньше кичишься своей жизнью, достижениями, карьерой, связями и знакомствами, своими перспективами, чем скорее перестаешь кичиться всем этим, а наоборот, вовлекаешься в это, тем скорее добиваешься успеха. Мало просто радоваться жизни.
Все то бренное, перед чем я всю жизнь благоговел, все то, что я чтил и возносил на недосягаемую высоту, неожиданно оказалось прямо у меня перед глазами. Все то бренное, что я презирал, то, что я считал ниже собственного достоинства, неожиданно оказалось прямо у меня перед глазами.
Мир расстилался в одной плоскости, и я смотрел ему в глаза.
Пришла пора расстаться с ярко-красными спортивными автомобилями.
Пришла пора оставить мечты и заняться жизнью.
Пришла пора позаботиться о маме.
Пришла пора позаботиться о себе самом.
Пришла пора забыть о мальчишеских увлечениях.
Пришла пора набраться смелости.
Пришла пора стать настоящим мужчиной.

Со съемок меня отпустили на неопределенный срок, но родные настояли, чтобы я вернулся в Остин и закончил начатое. Спустя четыре дня после поминок я приехал в Остин и в тот же день пришел на съемочную площадку.
В тот вечер снимали одну из последних сцен фильма, на футбольном поле. У меня не было никаких реплик, но Линклейтер хотел, чтобы я участвовал в сцене. На закате, перед началом съемок, мы с ним гуляли у стадиона и разговаривали о жизни, о смерти и о том, что все это значит.
– По-моему, все это о том, как жить, – сказал я. – Вот мой отец умер, но его дух будет жить во мне до тех пор, пока я думаю о нем как о живом. Я все равно с ним разговариваю, стараюсь жить так, как он учил, и он будет жить вечно.
В тот же вечер я запечатлел эту мысль в сцене, когда Рэндалл «Пинк» Флойд раздумывает, подписывать или нет обещание не употреблять наркотиков, чтобы остаться в футбольной команде.

2 августа 1992[5]
Три недели в роли Вудерсона на съемках «Под кайфом и в смятении» оказались для меня одновременно и очень трудными – из-за горькой утраты, и очень полезными – из-за того, что я приобрел. За год до этого отец разрешил мне заняться тем, чего я хотел, и, хотя он не успел оценить результаты моего труда, но увидел начало того, что я в итоге закончу и превращу увлечение в карьеру. Загадочным образом его жизнь оборвалась как раз тогда, когда для меня началась новая эпоха – и на экране, и в жизни.

Трехнедельный практический опыт, полученный на съемках «Под кайфом и в смятении» очень помог мне осенью, когда начались занятия на втором курсе. Моей первой режиссерской работой стал документальный фильм «Колесницы чикано», о субкультуре лоурайдеров, распространенной среди испаноговорящего населения на юге США. В тот же год я снялся в эпизоде документального телесериала «Нераскрытые тайны» и еще одном музыкальном видеоклипе. Я был готов получить диплом и превратить «я стал бы, если бы мог» в «я могу и стану».

Я решил сразу после получения диплома отправиться в Голливуд на машине, на время остановиться у Дона Филлипса и найти работу – актером или в съемочной группе. Альма Каттруфф, менеджер по кинопроизводству в съемочной группе «Под кайфом и в смятении», пообещала мне место помощника по производству на съемках фильма братьев Коэн «Подручный Хадсакера», которые начинались через несколько месяцев.
Но сначала мне предложили крошечную – на один съемочный день – роль в фильме «Техасская резня бензопилой: следующее поколение» – эдакий Ромео, если Рене Зельвегер считать Джульеттой, – загадочный мотоциклист в черной кожанке и противосолнечных очках, который проезжает мимо школы в начале фильма, а в конце забирает героиню, чудом уцелевшую после адской ночи, и уезжает с ней в закат. У персонажа даже реплик не было.
За пару дней до начала съемок я встретился с режиссером Кимом Хенкелем, и он спросил, нет ли у меня знакомых, которые подошли бы на роль главного злодея, одноногого Вилмера. Я назвал имена двоих, которых знал по актерскому агентству Донны Адамс.
К своему четырехцилиндровому пикапу «додж», прозванному «Серфинг-Лонгвью», я прицепил арендованный перевозочный фургон, набил его под завязку, а потом заехал за сценарием, где были помечены сцены для субботней съемки. А в понедельник я отправлялся в погоню за голливудской мечтой. Как говорится, «иди на Запад, юноша!».
Со сценарием в руках я вышел из конторы и по асфальтовой дорожке пересек заросший газон, направляясь к своему пикапу, припаркованному на обочине. Открыл дверцу машины, встал на подножку, и тут вдруг меня осенило: «А почему бы не попробоваться на роль Вилмера?»
Я захлопнул дверцу, вернулся к офису и без стука вошел в кабинет.
– Эй, Мэттью, ты что-то забыл? – спросил Ким.
– Ага, забыл. Хочу попробоваться на роль Вилмера.
Ким удивленно посмотрел на меня:
– Что ж, интересная мысль. А когда ты хочешь прийти на пробы?
– Прямо сейчас.
– Сейчас тут никого из актрис нет, вот только Мишель…
Я взглянул на секретаршу за столом.
– Я согласна, – сказала она.
– А ничего, что я тебя сейчас до смерти напугаю? – спросил я.
– Ну попробуй, – ответила она.
Я пошел на кухню, схватил громадную поварешку и вернулся в кабинет уже в образе Вилмера, прихрамывая, якобы на механическом протезе. Я сдвинул письменный стол Мишель, загнал ее в угол и заставил завизжать от страха.
– Роль твоя, – сказал Ким.
– Ой, и правда было страшно, – подтвердила Мишель.
Я рискнул – и получил роль. Теперь на съемках мне придется провести четыре недели.

Все мои пожитки уже были упакованы в фургон, и от квартиры я отказался, так что позвонил приятелю, у которого был свободный диван. Поездка на Запад отложилась на месяц, потому что мне дали роль во втором фильме. Мне предстояло сыграть Вилмера, одноногого убийцу с грузовиком-эвакуатором и механическим протезом, пульт управления которым он потерял.

Спустя четыре недели, разбогатев на четыре тысячи долларов, я в «Серфинг-Лонгвью» с нагруженным прицепом выехал на 10-ю магистраль, чтобы за сутки доехать до Голливуда. Через двадцать часов непрерывной езды я добрался до городка Индио в Калифорнии и увидел дорожный указатель на съезд: «САНСЕТ-ДР». Сансет-драйв? Сансет-лейн? Бульвар Сансет? «Да какая разница! Это наверняка съезд к легендарному бульвару Сансет!» Было восемь часов вечера.
«Доехал с ветерком!» – подумал я и прибавил газу.
Еще в Остине я выбрал музыкальное сопровождение для своего триумфального въезда в Голливуд – заглавную песню The Doors с альбома «L. A. Woman». Диск лежал в кармашке двери. Я вставил его в проигрыватель и включил погромче. Клавиши Рэя Манзарека и бас-гитара Джерри Шеффа служили великолепными декорациями для моего знакомства с Калифорнией. Я врубил звук на полную мощность, ощущая, как пульсируют динамики и кровь у меня в жилах.
Оказалось, что Сансет-драйв – это вовсе не бульвар Сансет, а находится от него в 162 милях дальше по магистрали. В то время я этого не знал, а потому мне пришлось двадцать два раза подряд слушать одну и ту же песню, думая, что огни Голливуда вот-вот появятся из-за холмов.
К дому Дона Филлипса на пляже Малибу я подъехал в 22:36. Нажал кнопку дверного звонка. Ничего. Позвонил снова.
– Ну кто там еще? – наконец спросил Дон, не открывая двери.
– Это я, Макконахи! – крикнул я.
– А, Макконахи! Слушай, а давай ты зайдешь попозже? Я тут немного занят.
Я сутки провел за рулем, устал и перенервничал из-за промаха с бульваром Сансет, поэтому рявкнул:
– Никуда я не пойду, черт побери! Я тебя предупредил, что сегодня приеду! Из Остина, без остановок!
Дверь распахнулась, и я увидел Дона – в чем мать родила, со стояком.
– Ну да, ну да, – сказал он. – Подожди минут двадцать.
И он захлопнул дверь у меня перед носом.
Добро пожаловать в Голливуд.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

У Дона мне жилось хорошо. Диван был удобный. Каждый вечер Дон готовил филе-миньон, а на десерт полагался шарик ванильного мороженого «Хааген-даз» с клубничным вареньем – Дон называл блюдо «коронным номером», почему-то с французским акцентом. А в морозилке каждый вечер охлаждалась непочатая бутылка «Столичной». Однако же мне нужна была работа.
Мне сообщили, что съемки «Подручного Хадсакера» откладываются, поэтому обещанного места помощника по производству не случилось. Я волновался. Мне хотелось получить роль, зарегистрироваться у агента, изучать сценарий, ходить на пробы или, в худшем случае, найти какую-нибудь другую работу. Но ничего этого не происходило, а кроме Дона, в Лос-Анджелесе я никого не знал.
Однажды за ужином я спросил:
– Слушай, Дон, а ты можешь организовать мне встречу с агентом? У меня всего пара тысяч долларов, так что мне очень нужна хоть какая-то работа.
– Заткнись! – рявкнул Дон. – И никогда больше так не говори. В этом городе тех, кому что-то нужно, чуют за милю. Так что не успеешь начать, как тебя объявят неудачником и спишут со счетов, ясно? Знаешь, что тебе нужно? Быть крутым. Свалить отсюда. Желательно куда-нибудь подальше. В Европу, например. И не возвращаться до тех пор, пока не перестанешь думать, что тебе нужно. Вот тогда про агентов и поговорим.
Он говорил серьезно. Я знал, что он говорит серьезно. И знал, что он имеет в виду. Повторять ему не пришлось.

Коул Хаузер, Рори Кокрейн и я подружились на съемках «Под кайфом и в смятении». Теперь, когда у меня появилась масса свободного времени, мы встретились и решили на месяц уехать в Европу, взять там в аренду мотоциклы и поездить по разным странам. Мы собрали вещички в рюкзаки, кое-какую наличность, купили билеты (экономкласс) до Амстердама и обратно и отправились в путешествие.
Приземлившись, мы арендовали машину и поехали на юг, где в немецком городке Розенхайм отыскали мотоспортивный магазин. Мы, в грязных джинсах и рваных футболках, пришли к хозяину магазина, Йохану, и рассказали ему о наших планах путешествия по Европе.
– Что ж, давайте подберем мотоциклы для ваших приключений, – ответил он.
Коул выбрал громадный «кавасаки 1000», Рори – «дукати-монстр М900», а я – «БМВ 450 эндуро»[6]. Все новехонькие, без единой царапинки. Красота. По подсчетам Йохана, все это удовольствие стоило 12 тысяч долларов.
– У нас нет денег взять их в аренду на месяц, – сказал я.
– А на сколько есть? – спросил Йохан.
– На три дня, – ответил Рори.
Йохан вздохнул и внимательно поглядел на нас. В глубине магазина появилась его супруга с волосатыми подмышками. Ей явно не понравился ни вздох, ни взгляд мужа.
– В молодости мы с друзьями тоже ездили по Европе на мотоциклах. И магазин я открыл для того, чтобы такие, как вы, могли отправляться в такие же поездки. Так что берите мотоциклы и катайтесь.
– Но у нас нет денег. Мы можем заплатить только по четыреста долларов за каждый мотоцикл.
– Им верить нельзя, – заявила супруга с волосатыми подмышками. – Они мотоциклов не вернут, вот увидишь.
– Вернем, – пообещал я. – А если не верите, мы оставим вам в залог наши обратные билеты, – сказал я.
Супруга Йохана поняла, чем все закончится, и была этому не рада. Она решительно помотала головой.
– По четыреста долларов за три мотоцикла, – сказал Йохан, – получается тысяча двести долларов. Платите деньги и езжайте себе на здоровье, возвращайтесь через месяц. Ваши обратные билеты мне не нужны. Лучше расскажете мне потом про свои приключения.
Мы заулыбались, не веря своему счастью.
Йохан крепко обнял каждого из нас и сказал:
– Ну, счастливой поездки!
Мы покатили мотоциклы к двери.
– Погодите, – заявила волосатая супруга. – Давайте сюда билеты.
Мы вручили ей билеты, оседлали мотоциклы и выехали со стоянки перед магазином.
Йохан гордо и невозмутимо стоял в дверях и смотрел нам вслед, а жена его отчитывала.
Мы проехали через всю Германию, Австрию, Швейцарские Альпы и Италию. Любоваться географическим великолепием лучше всего только так. На одиннадцатый день нашего путешествия, на съезде с шоссе у итальянского прибрежного городка Сестри-Леванте, Рори, свернув с магистрали на 120 милях в час, угробил свой «дукати». Сам он отделался ушибами, ссадинами и прорехами в кожаных штанах, однако провел ночь в больнице. А новехонький «дукати-монстр М900» разбился в лепешку.
На следующий день Рори позвонил Йохану сообщить дурные вести.
– Йохан, я угробил «дукати». Мотоцикл разбит.
– Погоди, ты попал в аварию? – спросил Йохан. – Что с тобой?
– Да со мной все в порядке, а вот мотоцикл – металлолом. Извини.
– Плевать мне на мотоцикл, главное, что с тобой все в порядке.
– Я цел, – подтвердил Рори.
– Отлично. А где мотоцикл?
– В поле, где-то у семьдесят четвертого съезда с шоссе у Сестри-Леванте.
– Ладно, я пошлю к вам грузовик. Завтра к обеду будет у вас. Шофер заберет мотоцикл, так что ждите его на месте аварии. Хорошо, что ты сам не пострадал.
На следующий день мы втроем стояли в поле у искореженного мотоцикла. К нам подъехал большой грузовик. За рулем сидел Йохан. Он тепло с нами поздоровался, поглядел на разбитый «дукати» и откинул борт кузова.

Рори, Коул и я подтащили мотоцикл к грузовику, а Йохан выгрузил из кузова… новехонький «дукати-монстр М900».
– Я рад, что ты не пострадал, – повторил он. – Счастливой вам поездки.
И мы понеслись дальше.
Три недели спустя, оставив позади несколько тысяч миль, мы вернулись в Розенхайм на мотоциклах – уже не новеньких, но и не разбитых.
Йохан встретил нас горячими объятьями.
– Заходите. Я напою вас кофе, а вы расскажете мне о своих приключениях, – с улыбкой сказал он.
– Все прошло эпично, – сказал я. – Мы гоняли по магистралям, пили воду из австрийских ручьев, пересекли Швейцарские Альпы, ужинали в тайном логове Муссолини и до рассвета рейвились в Римини.
– Спасибо, Йохан, за лучшую поездку в нашей жизни, – сказал Коул.
За разговорами пролетело несколько часов. Потом нам доставили арендованную машину и настало время возвращаться в Амстердам, чтобы на следующий день лететь домой. Супруга Йохана недовольно вернула нам билеты.
Йохан из Розенхайма. Классный мужик.
Целый месяц я не думал ни об агентах, ни о работе. А теперь возвращался в Малибу с закадычными друзьями и замечательными историями.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Часть четвертая
Искусство бега с горы
1994 г., январь
Дон очень гордился, что мы, «его ребята», объездили всю Европу на мотоцикле, – ведь это он «открыл» всех нас троих для фильма «Под кайфом и в смятении». Я снова обосновался у Дона на диване, но теперь даже не заикался об агентах. И не думал о них. Мне было не нужно.
Однажды вечером, уплетая очередную порцию ванильного мороженого с клубничным вареньем, Дон сказал:
– Ты готов. Завтра утром у нас встреча с Брайаном Свардстромом и Бет Холден из актерского агентства «Уильям Моррис». Они единственные, кто согласился с нами встретиться. Скажи им, что интересуешься и режиссерской работой, это подчеркнет, что тебе ничего особо не нужно. У них прям слюнки потекут.
В моем послужном списке значилась роль Вудерсона в «Под кайфом и в смятении» (за несколько месяцев до того фильм вышел на экраны, а «Техасская резня бензопилой: следующее поколение» – еще нет).
На встречу я пришел в наглаженной рубашке, заправленной в джинсы, и в ковбойских сапогах. Мы обменялись рукопожатиями, сели за стол. Своим поведением я давал понять, что агент мне не то чтобы нужен, а просто так положено. Свардстром заинтересовался, a Бет клюнула. На следующий день я подписал договор с Бет и агентством «Уильям Моррис».
Затем… на этой стадии истории герой, начинающий актер, обычно гоняется за приглашениями на кинопробы, получает сотни отказов, от отчаяния устраивается на работу официантом, и в какой-то момент ему предлагают отсосать, чтобы сыграть крохотную роль.
Все это ко мне не относится.
Спустя неделю после заключения договора я прошел свою первую голливудскую пробу с кастинг-директором Хэнком Маккэнном, на роль Эйба Линкольна, честного и прямодушного мужа героини Дрю Бэрримор в фильме «Парни побоку»; проба прошла успешно, и шесть недель спустя меня пригласили на вторую пробу, уже с Гербертом Россом, режиссером картины. А вот через неделю после этой первой пробы мне предложили пробу еще в одном фильме, на этот раз диснеевском – «Ангелы у кромки поля», на роль Бена Уильямса, бейсболиста, типичного американского парня. На эту пробу я пришел в белой футболке и в бейсболке с американским флагом. Съемочная площадка студии «Уорнер бразерз», павильон 22. Я раскрыл дверь и замер на пороге, подсвеченный сзади лучами полуденного солнца.
– Ух ты! Надо же, настоящий американский парень! – пробасил голос с дивана у стены.
Я посмотрел туда. Человек на диване щурил глаза и явно обращался ко мне.
– Да, сэр, – ответил я.
– Играешь в бейсбол?
– Играл, с шести до восемнадцати лет.
– Отлично! Роль твоя. Съемки начинаются через две недели.
За то, что десять недель я буду играть в бейсбол в Окленде, мне выплатят 48 500 долларов. «Ни фига себе!» Деньги были нужны, потому что тогда у меня оставалось тысяча двести долларов на все про все.
Я позвонил Пэту и поделился с ним новостями.
– Охренеть, братишка! Слушай, тут скоро Супербоул. Давай-ка поедем в Лас-Вегас, отпразднуем такое дело. За мой счет.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Честно сказать, я люблю делать ставки. В основном на спортивные состязания, особенно футбол Национальной лиги. Но я не играю по-крупному, так чтобы жизнь круто изменилась – как из-за выигрыша, так и из-за проигрыша. Нет, я делаю ставки просто потому, что покупаю билет на игру, а значит, буду пристально следить за ее ходом и болеть. Так что в большинстве случаев меня вполне устраивает ставка в 50 долларов. Я никогда не пользовался услугами типстеров (экспертов-прогнозистов), потому что для меня это не представляет никакого интереса. Если я проиграю, то, разумеется, попытаюсь сообразить, где допустил промашку, но мне больше нравится самому прогнозировать победителей, потому что если я выигрываю, то могу сказать: «Я знал, я знал!»
Если я выигрываю, то задним числом сделанный выбор представляется мне легким и понятным. Само собой разумеющимся. Я – прорицатель, Нострадамус, волшебник, а все потому, что «Я знал, я знал!». Вот это мне и нравится, и для меня «Я знал, я знал!» гораздо важнее, чем «Ну что за херня!». Я играю для развлечения, чтобы радостно воскликнуть: «Я знал, я знал!»
Когда я делаю ставки, то предпочитаю учитывать косвенные причины. Например, «Сан-Франциско выиграет на своем поле против Балтимора, потому что у балтиморцев будет джетлаг после длинного перелета с Восточного на Западное побережье», или «В понедельник надо ставить на Бретта Фарва и „Грин-Бей пэкерс“, потому что в прошлый вторник у Фарва умер отец», или «Делай ставку на победу той команды, в которой кто-нибудь из знаменитых игроков недавно стал отцом и теперь играет не только ради себя», или вот еще: «Ставь на проигрыш „Филадельфия иглз“, потому что они играют на своем новом стадионе, на церемонии открытия которого присутствовал Рокки Бальбоа, то есть Сильвестр Сталлоне, и празднования явно затянулись». Если я выигрываю, сделав ставки на основании этих интуитивных, психологических выводов, которые ни в коем случае не являются научными и которые вряд ли одобрили бы лас-вегасские букмекеры, то считаю, что чутье не подвело. Ведь я ас, Макиавелли, потому что «Я знал, я знал!».

Рейсом «Саутвест эйрлайнз» я полетел в Вегас. На финальной игре Национальной футбольной лиги США встречались команды «Даллас ковбойз» и «Баффало биллз» – второй раз подряд. У меня был агент, мне заплатили 48 500 долларов за роль, меня ждали классные выходные – выпивка, блэкджек и трансляция футбольного матча, которую я буду смотреть с братом Пэтом. Я был в прекрасном настроении.
В тот сезон у «Даллас ковбойз» был мощный состав: Трой Эйкман, Эммитт Смит, Чарльз Хейли, Майкл Ирвин. На предыдущем Супербоуле они наголову разбили «Баффало биллз», теперь считались фаворитами с отрывом в 10,5 очка, и букмекеры предсказывали, что отрыв увеличится до 12,5 очка.
В субботу перед Супербоулом мы с Пэтом отправились в казино, одиннадцать часов подряд играли в блэкджек и на рассвете ушли победителями. Я выиграл почти две тысячи долларов, а Пэт – больше четырех тысяч. В то время для нас это были большие деньги.
В воскресенье мы проснулись к полудню и начали вырабатывать стратегию, на кого и как ставить.
– Знаешь, десять с половиной очков – это по-любому громадный отрыв. А букмекеры в казино «Аладдин» утверждают, что будет все тринадцать, – сказал я. – Есть шанс, что во второй раз «Биллз» повезет. Так что давай ставить на них.
– Черт, а ведь они и правда могут обломать «Ковбоев», – сказал Пэт. – Ладно, давай ставить на «Биллз». На все подряд.
За час до начала игры мы нашли казино, где букмекеры прочили «Биллз» неслыханный отрыв в 14,5 очка. Мы объединили все наши наличные и поставили шесть тысяч долларов на «Баффало биллз» во всевозможных комбинациях.
4 тысячи на спред 14,5 очка.
1 тысячу на то, что выплата выигрыша за победу «Баффало биллз» составит 3 200 долларов.
250 долларов на то, что Турман Томас пересечет больше ярдов, чем Эммитт Смит, с выплатой выигрыша 8 к 1.
250 долларов на то, что Андре Рид пересечет больше ярдов, чем Майкл Ирвин, с выплатой выигрыша 12 к 1.
250 долларов на то, что Джим Келли пробросит мяч дальше, чем Трой Эйкман, с выплатой выигрыша 6 к 1.
100 долларов на то, что Брюса Смита объявят самым ценным игроком матча, с выплатой выигрыша 18 к 1.
100 долларов на то, что у «Даллас ковбойз» будет больше чем 1,5 перехвата.
Мы сделали ставки на все наши деньги, оставили себе только 100 долларов на пиво. Первая половина игры закончилась со счетом 13:6 в пользу «Баффало биллз». Мы пели, плясали и заказывали двойной виски.
– Ура! Домой вернемся первым классом! Мы гении. Отрыв в четырнадцать с половиной очков обеспечен! Мы знали, мы знали!
Ну, всем известно, что произошло дальше. Во второй половине игры «Ковбои» с ходу заработали 24 очка и не только выиграли, но и перекрыли отрыв в 14,5 очка со счетом 31:13.
Эммитт Смит обставил Турмана Томаса.
Майкл Ирвин обставил Андре Рида.
Джим Келли не пробросил мяч дальше, чем Трой Эйкман.
Брюса Смита не объявили самым ценным игроком.
И перехват у «Ковбоев» случился только один.
Мы проиграли по всем сделанным ставкам. Абсолютно по всем.
С поникшими головами мы устало вышли из казино и взяли такси, чтобы доехать до гостиницы. У нас осталось двадцать долларов на двоих. Перед нами притормозил пыльный желтый «бонневиль» 1986 года выпуска, с помятым левым задним бампером.
– «Холидей-инн», – сказал я, усаживаясь в салон.
Таксист, косматый старикан, явно месяца три не брился и дня три не мылся. Он заметил наше уныние, поправил зеркало заднего вида, чтобы было удобнее нас разглядывать, и тронул машину с места.
Мы с Пэтом молча пялились в окна, пытаясь сообразить, что произошло, и тут в салоне раздался громкий голос:
– На «Биллз» ставили, да? Вот придурки! Я вам так сразу бы и сказал. Я знал, я знал, что «Ковбои» выиграют. Эх вы, лузеры!
Пэт злобно зыркнул на водителя и, не выдержав, воскликнул:
– Если ты, сволочь, такой умный и знал, что «Даллас ковбойз» выиграют, то какого хрена ишачишь таксистом?

Все любят мнить себя знатоками. И даже после двух проигрышей и одного выигрыша считаешь, что один выигрыш больше двух проигрышей. Победителя выбрало твое истинное «я». Ты раскрыл свой потенциал, предсказал будущее. Ты сравнялся с богом. А проигрыши – исключения, отклонения от нормы, сбой в программе, хотя арифметически они в большинстве. Когда игра окончена, все утверждают: «Я знал, я знал, кто победит». И все лгут. Никто не знает, кто победит. Никто не знает, какая ставка окажется выигрышной. Это невозможно знать наверняка. На то они и ставки. Именно поэтому процветают Лас-Вегас и Рино. Уж им-то точно известно: те, кто делает ставки, уверены, что знают наверняка. Такой вот парадокс.

Спустя месяц после начала работы над «Ангелами у кромки поля» я слетал из Окленда в Голливуд за счет студии, которая снимала фильм «Парни побоку», на вторую пробу с режиссером картины Гербертом Россом. К роли я готовился тщательно, работал над ней по вечерам, наигравшись за день в бейсбол, и считал, что проник в характер персонажа. Герберту моя проба понравилась, и меня утвердили на роль.
Итак, результатом моей первой голливудской кинопробы стала одна из четырех ведущих ролей в фильме крупной киностудии, где в главных ролях снялись Дрю Бэрримор, Мэри-Луиза Паркер и Вупи Голдберг. И за нее я получил сто пятьдесят тысяч долларов.
Как только бейсбол в Окленде закончился, я поехал в Тусон, штат Аризона, где проходили съемки «Парней побоку». Вместо того чтобы, как все, остановиться в мотеле, я решил снять саманный дом на окраине города, неподалеку от национального парка Сагуаро. Из местного приюта для бездомных животных я взял щенка – помесь черного лабрадора и чау-чау – и назвал ее Мисс Хад, по имени героя Пола Ньюмена в одноименном фильме. По условиям аренды мне полагалась прислуга. У меня никогда в жизни не было прислуги.
Как-то раз после съемок я пригласил в гости свою приятельницу Бет и, довольный, как мальчишка в рождественское утро, начал рассказывать о том, как классно устроился: традиционная саманная постройка, национальный парк в двух шагах от дома, а вдобавок – прислуга. Прислуга!
– Я ухожу на съемки, а она убирается в доме, стирает, моет посуду, готовит для меня ужин, приносит в спальню графин с водой. И даже утюжит мне джинсы! – восторженно говорил я, демонстрируя свои «ливайсы» с наглаженными стрелками.
Бет улыбнулась и сказала мне то, о чем я до этого никогда не задумывался и что запомнил на всю жизнь.
– Это все великолепно, Мэттью. Разумеется, если ты хочешь ходить в отутюженных джинсах.
У меня никогда в жизни не было глаженых джинсов.
Мне никогда в жизни их не утюжили.
Я даже не задавался вопросом, хочу ли я, чтобы мне утюжили джинсы, потому что впервые в жизни у меня было кому их гладить.
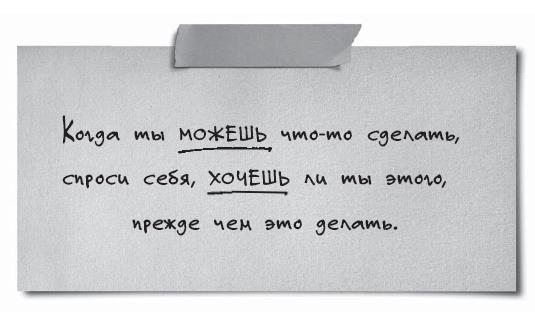
Поскольку эта небывалая роскошь теперь стала реальностью, конечно же, я хотел, чтобы мне утюжили джинсы.
Правда, что ли?
Нет, конечно. Ничего подобного я не хотел.

Закончив съемки «Парней побоку», я вернулся в Малибу и снял себе домик на пляже. Впервые в жизни я записался на курсы актерского мастерства, считая необходимым научиться тому, что до сих пор делал по наитию. В прошлом я полагался исключительно на свое чутье и инстинкты, и они меня пока не подводили. А сейчас я снова учился: как правильно читать сценарий, что искать в роли, как к ней готовиться, как изучать материал. Как быть профессиональным актером. Ну, так я рассуждал.
После съемок «Парней побоку» прошло шесть месяцев. Все это время я сидел без работы. Учился на курсах, ходил на пробы, на многие меня приглашали повторно, но ролей почему-то не предлагали. Я задумался. Потом заметил, что на пробах держусь скованно, без прежней свободы. Я перестал рисковать, напрягался, стал чересчур серьезен, педантичен. Усложнял. Мне мешали мои же глубокомысленные изыскания.

Наконец мне – без всяких проб, вслепую – предложили крошечную роль в авторском фильме «Скорпион-Спринг». Одна-единственная сцена. Десять тысяч долларов. Я согласился. Съемки начинались через две недели. Больше я ничего не знал.
И решил, что этого вполне достаточно, больше ничего и не надо. Мне прислали сценарий, но я не стал его читать – ни страницы, ни слова. Даже своей сцены не открыл. Почему? Потому что у меня возникла гениальная мысль.
Для того чтобы расслабиться и стряхнуть с себя все умозрительное напряжение, полученное на курсах, я решил вернуться к истокам. Буду играть так, как сыграл Дэвида Вудерсона, – прочел в сценарии одну-единственную реплику и сразу понял, что это за персонаж.
В фильме «Под кайфом и в смятении» мне без труда дались эпизоды, которых не было в сценарии, потому что я вошел в образ Вудерсона и знал, что и как скажет или сделает этот персонаж. Тогда я играл инстинктивно. По наитию.

«Вот этого-то мне и не хватает, – подумал я. – Надо забыть обо всей этой глубокомысленной заученной фигне. Вернуться к истокам».
В фильме «Скорпион-Спринг» мне досталась роль «американского наркодилера в Южном Техасе, который встречается с мексиканскими наркокурьерами, обманывает и убивает их, а кокаин забирает себе».
Вот и все, что мне надо было знать. Итак, я представлю себе этого типа, его слова и поступки и что-нибудь сымпровизирую. Ничего сложного.
Спустя две недели я сидел в трейлере на съемочной площадке.
Типаж я знал. Даже биографию сочинил. В общем, напористый наркодилер среднего уровня, который работает в Техасе на картель. Мне нужен кокаин, нужны деньги, у меня есть пистолет, и я готов на убийство, лишь бы получить деньги и наркоту. И выгляжу я соответственно: небритый, сальные патлы, черные сапоги, кожаная куртка. Сценарий? Какой сценарий? Я и так знаю, кто я. Запускайте камеру, я готов.
Пора идти на съемочную площадку. Пора начинать съемку эпизода. Без проблем.
Выхожу из трейлера. В образе. Ни с кем не разговариваю. Не представляюсь другим актерам в эпизоде, потому что моего героя они не интересуют, он все равно их сейчас убьет. И заграбастает кокаин. Бесплатно.
Ко мне подходит помощник режиссера, протягивает мне какие-то листки и говорит:
– Ваши реплики, мистер Макконахи.
Я беру листки и, не глядя, сую в карман. Все занимают свои места, ждут команды «Мотор!». Ну, понеслись.
Тут я все-таки дал слабину и решил вот прямо сейчас, перед самым началом съемки быстренько ознакомиться с эпизодом и мельком глянуть на диалог. О чем я в тот момент думал? «Если диалог написан хорошо, то я его сразу запомню, потому что он, разумеется, будет соответствовать характеру и поведению персонажа…»
Разворачиваю листки, смотрю.
Одна страница.
Вторая.
Третья.
Четвертая…
Монолог.
На испанском.
Охренеть. По спине холодный пот. Сердце бешено колотится. «Что делать?» Во рту пересохло. Я отчаянно пытаюсь сохранять спокойствие. Вроде бы рассеянно смотрю по сторонам, говорю:
– Мне нужно двенадцать минут.
С перепугу я почему-то решил, что двенадцати минут будет вполне достаточно, чтобы запомнить монолог на испанском, потому что, во-первых, в выпускном классе я целый семестр учил испанский, а во-вторых, такая отсрочка не доставит съемочной группе особых неудобств. Отхожу в сторонку. На двенадцать минут. Возвращаюсь на съемочную площадку, кладу листки в карман, занимаю свое место.
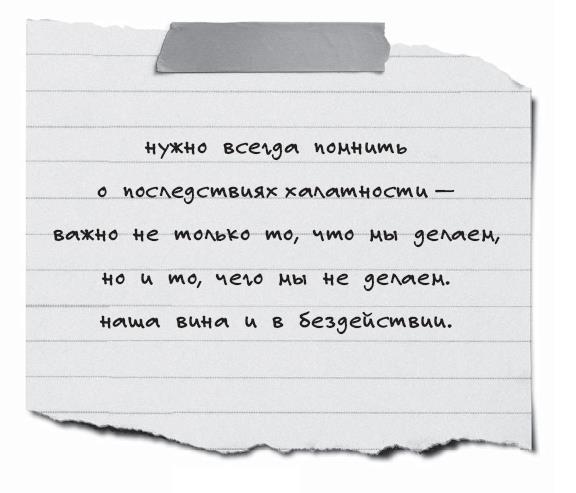
Фильм «Скорпион-Спринг» я не смотрел.
Зато накрепко затвердил урок.
Надо готовиться, чтобы обрести свободу.
Надо поработать, чтобы выполнить работу.
Надо готовиться к работе, чтобы свободно ее выполнять.
Знать типаж не означает знать испанский.

Я бросил курсы актерского мастерства, но свой урок затвердил и через несколько месяцев снова пришел в павильоны студии «Уорнер бразерс», на встречу с Джоэлом Шумахером. Он хотел обсудить со мной возможную роль в фильме «Время убивать» по одноименному роману Джона Гришема.
Мое безответственное отношение к предыдущей роли многому меня научило. Мне было стыдно, я злился на себя, а злость придавала мне дерзости.
Джоэл решил предложить мне роль Фредди Ли Кобба, парня, возглавляющего отделение ку-клукс-клана в захолустном городке в штате Миссисипи. На этот раз я прочитал не только сценарий, но и книгу. Роль была интересной, но меня больше привлекала главная роль. Герой фильма Джейк Бригенс – начинающий адвокат. На судебном процессе он выступает защитником негра, убившего белых, которые изнасиловали его дочь. Перед встречей с Джоэлом я разработал план.
На беседу я пришел в футболке с обрезанными рукавами и фотографией Джона Мелленкампа на груди. Сел за стол, небрежно закурил «Мальборо».
– Мэттью, по-моему, ты очень подходишь на эту роль, – сказал Джоэл.
– Да, по-моему – тоже, мистер Шумахер. Мне ясно, кто он и почему он такой, но… А кого взяли на главную роль? На роль Джейка Бригенса?
Джоэл чуть склонил голову к плечу и посмотрел на меня:
– Пока не знаю. А кого, по-твоему, надо?
Я откинулся на спинку стула, глубоко затянулся и, выпустив струю дыма, взглянул Джоэлу прямо в глаза:
– По-моему, надо меня.
Джоэл расхохотался:
– Ха! По-моему, гениальная идея, Мэттью, но увы, невоплотимая. Студия ни за что не согласится взять малоизвестного актера на главную роль.

Не отводя взгляда, я затушил сигарету в пепельнице.
Так я привел в исполнение первую часть моего плана.

Разумеется, дальнейшее не было частью моего плана, но случилось так, что внешние обстоятельства сложились в мою пользу.
Сандра Буллок, которую уже утвердили на роль Эллен Рорк в фильме «Время убивать», перед этим снялась в фильме «Пока ты спал», который как раз в то время вышел на экраны и в первую неделю сделал приличные сборы – 10 миллионов долларов. А когда я встретился с Джоэлом Шумахером, сборы выросли до 80 миллионов. Фильм пользовался большим успехом, Сандра Буллок стала кассовой звездой – то есть студии готовы были давать ей главные роли, считая, что публика пойдет на фильм с ее участием. Поскольку в фильме «Время убивать» она играла роль второстепенного плана, это означало, что «Уорнер бразерс» может согласиться, чтобы главную роль отдали менее известному актеру.
Но означало ли это, что Джоэл Шумахер всерьез рассматривает мое предложение? Вовсе нет. На роль Джейка Бригенса прочили Вуди Харрельсона (сейчас мы с ним большие приятели и называем друг друга «братьями от разных матерей»).
Однако все оказалось гораздо сложнее. Джон Гришем, автор книги, имел преимущественное право одобрить актера на роль Джейка Бригенса, поскольку персонаж был основан на его личном опыте. А 7 марта 1995 года в Миссисипи был убит Билл Сэвидж. Убийцы – парень и девушка – заявили, что вдохновились образами Микки и Мэллори из фильма «Прирожденные убийцы», которых сыграли Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис. Билл Сэвидж был другом Джона Гришема, и Гришем ни за что на свете не позволил бы актеру, сыгравшему Микки, получить роль Джейка Бригенса. Съемки должны были начаться недель через восемь, в городке Кэнтон, Миссисипи. Все роли были распределены. Кроме роли Джейка Бригенса.
Несколько недель спустя в Лос-Анджелесе в четыре часа пополудни мы с моим менеджером Бет Холден попивали коктейль «Маргарита» на террасе мексиканского ресторана. У меня зазвонил телефон.
– Приезжай на пробы, – сказал Джоэл Шумахер, которому два месяца назад я предложил свою кандидатуру на роль. – В следующее воскресенье, в частной студии неподалеку от Фэрфакс-авеню, подальше от любопытных глаз. Потому что даже если все пройдет хорошо, то и тогда надежды мало, что студия тебя утвердит, а добавлять неудачу к твоему послужному списку не стоит. Я хочу, чтобы ты сыграл заключительное слово Джейка на суде.

Настало воскресенье. День матери. Я позвонил маме на рассвете.
– Ни в коем случае не проси роль, Мэттью. Держи себя так, будто она уже твоя.
Именно это мне и нужно было услышать.
– Спасибо, мама. С маминым днем тебя!

В одиннадцать утра за мной заехал черный автомобиль и отвез на студию на Фэрфакс-авеню. Там уже были гример, костюмер, оператор и еще человек тридцать из съемочной группы. В час дня я вошел на съемочную площадку: зал суда, двенадцать присяжных за перегородкой. Я волновался, но был готов к роли. Все заняли свои места.
– Можно начинать, Мэттью, – сказал Джоэл.
Я набрал в грудь побольше воздуха и произнес заключительную речь героя, точно по сценарию, включая последнюю, ставшую теперь классической реплику: «А теперь представьте, что она – белая».
Все прошло хорошо. Хорошо, не великолепно. Я не путался в словах, выдержал ритм, не частил и сыграл неплохо. Больше чем неплохо, но не восхитительно.
– Замечательно, Мэттью, – сказал Джоэл. – А теперь забудь о сценарии и скажи то, что сказал бы ты сам.
В этом и заключается гениальность Джоэла Шумахера. Будь собой. Ты и есть персонаж. Мне очень понравился этот нюанс. Что сказал бы я? Какие чувства испытал бы, говоря о десятилетней девочке, которую жестоко изнасиловали три отморозка? Что в ней надломилось? А если бы на ее месте оказалась моя сестра? Моя дочь? Вдобавок сегодня – День матери…
Я выбросил из памяти сценарный монолог. Начал медленно расхаживать по залу. Во мне кипел гнев, глаза горели. Я вообразил ужасную картину, а потом начал ее описывать. Тогда у меня еще не было детей, но всю свою жизнь больше всего на свете я хотел быть отцом. Я представил себе, что это мою дочь изнасиловали. Я забыл о кинопробе. Я забыл о времени. Я вел себя так, как не ведет себя ни один адвокат в зале суда. Я не стеснялся в выражениях. Плевался. Описывал жуткие страдания невинного ребенка такими словами, за которые меня самого отдали бы под суд. Меня мутило от ярости. Я обливался потом.
Пробу приняли.
Две недели спустя я был в Игл-Пасс, Техас, где шли съемки фильма «Звезда шерифа». На съемочной площадке, посреди ночной пустыни, у меня зазвонил телефон.
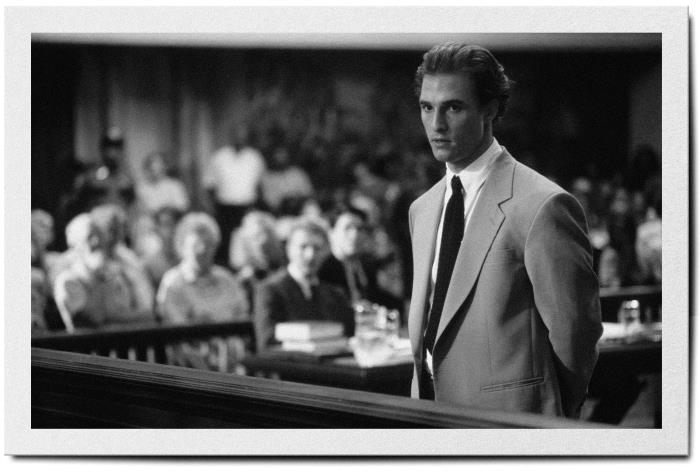
Джоэл Шумахер и Джон Гришем.
– Хочешь сыграть Джейка Бригенса?
– Еще как хочу!
Я бегом бросился в пустыню, подальше от людей, упал на колени, глазами, полными слез, посмотрел на полную луну и прошептал: «Спасибо».


ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В день, когда фильм «Время убивать» вышел в прокат, я отправился в свою любимую закусочную в пешеходной зоне на 3-й улице в Санта-Монике, Калифорния, за сэндвичем с тунцом на поджаренном опарном хлебе, с соленым огурцом и кетчупом.
Для меня прогулка как прогулка. Из четырех сотен прохожих триста девяносто шесть не обратили на меня никакого внимания. А четверо меня заметили – три девчонки состроили мне глазки, а какому-то парню понравились мои кроссовки.
Вечером «Время убивать» показали в кинотеатрах по всей Америке. В тот уикенд кассовые сборы составили 15 миллионов долларов, что для 1996 года было рекордом.
В следующий понедельник я снова отправился в ту же самую закусочную за очередным сэндвичем с тунцом на поджаренном опарном хлебе, с соленым огурцом и кетчупом.
В тот день прогулка оказалась весьма необычной. Из четырехсот сотен прохожих триста девяносто шесть уставились на меня. Четверо меня не заметили – три младенца и слепой.
Я украдкой проверил, застегнута ли у меня ширинка, и потер нос: а вдруг там козявка?

Все было в порядке.
Что за хрень?
Я стал знаменитым.

Мое «появление» создало невероятную шумиху. Меня объявили «надеждой кинематографа», а надписи над моими фотографиями на обложках некоторых журналов гласили: «Мэттью Макконахи спас киноиндустрию». Спас киноиндустрию? А я и не знал, что ее надо спасать, а если и надо, то выступать в роли спасителя я не собирался. Я просто хотел играть роли, которые мне интересны, в фильмах, которые были для меня важны.
С того самого дня мир превратился в зеркало. Посторонние люди притрагивались ко мне и разговаривали так, будто хорошо меня знали. В общем-то, они больше не были посторонними.
Люди, с которыми я никогда в жизни не встречался, подходили и заявляли что-нибудь вроде: «У моей собаки тоже был рак… Как жаль, что Мисс Хад…»
Откуда им известно, что у меня собака? Откуда они знают, как ее звать? И что у нее может быть рак? Хоть бы представились, что ли…
Первые впечатления остались в прошлом. Пройденный этап.
Мой мир изменился. Как сказал Джеймс Макмертри, «вверх ногами и задом наперед, все теперь наоборот».
Теперь меня любили все и не стеснялись упоминать об этом громко и часто.
Сам я говорил это лишь четырем людям.
Безвестным я больше не был, утратил анонимность навсегда.
И со сценариями такая же штука.
В пятницу перед выходом фильма я интересовался ролями в ста сценариях. Получил девяносто девять отказов. И одно согласие.
А в понедельник после выхода фильма?
Девяносто девять согласий. И один отказ.
Ух ты!
Здорово.
Хреново.
Что было настоящим? А что нет? Передо мной распахнулось небо, и я не чувствовал земли под ногами. Моя способность дифференцировать дала трещину, мои моральные устои пошатнулись, мне нужно было вернуть притяжение. Пора было согнуть колени.

Монастырь Христа в Пустыне находится на берегу Рио-Чама, в Абикью, штат Нью-Мексико. К нему ведет тринадцать с половиной миль проселочной дороги, настолько разбитой, что автомобилю по ней не проехать. Томасу Мертону там очень нравилось. Он говорил, что этот монастырь следует посещать, чтобы «перенастроить перспективу». Я прочел об этом в книге и решил: «Вот именно это мне сейчас и надо. Духовная перенастройка». В голове у меня все смешалось. Я увяз в излишествах новообретенной славы, боролся с незаслуженными комплексами, и мое бездомное существование тяготило меня и заставляло искать новые ориентиры. Не может быть, чтобы простой парень из техасского городка Ювалде заслужил всю эту роскошь и похвалу. Я не знал, как обращаться со своим успехом, и не мог поверить, что успех – мой. Я вообще не знал, кому верить, и не верил даже себе. В книге упоминалось, что монахи всем говорят: «Если вы до нас доберетесь, то просто позвоните в колокольчик у ворот, мы вас примем».

Друг подвез меня из Голливуда к началу проселочной дороги, и я пешком прошел тринадцать с половиной миль до монастыря, прибыл туда уже после заката и позвонил в колокольчик. Мне открыл невысокий монах, брат Андре.
– Добро пожаловать, брат, – сказал он. – Всем путникам тут найдется приют.
Я умылся с дороги и пошел на общий ужин, где вслух читали псалмы, а разговоры были запрещены. Потом брат Андре отвел меня в скромную келью с кроватью и матрасом на полу, где я и устроился на ночь.
На следующий день я сказал брату Андре:
– Мне надо кое-что обсудить, о жизни. Вы не посоветуете мне, с кем побеседовать?
– Да, конечно, – ответил он. – Об этом лучше всего поговорить с братом Кристианом.
Я встретился с братом Кристианом, и мы отправились на прогулку в пустыню. Я рассказал ему о своих чувствах вины, о низких и похотливых мыслях, об извращенных рассуждениях.
– С тех пор как я стал знаменитым, – сказал я, – я старался быть добродетельным и чистосердечным, не лгать и не обманывать себя, но я полон грешных желаний, объективирую других и самого себя… Я больше не ощущаю связи с прошлым и не вижу пути в будущее. Я заблудился. Я не чувствую себя собой.
Три с половиной часа я рассказывал брату Кристиану о демонах своего рассудка. Занимался самобичеванием, выводил себя на чистую воду. Он молчал. Не произнес ни слова. Ни одного. Мы бродили по пустыне, а он терпеливо меня слушал.

Через четыре часа мы вернулись в монастырь и сели на скамью у входа в часовню. Моя исповедь подошла к концу, и я разрыдался, а потом умолк, ожидая, что скажет брат Кристиан. Он молчал. Встревоженный долгим молчанием, я поглядел на него. Брат Кристиан, который все это время не произнес ни слова, посмотрел мне в глаза и шепотом изрек:
– И я тоже.
Иногда советы не нужны. Иногда достаточно просто услышать, что ты не одинок в своих терзаниях.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Я не то чтобы не справился с новообретенной славой, я вообще не знал, как к ней подступиться. Я был глуп, временами тупил и часто лез на рожон. Растерялся я потому, что, в общем-то, для меня все это много значило и хотелось разобраться, что важно, а что нет. Короче, я выкручивался, как мог. Мне нравилось, что наконец-то можно было заливать в бак неэтилированный супербензин, выставлять друзьям выпивку, получать пропуска за кулисы и работать с талантливыми актерами. Я старался вести себя по-джентльменски, с благодарностью принимал и шампанское, и икру, и признания в любви, но по большей части все это походило на отутюженные прислугой джинсы, о которых я не просил. Я по-прежнему звонил маме каждое воскресенье.
Только теперь я звонил не маме.
Слушала меня не мама.
Разговаривала со мной не мама.
А женщина, которая любила мою славу больше, чем я.
Однажды вечером мне позвонил приятель:
– Эй, ты смотришь телевизор?
– А что там?
– Включи седьмой канал, передача «Хардкопи».
Включаю телевизор на седьмой канал, а там…
Моя мама проводит экскурсию по нашему дому и вещает в камеру: «А вот на этой кровати он лишился невинности. Кажется, его тогдашнюю подругу звали Мелисса, точно не помню, но это не важно, они недолго встречались… А это его ванная комната, тут только душевая кабинка, ванны нет. И знаете, за каким делом я его тут однажды застала? Ха-ха-ха. Нет, если честно, меня это не смутило, я много раз это видела…»
Охренеть.
Звоню маме:
– Мам, ты что делаешь?
– А что такого?
– «Хардкопи».
– А что не так с «Хардкопи»?
– Мам, ну я же сейчас передачу смотрю. И ты тоже ее смотришь, я же слышу!
– Так ведь это…
– Вот именно! Что это такое?
– Я думала, ты не узнаешь…
– Мам, передачу транслируют на всю страну! Тут любой дурак узнает…
К сожалению, в последующие восемь лет я поддерживал с мамой весьма напряженные отношения.
«Болтун – находка для шпиона», – говорил я ей. Она честно старалась молчать, но у нее не получалось. Ей хотелось приобщиться к моему успеху, но я и сам к нему пока не привык и делиться ни с кем не собирался, особенно с мамой. Мама так и норовила отхватить кусок, а я ее не подпускал. Будь отец жив, он радовался бы моему успеху и, в отличие от мамы, не пытался бы разделить со мной сцену, а спокойно сидел бы в первом ряду.
Как только я появлялся у мамы, она чуть ли не с порога заявляла: «Ты возвращайся поскорее», поэтому я стал уходить раньше. Такой уж у нее характер – дай ей палец, она всю руку откусит; поэтому, когда она отказалась пойти мне навстречу, я и сам замедлил ход, заставил ее дожидаться. Я перестал рассказывать ей о своих делах, потому что больше ей не доверял. Мне нужен был не друг, а мама, но мама, к сожалению, отправилась в своего рода «продолжительный отпуск».
Много лет спустя, сделав успешную карьеру и обретя твердую почву под ногами, я решил, что пора прекратить обуздывать маму. Ей уже было за семьдесят, так что пусть делает, что хочет. Этим она и занимается до сих пор. Она обожает появляться на красном ковре, давать интервью и объявлять всем подряд, что ей точно известно, «в кого я пошел». В нее, разумеется.
Возможно, она права.


Прошло четыре месяца с выхода на экраны фильма «Время убивать». Я стал востребованным актером. Еще до начала съемок я подписал контракт с «Уорнер бразерз» на три картины, и студия дала мне возможность выбирать следующую роль. Меня засыпали предложениями, и я даже организовал продюсерскую компанию, чтобы работать со своим материалом. Я хотел играть, но не знал, кого именно. Умение найти подход ко всему давно было сильной стороной моего характера, но теперь, когда мне представилась возможность делать практически все, что угодно, это стало слабостью. Меня устраивали все предложения.

Меня терзали сомнения при выборе следующей роли, душила в объятьях новообретенная слава и тревожила мамина непредсказуемость. Мне хотелось сбежать туда, где обо мне никто не слышал. Мне надо было доказать, что всеобщей любви заслуживаю я, Мэттью, а не моя слава. Мне нужно было оказаться там, где любовь и уважение окружающих я заслужу сам, своими делами, а не своей известностью. Я хотел прислушаться к своим мыслям, въехать в происходящее, достичь равновесия, определить занятую позицию, не кичиться успехом, а понять, как он достигнут, и наконец-то решить, какую роль в каком фильме я хотел бы сыграть. Мне надо было поголодать. И тут…
МЕНЯ НАСТИГЛА ВЛАЖНАЯ МЕЧТА.
Да-да, оно самое, непроизвольное ночное семяизвержение, без всякой там помощи рук, во сне. Обычно это происходит во время ярких эротических сновидений. Но эта поллюция была вызвана не сексуальными образами.
Мне снилось, что я плыву на спине по Амазонке, обвитый анакондами и питонами, а вокруг кишат крокодилы, пираньи и пресноводные акулы. На горном хребте слева плечом к плечу стояли африканские воины.
Я ощутил глубокое умиротворение.
Одиннадцать кадров.
Одиннадцать секунд.
И я кончил.
Проснулся.
Ничего себе.
Казалось бы, кошмарный сон. Так ведь нет же, оргазм.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
«Что бы это значило?» – подумал я.
Я точно помнил, что во сне плыл по Амазонке и что на горном хребте стояли африканские воины. Я встал с кровати, взял географический атлас и раскрыл карту Африки.

И стал искать Амазонку.
Ну, как всем известно, Амазонку в Африке искать можно долго, потому что ее там нет. Часа два я разглядывал карту, а потом сообразил…
Континент-то не тот. Амазонка в Южной Америке.
В снах очень сложно разобраться. Однако же я понимал, что это именно та подсказка, которая мне и нужна.
Пора было отправляться в погоню за влажной мечтой.

Я собрал в рюкзак самое необходимое – минимум одежды, дневник, фотоаппарат, аптечку, таблетку «экстази» и свою любимую головную повязку – и в одиночку отправился в двадцатидвухдневное путешествие по Перу, чтобы искупаться в Амазонке. Да, в той Амазонке, что в Южной Америке.
Самолетом я добрался до Лимы, а потом в Куско, где встретился с проводником. За антикучо[7] и писко мы разработали маршрут трехнедельного путешествия к Амазонке. Я ушел в Анды и долиной реки Урубамба, слушая альбом Джона Мелленкампа «Uh-Huh»[8], добрался до затерянного города Мачу-Пикчу. Потом автобус, лодка и самолет доставили меня в самый большой город мира, с которым нет сухопутного сообщения, – в Икитос, «перуанскую столицу Амазонки».
К вечеру двенадцатого дня моего путешествия я прошел пешком восемьдесят миль и на следующий день должен был наконец-то окунуться в воды Амазонки из моего сна. Я так восторженно предвкушал встречу с рекой, что буквально не замечал ничего вокруг и не обращал внимания ни на местные достопримечательности, ни на живописные виды. Я пытался разобраться в себе и терзался прошлыми грехами. Мне было одиноко, я сам себя ненавидел.
Я поставил палатку, но внутренние страдания не давали мне уснуть. Тогда я разделся догола и вместе с одеждой снял с себя и все остальное – ярлыки, бирки, ожидания, связи и все такое. Я снял американскую футболку – мой символ любви к родине, подвеску с кельтским узлом – символ моего ирландского происхождения, значок с флагом штата Одинокая Звезда – символ техасской гордости – и все прочие амулеты, которые для меня что-то значили, даже золотое кольцо, подарок отца, переплавленное из их с мамой школьных колец и из маминой зубной коронки. Я избавился от всего, чем гордился, восторгался или утешался, от всего, во что верил и чему радовался. Я содрал с себя все обертки, все украшения, всю наносную шелуху. И даже пару раз врезал себе в челюсть, чтобы мало не показалось.

Кто я такой? Не только в этой поездке, но вообще в жизни. Сейчас, полностью обнажившись, я был всего лишь дитятей Божиим, и больше никем. Меня пробил холодный пот, долго тошнило, а потом я, в изнеможении, потерял сознание.

Несколько часов спустя, на рассвете тринадцатого дня моего путешествия, я проснулся, чувствуя себя на удивление посвежевшим и полным сил. Я оделся, выпил чаю и отправился погулять – не к цели своего путешествия, а просто так. У меня было прекрасное настроение – я был жив, свободен, чист и светел.
Я дошел по тропе до поворота, и там мне внезапно предстало великолепное зрелище, будто мираж, – ярчайшие пятна розового, синего и алого трепетали и калейдоскопом переливались над землей, пульсируя неоновым светом.
Я замер. Вытаращил глаза. Отступил на шаг. Это был вовсе не мираж, и обойти его было невозможно. Вся земля передо мной была покрыта тысячами бабочек. Невероятное зрелище.
Пока я стоял, любуясь чудесным зрелищем, в голове у меня прозвучали слова:


Теперь не надо было никуда спешить, не надо было нетерпеливо ждать того, что за поворотом, того, что будет дальше, того, что ждет впереди. Время замедлило бег. Я задрал голову к небу, негромко произнес «спасибо», а потом взглянул за облако бабочек и наконец-то увидел Амазонку.

Высоченная башня моих тревог медленной рекой лежала у моих ног. Впервые за долгие месяцы я успокоился.

Спустя несколько часов я вернулся в лагерь, собрать вещи и продолжить путешествие. Один из проводников окликнул меня по-испански: «Sois luz, Mateo, sois luz!» – «Ты свет, Мэттью, ты свет!»
Обретя прощение, я избавился от чувства вины и от сомнений, будто искупил свои грехи. Я снова стал доволен собой. С того самого утра я жил каждым мигом, принимая то, что вижу перед собой, и отдавая ему должное. Следующие две недели я шел по джунглям Амазонки, сплавлялся на каноэ и прорубал себе путь мачете – и все это на одной-единственной таблетке экстази.
И да, я нагишом плавал на спине в Амазонке, но, в отличие от моего сна, никаких змей, крокодилов, акул или пираний рядом не было. Очевидно, они больше были не нужны. В последний день путешествия я купался в реке, и вдруг мне почудилось, что неподалеку прощально взмахнула хвостом русалка. Я тоже помахал ей на прощание.
Я встретился с истиной. Нашел ли я ее? Не знаю. Скорее уж это она нашла меня. Почему? Потому что я пришел туда, где меня можно найти. Я пришел туда, где можно обрести истину.
Как узнать, когда встретишься с истиной? Или когда она встретится с тобой?

По-моему, истина всегда, все время вокруг нас. Безымянные ангелы, бабочки, ответы – все они рядом с тобой, но не всегда различаешь, понимаешь, видишь, слышишь или дотягиваешься до них, потому что не оказываешься в нужном месте.

Надо составлять планы для всего.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Вернувшись в Голливуд, я согласился на роль Палмера Джосса в фильме Роберта Земекиса «Контакт», где главную роль играла Джоди Фостер. После моих духовных исканий на Амазонке роль человека, который верит в Бога в мире науки, представляла большой интерес, поскольку отражала мое мировоззрение, и мне хотелось это отобразить. Разумеется, главная роль отводилась Джоди Фостер, и многие не понимали, почему я выбрал «девчачью» роль второго плана, а не согласился на предлагаемые мне главные роли. Однако мой выбор меня вполне устраивал, потому что меня очень интересовали «филантропические персонажи и истории о самопознании»; вдобавок я хотел работать с талантливыми режиссерами.
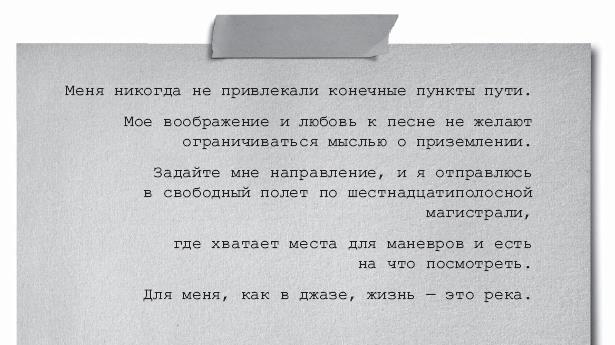
После окончания съемок я начал плавать по рекам на каноэ, а еще решил, что пришло время поездить по магистралям США. Я купил микроавтобус «савана» выпуска 1996 года и приспособил его к своим нуждам: снял сиденья в салоне, оставив только водительское и пассажирское впереди, установил сделанный по заказу бар с встроенным холодильником и раковиной, мегафон, как на стареньком пикапе в школьные годы, и микрофон на шарнире, подключенный к кассетному магнитофону, вмонтированному в потолок над водительским сиденьем, чтобы я мог записывать на пленку свои рассуждения вслух, не отрываясь от руля. Расшифровки многих записей вошли в эту книгу. Я потратил десять тысяч долларов на усилитель «Альпайн», эквалайзер «Танкреди» и динамики «Фокал ES», воссоздав винтажную аудиосистему, установил в дальнем конце салона кушетку, обтянутую искусственной леопардовой шкурой, а вдобавок просверлил дырку в полу рядом с рулем и вставил в нее воронку, чтобы не сворачивать на обочину всякий раз, как приспичит поссать. Свой микроавтобус я назвал «Космо», и мы с Мисс Хад отправились в путь.

Мы с Мисс Хад пару месяцев покатались по стране, спали на леопардовой шкуре или в мотелях, а потом наконец решили, что готовы к перманентным странствиям. Я купил двадцативосьмифутовый трейлер «Эйрстрим интернешнл CCD», прицепил его к «Космо», и с нашим новым домом на колесах мы продолжали разъезжать.

Теперь мы с Мисс Хад ни от кого больше не зависели и стали теми, кого в мире трейлеров называют «перекати-поле». Мы изъездили все, от Манитобы до Гватемалы, и сорок восемь из сорока девяти штатов США. Куда мы направлялись? Куда хотели. В какое время? Когда в голову взбредет. Например, через три дня в Нью-Йорке бейсбольный матч с Роджером Клеменсом. От Альбукерке в штате Нью-Мексико до Нью-Йорка как раз три дня езды, так что мы отправляемся утром и приезжаем как раз к игре. А через день после этого в Детройте выступает группа Cult? Вот и здорово, на следующее утро после бейсбола рванем туда.
Даже с режиссерами я встречался, колеся по стране. Например, если я был в Юте и направлялся на восток, то предлагал своему гостю прилететь утром в Боулдер, штат Колорадо, и встречал его в местном аэропорту. Мы отправлялись в путь, по дороге семь часов обсуждали проект, а затем я отвозил гостя в аэропорт Линкольна, штат Небраска, откуда он возвращался к себе. Я люблю сидеть за рулем и с удовольствием разъезжал по американским трассам в своем передвижном офисе.
Мы приехали в Род-Айленд, где я снялся в фильме Стивена Спилберга «Амистад», о бунте рабов на испанском корабле в 1839 году; разбирательством по делу о мятеже в итоге занимался Верховный суд, а само дело вошло в историю и стало важной вехой в движении за отмену рабства. Еще я снялся в фильме моего старого знакомого Ричарда Линклейтера, «Братья Ньютон», о братьях-бандитах, самых удачливых грабителях банков и поездов в истории США. Все они, как и я, были родом из Ювальде, штат Техас. Я играл одного из братьев, Уиллиса Ньютона. Он тоже проповедовал логику вольнодумцев и считал, что проще прострелить замок, чем открыть его ключом.
Нам с Мисс Хад нравилось ездить по захолустью, жить в трейлер-парках и знакомиться с их обитателями. Я, будто из первого ряда на лекции по актерскому мастерству, наблюдал не за вымышленными персонажами, а за настоящими людьми. И не в записи на «Меморексе», а вживую. Естественное поведение, а не подражание ему. А еще я писал дневник и начитывал свои размышления на магнитофон.
В трейлер-парках обитают отщепенцы, сбежавшие из дома подростки, цирковые клоуны, рок-гитаристы, хронические неудачники, любители живой природы, книг и послеобеденных коктейлей, пенсионеры, матери-одиночки, изобретатели, велосипедисты, садовники, закройщики, мечтатели, погибшие души, хиппи, байкеры, амфетаминщики, миллионщики (те, кто наездил миллион миль) и те, кто в шесть утра утюжит себе костюм. И все они не любят, когда в их дела кто-то вмешивается, и сами в чужие дела нос не суют.
«Если дверь закрыта, не стучи» – первое правило жизни в трейлер-парке. Естественно, я не раз слыхал, как местные жители упоминали, что тут, мол, живет Мэттью Макконахи, но ко мне никто не приставал – все внимание ограничивалось приветственным взмахом руки. Все соблюдали правила трейлер-парка. А тех, кто пытался эти правила нарушить, быстро разубеждали.

С другой стороны, знакомиться с людьми здесь было легче легкого. Как любил говорить Бобби «Тин Лиззи» Робинсон из трейлер-парка «Лей-Зи-Дейз» в Кварцсайте, штат Аризона, «открой капот пикапа, и желающие помочь сразу найдутся».
Мы с Мисс Хад неторопливо колесили по стране, ездили куда угодно и когда угодно, следуя напутственным словам Робби «Сверчка» Маккензи из трейлер-парка в Гадсдене, штат Алабама: «Держи кузов повыше, резину пониже, а если торопишься, уезжай пораньше».

Однажды на съемках мы с Мисс Хад устроились в трейлер-парке в резервации суквомишей, к югу от моста Секонд-Нэрроуз под Ванкувером, в Канаде. Вскоре я подружился с вождем племени Майком Хантом. Суквомиши жили близ рек и всегда были отличными рыболовами. Они довели до совершенства ловлю серебряных лососей – кижучей. Вместо того чтобы выплывать на середину реки в каноэ с приманкой и крюками, суквомиши забредали в мелкие ручьи и укладывали валуны на дно реки, сооружая узкие проходы, по которым рыба устремлялась в открытую панель тележки из местного супермаркета. От такой рыбалки мало удовольствия, но результат гарантирован. У нас часто происходили взаимовыгодные сделки – я жарил рибай-стейки на гриле и выменивал на них свежепойманных кижучей.
Однажды в трейлер-парк явился фотограф-папараццо, явно надеясь сделать мои фотографии. Вождь Хант с соплеменниками, не теряя времени, объяснили ему, что в резервации его видеть не хотят.
– Это почему? – спросил фотограф.
– Потому что ты доставляешь неудобство нашему племени.
– Ну и что? – возразил фотограф. – Я оплатил аренду трейлера, у нас в стране свобода!
– А на территории резервации – нет.
Вождь Хант с соплеменниками в тот же день выпроводили фотографа из трейлер-парка. Я его так и не видел, да и он меня тоже. Ему не удалось сделать ни одного снимка.
Шесть недель спустя съемки закончились, и я собрался уезжать. Вождь Хант с соплеменниками вручили мне прощальный подарок: весло ручной работы, украшенное резьбой с символом племени – гром-птицей.
– Весло направляет племя суквомишей по рекам, – сказал вождь. – Пусть и тебе оно служит компасом и хранит тебя в твоих путешествиях, брат Мэттью.

С того дня мой «Эйрстрим интернешнл» получил прозвище «Каноэ».


Ранние сумерки где-то у реки Кларк-Форк в западной Монтане.
С восьми утра я сидел за рулем, устал и решил заехать в ближайший трейлер-парк, чтобы отдохнуть и посмотреть студенческий футбольный матч по моему спутниковому телевидению. Один город давно остался позади, до следующего было миль пятьдесят, и вдруг фары осветили справа указатель к трейлер-парку. Я снизил скорость и свернул с шоссе на проселочную дорогу среди высоких темных сосен, в кромешной тьме.
Внезапно дорога оборвалась. Я остановился, вгляделся в окрестности. Никого. Ни души. Никаких построек. Мы с Мисс Хад вышли из «Космо», разведать обстановку и отыскать хоть что-нибудь. Ничего. И тут среди сосен, футах в сорока от нас, я заметил оранжевый огонек сигареты. Я выключил зажигание, закрыл машину и с Мисс Хад направился на огонек.
У какого-то здания стоял человек в белом поварском кителе, упираясь правой ногой в стену, совсем как Пэт в мои школьные годы. Я подошел поближе.
– Ищешь стоянку? – спросил он.
– Ага, – ответил я. – Под открытым южным небом, чтобы спутниковая тарелка ловила.
Не меняя позы, человек дернул головой куда-то вправо:
– Спроси у Эда в баре, он скажет, где ставить.
Мы с Мисс Хад пошли в указанном направлении, к большой деревянной двери в стене того же огромного амбара, к которому прислонился повар. Я толкнул тяжелую створку. Наружу вырвались яркий свет, громкая музыка и голоса. Типичный бар в субботний вечер. За толстыми стенами амбара веселье было в разгаре, хотя снаружи не догадаешься.
Мы вошли. Я поискал взглядом бар. Ко мне подбежала кареглазая официантка-шайенка и представилась:
– Привет, я Эша. Входите. Что вам угодно?
– Я ищу Эда.
Она кивнула в дальний конец зала:
– Вон он, там, за барной стойкой.
У стойки толпились посетители, а спиной ко мне стоял человек с длинными седыми волосами, изрядно поредевшими на макушке.
– Спасибо, Эша.
– Если еще что надо, зовите, – ответила она, подмигнула и скрылась в толчее.
Мы с Мисс Хад подошли к стойке.
– Эй, Эд! – громко окликнул я, пытаясь перекричать шум.
– Ну, чего надо? – спросил Эд, не оборачиваясь и не отрываясь от своего занятия – он разливал по кружкам бочковое пиво.
Судя по всему, вкусы завсегдатаев он знал и новые посетители сегодня его не интересовали.
Эд страдал эпилептическим тиком, из-за чего его лицо то и дело морщилось, а язык высовывался изо рта, однако это ничуть не подрывало авторитета хозяина заведения.
– Мне нужна стоянка под открытым южным небом, – крикнул я.
– Под каким таким небом? – Он наконец повернулся посмотреть на наглеца, который явился без приглашения и просит то, чего нет в меню.
– Стоянка под открытым южным небом, – повторил я. – Чтобы спутниковая тарелка поймала трансляцию футбольного матча в девять вечера.
Эд поставил на стойку пивные кружки, мельком взглянул на меня и сказал:
– Не-а.
– Эй, ты – Мэттью Макконахи? – раздался за моим плечом пьяный голос.
Не желая весь вечер развлекать публику[9], я язвительно ответил:
– Я уже двадцать девять лет как Мэттью Макконахи. Что с того?
Мой собеседник, сильно поддатый, не уловил подколки и расплылся в улыбке:
– Ни фига себе! Я знал, я знал! – Он крепко пожал мне руку. – Меня зовут Сэм, садись к нам, познакомишься с моим дядей Дейвом. Он в сральник пошел, сейчас вернется.
Я решил, что вечер в баре лучше, чем вечер у телевизора, к тому же открытого южного неба мне не предлагали, и поэтому принял приглашение Сэма.
– Только погоди, я выгуляю собаку и заведу трейлер на стоянку. Вернусь через полчаса.
Я направился к выходу, а в спину мне прозвучало:
– Одиннадцать баксов! Ставь, где хочешь, там все свободно.
Это Эд снизошел до ответа.
Полчаса спустя я протолкался к барной стойке между Сэмом и его дядей Дейвом.
– Что пить будешь, Мэттью?
– Двойную текилу куэрво со льдом, – громко сказал я, но Эд меня не услышал.
– Эй, голубушка, – обратился Сэм к Эше, проходившей мимо. – А принеси-ка моему приятелю Мэттью тройную куэрво со льдом. Будь так любезна.
– Хорошо, Сэм. И ты же знаешь, меня зовут Эша. Вот и ты меня так зови, – подмигнув, сказала она.
Я оглядел зал. Люди улыбались, заигрывали, доедали ужин, выпивали, танцевали и стояли у игровых автоматов. Судя по всему, все были здесь частыми посетителями, а Сэм и вовсе завсегдатаем.
– Эй, красавица, повтори нам заказ, пожалуйста, – попросил он еще одну официантку.
– Организуй нам еще по стопарику, солнышко, – сказал он третьей.
И всякий раз официантки просили Сэма называть их по имени – без обиды, беззлобно и ласково, явно не потому, что их унижала безличность обращения.
После четвертой стопки Сэм ушел в туалет, а я спросил дядю Дейва, который весь вечер молча сидел справа от меня:
– А почему это все официантки просят Сэма называть их по имени?
Дядя Дейв отхлебнул пива, посмотрел мне в глаза и объяснил:
– Шесть лет назад у Сэма погибла жена. Через две недели после свадьбы. Вот уже шесть лет он каждый вечер приходит сюда, но так и не может запомнить, как зовут официанток. Или просто не может произнести женское имя. Любое. Не может, и все тут.
Часам к трем ночи посетителей в баре поубавилось, но веселье продолжалось. Человек десять, и я в том числе, играли в кости. У тридцатипятилетней Джози, заправляющей мотелем, на территории которого и располагался бар, были кривые зубы, залысины, мешковатые рабочие штаны на три размера больше, туго перехваченные на талии кожаным ремнем, верный черный лабрадор и тринадцатимесячный сын, мирно спящий в детской переноске на полу. И младенец, и лабрадор были последствиями бурной ночи, проведенной два года назад с неким Джеком, – Джози познакомилась с ним в этом самом баре. Наутро Джек бесследно исчез, оставив свою собаку, а через несколько месяцев Джози обнаружила, что беременна. Сегодня Джози играла в кости, надеясь выиграть денег на новые покрышки, «потому что месяц назад проехала восемь миль на спущенной шине и остальные три тоже угробила».
А еще там был фермер Донни. Он выращивал экологически чистые грибы и жил в одном коттедже с Донной. Чем больше он пьянел, тем больше расстраивался – мол, «местные распускают слухи, что я сплю с Донной». Все над ним подшучивали: «Донни и Донна». Дело в том, что Донна была замужем за нефтяником, который вот уже год бурил скважины где-то на Аляске. В конце концов Донна призналась, что не прочь бы «трахнуться с Донни, потому что он мужик, а я баба», но твердо сказала:
– Я просто хотела ему помочь – ему жить негде, а у меня комната пустует.
Выяснилось, что у Донны два магистерских диплома.
– На дипломах в Монтане не протянешь, – вздохнула она. – Днем я работаю в Миссуле, милях в пятидесяти отсюда, в Обществе защиты животных, а по вечерам вот здесь, официанткой в баре. – Потом она гордо продемонстрировала свои волосатые ноги и подмышки и объяснила: – Готовлюсь к зиме.
Билл и Сюзи были женаты двадцать два года. Когда-то они держали бар в пятнадцати милях отсюда, но доходов он не приносил, и они решили уйти на пенсию. Сюзи утверждала, что воспитывать двух подростков – сыновей Билла от первого брака – гораздо труднее, чем заправлять баром. Билл сказал, что основной предмет экспорта в штате – молодежь. В Монтане прекрасные детские сады и школы, но найти работу трудно, поэтому молодые люди уезжают на заработки за пределы штата.
– А как деньжат поднакопят, всегда возвращаются, потому что лучше Монтаны не найти.
Хорошо, что у них не оказалось стоянки «под открытым южным небом».
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Жизнь в трейлере предоставляет свободу в любой момент сняться с насиженного места и переехать в другое. Куда угодно. Можно посещать всякие спортивные состязания и концерты, раскатывать по захолустью, ранним утром просыпаться на берегу реки где-нибудь в Айдахо – а за окном маячит любопытный гризли. Можно бродить по каньону Антилопы в Юте, встречаться с людьми в Монтане или проехать с эскортом Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси по Таймс-сквер. И все-таки надо где-то получать корреспонденцию. Поскольку мне понравилось проводить лето в Голдене, штат Колорадо, а осень – в Остине, штат Техас, я завел в тамошних трейлер-парках абонентские почтовые ящики. Эти два адреса служили мне «временным домом». Там мы с Мисс Хад останавливались надолго, я читал письма, подключался к городскому водопроводу и электросетям, встречался со старыми приятелями и обдумывал следующее путешествие.

Часть пятая
Переверни страницу
1999 г., 23 октября
Мы с Мисс Хад колесили по стране больше трех лет и заскучали по оседлой жизни. Свежие простыни, нормальная кухня и водопровод казались чем-то недостижимым, как Шангри-Ла, поэтому я решил снять двуспальный дом в тихом районе Тарритаун, в центре города Остин, штат Техас. Остин мне нравился не только потому, что я здесь учился и любил проводить осени, но еще и потому, что в этом городе я мог быть собой. Думаю, в этом и заключается секрет Остина – в этом городе каждый может быть собой, и Остин ценит это в каждом. Ему не надо, чтобы я доказывал это на экране, он всегда меня радушно принимает.
Тарритаун – район, где собаки бегают без поводка, дети играют в футбол на улицах, не опасаясь машин, а старожилы с рождения не меняют домашнего адреса. Я собирался поработать в саду, предварительно выкурив косячок, а потом поболеть за футбольную команду моего университета. Жизнь как жизнь.
В ту субботу «Техас лонгхорнз» со счетом 24:20 одержали победу над «Небраска корнхаскерз», третьей по ранжиру студенческой командой страны, которая до тех пор не знала поражений. Весь город ликовал, и я тоже. Это событие надо было отпраздновать.

Я праздновал до воскресенья и в воскресенье тоже за полночь, так что почти двое суток не смыкал глаз.

В понедельник, в половине третьего ночи я решил, что пора отдохнуть. Выключить свет, раздеться, открыть окно и впустить в дом аромат жасмина из сада. Покурить бонг, включить погромче альбом Анри Диконге, великолепные мелодичные африканские напевы. Самое время сесть за барабаны и выстукивать древние ритмы, возникшие задолго до того, как их вобрал мемфисский блюз. Больше всего для этого подходят мои любимые афрокубинские барабаны-конги, наследие ритуальных церемоний и глоссолалии.
Для меня конги, бонго и джембе всегда были замечательными, инстинктивными инструментами. Ни палочек, ни электричества, ни эквалайзера, ни струн, никаких приспособлений, лишь простое соприкосновение с элементарнейшим аналоговым языком, молитвой и танцем – перкуссией. Музыка из истоков музыки, уходящая к африканским корням. Пора раствориться в ней, как в туманной дымке, и исчезнуть в мареве грез. Самое время для барабанных импровизаций.
Мне было неведомо, что, пока я в полном блаженстве стучу по барабанам, двое полицейских решили ворваться ко мне в дом, отдубасить дубинками, надеть на меня наручники и повалить на пол.
– О, смотри-ка, это у нас вот кто, – сказал стриженный под машинку коп, похожий на игрока «Небраска корнхаскерз», обнаружив на журнальном столе мое водительское удостоверение.
Потом он увидел бульбулятор.
– О, смотри-ка, это у нас вот что! Мистер Макконахи, вы арестованы за нарушение общественного порядка, за хранение наркотиков и за сопротивление властям, – гордо заявил он, упершись коленом мне в поясницу.
– Да пошел ты! – заорал я. – Вы вломились ко мне в дом, поэтому я и сопротивлялся.
– Заткнись, – буркнул он и рывком поднял меня на ноги. – Поедем в участок.
Второй полицейский, повежливее, сдернул с дивана плед и попытался накинуть его мне на плечи.
– Нет уж! – рявкнул я. – Мне ничего не надо. Моя нагота – доказательство, что я ничего не нарушал.
Меня вывели из дома в огороженный узкий дворик, к выходу на улицу. Я, по-прежнему в чем мать родила, не собирался смиряться с неизбежным, поэтому решил, что круто будет взбежать по стене и кувыркнуться в воздухе над головой «корнхаскера», который шел сзади меня. Я хотел сложиться вдвое в кувырке, протащить скованные за спиной руки под задницей и через ноги, а потом приземлиться за спиной «корнхаскера», держа руки в наручниках перед собой. В тот момент мне казалось, что при виде такого эффектного трюка, которому позавидовал бы сам Гудини, полицейские, впечатленные моей ловкостью, передумают брать меня под арест. Глупо, конечно, но тогда я еще не очухался после тридцатидвухчасовой гулянки.
Мне так и не удалось выяснить, способен ли я на этот трюк, потому что как только я подскочил к стене, «корнхаскер» сбил меня с ног и впечатал в мощеную дорожку.
Должно быть, копы сообщили по рации, кого именно арестовали, потому что у моего дома уже собралось штук шесть полицейских машин с мигалками и человек сорок соседей.
– Может, все-таки плед накинешь? – спросил вежливый полицейский.
– Нет, моя нагота – доказательство моей невиновности! – выкрикнул я на весь квартал. В соседнем квартале меня тоже услышали.
Мне пригнули голову, усадили на заднее сиденье патрульной машины и увезли в участок. Там я в третий раз отверг предложенный плед и гордо поднялся по лестнице к входу в полицейское управление Остина.
Я вошел в двойные двери. В вестибюле здоровенный – ростом не меньше шести футов шести дюймов и весом 285 фунтов – татуированный арестант протянул мне пару ярко-оранжевых тюремных штанов.
– Доказательство моей невиновности, чувак, – повторил я, не давая ему сказать ни слова.
Он внимательно посмотрел на меня, сообразил, в чем дело, и вздохнул:
– Мы тут все невиновны. Но поверь, штаны тебе пригодятся.
Сам не знаю почему – то ли из-за его честного взгляда, то ли потому, что он тоже был арестантом, а меня вдруг осенило, что амбалистый тип просто так предупреждать не станет, – но я его послушал.
– Ну давай.
Он встал на колени, помог мне просунуть ноги в штанины и вздернул штаны мне до пояса. Я пошел в «обезьянник».

В половине десятого утра тридцать два часа непрерывной гульбы превратились в тяжелейшее похмелье. Я забился в угол камеры. К решетке подошли двое.
– Мистер Макконахи, я – судья Пенни Уилков, а это адвокат защиты Джо Тернер.
Охранник открыл решетку камеры.
– Не понимаю, – сказала судья, – каким образом жалоба на шум превратилась в серьезное правонарушение класса А «сопротивление при аресте» и правонарушение класса Б «хранение менее двух унций марихуаны». И какого черта двое полицейских без предупреждения вломились к вам в дом. Я снимаю с вас обвинения в нарушении общественного порядка и в хранении наркотиков, а в отношении сопротивления при аресте отпускаю вас под мою личную ответственность. Даже не представляю, почему ситуация настолько вышла из-под контроля.
– Ваша честь, я не совсем понимаю, что все это означает, но тоже не представляю, – сказал я.
Джо Тернер, тот самый адвокат, который когда-то успешно представлял интересы Вилли Нельсона в судебном разбирательстве по обвинению в хранении наркотиков, заявил:
– Ваша честь, мы все считаем, что ситуация вышла из-под контроля, но поймите, полицейские действительно вломились к нему в дом, когда он просто сидел нагишом и играл на бонгах. Так называемое «сопротивление при аресте» на самом деле было самозащитой. Предлагаю вам снять и это обвинение. Мой клиент признает за собой вину в превышении уровня шума в неурочное время, потому что он и правда очень громко играл на барабанах в половине третьего ночи. Оштрафуйте его.
– Договорились. Дело закрыто, – сказала судья.
– А что это означает? – спросил я.
Джо достал бумажник, вытащил из него пятидесятидолларовую купюру, помахал ею у меня перед носом, посмотрел мне в глаза и сказал:
– Это означает, что я плачу за тебя штраф, тебя выпускают из кутузки и ты должен мне полсотни баксов. Моя машина ждет у заднего крыльца, потому что у входа в участок собрались журналисты. Вот, соседи передали тебе одежду.
Я поблагодарил обоих, ушел в туалет, оделся, умылся холодной водой и попытался отогнать уныние. С чего вдруг уныние, спросите вы. Разумеется, мне очень повезло – меня выпустили на свободу, оштрафовав всего на пятьдесят долларов. Такое редко происходит с теми, кого сажают в тюрьму за сопротивление при аресте и хранение марихуаны. Проблема заключалась в том, что, как я уже говорил, в моей семье наказывали не за проступок, а за то, что попался. Мне с малых лет внушали, что я должен вести себя так, чтобы не попадать в тюрьму – ни за что и никогда. И хотя я неоднократно нарушал закон подобным образом – и прежде, и впоследствии, – на этот раз меня поймали. Поэтому я и чувствовал себя виноватым. Такая вот логика вольнодумцев.
В поисках утешения, прежде чем решать, в какую дверь выходить после моего первого привода, я решил позвонить маме. Возможно, потому, что знал – она не только не будет меня жалеть, но и порадуется обстоятельствам моего ареста. Интересно, кто возьмет трубку – мама или эта ее новая ипостась, моя горячая поклонница? Я не знал. Оказалось, меня выслушали обе.
– Они что, вломились к тебе в дом? Вот сволочи! Не вешай нос! – сказала мама. – И вообще, у тебя есть полное право в собственном доме курить травку и барабанить по бонгам в чем мать родила. Да как они посмели войти к тебе без разрешения?!
Вот это как раз то, что мне было нужно. Я повесил трубку и решил, что выйти к журналистам лучше, чем позорно улизнуть с черного хода.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Два дня спустя футболки с надписью «БОНГО НАГИШОМ» продавались по всему городу.
Квитанцию штрафа «за превышение уровня шума в неурочное время» я вставил в рамку и повесил на стену.
«Корнхаскера» вскоре уволили.
Джо Тернер добился, чтобы обвинение в «сопротивлении при аресте» не просто сняли, а вычеркнули из моего досье, так что, можно сказать, моя невинность, точнее невиновность, была восстановлена, и с преступного пути я свернул к честной жизни.
Но этот двухсуточный загул мне еще аукнулся.
В местной газете на первой странице раздела городских новостей неосмотрительно напечатали не только фотографию моего дома, но и адрес, который превратился в главную достопримечательность Тарритауна. Теперь у дома толпились не только туристы, но и местные жители. Добрые люди приносили пиво, всевозможные барабаны и марихуану. Поначалу это было приятно и даже забавляло, но вскоре тихая сонная улочка превратилась в некое подобие лос-анджелесской Саут-Банди-драйв – собак с поводка не спустишь, в футбол на проезжей части не поиграешь.

Слава часто изменяет людей, но в моем случае слава изменила целый район. Тихая улочка Медоубрук-драйв, как и я, утратила анонимность, а мои соседи лишились спокойной жизни. Это было нечестно, и я решил переехать. Все уговаривали меня остаться, но выбора у меня не было. Пришла пора сказать не «до свидания», а «прощайте». Мы с Мисс Хад собрали пожитки, расторгли арендный договор и снова поехали на запад.

2000 год, январь. Гильдия киноактеров угрожала забастовкой. После успешной картины «Время убивать» я снимался не так уж и много, поэтому пора было возвращаться в Голливуд и снова искать роль. Нужно было напомнить студиям о себе и как можно чаще встречаться с режиссерами, продюсерами и с теми, кто принимает важные решения.
Ни кассовые сборы фильмов «Братья Ньютон», «Контакт», «Амистад», «Эд из телевизора» и «Ю-571», ни то, как я в них сыграл, не оправдали ожиданий, которые киноиндустрия возлагала на «звезду Мэттью Макконахи» со времен «Времени убивать». Мне больше не предлагали первоклассных драматических ролей в фильмах крупнейших киностудий. Да, я все еще считался «кассовым» актером, но мой блеск потускнел, я больше не был «горячей штучкой», а вдобавок у меня начала редеть шевелюра.
Из-за предстоящей забастовки голливудские киностудии торопились запустить побольше съемок, и мне предложили завидную сумму – намного выше моей «рыночной цены» – за роль в фильме «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес. Я прочитал сценарий – вроде бы смешной. Денег сулили много. Я был готов работать. Съемки начинались через две недели, в центре Голливуда. Я согласился, и мы с Мисс Хад поселились в легендарной гостинице «Шато Мармон» – в той самой, где «цеппелиновский» Джон Бонeм катался по вестибюлю на мотоцикле, а Джон Белуши умер от передозировки кокаина в бунгало 3.
Обналичив внушительный чек, я, в обнимку с конгами, приготовился к разгульной жизни: купил кожаные штаны и мотоцикл «триумф-тандерберд», выписал отелю чек на 120 тысяч долларов и в обмен получил ключ от номера – на неопределенный срок проживания, пока не надоест.
В романтической комедии я снимался впервые. Все было иначе, чем в драматических ролях. Этим фильмам положено быть легкими, но не легковесными. Они призваны создавать приподнятое настроение, и вскоре я с удовольствием порхал в облаках, чтобы не вносить тяжести в действие. Я быстро сообразил, что роли в романтических комедиях, в отличие от драмы, не требуют жизненно правдоподобной мотивации, иначе фильм провалится. В общем, мне нравилось их играть, сплошной зеленый свет, эдакие «субботние» персонажи в сплошных «субботних» декорациях.
В «Шато Мармон» была вечная суббота, беззаботная жизнь, и я, войдя в роль, с головой окунулся в разгул. Теперь мне было интереснее не бороться со своими демонами, а водить с ними хороводы, покорять бездонные пропасти, ввязываться в опрометчивые сделки и проверять, что из этого получится.
И в итоге все мои «ведь отказываться невежливо…» и «я не то чтобы должен, но…» приводили к многочисленным «не знаю…» и «давай не будем вспоминать…». Ну сами знаете, как бывает: когда бездельничаешь, неприятности не заставляют себя ждать.

Пышущий здоровьем холостяк в полном расцвете сил, я наслаждался легкой жизнью в роскошном отелe, где потакали всевозможным проказам и шалостям: сделкам, интрижкам, увлечениям, мимолетным романам – все напрокат, все взаймы, не в полную собственность. Я носил кожаные штаны. Я рассекал на «тандерберде». И целыми днями оттягивался по полной – как правило, не в одиночестве. Вкушал радости жизни.

Я предавался забавам, купался в лучах славы, не наблюдал часов. После съемок я читал сценарии, загорал у бассейна, писал стихи, угощал друзей обедами, выгуливал Мисс Хад, отправлялся на пробежку, а по вечерам тусил в огнях Голливуда. Короче, я проводил дни без забот, а ночные приключения происходили в шаговой доступности, что было дополнительным бонусом, учитывая мое пристрастие к неограниченной выпивке. Я ужинал с друзьями, а потом мы возвращались в «Шато Мармон», где веселье продолжалось – песни, танцы, дружеские потасовки. Определив место, я подогнал его под себя и таким образом заполучил ключ от кухни отеля, чтобы иметь возможность поджарить себе стейк в три часа ночи.

А потом мне предложили роль в фильме «Власть огня». Дентон Ван Зан, крутой парень с огрызком сигары в зубах и карликом на плече, апокалиптический драконоборец, пожирал сердца убитых драконов сырыми. Карлика я заценил, но, к сожалению, его вырезали из сценария. Я сразу понял характер персонажа, и мне ужасно захотелось его сыграть. Ван Зан, человек своеобразного склада, занимался своим делом не ради того, чтобы выжить самому, а ради спасения человечества; человек-остров, которому изоляция давала полную свободу.
То ли восемнадцатимесячное гедонистическое дуракаваляние в «Шато Мармон» – выпивка, женщины, обжорство, – то ли попытка как можно быстрее отстраниться от выхолостившей меня искрящейся фальши ромкомов, а может, и то и другое, вызвали во мне отчаянное желание заслужить право на «субботние развлечения». Мне нужен был желтый свет.
Сколько себя помню, я все время раздумывал над своим существованием, искал смысл в своей жизни, но теперь впервые поставил под сомнение существование Бога. Может быть, это экзистенциальный кризис? Нет, скорее экзистенциальный вызов. Я был к нему готов. Я не то чтобы утратил веру в Бога, но стал еще больше полагаться на свои собственные силы и на свободу воли. Я не собирался больше списывать свои неудачи на рок и судьбу, я готов был властвовать над собой, винить и оправдывать себя самого. Я жаждал доказать самому себе, что моя участь целиком и полностью зависит от меня одного.
Мне надоело беззаботное, безнаказанное существование, я устал от незаслуженных прощений, от фальшивого сочувствия, от заученной вежливости, от бесконечного потакания своим прихотям. Глупо жить завтрашним днем, если сломя голову мчишься на красный свет. В молитвах мне хватало смелости признавать свою вину, но перестать молиться было боязно, однако же я рискнул предположить, что, возможно, от предметных молитв никакого толку все равно не будет, и прекратил просить о конкретных вещах.
«Боже, если Ты есть, – думал я, – надеюсь, Ты оценишь человека, который в поте лица своего стремится к самоопределению. Надеюсь, Ты наградишь человека, который решил больше не прятаться за слепой верой в то, что все в Твоих руках».

Короче, роль Ван Зана была мне в самый раз. Я был к ней готов.

Я согласился на роль и немедленно обрил голову наголо. Почему? Естественно, можно было сказать, что таково мое видение героя или что я хотел своим поступком разозлить руководство студии, но, если честно, дело было в том, что у меня редела шевелюра.

Я как раз надумал обратиться к средству для восстановления волос под названием «Регеникс», которым надо было пользоваться дважды в день; еще я где-то вычитал, что бритье головы укрепляет волосы и они растут гуще. Будучи человеком, который осознает, как важен внешний вид, я решил, что Ван Зан должен быть бритоголовым[10].
Если вы хоть когда-нибудь брили голову, то знаете, что череп не гладкий, как шар. На моем оказались шишки и вмятины, а кожа головы шелушилась и была белой, как мел. Как только я обрил голову, меня сфотографировал какой-то папарацци, и моя фотография появилась в следующем номере журнала «Пипл».
А у меня раздался телефонный звонок.
– Я знаю, ты не обрил голову, – прозвучал в трубке зловещий шепот.
Ради его же блага я не стану называть имя того, кто звонил, скажу только, что это был один из руководителей студии, изрядно вложившийся в фильм.
– А вот и обрил, – нагло ответил я.
– Ничего ты не обрил. Я отказываюсь в это верить, Мэттью. Ты просто напялил лысый парик. Из вредности, – безапелляционно заявил он.
– Нет. Я обрил голову.
Он бросил трубку.
Где-то после полудня гостиничный портье принес мне в номер послание, написанное от руки.
Сегодня утром, мистер Макконахи, вы отказались подтвердить,
что на самом деле не обрили голову.
Если вы продолжаете на этом настаивать,
убедительно просим вас признаться в обратном,
чтобы все-таки приступить к съемкам нашего фильма.
Если же вы действительно обрили голову,
то это большая трагедия и непростительная ошибка;
подобный поступок значительно ухудшит вашу карму.
Да-да, он не только выделил жирным шрифтом «ухудшит вашу карму», но и подчеркнул эти слова.
«Что ж, – подумал я, – надо бы надрать ему задницу только за то, что он наводит тень на мою карму. А вот с бритой головой сложнее. Похоже, из-за этого может сорваться контракт…» Гм. Хотел разозлить руководство студии? Вот, пожалуйста.
За годы, проведенные в Голливуде, я многое понял и кое-чему научился. Для начала в голливудском бизнесе лучше вести свою игру, чем делать бизнес, играя по голливудским правилам. Надо врубиться в шутку, а шутка заключается в том, что нет ничего личного. Вообще. Ни «я тебя обожаю», ни телефонные звонки, на которые не отвечают, если твой фильм провалился. Да, за тобой пришлют лимузин, но домой придется ехать на такси. Ничего личного, просто бизнес.
«Ухудшит вашу карму» – не угроза. Ничего личного. Просто наглость, бесцеремонная, надменная и бестактная. Надо поставить его на место.

В те выходные должен был состояться какой-то очередной прием, на котором ожидались все крупные шишки голливудских киностудий. И разумеется, мистер Ухудшу Карму.
«Гуччи» сшили мне на заказ ярко-голубой костюм-тройку, под цвет моих глаз. Я пять дней по четыре часа жарился на солнце у бассейна, чтобы загорела бледная кожа бритой головы, а потом натер скальп маслом (не норковым!), так что он засиял не хуже, чем у Дуэйна Джонсона. И пошел на прием. Мистера Ухудшу Карму я там не заметил, да оно и не потребовалось. Заметили меня. Особенно дамы. И все остальные тоже.

На следующий день у меня зазвонил телефон. Мистер Ухудшу Карму.
– Мэттью, я сначала разозлился, но потом передумал. Обожаю бритоголовых! Ты выглядишь очень экстравагантно. Тебе идет. Просто прелесть!
Я добавил монетку на блюдечко.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

За два месяца я должен был подготовиться к воплощению образа Ван Зана. Для этого мне требовалось уединение, поэтому я отправился в Лока-Пелотас, на ранчо брата в Западном Техасе, в семнадцати милях от ближайшего городка с населением 518 человек. Полторы тысячи акров, кругом ни души и дикая жара в середине лета – самое подходящее место для будущего драконоборца. Первым делом я разработал специальный режим драконоборческих тренировок – физических и моральных.
План предусматривал, что тренировки будут проходить в середине июля, на сорокаградусной жаре.
1) Каждый день на рассвете, прежде чем встать с постели, выпивать двойную порцию текилы. Именно так поступают все уважающие себя драконоборцы. Чтобы дышать огнем на огнедышащего монстра. Выжечь внутренности, чтобы никакое пламя не пробрало. Стань драконом, чтобы победить дракона. Отлично!
2) КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОБЕГАТЬ ПЯТЬ МИЛЬ ПО ПУСТЫНЕ. БОСИКОМ. ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ МИЛИ ТУДА, ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ МИЛИ ОБРАТНО. Необходимо, чтобы подошвы загрубели. Сейчас они слишком чувствительные, ведь я ношу обувь. Надо загрубеть. У драконов толстая шкура, а драконоборец должен походить на тех, с кем борется. У Ван Зана наверняка грубая кожа, к нему никакая болячка не пристанет. Класс!
3) НЕВОЗМУТИМО СТОЯТЬ НА КРАЮ АМБАРНОЙ КРЫШИ, НА ВЫСОТЕ 40 ФУТОВ ОТ ЗЕМЛИ, И СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ НЕ ПРЕВЫШАЛА 60 УДАРОВ В МИНУТУ. Да, я боюсь высоты, а Ван Зан не боится. Если каждый день стоять на краю амбарной крыши, то можно привыкнуть. И сердце будет биться не чаще 60 ударов в минуту. У меня все получится, черт побери!
4) КАЖДУЮ НОЧЬ РОВНО В ПОЛНОЧЬ ВЫБЕГАТЬ НА ПАСТБИЩЕ И РАСТАЛКИВАТЬ СПЯЩИХ КОРОВ. А что такого? Наскочу с разбега на корову и завалю ее. Накачаю мышцы, стану сильным, крепким. Настоящие драконоборцы так и делают. Ван Зан именно так и тренировался. Что ж, решено.
Ну и что из этого вышло?
На шестое утро я поперхнулся двойной порцией текилы. И на седьмое тоже. Не самая гениальная мысль. Ладно, с текилой завязали.
В полночь девятого дня я попытался свалить с ног здоровенного быка, а он меня боднул. Я заработал сотрясение мозга. Вот досада[11].
После одиннадцати дней пятимильных пробежек по каменистой пустыне в сорокаградусную жару на моих обожженных подошвах появились здоровенные волдыри, так что я не мог не то что бегать, а даже ходить. Упс.
И за два месяца я так и не сумел подойти к краю крыши ближе чем на три шага. И сердце билось со скоростью 125 ударов в минуту, как я ни старался.
Режим драконоборческих тренировок позорно провалился, однако же боли я испытал предостаточно. Как и полагается уважающему себя драконоборцу.

После двухмесячного курса молодого драконоборца я отправился на съемки в Ирландию. Играть Ван Зана было здорово: эдакий воин без отечества, бритый наголо, с томагавком. Мне его очень не хватает. Я уважаю интересных персонажей, и Ван Зан не столько помог мне избавиться от сумасшедшинки, сколько укрепил ее во мне, помог понять, что нужно сделать, чтобы выжить, и напомнил, что долг выше славы и преимуществ. Его томагавк до сих пор красуется на стене у меня в кабинете.
Четыре месяца съемок и промозглая ирландская зима вымотали меня физически и морально. Я обрадовался возможности отдохнуть и подлечить синяки и шишки – на теле и в душе. Нет, душевно я был полон сил; духоборческие искания пошли мне на пользу, и теперь я больше полагался на самого себя. Как и после смерти отца, теперь я старался вовлечься, а не кичиться.
Спустя три дня после окончания основных съемок я отсыпался в отеле «Моррисон» на северном берегу реки Лиффи в Дублине. И тут…
МЕНЯ НАСТИГЛА ВЛАЖНАЯ МЕЧТА.
Я плыл на спине по Амазонке, обвитый анакондами и питонами, а вокруг кишели крокодилы, пираньи и пресноводные акулы. На горном хребте слева плечом к плечу стояли африканские воины.
Я ощутил глубокое умиротворение.
Одиннадцать кадров.
Одиннадцать секунд.
И я кончил.
Надо же.
Тот же самый эротический сон, который приснился мне пять лет тому назад.
Я точно запомнил два элемента сна. Во-первых, я плыл по Амазонке. А во-вторых, на горном хребте стояли африканские воины.
Это был знак.
На Амазонке я уже побывал и лично убедился, что река действительно находится в Южной Америке. Значит, пришло время отправиться в Африку. Но куда именно?
Через пару дней я изучал карту Африки, пытаясь сообразить, куда зовет меня сон, и слушал альбом одного из своих любимых исполнителей, Али Ибрагима Туре, известного как Али Фарка Туре.
И тут меня осенило. Али называли «африканским блюзменом».
Откуда он родом? Я вскочил с дивана, схватил конверт альбома и прочел биографическую справку на вкладыше. Ниафунке, Мали, на реке Нигер, к северу от Мопти.
«Я должен отыскать его», – решил я.

Пришло время догнать вторую часть моей влажной мечты.

Я купил билет до Бамако, столицы Мали, оттуда на перекладных добрался до портового городка Мопти. Там я нанял проводника, Иссу, у которого была лодка. Я назвался Дэвидом – на всякий случай, чтобы никого не смущать, – и объяснил, что ищу Али Фарка. На следующий день мы отправились вверх по реке к поселку Ниафунке.

Четыре дня мы плыли по Нигеру в долбленом челноке под названием «пирога», с подвесным моторчиком в четыре лошадиные силы, и наконец прибыли в прибрежный поселок Ниафунке. Через пять часов расспросов и поисков мы обнаружили Али в доме его второй жены. Обо мне он знал только, что я – американец и горячий поклонник его музыки. Вторая жена Али приготовила нам обед, и, как принято в Мали, мы уселись на пол, вокруг общей миски риса с приправами. Есть полагалось правой рукой, ни в коем случае не левой[12].
Али был одним из моих любимейших музыкантов, а еще, сам того не зная, стал единственной целью моего путешествия на второй по величине континент земного шара. Мой сон привел меня в географические координаты 15°55′52″ с. ш. 03°59′24″ з. д. (широта и долгота Ниафунке).
Получу ли я еще какой-то намек на то, что означают африканские воины на горном хребте из моего сна? Мы пообедали, Али сыграл для меня пару своих песен, а Исса на местном диалекте бамбара рассказал ему о моей любви к его музыке. Потом я спросил:
– А почему вы выступаете только в Западной Африке и во Франции, а не гастролируете по другим странам? Почему бы вам не приехать в Америку?
Он серьезно ответил:
– Потому что там я буду сухим навозом и ни меня, ни моего запаха никто не запомнит.
А здесь я – свежий навоз, и мой запах здесь помнят.
В конце дня мы тепло попрощались с Али и вернулись к пироге. «Куда ж нам плыть? Куда зовет меня сон?» – думал я.
И тут вдруг Исса сказал:
– В Мали есть племя догонов. Задолго до развития современной науки они получили космологические сведения свыше. Тысячу лет назад, после вторжения племен, исповедующих ислам, догоны расселились по нагорью Бандиагара и до сих пор живут там в деревнях у реки. Тебе не помешает туда съездить, Дауда. – (Так звучит имя Дэвид на языке бамбара.) – Очень запоминающееся место.
Да это просто провидение Божье!
«Лучше чем-то пахнуть и запомниться, чем не пахнуть ничем и стать всеми забытым, – подумал я. – То-то и оно. Свежий навоз».
– Вот туда мы и поплывем, – сказал я.

Пять дней мы плыли по Нигеру, сперва на север, потом на юг, в погоню за остатком моей влажной мечты.

По пути к нагорью Бандиагара мы остановились в легендарном Томбукту – центре науки и культуры, тихом городке к северу от реки Нигер, на южной оконечности Сахары.
Однажды вечером, после гонок на верблюдах по пустыне, мы с Иссой и его двумя образованными приятелями – Али (не Фарка Туре) и Амаду – ужинали на веранде гостиничного ресторана. Мимо неторопливо прошла хорошенькая девушка лет двадцати пяти, окидывая вопросительным взглядом все столики, за которыми сидели мужчины. Очевидно было, что она ищет клиента.
– Ох, нехорошо это, – сказал Али. – Мусульманской женщине негоже так поступать. Нельзя продавать свое тело, это позор. Не пристало так себя вести.
– Видишь ли, не нам с тобой судить, как должны поступать другие. Мы же не знаем всех обстоятельств. Поэтому не следует говорить, что она должна делать, а чего не должна.
Между ними завязалась беседа, которая становилась все оживленнее и громче. Мне казалось, что они спорят. Улучив минуту, я встрял в разговор:
– Я согласен с Али. Она не должна так себя вести. Молодой здоровой девушке надо заниматься уважаемой работой, а не проституцией. По-моему, Али прав. Я считаю, что…
Но тут Али, тот самый, кого я поддерживал, резко меня оборвал:
– Мы не о том, кто прав, а кто не прав.
Мы про «понимаешь или нет»!
Я ошарашенно откинулся на спинку стула, а Али сурово смотрел на меня.
Наконец Амаду, тот, против чьего мнения я выступил, добродушно спросил:
– Вот теперь ты понимаешь?
Я понял.
– Да, – сказал я. – Прошу прощения.
На что Амаду, не отрывая от меня взгляда, произнес с той же резкостью, что и Али:
– Ты не проси прощения, а отстаивай свое мнение.
Ух ты! Он сказал мне почти то же самое, что я говорил себе в Австралии, когда супруги Дулей потребовали, чтобы я называл их мамой и папой. Двойная доза африканской мудрости. Спорщики не пытались доказать свою правоту, они хотели понять друг друга. Как это необычно. (Эй, Америка, это стоит взять на заметку.)

На следующее утро мы отправились к нагорью Бандиагара.

Селения догонов на нагорье Бандиагара – небольшие скопления глинобитных хижин на речных берегах – отстоят друг от друга на восемь-пятнадцать миль. В каждом селении гостя встречает старейшина, смотрит в глаза и решает, стоит ли привечать. Меня всегда привечали.
Я приехал в Мали сразу после съемок фильма «Власть огня» – накачанный, бритоголовый, с косматой бородой. Всем в Мали я представлялся писателем и боксером. На нагорье Бандиагара нет электричества, фильмов с моим участием никто не видел, и никого не интересовало, что я писатель. Зато все почему-то радовались, что я боксер.
По селениям быстро разнесся слух, что на нагорье появился белый силач по имени Дауда. Как-то раз я отправился в селение под названием Беньемато и, утомленный четырнадцатимильным пешим походом, растянулся на земле у одной из хижин. Вскоре ко мне подошли два молодых человека и стали с вызовом что-то говорить – не то чтобы со мной, но явно про меня. Вокруг собралась толпа.
– О чем это они? – спросил я Иссу, который сидел рядом.
– Да вот, говорят, что они самые сильные борцы в селении и вызывают белого силача Дауду на поединок.
Я продолжал лежать на земле, оценивая ситуацию, как вдруг молодые люди бросились наутек, а толпа восторженно загомонила. Я открыл глаза. Надо мной высился массивный тип без рубахи, гораздо внушительнее двоих юнцов. Его бедра прикрывал дерюжный мешок, подвязанный веревкой на поясе. Исполин ткнул пальцем мне в грудь, потом указал на себя, а потом махнул рукой куда-то вправо. Я повернул голову в ту сторону и увидел еще одну группу возбужденных зрителей. Они обступили большую яму. Большую. Яму.
Я покосился на Иссу.
Он улыбнулся:
– Это Мишель. Вот он и есть самый сильный борец в селении.
У меня отчаянно заколотилось сердце. Толпа взревела. А у меня в ушах зазвучал мой собственный голос: «Прими вызов, чтобы потом всю жизнь не жалеть. Оставь свой запах!» Я медленно встал на ноги, посмотрел Мишелю в глаза, поднял правую руку, ткнул его в грудь, а потом указал на себя. Затем повернулся и неспешно прошествовал к большой яме.
Толпа обезумела.
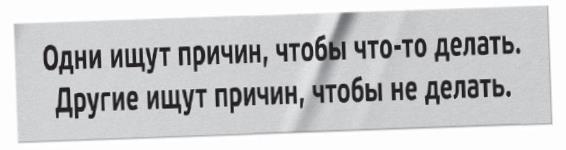

Мне всегда нравились борцовские состязания. В детстве я был фанатом федерации рестлинга и умел за себя постоять, будучи младшим из трех братьев. Но сейчас это не имело значения. Я был в Африке, в девяноста пяти милях от ближайшего телефона. Стоял посреди большой ямы напротив мощного африканца, у которого вместо штанов – мешок. Есть ли какие-то правила? Нужно и можно ли лупить, кусать и бить противника, пока не свалишь с ног? Я не знал, однако не сомневался, что сейчас мне подскажут.
Мы с Мишелем стояли лицом к лицу. Вокруг нас расхаживал старейшина. У меня по шее поползла капля пота. Правой рукой Мишель ухватил меня за шорты слева, посмотрел в глаза и кивнул. Я сообразил, что должен сделать то же самое, и правой рукой взялся за левую сторону подвязанного веревкой мешка. Левой рукой Мишель вцепился мне в шорты справа, и я повторил его движение. Мы стояли почти носом к носу. Толпа неистовствовала. Мишель набычился, уперся лбом мне в плечо, в мягкую впадину над ключицей и надавил. Я сделал то же самое. Обеими руками держа противника за пояс, лбом утыкаясь ему в плечо, мы стали потихоньку отступать друг от друга, сохраняя горизонтальный упор, а потом прочно утвердили ступни на песчаном дне ямы. Я видел только, как взбугрились мускулы на ляжках Мишеля, толстых, будто древесные стволы. Старейшина положил руки нам на макушки, будто собрался крестить, быстро отдернул их и завопил: «Та-а-ат!» – что, как я понял, было местной версией гонга.
Первый раунд
Мы с Мишелем переступали по кругу голова к голове, оценивая силы друг друга, а потом он рывком вздернул меня на себя, прижав мою грудь к своему лицу, и с размаху шмякнул об землю, так что у меня перехватило дух. Очко в его пользу. Толпа взревела. Мишель навалился на меня, пытаясь придавить к земле. Я заелозил на спине, выскальзывая из его хватки, изогнулся, резко приподнял бедра и закинул правую ногу через его голову, поддел подбородок и впечатал его затылком в землю. Очко в мою пользу. Три или четыре минуты мы кружили, подсекали и заваливали друг друга, но ни мне, ни ему не удавалось прижать противника к земле. В конце концов старейшина развел нас в стороны. С меня градом лил пот, не хватало воздуха, и, чтобы легче было вздохнуть, я завел руки за голову. По шее струилась кровь, омывая выдранные клочья бороды; ободранные локти и колени кровили. Мишель, покрытый легкой испариной, уставился на меня. В его взгляде не было счастья. Тут старейшина воздел к небу два пальца, и толпа истерически заголосила.
Мы снова встали в центр ямы, заняли позицию: ухватили друг друга за бедра, уткнули голову в плечо противника, и боевое крещение продолжилось. «Та-а-ат!»
Второй раунд
В Техасе моим основным преимуществом считались сильные ноги и ягодицы. Но африканская большая яма и Мишель еще раз напомнили мне, что я больше не в Техасе. Мишель с ходу бросился в наступление. Завалить меня с наскока ему не удалось, зато я приложил его лицом в землю, забрался ему на спину и применил обратный вариант любимого с детства приемчика из рестлинга – «бостонский краб»[13].

Едва я решил, что победа мне обеспечена, Мишель каким-то чудом скинул меня со спины. Теперь задыхался я, а моя нога была намертво зажата двумя толстенными древесными стволами. В глазах замелькали искры. Я бился, пытаясь развести его скрещенные щиколотки. Мишель все еще держал меня ногами за пояс, а руками упирался в землю, но я ухитрился встать и вертелся ужом, пока не почувствовал, как его потная нога соскользнула мне по животу. Вот он, мой шанс. Его мертвая хватка ослабла. Я оттолкнул его ноги, высвободился и, запрыгнув на него, попытался левой рукой сдавить его шею. Полного захвата добиться не удалось, но я не выпускал противника. Мы оба, сплетясь, обессиленно растянулись на земле. Ничья. Наконец старейшина объявил поединок законченным. Мы медленно встали. Старейшина вывел нас в центр большой ямы и в знак победы поднял руки нам обоим. Толпа завыла.

Мы с Мишелем, потные и изнеможенные – а я еще и окровавленный, – с уважением глядели друг на друга, а потом он отвел глаза, внезапно выскочил из ямы и помчался прочь из селения. Абсолютно все жители селения столпились вокруг меня, выкрикивая: «Дауда! Дауда!»

Той ночью я лежал на соломенном тюфяке, на крыше глинобитной хижины в селении Беньемато в Мали и смотрел в ночное небо, где насчитал двадцать девять падающих звезд. Я грезил с раскрытыми глазами. Мне явился Южный Крест, сияющий, будто стаи трепещущих бабочек, которые я видел в Перу, по дороге к Амазонке. А сейчас я оказался в колыбели еще одной истины. Вот оно, вмешательство Всевышнего. Космологические сведения свыше. Провидение Божье? Нет, скорее наставление Господне мне, избраннику его Церкви. Я дал обет запомнить это на всю жизнь.
А все потому, что я устремился за влажной мечтой. В буквальном смысле слова.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Умиротворенный, я погрузился в грезы о великой святости, но мое мерное дыхание бесцеремонно прервал заложенный нос. Мой собственный. Я сел, втянул внутрь полный рот соплей и решил отхаркнуть их на крышу.
Плюх!
Увесистый ком слизи, едва вылетев изо рта, бумерангом вернулся и клейкой медузой облепил мне физиономию.

Я забыл, что повесил над головой противомоскитную сетку.
Даже не верится.
Ничто так не возвращает в действительность, как смачный плевок в рожу самому себе.
Уж поверьте.








На следующее утро я собрал вещи в рюкзак, попрощался с новыми друзьями и отправился в селение по соседству, в пятнадцати милях от Беньемато. На окраине меня дожидался Мишель. Не говоря ни слова, он взял меня за руку и прошел со мной все пятнадцать миль до следующего селения. Там он выпустил мою руку, молча повернулся и в одиночку отправился в Беньемато.
Вечером я сказал Иссе:
– Слушай, мне очень надо знать, чем все-таки закончилось вчерашнее состязание. По-моему, я все-таки хоть как-то за себя постоял.
Исса негромко рассмеялся, а потом ответил:
– Дауда, ты очень хорошо за себя постоял. Очень хорошо. Все думали, что Мишель за десять секунд положит белого силача на лопатки!
– Правда?
– Правда. А Мишель – самый сильный борец не только в Беньемато, но и в трех селениях по соседству.
– Значит, я победил? Поэтому все выкрикивали мое имя?
– Дело не в победе или поражении. Дело в том, что ты принял вызов. – Исса посмотрел на меня и улыбнулся. – Если ты принял вызов, значит победил. Так что приезжай к нам еще, Дауда. Мы с тобой заработаем много денег.
Я приехал еще раз. Через пять лет. К тому времени Мишель обзавелся четырьмя детьми и повредил себе бедренный сустав, так что состязания мы устраивать не стали. А на следующий день он снова взял меня за руку и прошел со мной пятнадцать миль до соседнего селения. Свежий навоз. Значит, мой запашок все-таки остался[14].

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В Лос-Анджелес я вернулся другим человеком. Теперь я мыслил яснее и практичнее. Я воздал по заслугам и своему сну, и людям, к которым он меня привел, и мне ответили взаимностью. Двадцать два дня я прожил среди людей, практически не знающих английского; все разговоры велись на языке жестов, однако же я чувствовал себя почти как дома и даже мог шутить. Поскольку я совсем отвык от словесных выкрутасов, то понимал, что мне будет трудно снова окунуться в бурную жизнь Голливуда, полную излишеств и роскоши. Меня больше не интересовал ни город, ни его преходящие развлечения, и я решил выехать из отеля «Шато Мармон». Но не успел я заняться поисками нового пристанища, как мне позвонил Пэт и, как обычно, втянул меня в великолепную, многообещающую авантюру. Нас ожидало множество забавных приключений.

– Слушай, братишка, а давай махнем на курорт «Ла-Квинта» в Палм-Спрингс? Там замечательное поле для гольфа. Я снял нам номер на две ночи. В четверг вечером я заеду за тобой, в пятницу и в субботу мы поиграем, а в воскресенье я доставлю тебя в Лос-Анджелес. Все за мой счет.
Вот уже несколько месяцев Пэт пользовался услугами типстера, делая ставки на исход матчей студенческой футбольной лиги. Деньги он потратил не зря. Прогнозы его типстера были пока что верны, и у Пэта шла полоса везения. Я всегда радовался, когда Пэту везло, потому что с ним это случалось гораздо реже, чем со мной или с нашим старшим братом, Рустером. В 1988 году в страшной аварии погибла Лори, первая и единственная жена Пэта, и после этого двадцать семь лет[15] он упрямо игнорировал женский пол, если не считать его собак, Найман и Молли. Как говорит Рустер: «Если бы не Пэт, мы бы не понимали трудностей жизни и не сочувствовали бы тем, кто бедствует». Пэт научил нас прощать. Поэтому я считаю его своим талисманом.
В четверг на закате, часов в восемь вечера, на курорт «Ла-Квинта» въехал пыльный и помятый пикап-внедорожник Пэта, «додж-рэмчарджер» со спаркой. Из открытых окон кабины гремели Boston, «More Than a Feeling». Нас встретили администратор отеля и консьерж, оба в костюмах и при галстуках.
– Добрый вечер, господа! Добро пожаловать в отель «Ла-Квинта». Как добрались?
Я – в бандане, безрукавке и в шлепанцах – вышел из кабины со стороны пассажира и ответил:
– Привет! У нас все классно. А у вас тут как дела?
По стоянке разлетелся громкий собачий лай.
Администратор поискал взглядом источник звука. В кузове пикапа встревоженно метался черный лабрадор – Найман, огромная псина, фунтов 140 весом. Ей явно не терпелось справить нужду.
– Мм… сэр, все в порядке… все в порядке, – ответил управляющий.
Я обошел пикап, достал из кузова наш багаж и клюшки для гольфа. Администратор и консьерж предусмотрительно отошли подальше.
– Гм, сэр, а что, собака останется с вами? – спросил администратор.
– Ага, – сказал я.
– Понимаете, в отель с животными нельзя, сэр.
Я вскинул на плечо сумку с клюшками и недолго думая заявил:
– Так это ведь собака-поводырь моего брата.
Сказал я это громко, чтобы услышал Пэт, который как раз выбирался из-за руля. Он тут же вытянул вперед левую руку, нащупал капот, оперся на него и выпрямился.
– Погоди, Пэт, я сейчас, – сказал я.
Пэт сощурил полуприкрытые глаза, правой рукой похлопал по капоту и ответил:
– Да все в порядке. Мы уже на месте?
Администратор смущенно покосился на меня. По выражению его лица было ясно, что он не видит никакой несуразности в ситуации «за рулем – слепой». Мое джедайское внушение сработало. Я взял Найман на поводок, помог ей выпрыгнуть из кузова и подвел к Пэту.
– А вот и Найман, – сказал я.
Пэт сразу расслабился, как настоящий слепой, рядом с которым оказался верный пес-поводырь.
– Ну, ты как? – спросил я.
Пэт, почему-то имитируя Дастина Хоффмана в «Человеке дождя», сказал:
– Пэт хорошо, Найман на поводке.
Что, в общем-то, не имело никакого смысла, потому что он притворялся слепым, а не аутистом. Но делать было нечего.
Взяв наш багаж, администратор и консьерж повели нас в номер. Найман играла свою роль хуже нас с Пэтом. Вместо того чтобы вести его, как положено собаке-поводырю, она тянула его в разные стороны и метила все кустики и покрышки «мерседесов».
– Сорок шагов прямо, – сказал я Пэту.
– Сорок шагов прямо, – повторил он. – Сорок шагов. Да, сорок.
Администратор и консьерж, смущенные своим первоначальным недоверием к собаке-поводырю, очень заботливо доставили нас до номера, открыли дверь, внесли багаж и с чрезвычайной почтительностью дали войти Найман и Пэту. Найман тут же опрокинула пару стульев, запрыгнула на кровать, а потом бросилась к окну и принялась лизать стекло.
– Пэт, это наш номер! Мы пробудем тут два дня, – сказал я, зачем-то повысив голос, будто Пэт был еще и глухой.
– Хорошо, хорошо. Два дня. Да, два, – ответил Пэт так же громко, по-прежнему щуря глаза и мотая головой из стороны в сторону, как Стиви Уандер.
Администратор и консьерж попятились к выходу.
– Надеюсь, номер вам понравится! – сказал администратор, тоже повысив голос. – Мы желаем вам приятного отдыха. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь.
– Хорошо, спасибо. Пэт, скажи спасибо этим добрым людям.
Пэт закивал, с удвоенной силой изображая Рэймонда Бэббита:
– Спасибо, добрые люди, спасибо.
Наконец дверь закрылась. Мы с Пэтом расхохотались:
– Найман, ну что ж ты так? Из-за тебя нас чуть не раскололи!

На следующее утро, ровно в девять минут девятого мы с Пэтом стояли у отведенной нам стартовой площадки на поле для гольфа. Первый удар сделал я, а мой слепой брат Пэт ловко отправил мяч на триста ярдов по самой середине гладкого поля. Потом мы сели в гольфкар. Как только Пэт взялся за руль, чтобы подъехать к лунке, к нам подбежали администратор с охранником.

Администратор, намеренный доказать, что раскрыл наш обман, но изо всех сил стараясь держаться с профессиональным спокойствием, сказал:
– Доброе утро, господа. Так что мы будем делать с собакой?
Он посмотрел на меня, потом на Пэта.
Мы недоуменно уставились на него.
– А что с собакой? – спросил я.
– Вы же сказали, что это собака-поводырь.
«Черт, мы попались», – подумал я.
Тут Пэт невозмутимо, чуть извиняющимся тоном заявил:
– Разумеется. У меня же куриная слепота.
У администратора отвисла челюсть. Охранник расслабился. А мы поехали дальше играть в гольф.

Мы замечательно провели выходные, к Пэту вернулось зрение, и он отвез меня в отель «Шато Мармон».
После поездки в Мали мне захотелось сблизиться с Матерью-Природой, поэтому я сменил кожаные штаны, сапоги и «тандерберд» на шорты, шлепанцы и доску для серфинга. Летом я наслаждался по новому адресу, где задним двором мне служил Тихий океан, а не бульвар Сансет.
Я жил на пляже. В полном смысле слова.
Я устраивал дальние забеги по берегу. Бросал фрисби Мисс Хад. Плавал в океане. Научился серфингу.
Редко носил рубашку.
Снимался в фильмах: «Как отделаться от парня за 10 дней», «Маленькие пальчики», «Сахара», «Деньги на двоих», «Любовь и прочие неприятности» и «Мы – одна команда».
Романтические комедии с моим участием делали хорошие кассовые сборы, а потому такие роли мне предлагали постоянно. Фильмы среднего бюджета, с хорошей экранной «химией» героев пользовались большой популярностью. Мне нравились эти ненапряжные романтические истории, дающие зрителям полтора часа приятного времяпрепровождения и отвлекающие от жизненных проблем. В эту короткую передышку можно было ни о чем не думать, просто смотреть, как парень ухлестывает за девушкой, ошибается, признает свою ошибку и в итоге добивается своей избранницы. Я принял эстафету у Хью Гранта и погнал вперед.

Для таблоидов, киноиндустрии и общественного мнения я стал типичным героем романтических комедий, парнем-безрубашечником на пляже. Своего рода фишка. Вдобавок я был в отличной форме.

Меня мало волновали снисходительные и пренебрежительные отзывы кинокритиков о фильмах с моим участием. Мне нравилось сниматься в романтических комедиях; деньги, полученные за эти роли, позволяли арендовать дома на пляже, по которому я шастал без рубахи. Я невозмутимо отнесся к этой неизбежности – парень из рабочей семьи не станет отвергать предоставленные ему возможности, как бы пренебрежительно о них ни отзывались.
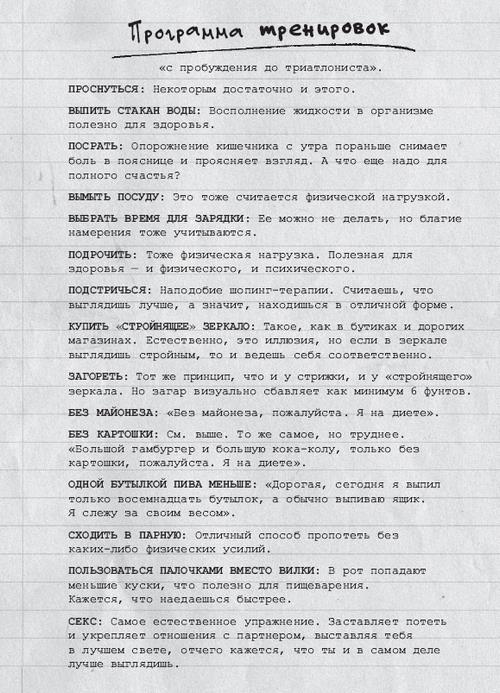
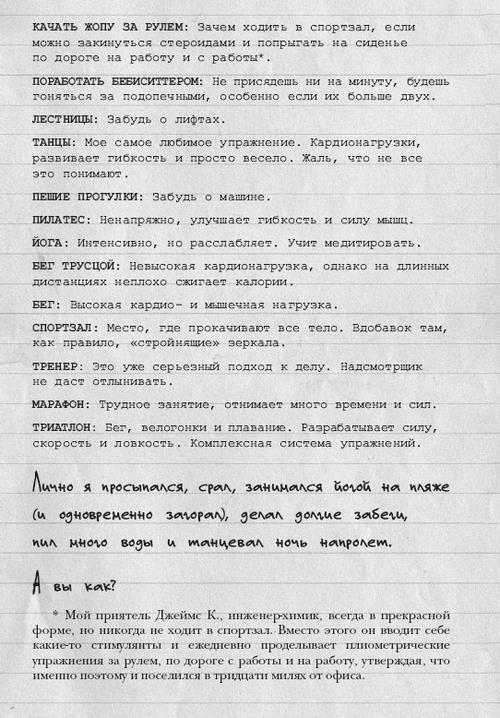
И все же, хотя мне нравилась такая беззаботная жизнь, созданная мной самим, кое-что меня смущало. Во-первых, роли в романтических комедиях не составляли для меня никакого труда: сегодня прочел сценарий, завтра отыграл роль. Во-вторых, я начал ощущать себя не актером, а каким-то аниматором. «Ну и что в этом плохого?» – спрашивал я себя. Комедии у меня получались неплохо. Критики называли мой юмор «жизнеутверждающим» и упоминали «неуемный оптимизм». Я по мере сил наделял мужественностью выхолощенные персонажи романтических комедий и, как правило, оправдывал ожидания зрителей.

Тем не менее мне казалось, что я притворяюсь, играю роль, а не живу, оставаясь собой. То, что пятнадцать лет назад было для меня творческим самовыражением, теперь все меньше питало мой дух. Актерское мастерство словно бы превратилось в ремесло, которым занимаешься по привычке и которое ничего не дает ни уму, ни сердцу. Нет, такое актерское мастерство мне было ни к чему.


Путешествия приносили больше пользы для моего внутреннего развития, чем моя избранная карьера. Я любил продажи, образование, музыку и спорт, поэтому стал подумывать о смене профессии. Может, стоит попробовать писать рассказы или книги о путешествиях? Податься в рекламу? Стать учителем, музыкантом, футбольным тренером? Я не мог определиться.


Я не находил себе места. Мне нужно было развиваться. Уплыть вверх по течению, сменить полосу, взойти на новую ступень. Но как? Я снова поменял место жительства. Купил дом в Голливуд-Хиллз – при нем был большой сад, что меня устраивало, а спален хватало на семью из пяти человек.
Часть шестая
Стрела не ищет цель, цель притягивает стрелу
2005 г., март
За свою жизнь мне довелось познакомиться и проводить время со многими чудесными женщинами; за некоторыми я даже серьезно ухаживал, а с некоторыми до сих пор поддерживаю дружеские отношения. Однако же все это было промежуточными остановками, а не конечной станцией. Мне перевалило за тридцать, и я искал любовь своей жизни, подругу и мать моих детей. Я даже больше скажу – я искал свою единственную. Ее. Ту самую.
А потом мне приснился сон. Ну да, с оргазмом. Влажная мечта.
Нет, не тот, который снился раньше. Другой.
Я, опять же в полном умиротворении, сидел в кресле-качалке на веранде своего одноэтажного загородного дома. Изогнутая подковой грунтовая подъездная дорожка вела к трем ступенькам на веранду. Перед домом зеленел газон – два акра густой нестриженой травы святого Августина. Вдали, за деревьями, к началу подъездной дорожки подкатывала церемониальная процессия «рейнджроверов», «навигаторов», «субурбанов» и микроавтобусов. За рулем каждого автомобиля сидела женщина, а в каждом салоне – по четверо детей. Все приветливо махали мне. Машины останавливались – два колеса на траве, два на грунтовке. Все женщины были спокойны и приветливы. Все дети – здоровы, веселы и счастливы. Мы все хорошо знали друг друга.
Двадцать две машины.
Двадцать две женщины.
Восемьдесят восемь детей.
Женщины приехали не к человеку, за которого вышли замуж, а к любимому мужчине, отцу своих детей. Дети приехали к отцу.
Ко мне.
Приехали праздновать мой восемьдесят восьмой день рождения.
По ребенку на каждый год моей жизни.
Все были рады меня чествовать, рады были видеть друг друга. С каждой матерью меня связывали добрые воспоминания, дети забирались ко мне на колени. Мы обнимались, целовались, смеялись и шутили, плакали от счастья. Все собрались вокруг меня для семейной фотографии, и мы уставились в объектив большого фотоаппарата на треножнике, установленном у ступенек веранды. Три! Два! Снимаю!
Я кончил.
Во сне я не был женат. Я был восьмидесятивосьмилетним холостяком. В то время одна мысль об этом внушала мне ужас.
Но сон был не об этом. Сон был прекрасен. Сон убедил меня, что все в порядке. Что со мной все хорошо.
Сон напомнил мне, что всю жизнь больше всего на свете я хотел быть отцом. А еще сон говорил, что даже если я не встречу свою единственную и не женюсь, то это тоже нормально.
У меня могут быть дети.
Я могу стать отцом.
Я могу быть восьмидесятивосьмилетним холостяком, окруженным двадцатью двумя улыбающимися матерями и восьмьюдесятью восемью счастливыми здоровыми детьми – и любить их всех, а все они будут любить меня.
Красный свет – страх на всю жизнь остаться холостым – возник в зеленом свете эротического сна. Это был знак, призыв остановиться, прекратить поиски своей единственной, той самой женщины, и положиться на естественный отбор, который отыщет ее для меня, и, может быть, тогда она меня найдет. Или не найдет.

Поэтому я прекратил поиски.
И она пришла.

В июле 2005 года мы с друзьями сидели в клубе «Хайд» на бульваре Сансет, и я смешивал на всех лучший на свете коктейль «Маргарита». И тут я увидел ее.
В сумрачном неоновом мареве зала парила фигура – карамельная кожа, бирюзовое платье мягчайшего шелка.
Она ничего не несла.
Она никуда не уходила.
Она невесомо двигалась туда, куда ей было нужно, и мне захотелось оказаться там, куда она направляется. Голова ее не качалась. А ноги вроде бы не касались пола. Ну, в этом я не уверен. Как я уже сказал, в зале было сумрачно.
Она впечатляла – и проясняла.
Игривая и серьезная.
Молодая и умудренная жизнью.
Провинциальная и космополитичная.
Наивная и хитроумная.
Свежая и пикантная.
Домохозяйка и королева.
Не девственница, но не продажная.
Будущая мать.
Она ничего не продавала. В этом она не нуждалась. Она знала, что она, кто она, и гордилась этим. Она была своей стихией. Законом природы. Именем собственным. Неизбежностью.
«Что… это?» – мысленно поразился я и привстал, поднятый неумолимой силой ее притяжения. Увидел, как она садится на банкетку, обитую красным бархатом, рядом с какими-то двумя женщинами. Я не мог поймать ее взгляда, замахал рукой, чтобы привлечь ее внимание, но тут в левом ухе прозвучало: «Такой женщине не машут через весь бар, сынок. Оторви зад от стула, подойди к ней и представься». Голос моей мамы. Надо решаться.
Я подошел к банкетке и вмешался в разговор:
– Привет.
Незнакомка посмотрела на меня.
– Меня зовут Мэттью, – сказал я, протягивая руку для честного пожатия.
Я сразу понял, что ей известно, кто я. Она, совершенно невозмутимая, даже не шевельнулась. Как я уже говорил, не продается.
– Камила, – наконец сказала она и коротко, но уверенно пожала мне руку.
Я перевел дух.
– А не хотите ли вы… и ваши подруги присоединиться к нашему столику? Вон там. Я угощу вас великолепной «Маргаритой».
Она взглянула на своих подруг.
– Прошу прощения, – сказала она, встала – одна – и позволила мне проводить ее к нашему столику.
Хотя она оставила подруг, я знал, что, если бы я повел себя не по-джентльменски и не пригласил и их тоже, она никогда не села бы к нам за стол.
Я смешал свой лучший коктейль. Я старательно заговорил по-испански.
Она ответила на португальском. В ту ночь я, как никогда в жизни, понимал португальский. Больше мне такого не удавалось.
Ритмы романских языков звучали слаженно, в такт. Спустя двадцать минут мы шептали что-то друг другу на ухо в конце стола – вели нашу первую беседу, – и вдруг…
– Макконахи! – заорал мой приятель, перекрикивая музыку.
Два часа ночи. Бар закрывался.
– Дай мне пять минут, – сказал я, для наглядности ткнул в него растопыренной пятерней и обратился к своей новой знакомой: – Поехали ко мне? Мы с ребятами собрались выпить еще по стаканчику.
– Нет, спасибо, не сегодня. Как-нибудь в другой раз, – дружелюбно ответила она.
Черт возьми.
Я проводил ее на стоянку, но, как ни странно, ее машины там не оказалось.
– Я припарковалась вон там! – сказала она, указывая на свободную площадку у бензозаправки рядом с клубом.
– Белый «авиатор»? – уточнил служитель заправки.
– Да, – подтвердила она.
– Его увезли эвакуаторы. Это парковка только для посетителей заправочной станции.
– Слушай, поехали ко мне, – снова сказал я. – А потом мой шофер отвезет тебя домой.
– Ладно, – наконец согласилась она.
Мы сели во внедорожник, и два моих приятеля переместились на третий ряд, в самый конец салона.

03:30 утра. Мой дом
– Что ж, спасибо за выпивку. А сейчас мне пора, – сказала она.
Я проводил ее к подъездной дорожке, где должен был ждать шофер. Но шофера почему-то не было.
Я напустил на себя озабоченный вид:
– В чем дело? Куда он запропастился? Невероятно! Прости, давай я вызову такси.
В этой части Голливуд-Хиллз очень ненадежная мобильная связь, но у меня был и стационарный телефон. Я обзвонил три таксомоторных компании, и что вы думаете? Ни одна не приняла заказа.
– Если хочешь, располагайся в гостевой спальне.
Пятый час утра, никаких машин пока не предвиделось, так что она согласилась. На всякий случай я еще два раза заглянул в эту спальню, проверить, не нужно ли чего моей гостье. Оба раза меня выставили за дверь.
Я проснулся около одиннадцати утра. Спускаясь по винтовой лестнице в вестибюль, я слышал, что из кухни доносятся оживленные голоса и смех. Так разговаривают только люди, которые ничуть не стесняются друг друга. Старые друзья.
Она, все в том же бирюзовом платье и с теми же карамельными плечами, сидела на кухне, спиной ко мне, за стойкой центрального «островка». Беседовала. Моя экономка готовила оладьи на всю компанию. Два моих приятеля, без рубашек, хохотали над какой-то скабрезной историей, которую только что рассказала моя гостья.
Все это походило не просто на дружескую беседу, а на встречу старых приятелей. В моей гостье не было ни напускного смущения, ни подростковой неловкости, обычной после ночи, вынужденно проведенной у малознакомых людей. Уходить она тоже особо не спешила, а держала себя с доброжелательной уверенностью.
Я позвонил на бензозаправку, узнал, куда именно эвакуаторы увезли машину. Штрафстоянка находилась в часе езды от моего дома, и я вызвался отвезти туда мою гостью. В машине я поставил альбом одного из моих любимых реггей-музыкантов, Мишки, – я как раз был его продюсером[16].
Я вел машину. Мы слушали музыку. Прозвучали две песни, потом три, но никто из нас не произнес ни слова. Нам не нужно было разговаривать. Мы не стремились заполнить молчание. Молчание не было неловким. Оно было золотым.
Наконец мы приехали на штрафстоянку, отчаянно сожалея, что она не во Флориде. Перед тем как попрощаться, я попросил у Камилы номер телефона. Она полезла в сумочку, достала скомканную страничку, вырванную из блокнота, и записала свой телефон.
Я хотел поцеловать ее на прощанье, но она повернула голову, так что поцелуй пришелся лишь в левый уголок рта.
Я спросил, не хочет ли она встретиться со мной вечером.
– Хочу, – ответила она. – Но не могу. У отца сегодня день рождения.
– А завтра?
– Позвони мне.
Отъезжая, я помахал ей на прощание. Она помахала мне в ответ.
Девять лет назад амазонская русалка меня все-таки заметила. Она проплыла в глубокие воды Атлантического океана, обогнула мыс Горн, устремилась вдоль Тихоокеанского побережья и наконец-то добралась до Голливуда и явилась в клуб на бульваре Сансет, где я тут же узнал ее бирюзовые очертания и карамельные плечи. Там она и завладела моими чувствами.
И сейчас, пятнадцать лет спустя, она по-прежнему остается единственной женщиной, которую мне хочется пригласить на свидание, с которой я хочу спать в одной постели и с которой мне нравится пр осыпаться по утрам.
осыпаться по утрам.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Мы с Камилой встречались около года, когда мне предложили роль в фильме «Золото дураков». Съемки проходили в Австралии.
Прежде я всегда ездил на съемки в одиночку и жил один, но Камила заняла в моей жизни особое место. Я хотел, чтобы три месяца в Австралии мы провели вместе, в двуспальном доме, который я собирался снять на пляже Порт-Дугласа. Мне не хотелось с ней расставаться. Мне нравилось думать, что я повсюду буду с ней. Я пригласил ее с собой.
– А не пожалеешь? – спросила она.
– Нет.
– Ты уверен?
– Да.
– Хорошо. Только сперва нужно кое-что уладить. У меня должна быть своя спальня, своя ванная комната и свой ключ от дома.
– Договорились.
Она поехала со мной. Осталась. В своей комнате она не спала, своей ванной почти не пользовалась, как и своим ключом от дома. Но для нее была важна ее личная свобода и наша свобода на этой стадии отношений.
Очень мудрое решение.
Месяца через два съемки прервались на новогодние каникулы. Я запланировал шестидневную поездку на Папуа – Новую Гвинею – серфинг, хижины, джунгли, приключения.
Мы плавали, ныряли, бродили по джунглям, ходили на деревенские рынки и посещали местные племена. Мы жили в хижине на краю джунглей. Электричества там не было, да мы в нем и не нуждались. Все было дико, прекрасно, волшебно.
На четвертый день мы сидели перед хижиной, отдыхая после любовных утех, любовались закатом над Соломоновым морем и потягивали коктейли, прежде чем присоединиться к местным жителям в баре неподалеку.
Я понял, что влюблен.
– Что я должен сделать, чтобы тебя потерять? – спросил я, полуобернувшись и краем глаза глядя на нее.
Она подносила бокал к губам. Ее рука не дрогнула, не застыла, а продолжала плавное движение, будто никакого вопроса задано не было.
Она медленно пригубила коктейль, не отводя глаз от заката, потом сделала большой глоток и так же медленно поставила бокал на круглый влажный след, оставшийся на ручке деревянного кресла.
– Ну, это очень просто, – сказала она, повернувшись ко мне.
У меня бешено забилось сердце. Она посмотрела мне в глаза:
– Изменись.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Когда мы вернулись из Австралии, Камила собралась переезжать из Нью-Йорка на запад. Дом в Голливуд-Хиллз был идеальным местом для влюбленных, но это был мой дом, а нам обоим хотелось начать все заново, построить совместную жизнь. Поэтому мы обосновались в трейлерном парке на пляже Малибу-Бич, в моем двадцативосьмифутовом «Эйрстриме» по прозвищу «Каноэ». Намереваясь провести дальнейшую жизнь вместе, мы серьезно обсудили будущую семью и решили в дальнейшем обходиться без противозачаточных средств.
– С одним условием, – сказала Камила. – Когда ты уезжаешь на сьемки, все едут с тобой[17].
– Договорились, – сказал я.
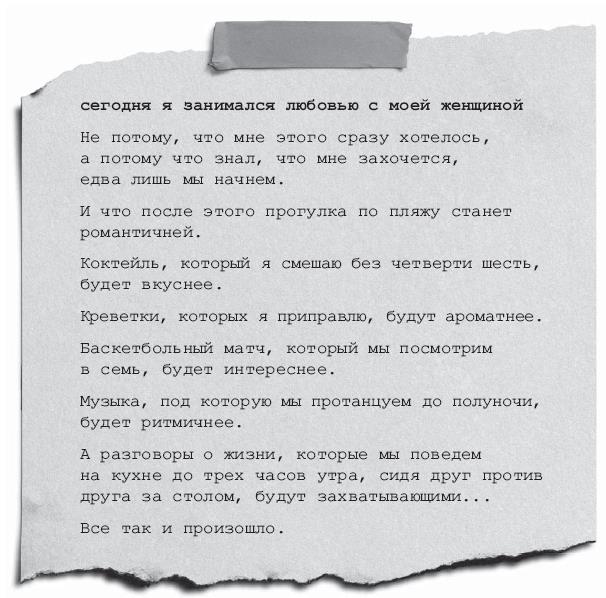
Несколько месяцев мы старались завести ребенка, освоив при этом каждый из 188 квадратных футов «Каноэ», но безуспешно. В общем, мы перестали стараться и стали просто заниматься любовью.
Как-то раз я вернулся домой часов в семь вечера. Камила, как всегда, встретила меня объятьями, поцелуем и улыбкой. Поцелуй был горячее обычного.
Она протянула мне стакан с двойной порцией текилы со льдом. Я скинул шлепанцы и уселся на диван. Из кухни доносился запах моего любимого блюда – домашних чизбургеров.
– Ух ты! Я что, попал в рай?
– Да, – сказала она, села рядом на диван и протянула мне деревянную шкатулку, перевязанную ниткой бирюзовых бус.
Я открыл шкатулку. В ней лежала фотография. Я не сразу понял, что на ней изображено, и пригляделся повнимательнее.
Из глаз брызнули слезы. Я посмотрел на Камилу. Она тоже плакала от счастья. В шкатулке лежал снимок УЗИ. Камила была беременна.
Мы плакали, смеялись, танцевали.
Всю жизнь больше всего на свете мне хотелось быть отцом.
Для меня отцовство всегда означало, что жизнь сложилась. В детстве я говорил отцу и его приятелям «да, сэр» и «нет, сэр», потому что все они были отцами. Отцовство всегда было тем, к чему я относился с наибольшим уважением, тем, что меня больше всего восхищало, – а теперь и мне предстояло к этому приобщиться. Мысли о взрослении и зрелости, которые впервые пришли мне в голову после смерти отца, я теперь ощущал с новой силой, поскольку и сам должен был стать отцом.
Да, сэр.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Часов в десять вечера мы позвонили моей маме, сообщить радостные новости.
В Техасе была полночь.
– Мам? Это мы с Камилой. У нас есть великолепные новости, мы хотим с тобой поделиться. Ты на громкой связи.
– Отлично! Обожаю хорошие новости. Привет, Камила!
– Добрый вечер, миссис Макконахи.
– Мам?
– Да?
– У нас с Камилой будет ребенок. Она беременна.
Молчание.
Долгое молчание.
– Мам? Ты слушаешь?
– Нееееет! Нет-нет-нет! Мэттью! Это неправильно. Ой, нет-нет, нееееееет! Мэттью, что я тебе с пеленок внушала? Сначала свадьба, потом дети! С кем угодно! Нет! Это все неправильно. Нет-нет, Мэттью, это не хорошие новости.
Мы с Камилой переглянулись, удивленно разинув рты. Я потянулся к телефону выключить громкую связь, чтобы Камиле не пришлось выслушивать мамину гневную отповедь, но потом передумал. Нет, пусть знает, с кем ей придется иметь дело.
– Да ну тебя, мама! Я думал, ты обрадуешься. Вот мы с Камилой очень рады.
– А я не рада! Это неправильно. Мэттью, неужели я тебя так воспитала? Извини, Камила, но Мэттью я растила не для такого. Так что я совсем не рада, – сказала она.
И повесила трубку.
Мы с Камилой ошарашенно глядели друг на друга. Слезы радости испарились.
– Вот черт, – сказала Камила.
– Ага, – вздохнул я.
Мы откинулись на спинку дивана, расслабиться.
Камила налила мне выпить. Я не то чтобы сделал глоток – я выхлебал содержимое стакана.
Через несколько минут зазвонил телефон. Мама. Господи, что она еще скажет? Я ответил на звонок.
– Мам?
– Да. Включи громкую связь. Камила, ты меня слышишь?
– Да, миссис Макконахи.
– Мама, что случилось?
– Ну… Знаешь, давай-ка возьмем корректорские белила и замажем наш предыдущий разговор. Это слишком эгоистично с моей стороны. Разумеется, я не согласна с таким развитием событий, но не мне вас за это судить. Раз вы рады, то и я рада за вас. Договорились?


Я уставился на телефон, покачал головой.
– Хорошо, миссис Макконахи. Предыдущий разговор мы уже откорректировали, – сказала Камила, с трудом сдерживая смех.
– Вот и славно. Каждый заслуживает второго шанса. Ну все, люблю, целую. Пока.
И мама повесила трубку.

Камила была на седьмом месяце беременности, когда мне позвонили из моей продюсерской компании в Венисе, Калифорния. Номер высветился на определителе, и я потянулся к телефону.
И замер.
Мне не хотелось отвечать на звонок. Звонок из моей же продюсерской компании. Из офиса, за аренду которого платил я. И зарплаты сотрудников – тоже из моего кармана. С 1996 года.
Я не ответил на звонок. Вместо этого я позвонил своему адвокату, Кевину Моррису.
– Компания закрывается. Немедленно. Завтра я всех обзвоню и объявлю новость. Да, с выходным пособием. И «j.k. livin Records» тоже закрываем.
Настало время привести дела в порядок. Методом исключения. Каждый день на моем воображаемом письменном столе было пять важных дел: семья, благотворительный фонд, съемки, продюсерская компания и лейбл звукозаписи. Со всеми пятью я справлялся на «хорошо». А если закрыть продюсерскую компанию и лейбл, то с оставшимися тремя я справлюсь на «отлично». Метод исключения.
Я объяснил адвокату, что хочу заниматься только семьей и благотворительной организацией, а также сниматься в кино.

Упрощай, фокусируйся и сохраняй силы, чтобы освободиться.
Олрайт, олрайт, олрайт.

Седьмого июля 2008 года, после трех суток схваток и экстренного кесарева сечения, Камила родила ребенка. Мальчика, весом семь фунтов восемь унций.
Мы не стали определять пол ребенка заранее, потому что это – самый большой сюрприз в жизни. Для девочки имя мы подобрали, а вот для мальчика у нас был длинный список.
Мэттью. Мэн. Медли. Иглу. Мистер. Гражданин. Леви.
Ну все как обычно.
Камиле нравилось имя Мэттью. Меня несколько беспокоила необходимость называть его «младший», равно как и то, что он будет тезкой своего знаменитого отца. Но пока мы не волновались о том, как назвать ребенка. Мы улыбались, смеялись, плакали и любили.
Часа через полтора после рождения в палату вошла медсестра и протянула мне официальный документ, который требовалось заполнить:

Мандорла.
Парадокс вместо противоречия.
Союз вместо трений.
Место, где обитают все цвета.
Белый свет.
Третий глаз.
Стих, который много лет служил мне духовным проводником. Даже дверь нашей с Камилой спальни, сработанную догонскими мастерами-резчиками по моему заказу в 2000 году, украшали цифры 6:22.

В некоторых странах апостола Матфея называют полным именем – Левий Матфей. Один и тот же человек. Разные имена.
Левит. Третья книга Пятикнижия и Ветхого Завета. Религиозные наставления и обряды.
Колено Левитово. Левий.
Левитация. Леви. Евангелие от Матфея, 6: 22.
Итак, 7 июля 2008 года, в 6:22 вечера родился Леви Алвес Макконахи. Его второе имя, Алвес, – девичья фамилия Камилы.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Едва я встретился с новой жизнью, как на моих родных обрушился серьезный кризис с потенциально опасными последствиями, и я срочно уехал в Остин, к маме и братьям. Камила и Леви присоединились ко мне через пару недель. Мы сняли небольшой дом в поселке для бодрых пенсионеров, где жила моя мама, и спали на надувных матрасах на полу. Не знаю, что обычно происходит в поселках для пенсионеров, но в этом народ подобрался хоть куда. Пожилые люди живут здесь в свое удовольствие, никого не трогают и не ждут, чтобы им указывали, что и как делать. В старости они как будто стали революционерами. Или и того хуже – анархистами. Прямо как дети.
Обитатели поселка – боголюбивые патриотичные американцы, со своеобразным чувством юмора и с полным отсутствием притворства или политкорректности. Они высмеивают всех и вся и любят, когда поднимают на смех их самих. А еще они любят поговорить и давать непрошеные советы.
Мэттью, вот я смотрю фильм с твоим участием
и вижу, что тебе весело.
Это правильно, так и надо жить – весело.
Мэттью, дети – самое большое достижение в твоей жизни.
Поэтому заведи детей побольше.
А еще запомни: внуки в два раза лучше,
а возни с ними в два раза меньше.
Жизнь среди пенсионеров напоминает о том, что и ты смертен, но в то же время позволяет чувствовать себя моложе. Старческое тело не делает того, что требует разум, а разум забывает, то что хочет запомнить, но пожилые люди относятся к этому без лишних сантиментов и предпочитают жить заведенным порядком: ходят в спортзал, по вечерам выпивают по коктейлю, поют в церковном хоре и участвуют во всех мероприятиях подряд.
Мэттью, общительность и активный образ жизни – вот секрет долголетия.
Однажды, возвращаясь домой из местного культурно-оздоровительного центра, где играли в бинго, мы остановились на красный сигнал светофора.
Неожиданно Камила спросила:
– Тебе хочется переехать в Техас?
На самом деле я об этом уже думал. Может быть, это манера себя вести, то, что здесь ценят здравый смысл, а когда играешь в бейсбол перед домом, рядом останавливается машина соседа, а не папарацци. Может быть, это здешний оптимизм и то, что все сохраняют спокойствие даже в критических ситуациях. Может, потому что маме было далеко за семьдесят – то, что в футболе назвали бы четвертой четвертью, – и хорошо бы навещать ее почаще, чем два раза в год. А может, дело было в том, что теперь у нас с Камилой была семья, и мне хотелось, чтобы наши дети росли среди всего этого.
Я повернулся и посмотрел ей в глаза:
– Да.
– Вот же сукин сын, – вздохнула она, с понимающей улыбкой покачала головой и покосилась на детское сиденье сзади, где спал Леви. – Тогда переезжаем.
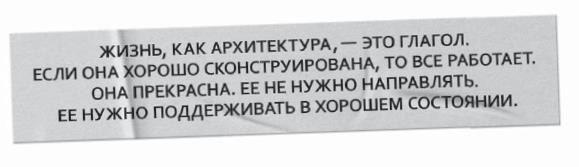
На светофоре зажегся зеленый. Я нажал на газ.

Я разобрался с семейной дилеммой, из-за которой приехал в Техас, и мы с Камилой и Леви купили дом на окраине Остина, на холме у реки.
Девять акров земли, колодец с родниковой водой, а еще участок на берегу для лодочного домика, о котором предыдущий хозяин забыл упомянуть. Больше чем достаточно места для того, чтобы завести собак, растить детей и барабанить по конгам в чем мать родила, не доставляя соседям никаких неудобств.

Безвременная кончина отца заставила меня повзрослеть, а семейные проблемы и отцовство помогли разобраться и в самом себе, и в жизненных приоритетах. Особенно в моей карьере. Смерть, семейный кризис и младенцы – конец жизни, поддержание жизни и появление новой жизни – эти три вещи глубоко потрясают, придают ясность, напоминают о том, что ты смертен, и, как следствие, находишь в себе мужество стать тверже, сильнее и честнее. Эти три вещи заставляют тебя задать себе вопрос:
«Что имеет значение?»
Эти три вещи заставляют тебя осознать:
«Все имеет значение».

Я был известным актером, знаменитостью, кинозвездой. Мне не надо было волноваться о том, чтобы прокормить семью и обеспечить им безбедное существование, но ни роли, которые мне предлагали, ни фильмы, в которых я снимался, меня больше не удовлетворяли. Мне надоели герои романтических комедий и их тесный мирок. У меня уже давно свербело в заднице.
Я жил полной жизнью. Неистовой. Необузданной. Незаурядной. Бурной. Я, живой человек, смеялся громче, плакал горше, любил сильнее, презирал глубже и чувствовал больше, чем те, кого я изображал на экране. Я прекрасно понимал, что, если равновесия в этом не достичь, то актуальная жизнь важнее актуальной карьеры, но я хотел сниматься в таких фильмах, которые своей полнотой не уступали бы полноте моей жизни, и играть живых, правдоподобных персонажей.
Вот только ни роли, ни фильмы, которые могли бы поспорить с моей реальной жизнью, почему-то мне не доставались. А те, что доставались, мне уже здорово поднадоели. Мне были нужны перемены, радикальный поворот, новые обязательства. Хватит мотаться с места на место в поисках хорошей погоды. Теперь, когда у меня появилось все то, ради чего стоит жить, надо было проявить истинное себялюбие и выяснить, без чего можно обойтись.
Пришло время настоящих жертв. Вдобавок Камила снова забеременела.

Часть седьмая
Дерзни взять высоту
2008 г., осень
На собственном опыте я убедился, что в любой критической ситуации, будь то ураган Катрина, семейные неурядицы или серьезный жизненный выбор, сперва необходимо распознать проблему, потом стабилизировать положение дел, разработать ответные действия и преобразить их в жизнь. Признав, что мне, как актеру, нужно большее, я распознал проблему. Теперь пришло время сделать разворот и стабилизировать положение дел.
Я позвонил своему финансовому консультанту Блейну Лурду и спросил, как долго я смогу обходиться без заработка, не меняя при этом привычного образа жизни.
– У тебя вполне приличные сбережения, – ответил он. – Так что поступай, как считаешь нужным.
Я позвонил своему агенту Джиму Тоту и объяснил ему, что хочу сниматься не в романтических комедиях, а в серьезных драматических ролях.
– Нет проблем, – ответил он.
– Как это – нет проблем? – спросил я. – Вот уже десять лет за мои романтические комедии твое агентство получает десять процентов комиссионных – немалую сумму. Как, по-твоему, отреагирует твое начальство, если в понедельник ты придешь в офис и заявишь: «Макконахи больше не желает сниматься в романтических комедиях»?
– Макконахи, я работаю не на начальство, а на тебя.
Вот он, настоящий мужчина.

Я шел на большой риск. Регулярный отказ от участия в голливудских проектах приводит к тому, что Голливуд перестает тебя приглашать. Если ты сходишь с наезженной колеи и отвергаешь типовые роли, гарантирующие кассовые сборы, то киноиндустрия от тебя отворачивается. По большому счету им все равно: желающих занять твое место больше чем достаточно. Опять же ничего личного, просто бизнес.
Обливаясь слезами, я обсудил свое решение с Камилой. Мы поплакали. Помолились. И заключили договор.
– Что ж, милый, придется нам посидеть на мели. Неизвестно, сколько это протянется. Будет трудно. Ты станешь раздражительным, неуверенным… будешь искать утешения в бутылке, но… Если ты действительно хочешь все изменить, то останешься верен себе. А я тебя поддержу. Только не облажайся. Договорились?
Именно то, что много лет назад сказал мне отец.
– Договорились.

То, что я оказался на перепутье, само по себе не было катастрофой, но я знал, что эта жизненная дилемма обойдется мне дорого – и материально, и морально. Самым большим испытанием была неизвестность. Как, когда и чем завершатся мои искания? Я заявил Голливуду, своей возлюбленной, с которой провел почти двадцать лет: «Я все еще тебя люблю, но нам придется на время расстаться. Лучше пусть я буду счастлив в одиночестве, чем несчастен с тобой».

Теперь я находился в подвешенном состоянии. Я приобрел билет в один конец «до нового уведомления». Я подготовился к худшему и надеялся на лучшее.
Приближались новогодние праздники. Я радовался возможности провести время с семьей, с родными и близкими. Чем больше родных соберется вокруг, тем меньше я буду думать о карьере и тем больше буду вспоминать о своих корнях.
Каждый год на Рождество мы собираемся на ранчо моего брата в Западном Техасе. Все грузятся в автодома, с детьми, собаками и багажом, и едут на ранчо. Там мы рассказываем друг другу, как провели год, пьем, едим и травим байки. Устраиваем дальние походы по техасской глуши, охотимся на оленей, ездим верхом, кормим коров, смотрим футбол по телевизору, а по вечерам собираемся у костра и до самого утра вспоминаем забавные случаи из прошлого и рассказываем новые истории. Хотя мы и получили христианское воспитание, в нашей семье Рождество сводится к обмену подарками утром двадцать пятого декабря. Ни совместного застолья, ни чтения Библии вслух – только пять дней подряд сплошняком мясо, байки, никаких ограничений, душ по желанию, а выпивка для того, чтобы поминать, а не забывать.

Если кто-то начинает много о себе воображать или «заноситься», как говорит моя мама, все остальные быстренько заваливают его на грешную землю, да так резко, что виновник начинает молить о пощаде, и тогда его снова ставят на ноги и наливают штрафную. В нашем семействе новогодние праздники редко обходятся без слез, но, когда приходит пора расставаться, всем все прощается, потому что, как говорит мой брат Рустер, «если бы мы всегда поступали правильно, то никогда не узнали бы, что такое „неправильно“».
Пару раз доставалось и мне – по делу, чтобы не слишком задирал нос, но в этом году все знали о моих затруднениях и, если честно, наверняка недоумевали, с какой это стати я отказываюсь от работы и немалых денег. Однако же все понимали, что своих намерений я менять не собирался, а в моем семействе принято уважать твердость убеждений.
Спустя пару дней после Рождества мы с Рустером и Пэтом попивали пиво и раскатывали по ранчо на внедорожнике Пэта. Пэт, который тогда, как и сейчас, был поставщиком труб и работал на Рустера, решил позвонить в телефонную службу и проверить, не оставили ли ему сообщений за время рождественских каникул. Он набрал номер службы и сказал:
– Абонентский ящик восемьсот двенадцать.
– Да, минуточку, я проверю, – ответила телефонистка и секунд через десять сказала: – Простите, сэр, но этот ящик недействителен.
– Как это недействителен?
– Он больше не обслуживается, сэр.
– Но ваша компания выделила мне именно этот ящик! Чтобы я мог проверять сообщения.
– Да, конечно, сэр. Но за два года вы им ни разу не пользовались…
Пэт раскипятился, нажал на тормоз, выскочил из кабины грузовика и начал орать в трубку:
– В каком смысле не обслуживается? Два года? Вы хоть представляете, сколько миллионов долларов я потерял из-за того, что люди мне звонили, хотели купить у меня – у меня! – трубы и не могли оставить сообщения, потому что мой ящик, видите ли, не обслуживается?! Да я на вас в суд подам! Не отвертитесь! Мой ящик два года не обслуживается по вашей вине!
– А… простите, сэр, но я просто оператор, перенаправляю звонки на абонентские ящики, а ваш ящик, сэр, не обслуживается.
– А мне плевать, что вы там делаете! Из-за вас я потерял как минимум десять миллионов долларов, а все потому, что из-за вас мой абонентский ящик два года не принимал никаких сообщений! Десять миллионов долларов, дамочка! Поэтому я подаю на вас в суд.
Она положила трубку.
Пэт продолжал костерить оператора:
– И не смей тут трубки бросать! Я с вас все стрясу!
Наконец Пэт закрыл свой телефон-раскладушку, попинал землю и повернулся к нам с Рустером:
– Нет, вы представляете, какая наглость! Два года мой абонентский ящик не обслуживался! Вот мудаки! Я отсужу у них десять миллионов. До Верховного суда дойду, если понадобится!
И тут Рустер задал Пэту вопрос, который явно не приходил тому в голову:
– А ты подумал, братишка, что скажет тебе судья, когда выяснится, что ты два года не проверял сообщения в своем абонентском ящике, а потому и не знал, что он не обслуживается?
Занавес.
Похоже, все мои родственники обожают судиться, вот только не всегда выбирают беспроигрышные дела.

На следующий день Камила, Леви и я раньше срока отправились домой, чтобы заняться одним неотложным делом.

Я твердо уверен, что любые попытки растянуть медовый месяц на всю оставшуюся жизнь заведомо обречены на провал. Я даже больше скажу – это несправедливо по отношению к супругам. Медовый месяц – как 120-ваттная лампочка, яркая, но недолговечная. Любимые вряд ли выдержат, если постоянно возносить их на пьедестал. Если смотреть на любимых как на сверхъестественные существа, то наше отражение в их глазах превращает в сверхъестественные существа и нас самих. И мы оба становимся недостижимыми для полного обладания.

Медовый месяц, как и Голливуд, напоминает мультфильм, прекрасный, но нереальный, далекий от действительности за порогом кинотеатра.
Мы живем в действительности. В ней обитают человеческие чувства. В ней скрываются наши секреты, поражения, страхи, надежды и неудачи. В ней заключено все то, что начинается после финальных титров. В ней настоящая любовь заботится, болит, понимает, спотыкается и поднимает на ноги. В действительности жить нелегко, но мы стараемся изо всех сил.
Двадцативаттная лампочка не осветит дорогу, если воспринимаешь любимую исключительно как Чудо-Женщину, а она считает тебя исключительно мистером Совершенство.
Стоваттная лампочка медового месяца – явление сверхъестественное.
По определению.
Медовый месяц – это начало. Первый раз. Рождение. Поэтому он и называется медовый месяц, а не семейная жизнь. Им невозможно завладеть в полной мере, его невозможно растянуть.
А потом рождается дочь.
Третьего января 2010 года родилась Вида Алвес Макконахи.
Это единственный медовый месяц, который длится всю жизнь.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ПРОШЕЛ ГОД.
Мне предлагали десятки ролей в романтических комедиях. Исключительно роли в романтических комедиях. Из вежливости я читал сценарии, но упрямо придерживался выбранной стратегии и на все предложения отвечал отказом. Вот прямо-таки на все? А какие вообще были предложения?
Ну, один раз мне предложили пять миллионов долларов за два месяца работы. Я прочитал сценарий. Отказался.
Потом предложили восемь миллионов. Отказался.
Потом предложили десять миллионов. Нет, спасибо.
Потом двенадцать с половиной миллионов. Спасибо, как-нибудь в другой раз.
Потом четырнадцать с половиной миллионов.
Гм. Может, повнимательней прочесть сценарий?
Как ни странно, он оказался намного лучше. Смешнее, драматичнее и в общем качественнее того, который мне предлагали за пять миллионов. Тот же самый сценарий, с теми же самыми словами. Но гораздо лучше предыдущих.
Я отказался.

Если у меня не было возможности делать то, что я хочу, я не собирался делать то, чего не хочу, и не важно, сколько мне за это заплатят.

Мне на выручку приходило чувство юмора, меня поддерживала сильная женщина, а сын и дочь не давали сидеть без дела. Все это помогло мне пережить временный разрыв с Голливудом. Однако же постоянно приходилось напоминать себе, что моя самоизоляция – разновидность отложенного вознаграждения, что сегодняшнее воздержание – это завтрашняя прибыль, что мой личный протест выгребает мусор из моей души, что я, как говорит Уоррен Баффет, запасаюсь соломенными шляпами среди зимы. Но то, что я не работал и не был на виду, сказывалось на моем настроении.
Дело в том, что я ощущаю свою значимость только в работе. За восемнадцать лет я пристрастился к съемкам, как к наркотику, мне нравилось играть роли, и отсутствие работы вызывало своего рода ломку. Каждое предложение сняться в романтической комедии заставляло думать о ролях – о любых, каких угодно, лишь бы получить работу. Стремление к личностному развитию боролось во мне с соблазном делать то, что я и без того считал большой честью, хотя хорошо понимал, как важно для меня, чтобы мое творчество и работа отражали мою жизнь и мою сущность.
ПРОШЛО ЕЩЕ ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ.
Стало ясно, что абсолютно все – киноиндустрия, студии, продюсеры, режиссеры, директора кастинга – уяснили мою позицию, потому что предложений больше не поступало. Никаких романтических комедий. Вообще ничего. Ни одной роли. Где угодно.
Прошло двадцать месяцев с тех пор, как я начал отвергать все роли того типажа, который был у меня в Голливуде.
Герой романтических комедий? Нет.
Парень без рубахи на пляже? Нет. В Остине нет ни пляжей, ни папарацци.

На целых двадцать месяцев я лишил киноиндустрию и зрителей того, что от меня ожидали – привычных, предсказуемых, типических ролей «в образе». Двадцать месяцев я не появлялся на публике. Сидел дома, в Техасе, с Камилой, растил Леви и Виду, занимался садом, писал, молился, навещал старых приятелей, проводил время с родными и приходил в себя. В Голливуде знали, чего я не делаю, но не знали, где я. С глаз долой – из мыслей вон. Казалось, обо мне забыли.

А потом, почти через два года после того, как я ушел из кинематографа и заявил Голливуду, что я – не типаж, неожиданно и как-то очень внезапно я стал востребован.
Моя анонимность и недавняя безвестность подстегнула творческий импульс. Пригласить Мэттью Макконахи сыграть адвоката защиты в фильме «„Линкольн“ для адвоката» – великолепная мысль. Отдать Мэттью Макконахи заглавную роль в фильме «Киллер Джо» – новаторская идея.
Ричард Линклейтер пригласил меня сняться в «Берни».
Ли Дэниелс предложил главную роль в «Газетчике».
Джефф Николс написал для меня сценарий фильма «Мад».
Стивен Содерберг дал роль в «Супер-Майке».
Сказать «нет», чтобы услышать «да».
Цель притянула стрелу.
Меня помнили, потому что обо мне забыли.
Я перестал быть «типажом».
Меня открыли заново, и настало время перевоплощаться.
Мою жертву приняли, я пережил ураган.
Я все рассчитал, знал, чего хотел, и был готов к ответу.
Теперь я должен был сказать «да» и перевоплотиться.
К черту деньги. Мне нужно многообразие.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Все наперебой предлагали мне роли, совсем как после успеха фильма «Время убивать».
Разница заключалась в том, что сейчас я знал, какие персонажи и какие фильмы меня интересуют. Я жаждал рискованных драматических ролей, а Камила жаждала, чтобы ее супруг сам проторил себе дорогу.
Мне одновременно предложили роли в фильмах «Газетчик», «Супер-Майк» и «Мад», и мне ужасно хотелось сыграть каждую из них, но график съемок получался необычайно плотным – перерывы между картинами составляли всего несколько недель, а к ролям надо было серьезно готовиться.
– Если выбрать две роли из трех, то у меня будет восемь недель на подготовку, – сказал я Камиле.
– Но тебе же хочется сыграть все три? – уточнила она.
– Да, хочется, но график слишком плотный. Я не успею.
– Если тебе хочется сыграть все три, то дерзни, ухвати себя за яйца и сыграй все три. Ты ж не маленький. Вот увидишь, у тебя получится.
Я так и сделал. И все получилось.

В 2007 году я прочитал сценарий «Далласского клуба покупателей» и сразу же застолбил себе роль главного героя, Рона Вудруфа.
Меня снова привлек образ отщепенца, неудачника, вольнодумца, который делает все для того, чтобы выжить. В данном случае «застолбить» означало, что мне предоставлялся контроль над сценарием и право согласовывать постановщика. До моего двадцатимесячного отпуска режиссеров и продюсеров не интересовал фильм о начале эпидемии СПИДа, да еще и с ромкомовцем Макконахи в главной роли. Даже в начале моего так называемого Макконессанса[18] желающих снять картину не находилось. Многие актеры пытались отнять у меня роль, и многие режиссеры хотели снять фильм, но с кем-то другим в главной роли, но я твердо стоял на своем.
В январе 2012 года мой агент сказал мне, что канадский режиссер Жан-Марк Валле прочитал сценарий и хочет со мной встретиться. Я посмотрел его фильм «C.R.A.Z.Y.», который мне очень понравился: в нем сочетались несентиментальный юмор, душевность, бунтарство и глубокая человечность мечтателя. А еще у фильма был потрясающий саундтрек – я до сих пор не пойму, как это удалось при таком небольшом бюджете. В общем, режиссерская подача материала как нельзя лучше подходила для сценария «Далласского клуба покупателей». Мы с Валле встретились в Нью-Йорке и обсудили проект. Я недавно закончил съемки «Супер-Майка» и был в прекрасной физической форме.
– Между прочим, у Рона Вудруфа четвертая стадия СПИДа, – заметил Жан-Марк. – Как ты собираешься играть эту роль, если выглядишь так, как сейчас?
– Не волнуйся, сыграю. Не подведу Рона.
Через неделю Жан-Марк Валле согласился стать режиссером фильма. Мы с Жан-Марком и продюсерами Робби Бреннер и Рейчел Уинтер собирались приступить к съемкам в октябре того же года. Я весил 182 фунта, надо было срочно сбрасывать вес. За пять месяцев до согласованной даты я сел на диету: на завтрак – три яичных белка, на обед – пять унций рыбы и чашка овощей на пару, на ужин то же самое, и сколько угодно вина. Каждую неделю я стабильно худел на два с половиной фунта.

Когда я весил 157 фунтов и до намеченной цели было еще далеко, мне позвонил Мартин Скорсезе и предложил небольшую роль Марка Ханны, босса Джордана Белфорта (Леонардо Ди Каприо) в фильме «Волк с Уолл-стрит». На съемки эпизода отводилось два дня. Помните, что я говорил о стартовых репликах? Я прочел сценарий. Марк Ханна утверждал, что секрет успешной брокерской деятельности заключается в кокаине и шлюхах. Это и стало моей стартовой репликой. Безумец, который верует в подобное, заслуживает, чтобы о нем написали целую энциклопедию. Вот я и стал ее писать. Сценарный эпизод был совсем небольшим, но я завел безумный монолог нараспев, что-то типа рэпа, и он вошел в фильм целиком.

Скорсезе меня не остановил, а Ди Каприо мне подыграл. А битье себя в грудь и мычание? Так я делал в перерывах между дублями, чтобы расслабиться и поддержать ритм. Леонардо предложил включить это в эпизод.

– Осенью мы приступаем к съемкам «Далласского клуба покупателей», – говорил я всем подряд, без разбору.
Как мама, я не ждал разрешения.
– Мэттью, у нас нет денег на съемки. Нет денег! – уверял мой агент.
– Деньги есть, – возразил я. – Осенью приступаем к съемкам.
Я стоял на своем.
И продолжал сбрасывать вес, чтобы достоверно рассказать историю на экране. Во мне осталось 150 фунтов веса, тело ослабело, но рассудок прояснился. Я терял фунты, а взамен обретал живость ума. Я, как и Рон, стал расчетливым, беспристрастным, скрупулезным, въедливым, педантичным и взыскательным. Спал я на три часа меньше обычного, мог пить вино до двух часов ночи, а в четыре утра просыпался без будильника и работал со сценарием. Я вошел в образ, роль меня вдохновляла, и я ее обожал. К сожалению, хотя я ощущал моральный подъем, как перед решающей, седьмой игрой Мировой бейсбольной лиги, физически дела обстояли хуже: из-за резкого похудения я утратил либидо.
Автор сценария Крейг Бортен передал мне десяток магнитофонных кассет с записями разговоров Рона о создании и работе клуба покупателей лекарственных препаратов против СПИДа. Я слушал их постоянно, запоминая интонацию и ритм голоса Рона, его напускную храбрость и уязвимые стороны. На одной из кассет Рон и еще какой-то мужчина разговаривали с двумя женщинами. В разговоре звучали отчетливые нотки сексуального характера, и ясно было, что все четверо недавно занимались сексом – друг с другом. «Но как? – подумал я. – У Рона же четвертая стадия СПИДа. Не может быть… Хотя… ну конечно же, у них у всех СПИД». Это было дико, рискованно, но такова правда жизни. Я предложил Жан-Марку послушать кассету и спросил:
– А можно как-нибудь перенести это на экран?
– Ох, это так прекрасно и печально! – вздохнул он. – Даже не знаю, получится ли сделать так, чтобы не выглядело отталкивающе.
Больше мы об этом не упоминали, но, как выяснилось впоследствии, он не забыл нашего разговора.
Я навестил сестру и дочь Рона Вудруфа в небольшом городке неподалеку от Далласа. Они приняли меня радушно, с верой в то, что я воздам должное их брату и отцу. Мы смотрели старые видеозаписи – Рон с семьей, на отдыхе, в хеллоуиновском наряде. Родственники ничего не скрывали и честно отвечали на все мои вопросы о том, каким был Рон.
Его сестра обняла меня на прощанье и спросила:
– А хотите почитать дневник брата? Рон его вел много лет.
– С удовольствием, – ответил я.
Если видеозаписи давали возможность увидеть Рона со стороны, то дневник раскрыл его внутренний мир и стал ключом к душе Рона. Из дневника стало ясно, кем был Рон одинокими вечерами. Именно дневнику он поверял все свои мечты и страхи. А теперь о них узнал и я. Я открыл для себя Рона через его дневник – и то, кем он был после того, как заразился ВИЧ, и то, кем он был до того. По вечерам он лежал в постели, покуривая косячок и рисуя каракули в своем блокноте. Там встречались такие записи:
«Надеюсь, завтра Том и Бетти Уикмен подтвердят заказ на установку динамиков JVC. До их дома 42 мили езды, значит потрачу 8 долларов на бензин туда и обратно и 6 долларов за кабель для динамиков. За установку я прошу 38 долларов, то есть у меня будет 24 доллара прибыли. Здорово! А после этого заеду в „Соник“», за двойным чизбургером и за Нэнси».
На следующее утро он проснулся, отгладил свою единственную пару брюк и рубашку с коротким рукавом, вставил новую батарейку в пейджер и выпил вторую чашку кофе, готовясь заработать свои 24 доллара. И тут на пейджере высветился номер Тома и Бетти. Они не подтвердили заказ, объяснив, что нашли другую компанию, которая берет за установку дороже, но предоставляет гарантийное страхование своей работы. Рон расстроился и записал в дневнике: «Черт возьми». Потом курнул травки и все равно поехал в «Соник». Там он купил чизбургер – обычный, не двойной – и стал заигрывать с Нэнси Блэнкеншип, которая ему очень нравилась, особенно когда подъезжала на роликах к его машине и улыбалась щербатой улыбкой.
«Мое счастливое число 16», – писал он в дневнике.
Как выяснилось, 16 было номером комнаты в дешевом мотеле по соседству, где Рон с Нэнси иногда трахались. Поэтому число было счастливым.
Рон изобретал всякую всячину, но никогда не оформлял патентных заявок. Он составлял планы, но редко воплощал их в жизнь. Он был мечтателем, и ему ужасно не везло.

Тем временем Жан-Марк Валле и продюсеры готовили съемочную группу, подбирали актеров и искали площадки в Новом Орлеане. Они не ждали разрешения. Они стояли на своем. Однако же для съемок фильма нужны деньги. Названный нами срок неумолимо приближался. Все считали, что мы блефуем. Мы не блефовали. Я продолжал сбрасывать вес.

– Съемки начинаются в Новом Орлеане, первого октября! – объявляли мы всем подряд.
В конце концов нам поверили. Кто-то поверил в нас и вложил в фильм 4,9 миллиона долларов. Планировалось, что бюджет фильма составит 7 миллионов, но для начала хватало и этого. За восемь дней до начала съемок в Новом Орлеане мне позвонил Жан-Марк.
– Не знаю, что у меня получится. Семь миллионов – необходимый минимум. Но если ты с первого дня будешь на съемочной площадке, то и я с первого дня буду на съемочной площадке, а там уж как выйдет. Сделаем, сколько сможем.
Мы оба с первого дня были на съемочной площадке.

Спустя несколько недель после начала съемок Жан-Марк сказал мне:
– Знаешь, я тут вспоминал ту кассету, на которой Рон рассуждает о женщинах, и у меня возникла мысль. В сценарии есть эпизод, когда дела Рона идут на подъем. Из своего «офиса» в номере мотеля он видит покупателей, которые приходят за лекарствами от СПИДа. Одна женщина ему сразу нравится, и он спрашивает секретаршу, больна ли эта посетительница. «Да, у нее СПИД», – отвечает секретарша. А потом Рон и эта женщина трахаются в душевой кабинке. Ну, такая жажда жизни.
– Очень правдоподобно. А ты сможешь сделать так, чтобы не выглядело отталкивающе? – спросил я.
– Смогу, – ответил он.
Действительно, эпизод вышел замечательный – человечный, трогательный и очень смешной. Рон с покупательницей трахаются в душевой кабинке, а за перегородкой, в офисе все это слышат и обмениваются удивленными взглядами и понимающими улыбками. В комизме скрыта человечность. Жан-Марк не знал, как сделать так, чтобы не выглядело отталкивающе, и в результате снял прекрасный эпизод.

Фильм «Далласский клуб покупателей» мы сняли за 25 дней и за 4,9 миллиона долларов.
Мы не ждали разрешения.
Мы стояли на своем.
Мы взяли высоту.
Я весил 135 фунтов.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Часть восьмая
Жизнь как наследие
2011 г., 7 ноября
– А почему мама не Макконахи? – спросил мой сын Леви, любознательный, как все трехлетки.
– Как это? – не понял я.
– Ну вот я – Леви Макконахи. Вида – Вида Макконахи. А мама – Камила Алвес. Почему у нее другая фамилия?
Поразмыслив, я ответил:
– Потому что мы еще не женаты.
– А почему? – спросил он.
Если у вас есть дети, то вы знаете, что иногда они задают такие вопросы, на которые обязательно отвечать с умом, потому что наши слова запомнятся на всю жизнь. Вот и этот вопрос был из таких.
– Очень хороший вопрос, – сказал я. – Я хочу жениться на маме. Но мне это не то чтобы необходимо. Если я женюсь на маме, то должен чувствовать, что мне это необходимо. Я не хочу этого делать, потому что так положено или потому что я просто этого хочу. Я хочу сделать это тогда, когда почувствую, что это необходимо.
– Ты боишься, да? – спросил он.
Вот еще один вопрос из тех же. И я – как на суде. Очевидно, мой трехгодовалый сын унаследовал мои способности вести дебаты и устраивать перекрестный допрос. Я снова задумался.
– Да, немного.
– А чего ты боишься?
– Потерять себя, – ответил я.

На следующий день я пошел к пастору.
Мы беседовали о священном институте брака и о том, как преодолеть мои страхи. Пастор говорил о таинстве бракосочетания, о союзе людей, которым суждено быть вместе, о том, что совместная жизнь – рискованная затея, но не лишает человека индивидуальности, а, напротив, питает и озаряет его. О том, как те, кто вступает в супружеский союз, становятся единым целым и что в браке не теряешь часть себя, а, наоборот, расширяешь границы своего «я». Давая обет Господу, супруги фактически утрачивают свои личности. Три сущности – жена, муж и Бог – в единении становятся единодушными. 1 × 1 = 3. Такое вот мистическое умножение.
– Брак требует смелости и жертв, – сказал пастор, а потом поставил меня перед выбором: – Мэттью, что для тебя представляет больший риск: ваши теперешние отношения или супружеская жизнь?
Я воспринял это как вызов и стал над ним размышлять. Несколько недель я обсуждал проблему с пастором, с братом и с теми из моих знакомых, кто вел счастливую семейную жизнь. Вскоре я впервые дерзнул взглянуть на брак не как на конечную цель, а как на новое приключение, как сознательный моральный выбор единого духовного роста вместе с женщиной, с которой я и без того хотел провести весь свой век. С ней, единственной, я мечтал встретить свой восемьдесят восьмой день рождения.
Я впервые осознал, что брак – нечто большее, чем библейское наставление и требование закона, за соблюдение которого я обязан отвечать. Я ощутил внутреннюю необходимость жениться на Камиле.
В 2011 году, в Рождество Христово, я преклонил перед ней колена и попросил ее руки.

Она согласилась.
Но дня свадьбы мы не назначили.

Камила совершенно не похожа на мою маму, но в мае 2012 года, спустя пять месяцев после того, как я сделал ей предложение, она поступила со мной точно так же, как мама поступила с отцом. С одной лишь разницей.
Она вручила мне приглашение на нашу свадьбу.
– Хорошо, – сказал я. – А когда?
Она протянула мне еще один снимок УЗИ.
– У нас будет третий ребенок, но я не хочу стоять с брюхом перед алтарем в день свадьбы.
На свадьбу мы пригласили восемьдесят восемь самых близких друзей и родственников и разбили во дворе сорок четыре палатки, чтобы дать гостям приют на три дня гуляний. Меньше чем через месяц, 13 июня 2012 года, Камила Араухо Алвес стала Камилой Алвес Макконахи.
Мы венчались по католическому обряду. Церемонию проводили брат Кристиан из монастыря Христа в Пустыне и наш пастор Дейв Хейни, Джон Мелленкамп играл псалмы, а жрица кандомбле благословила нас по ритуалу афробразильской магии.
После свадьбы мой брат Рустер заявил:
– Братишка, по-моему, все прошло не хуже, чем в раю.
Тем вечером, у алтаря, Камила посмотрела мне в глаза и сказала:
– Мне не надо ничего, кроме того, что ты готов мне дать.
Тем вечером я женился на женщине своей мечты. Единственной и лучшей на земле. Она русалка.
Меня больше ничего не пугало, и, отправившись в погоню за новыми тайнами, я всецело предался преданности и впервые в жизни осознал, что даже если споткнусь, то не упаду. Я понимал, что перед нами обязательно возникнут трудности, потому что супругам всегда есть над чем работать. Я больше не гоняюсь за бабочками, потому что мы с Камилой ухаживаем за садом и бабочки слетаются к нам сами.
Моей маме больше не нужны корректорские белила.
А у Леви стало одним вопросом меньше.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Я знаком с двумя Ливингстонами. И на одного и на другого я обратил внимание издалека, примерно так же, как когда заметил Камилу в клубе. Я воспринял их как впечатления. Оба были сильными, прямодушными и уверенными людьми, которые вели себя с достоинством и сдержанным благородством. Такой необычный типаж: днем лесоруб, а вечером – дирижер симфонического оркестра. Оба – ренессансные личности, постигшие искусство жить. В дальнейшем я познакомился с ними поближе и выяснил, что первое впечатление меня не обмануло – такими они и были.
А теперь мне хотелось познакомиться с третьим.
В 07:43 утра 28 декабря 2012 года родился Ливингстон Алвес Макконахи.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Я жил полной жизнью. Женат. Отец троих детей (как и мой отец). Я черпал вдохновение отовсюду – теперь не из мыслей, а из истин. Я не кичился своим успехом, но был в него вовлечен; хотел того, в чем нуждался, и нуждался в том, чего хотел. Успех меня отрезвлял; мне так нравилось быть в своей компании, что прерывать удовольствие я не собирался.

Мне предложили одну из главных ролей в телевизионном сериале «Настоящий детектив» на канале Эйч-би-о. Сценарий Ника Пиццолато был таким живым и правдоподобным, что страницы чуть ли не кровоточили.

Меня не смущало, что это сценарий для телевидения, а не для большого экрана, потому что и сюжет, и персонажи были выписаны четко и объемно. Мне предложили роль Мартина Харта, но я хотел сыграть Растина Коула. Для меня он стал самым лучшим детективом на свете. Я лихорадочно листал страницы, чтобы поскорее узнать, что он скажет дальше. Коул, человек-остров, с благоговейным страхом относится к смерти и в то же время жаждет освобождения, которое она дарует. Он неустанно ищет истину, какой бы горькой она ни оказалась. Я трепетал и покрывался холодным потом при мысли об этом персонаже.
– Если дадите мне роль Растина Коула, я согласен, – ответил я на предложение.
Спустя несколько дней, обдумав мой неожиданный запрос, Ник Пиццолато, режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага и продюсеры утвердили меня на роль Растина Коула. Мой давний приятель Вуди Харрельсон согласился сыграть Марти Харта. По счастью, у него больше не было ролей, которые вдохновляли зрителей на убийство.

Мы с семьей собрались и переехали в Новый Орлеан, где шесть месяцев снимали сериал.
Я всегда любил этот город-полумесяц. Может, потому, что здесь вырос мой отец, и мы всегда приезжали в гости к его маме на праздник благословения промысловых креветочных флотилий. А может, потому, что здесь снимались четыре из пяти моих недавних фильмов. Или потому, что если надо узнать, в хорошем или в плохом районе ты остановился, местные объяснят своим характерным напевным говорком:
«Видите ли, сэр, в любом хорошем есть капелька плохого, а в любом плохом – капелька хорошего»

Здесь я всегда чувствовал себя как дома.
Места – как люди. У каждого есть своя индивидуальность. В своих путешествиях по миру я записывал в дневник свои впечатления о культуре и индивидуальности мест, в которых побывал. Я всегда пишу любовные послания тем местам и людям, которые затрагивают глубины моей души. Таким местом стал для меня Новый Орлеан.

Сериал «Настоящий детектив» мы с Камилой смотрели каждое воскресенье, как и все телезрители. Разумеется, у меня была возможность посмотреть все серии сразу, но я решил, что надо смотреть его в задуманном формате – по одной серии в неделю, чтобы в понедельник обсуждать его с друзьями и знакомыми, чтобы предвкушать следующую серию. «Настоящий детектив» стал – и остается – моим любимым телесериалом.
Показ сериала по времени совпал с рекламной кампанией фильма «Далласский клуб покупателей» – шло номинирование фильмов на премию Американской академии кинематографических искусств. Сейчас я понимаю, что моя работа в «Настоящем детективе» заслужила нечто вроде премии самому ценному игроку, в результате чего меня номинировали на премию за лучшую мужскую роль в «Далласском клубе покупателей». Серии «Настоящего детектива» были еженедельной рекламой, которую ни за какие деньги не купишь. Каждое воскресенье миллионы телезрителей смотрели на Расти Коула, а на следующий день видели мое же лицо на афишах «Далласского клуба покупателей».
Роль Рона Вудруфа принесла мне несколько премий за лучшую мужскую роль: меня наградили и «Выбор критиков», и «Независимый дух», и Гильдия киноактеров США. Не было лишь самой главной – премии Американской академии.
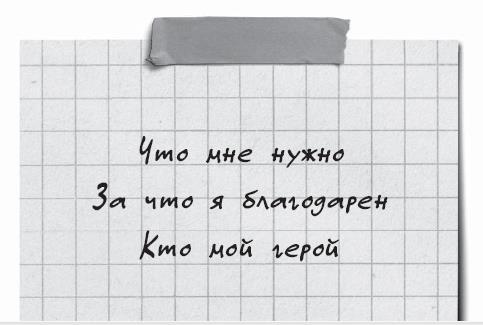
Я не заготовил благодарственной речи – плохая карма, – но составил небольшой список того, о чем мне хотелось бы упомянуть, если со сцены объявят мое имя.

Мое имя объявили.
Я удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Эта награда, величайшее подтверждение актерского мастерства, была для меня большой честью. А еще она подтверждала, что мой выбор ролей и фильмов также свидетельствует о моей приверженности кинематографу. Я не работаю спустя рукава.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Потом я снялся у Кристофера Нолана в «Интерстелларе»; у Гаса Ван Сента в «Море деревьев»; у Гэри Росса в «Свободном штате Джонса»; в «Золоте» Стивена Гейгана; в фильме Яна Деманжа «Белый парень Рик»; в «Море соблазна» Стивена Найта; в «Пляжном бездельнике» Хармони Корина и в «Джентльменах» Гая Ричи. Для моих детей я озвучил роли в нескольких мультфильмах: «Кубо. Легенда о самурае» Трэвиса Найта, а также «Зверопой» и «Зверопой-2» Гарта Дженнингса. А еще я стал преуспевающим продавцом автомобилей, рекламируя «Линкольн», и креативным директором по рекламе бурбона «Уайлд тёрки».
Все персонажи и создания, которые мне хотелось понять, отобразить и воплотить.
Все сюжеты и истории, которые казались мне поразительными, оригинальными и заслуживающими внимания.
Все, пережитое мной.
И все это – с минимальными кассовыми сборами. Что-то не ладилось. Не передавалось. Я зазывал зрителей, но в зале оставалось много пустых мест.
Почему? Из-за меня? Из-за сюжетов? Из-за самих фильмов? Из-за дистрибьюторов? Простое невезение? Или времена меняются?
Я не знаю. Наверное, всего понемногу.

Отсутствие кассовых сборов не угасило моей любви к актерскому мастерству. Наоборот, я старался еще больше. Мне нравилось играть роли. Нравилось творить. Нравилось входить в образ, чтобы потом выйти из него. Нравилось глубоко погружаться в роль, чтобы понять персонажа изнутри. Мне нравилась работа, процесс, конструирование, архитектурное выстраивание характера. Нравилось, что моя жена даже не пытается меня разуверить, когда я заявлял, что каждая моя роль – самая последняя в моей жизни. Я обожал играть роли.

Обожал до такой степени, что в конце концов заметил: роли, которые я играл, и фильмы, в которых я снимался, ощущались правдоподобнее меня самого и моей собственной жизни. Я больше не был аниматором, я был актером. Артистом. И меня это удовлетворяло. Я жил карьерой. Неистовой. Необузданной. Незаурядной. Бурной. Играя роли, я смеялся громче, плакал горше, любил сильнее, презирал глубже и чувствовал больше, чем ощущал это в своей жизни.
Тогда я сказал себе: «Ты вывернул сценарий наизнанку, Макконахи. Теперь чаша твоих весов чересчур накренилась в другую сторону».
В фильмах я был живее, чем в жизни.
Истории, разыгрываемые мной, выглядели живее, чем моя жизнь.
Впечатления в зеркале.
Пришло время что-то менять.
И я составил план.

Пора избавиться от фильтров. Пора превратить свою жизнь в любимый фильм. Быть своим любимым героем. Написать свой собственный сценарий. Стать его режиссером. Изобразить свою биографию. Документальный фильм про себя самого. Не беллетристика. Живая трансляция, не запись. Пора поймать героя, за которым я гонюсь всю жизнь, проверить, растопит ли солнце воск моих крыльев, или жар светила иллюзорен. Надо жить свое наследие. Хватит играть роль. Надо быть собой.
Я собрал все записи, которые вел тридцать пять лет из своих пятидесяти, и увез их в пустыню, чтобы проверить их рассудительность, чтобы заново ознакомиться с ними и критически оценить, разумно ли я вложился в себя.
Две недели я провел в пустыне, где был зачат, две недели – на реке, где научился плавать, две недели – в хижине посреди соснового бора в Восточном Техасе, три недели – в мотеле на границе с Мексикой, а потом на две недели заперся в нью-йоркской квартире.
И в каждом из этих мест я глядел себе в глаза. Пристально рассматривал все пятьдесят лет своей жизни. Очень страшно, когда оказываешься наедине с тем, кто за все это в ответе. С единственным, от кого мне никогда не избавиться. Я опасался, что мне не понравится то, что я увижу. Я знал, что хлынет кровь.
И она хлынула.
Я смеялся. Я рыдал. Я боролся. Я давал зароки.

И прекрасно провел время в самой прекрасной компании на свете.

И вот я, пятидесятилетний, рассматриваю прошлое, чтобы увидеть будущее.
О чем это все? В чем мой посыл? Где эпилог? Где подведение итогов? Где заключительные комментарии? Что я усвоил? Что я знаю?
Я, антрополог-любитель, доморощенный философ и уличный поэт-правдоискатель, я следовал за знаками свыше, отыскивал между ними связи, слышал голоса и гонялся за снами в действительности.
Я брал взаймы, заигрывал, увлекался, заводил интрижки и гонялся за бабочками до изнеможения, лишь точки и никаких остановок на дороге моей жизни к тому, кем я стал. Я обрел и собственность, и закон, и связи, и карьеру, жену и семью, и как только я что-нибудь обретал, то бросал якорь. Я ухаживал за их садами, и они расцвели пышным цветом, и заученные уроки воплотились в жизнь, знание стало действием, актерская игра – существованием. И тогда бабочки начали прилетать в мой сад.
Эту книгу я написал, чтобы быть в ответе за написанное. Эту книгу я написал, чтобы вы могли судить обо мне и напомнить мне о том, что я забыл. Я не раз возвращался к прошлому и его урокам – усвоенным, повторенным и пройденным заново. Я заметил, что осознание происходит быстро, обучение требует времени, а самое трудное – просто жить. Я нашел себя именно там, где я себя оставил.
В первые двадцать лет своей жизни я научился ценить ценности. Дисциплина и любовь научили меня уважению, ответственности, творчеству, мужеству, терпению, честности, служению, добродушию и жажде приключений. Некоторые сочтут определенные способы моего обучения насильственными, но я воспринимаю это как проявления суровой и справедливой любви и ничуть не жалею о порках, потому что так родители внушили мне ценность ценностей. И я им за это благодарен.
Два последующих десятилетия моей жизни были полны противоречий. В эти годы я избавлялся от тех условностей и истин, которые были мне не по нутру. Для меня ценность этого традиционного периода заключается в том, что я еще в молодости оградил себя от нежелательных привычек и черт характера. В те годы меня больше беспокоило, как бы не проскочить на красный, а не то, как создавать себе зеленый свет. Я делал, что хотел. Я научился жить. Я выжил.
После сорока я начал активно пользоваться заученными истинами и применять их в деле. В те годы я сознательно рисковал своей карьерой и удваивал ставки. Ценность этого либерального периода для меня заключается в том, что он подчеркнул силу моего характера. Я не только двигался по зеленой волне, потому что избавился от красных и желтых сигналов, но и создавал для себя зеленый свет. В те годы все красные и желтые сигналы прошлого наконец-то стали зелеными, былые тяготы и невзгоды превратились в удачу и везение, а зеленый свет засиял ярче, потому что я питал его своей энергией. Я делал то, что мне было необходимо, я жил, чтобы учиться. Я процветал.
Теперь, начиная следующую главу истин, я знаю наверняка лишь одно: я снова пересмотрю себя и семья будет для меня центром моих дальнейших действий. Будучи отцом, я часто противоречу сам себе и знаю, что часто поступаю вопреки собственным наставлениям, но я хорошо усвоил, что, если наставление верно, о нем нельзя забывать, а наставник заслуживает прощения, если он забыл о нем сам.
Я надеюсь дать своим детям возможность найти любимое занятие, приложить все усилия, чтобы преуспеть в нем, и стараться достичь высот в избранном деле. Я хочу закрыть им глаза не на суровую правду, а на лживые фантазии, которые лишат их способности жить в реальности завтрашнего дня. Я верю, что они с этим справятся.
Очень трудно отыскивать естественные закономерности и постоянные черты в жизни, но когда у тебя появляются дети, то никакие интеллектуальные обсуждения и философские дискуссии не объяснят, как именно их надо любить, защищать и направлять. В этом помогает лишь родительский инстинкт, который срабатывает раз и навсегда, как и родительская ответственность. Это великая честь. Это зеленый свет.
В начале года, когда я завершал работу над книгой, мою и вашу жизнь остановил красный свет CОVIDа-19. Это вмешательство в нашу жизнь стало неизбежностью. Нам пришлось сидеть дома, соблюдать дистанцию общения, носить защитные маски, не ходить на работу. Мы теряли родных и любимых, нас увольняли, и мы не знали, когда все это кончится. Нам было страшно. Мы озлобились. Всем нам пришлось чем-то жертвовать, резко сворачивать с пути, упорствовать и смиряться. Пришлось менять отношение.
Трагическое начало 2020 года сменилось еще одним красным сигналом светофора: убийством Джорджа Флойда. И это вмешательство в нашу жизнь вскоре тоже стало неизбежностью. Начались протесты, грабежи, бунты, страх и возмущение. Ужасающе несправедливое убийство привело к революции социальной справедливости в США и во всем мире. Оно осветило жуткую личину расизма и напомнило, что не могут быть важны ВСЕ ЖИЗНИ без того, чтобы были важны и ЖИЗНИ ЧЕРНЫХ. Всем нам пришлось чем-то жертвовать, резко сворачивать с пути, упорствовать и смиряться. Пришлось менять отношение.
Оба этих красных света заставили нас всмотреться в себя, в буквальном смысле слова изолировали, чтобы в душе мы смогли отыскать выход. Мы критически осмыслили свои жизни и свое место в них – что нас волнует, каковы наши приоритеты, что для нас важно. Мы лучше узнали своих детей, своих родных и близких и сами себя. Мы читали, писали, молились, плакали, слушали, кричали, высказывались, митинговали, помогали тем, кто в нужде. Но намного ли мы изменились в нужную сторону – в сторону добра – и надолго ли?
Для тех, кто выжил, весьма относительно то, как и когда станет ясно, принесли ли наши страдания и лишения хоть какую-то выгоду. Но если каждый из нас приложит усилия к тому, чтобы воплотить изменения, необходимые для создания справедливого будущего, то красный свет 2020 года в один прекрасный день, в зеркале заднего вида жизни, неизбежно вспыхнет зеленым, и, может быть, будущие поколения назовут его решающим, переломным моментом для человечества.
Я с уважением отношусь к моральным ценностям, внушенным моими родителями, я много путешествовал по свету и ценю культуру и культуру ценностей. А еще я верю в ценность честного труда. Я твердо уверен в том, что для нас самих и для нашего общества в целом лучшим путем является тот, что ведет к повышению ценностей и компетентности. В прошлом году я стал «министром культуры» Техасского университета, и в мои обязанности входит поддержание, пропаганда и распространение культуры компетентности и общечеловеческих ценностей в городах, организациях, учебных заведениях и спортивных клубах. Общечеловеческие ценности существуют независимо от политических и религиозных убеждений и являются не только принципами, с которыми согласны все, но и представляют собой этический фундамент, способный объединить людей. Если быть компетентными в ценностях и ценить компетентность, то легко создать ценное сообщество, а значит, получить больший возврат на наши вложения в нас самих.
Так что эта книга написана еще по одной причине. Надеюсь, книга будет вам полезна, чему-то научит, вдохновит, рассмешит, напомнит или поможет забыть, а также даст возможность продвинуться по пути саморазвития. Что касается меня, искусство жизни я освоил далеко не на «отлично», но я не сдаюсь. И да, для меня компетентное «удовлетворительно» дороже невежественного «отлично».
Я всегда верил, что наука удовлетворения заключается в том, чтобы научиться, как и когда бороться с трудностями, которые возникают в нашей жизни. Если умеешь делать погоду, свисти по ветру. Если попал в бурю, молись об удаче и терпи. Шрамы были, есть и будут у всех. Поэтому вместо того, чтобы бороться со временем и тратить его зря, лучше устроить танцы со временем и возместить его, ведь оттого, что стараешься не умереть, дольше не проживешь. А вот когда занят жизнью, то живешь дольше. Я лавировал сквозь бури своей жизни и менял отношение к неизбежному. В этом – мой секрет успеха.
Мы живем, меняя отношение. Жизнь – наш послужной список. Мы рассказываем эту историю, а наш выбор пишет в ней главы. Можно ли жить так, чтобы предвкушать возможность оглянуться на прошлое?
Неизбежно мы умрем. Надгробное слово произнесут другие, другие расскажут нашу историю, и такими мы и запомнимся, когда уйдем.
У души есть цель: начать, памятуя о конце.
А у вас какая история?
У меня пока – вот такая.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Пусть он встречается вам почаще.
Просто продолжайте жить.

Мэттью Макконахи
P.S

Готовясь к работе над книгой, я нашел этот листок в одном из своих дневников, среди обрывков салфеток и бирдекелей, исчерканных каракулями. Я не видел этого списка с тех пор, как его составил. Обратите внимание на дату – спустя два дня после окончания съемок моего первого фильма, «Под кайфом и в смятении», где я сыграл роль Вудерсона. Две недели после смерти отца. (Как я уже говорил, я помнил больше, чем забыл.)
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Благодарности
Спасибо моим родителям и братьям за то, что дали мне семью, моей жене и детям за то, что создали мою собственную семью, и спасибо бесчисленным персонажам, источникам вдохновения и идеалам, которые я встречал на своем жизненном пути. Спасибо моим героям, от Пэта и Мелленкампа до меня самого через десять лет, и всем тем, кто дал мне стихотворения, которые я написал, забыв, кто их написал.
Спасибо моим друзьям, таким, как Сет Роббинс Биндлер, за то, что дерзают прокладывать путь; Австралии за одиночество, Дону Филлипсу за предвидение, Ричарду Линклейтеру за провидение, Коулу Хаузеру за индивидуальность, Гасу за верность, Кевину Моррису за абсолют, Марку Гастосу за веру, Марку Норби за простоту, Джону Чейни за твердую руку, Николь Перес-Крюгер за правильность, Блейну Лурду за дополнительные нолики, Мисс Хад за привязанность, Иссе Балло за указанный путь, Мали за дом, брату Кристиану за человечность, Пенни Аллен за ярость, пастору Дейву за контекст, Джордану Петерсону за ясность, Чаду Маунтину за то, что слушал, Дэну Бюттнеру за приключения, Рою Спенсу за цель, Нику Пиццолато за честность, Ал Коголю за идеи, Лиз Ламберт за пустыню, Барту Наггсу за реку Льяно, Дэвиду Дрейку, Джиллиан Блейк и Мэтту Инману за редактуру и работникам агентства «WME», издательств «Crown/Penguin», «Random House» и «Headline» за то, что помогли мне перенести мой рассказ на бумагу.
Об авторе
Мэттью Макконахи – сын дважды разведенных и трижды женатых Джима и Кей Макконахи, муж и отец троих детей. Он называет себя везучим, считает, что по профессии он – рассказчик, пишет стихи и пытается стать музыкантом (ну, время у него пока есть). Он отличный спутник в поездках, по пути в храм не отказывается хлебнуть пивка и не гнушается трудового пота. Мэттью – очень целеустремленный человек, мир для него – родной дом, он любит сравнивать, прежде чем противопоставляет, и постоянно ищет общие знаменатели в жизни. Крунер, талантливый свистун, борец, нормативный этимолог и путешественник, он верит, что шрамы – родоначальники татуировок, и к пятидесяти годам его шевелюра естественным образом стала гуще, чем в тридцать пять. Он – победитель шести конкурсов водохлебов в разных странах, возносит благодарственную молитву перед едой, потому что так вкуснее, любит давать прозвища, изучает гастрономию и архитектуру, обожает чизбургеры и соленые огурцы, учится говорить «прошу прощения» и раз в неделю, в церкви, любит всплакнуть. Он не смотрит фильмы со своим участием, если они случайно попадаются по телевизору, делает всякую всячину, чтобы доказать, что у него все получится, никогда не ложится спать в обиде и недавно узнал, что правым можно быть по-разному. Он стал бы моряком, но не астронавтом, он мастер танцевать, доводам предпочитает убеждения и верит, что всему хорошему люди не тираны – каждый себе сам.
В 2009 году Мэттью и его жена Камила организовали благотворительный фонд «j.k. livin», который разрабатывает и осуществляет внеклассные программы для нуждающихся школьников в 52 школах США и пропагандирует здоровый образ жизни учащихся. В 2019 году Мэттью не только написал эту книгу, но и стал профессором факультета кинематографии Техасского университета в Остине, где преподает созданный им предмет, «От сценария на экран». Он один из владельцев футбольного клуба «Остин» и «министр культуры» Техасского университета и города Остина. Он остается лицом рекламной компании автомобилей «линкольн» и креативным директором по рекламе бурбона «Уайлд тёрки»; он также принял участие в создании своего любимейшего бурбона, «Лонгбранч». Мэттью предпочитает закаты, а не рассветы.
jklivinfoundation.org
greenlights.com
Instagram: @offi ciallymacconaughey
Twitter: @McConaughey
Facebook.com/MattewMcConaughey
пролей кровь
я пришел сюда в одиночестве, чтобы писать.
я знал, что прольется кровь.
так и случилось.
сердце гнало по жилам больше крови,
чем обычно.

Форт-Дэвис, Техас, 8 мая 2019
Четвертый день работы над «Зеленым светом».


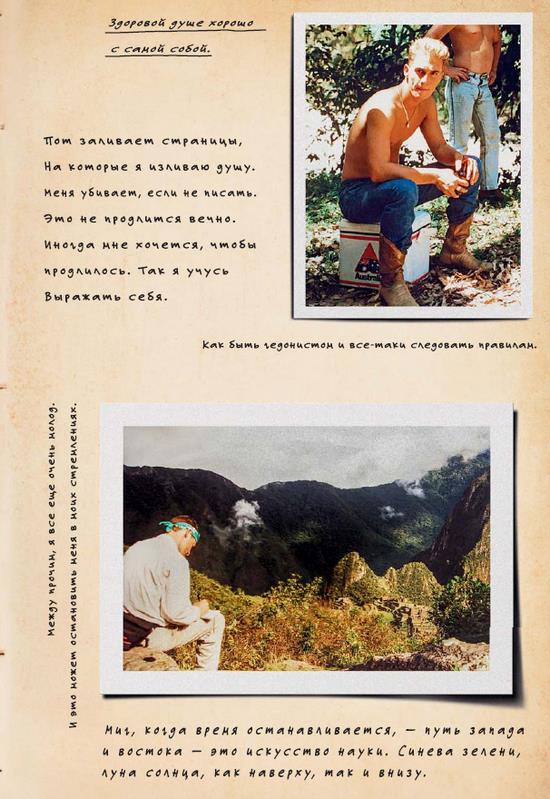



Примечания
С. 25. Если все, чего мне хочется, это сидеть и говорить с тобой… / Будешь ли ты слушать? – Из стихотворения американской писательницы Энн Эшфорд (1939–1988) «Если бы мне встретился печальный единорог» (1978).
С. 32. Старшего, Майкла, вот уже сорок лет зовут Рустером, потому что даже если он ложится спать за полночь, то все равно просыпается с петухами, на рассвете. – От англ. «rooster», то есть петух, кочет.
С. 47. Ивел Книвел (Роберт Крейг Книвел, 1938–2007) – известный американский исполнитель мотоциклетных трюков.
С. 53. …«Невероятный Халк» с Лу Ферриньо. – Имеется в виду американский телесериал «Невероятный Халк», транслировавшийся по каналу Си-би-эс с 1977 по 1982 г.; роль Халка исполнял американский бодибилдер Луи Джо Ферриньо (р. 1951).
С. 58–59. …с грудью, крест-накрест перевязанной гвоздевой лентой… то ли Панчо Вилья… – Панчо Вилья (Хосе Доротео Аранго Арамбула, 1878–1923), лидер крестьянских повстанцев во время Мексиканской революции 1910–1917 гг., традиционно изображался с пулеметными лентами, скрещенными на груди.
С. 59. «Мад» («Mud», 2012) – кинофильм режиссера Джеффа Николса, где Макконахи сыграл заглавную роль.
С. 75. Ротари-клуб – международная неполитическая благотворительная организация, основанная в 1905 г. в Чикаго; среди ее гуманитарных и образовательных программ есть Ротарианская программа школьного и студенческого обмена.
Эль Макферсон (Элинор Нэнси Гоу, р. 1964) – австралийская супермодель, актриса и дизайнер.
С. 83. «Добровольцы поневоле» («Stripes», 1981) – кинокомедия режиссера Айвана Райтмана с участием Билла Мюррея.
С. 84. Робб Биндлер (Сет Роббинс Биндлер, р. 1970) – режиссер документальных фильмов и фильма «Серфер» («Surfer, Dude», 2008), где Макконахи сыграл главную роль.
С. 91. В сумраке Сумеречной зоны… – отсылка к популярной американской медиафраншизе «The Twilight Zone», основой которой стал созданный Родом Серлингом одноименный телесериал-антология (1959–1964), где каждый эпизод оканчивается жуткой или неожиданной развязкой.
С. 99. «Стиль – это знание того, кто ты, что ты хочешь сказать, и равнодушие к этому». / Гор Видал… – Гор Видал (Юджин Луис Видал, 1925–2012) – американский писатель и драматург, высказывание о стиле приписывается ему апокрифически.
С. 107. «Я приобрету благие привычки и стану их рабом». – Цитата из книги американского писателя Ога Мандино (1923–1996) «Величайший торговец в мире» (1968, перев. М. Гавриловой).
С. 119. Тед Ньюджент (р. 1948) – американский рок-музыкант, с чикагской группой The Amboy Dukes выпустивший семь альбомов в 1967–1975 гг., а затем начавший сольную карьеру.
С. 126. «Делай то, чувак, что хочет делать Рэндалл „Пинк“ Флойд… просто продолжай жить». – Из монолога героя Макконахи, Вудерсона, в фильме «Под кайфом и в смятении».
С. 128. «Иди на Запад, юноша!» – фраза, приписываемая американскому журналисту Хорасу Грили (1811–1872), в полном виде: «Иди на Запад, юноша, иди на Запад и расти вместе со страной!»
С. 135. Нехоженая тропа… Роберт Фрост прав… – Отсылка к хрестоматийному стихотворению американского поэта Роберта Фроста «The Road Not Taken» (1916); в перев. Г. Кружкова – «Другая дорога».
С. 147. …назвал ее Мисс Хад, по имени героя Пола Ньюмена в одноименном фильме. – «Хад» – экранизация романа Ларри Макмертри «Всадник, проезжай», снятая в 1963 г. американским режиссером Мартином Риттом.
С. 152. Джон Мелленкамп (р. 1951) – американский автор-исполнитель, художник и актер, ранее выступавший под псевдонимами Джонни Кугар, Джон Кугар Мелленкамп; в 1996 г. Мэттью Макконахи снялся в его музыкальном видео «Key West Intermezzo (I Saw You First)».
С. 160. «Вверх ногами и задом наперед, все теперь наоборот» – строка из песни американского фолк-рок-исполнителя Джеймса Макмертри (р. 1962) «I Only Want to Talk to You» («Я просто хочу поговорить с тобой») с альбома «Walk Between the Raindrops» (1998).
С. 162. Томас Мертон (1915–1968) – американский поэт и богослов, монах-траппист, проповедник дзен-католицизма.
С. 194. Анри Диконге (р. 1967) – камерунский певец и гитарист.
С. 197. …Вилли Нельсона в судебном разбирательстве по обвинению в хранении наркотиков… – Вилли Нельсон (р. 1933) – американский кантри-музыкант; его неоднократно арестовывали за хранение марихуаны.
С. 198. Саут-Банди-драйв – улица в Брентвуде, Лос-Анджелес, где стоит дом Николь Браун Симпсон, супруги американского футболиста О. Джея Симпсона, зверски убитой в июне 1994 г. Преступление до сих пор не раскрыто, а место привлекает толпы туристов.
С. 200. Джон Белуши (1949–1982) – американский комедийный актер и сценарист, старший брат актера Джеймса Белуши, известный по фильмам «Зверинец» (1978) и «Братья Блюз» (1980).
С. 221. «Энрон» – жулики. – Американская энергетическая компания «Энрон», штаб-квартира которой располагалась в Хьюстоне, штат Техас, обанкротившаяся в 2001 г., стала символом умышленного корпоративного мошенничества и коррупции.
С. 224. Роберт Джонсон (1921–2018) – американский психолог и психотерапевт юнгианского толка, автор ряда научно-популярных трудов, в доступной форме излагающих теории Карла Юнга.
Норби, Марк (р. 1970) – американский каскадер и актер, координатор трюков, дублер Макконахи в фильмax «Ю-571», «Власть огня», «Свадебный переполох», «Сахара», «Братья Ньютон», «Эд из телевизора», «Интерстеллар» и в сериале «Настоящий детектив».
С. 276. Уоррен Баффет (р. 1930) – американский миллиардер, один из крупнейших инвесторов в мире.
С. 293. Лили Фини Занук (р. 1954) – голливудская знаменитость, режиссер и продюсер нескольких оскароносных фильмов, в том числе «Кокон», «Шофер мисс Дейзи» и «Кайф»; была продюсером фильма «Власть огня» с участием Макконахи.
А. Питчер
Примечания
1
Я так люблю наклейки на бампер, что выдумал для них слово «бамперка». Это короткие высказывания, юмористические, хлесткие, всякие личные пристрастия, выраженные публично. Это и дешево, и забавно. По своей сути они не всегда политкорректны, ведь это бамперки. То, каким шрифтом они написаны, какого они цвета, какими словами выражена мысль, прекрасно характеризует водителя машины впереди: его политические пристрастия, семейный статус, свободомыслие, благонамеренность, серьезность или насмешливость, домашние любимцы, музыкальные вкусы и даже религиозные взгляды. Я полвека коллекционирую бамперки – увиденные, услышанные, украденные, выдуманные или сказанные мной. Все они – и смешные, и серьезные – чем-то мне запомнились, потому что для этого они и существуют. Свои любимые бамперки я включил в эту книгу. (Здесь и далее – примечания автора.)
(обратно)2
«Кататься по грязи» в Восточном Техасе означает ездить по руслам высохших ручьев.
(обратно)3
Я до сих пор люблю этот альбом.
(обратно)4
Не знаю, с какой стати я добавил «они пока что живы», как будто им грозила смерть. Так получилось.
(обратно)5
Последняя фотография моего отца. Сделана на пляже Наварре-Бич во Флориде, там, где он мечтал построить закусочную, если когда-нибудь разбогатеет.
(обратно)6
Как выяснилось, «эндуро 450» не самая подходящая машина для поездок по европейским магистралям. Если мотоцикл выжимает всего лишь 105 миль в час, то его просто-напросто снесут восемнадцатиколесные фуры и седаны с двенадцатицилиндровыми двигателями, которые мчат на круиз-контроле со скоростью 180 миль в час.
(обратно)7
Коровье сердце на гриле – прекрасное блюдо для первого знакомства с кулинарией развивающихся стран. Проблюешься в начале поездки, зато потом не будешь.
(обратно)8
Этот альбом я услышал в 1983 году, с подачи своего брата Пэта. Моя любимая песня с альбома – «Pink Houses», которую я считаю архетипической песней об Америке. Это песня о поколениях и вере, об обретенных и об утраченных мечтах; она привила мне любовь к родине.
(обратно)9
Иногда приходится резко ограничивать общение с людьми, которые отнимают у меня время, требуя автографов, фотографий и телефонных разговоров с бебиситтером их троюродной тетки – «она твоя большая поклонница». В данном случае народ отдыхал, а я невольно вторгся в их компанию, но так или иначе нужно было дать им понять, что я – не дрессированная мартышка. Если бы я дружелюбно ответил: «Да, а как ты узнал?», то сразу бы стал центром внимания, а так я дал понять Сэму и окружающим, что мне это ни к чему. Так сказать, предупредительно мигнул им желтым светом, чтобы мне дали зеленый.
(обратно)10
Мы с приятелем обменялись тайным рукопожатием аборигенов, которое гарантирует, что то, о чем договариваются двое, обязательно произойдет, если оба в это верят, а потом я два года подряд ежедневно втирал «Регеникс» себе в скальп, так что теперь волосы у меня растут гуще, чем прежде. А все потому, что я обрил голову наголо.
(обратно)11
Однажды ночью сторож на ранчо, семидесятилетний мексиканец, услышал, что коровы испуганно мычат, и вышел из сторожки посмотреть, в чем дело. И увидел посреди стада меня в чем мать родила. После этого ранчо и назвали «Лока-Пелотас» – по-испански это значит «бешеные яйца».
(обратно)12
Мусульмане считают, что левую руку следует использовать для «нечистых» дел – например, подтирать задницу.
(обратно)13
«Бостонский краб» – захват, применяющийся в профессиональном рестлинге, когда борец прижимает противника лицом к земле и загибает его ноги вперед, к голове. В моем случае я задирал голову Мишеля вверх, так что его позвоночник изгибался к ногам. Обратный вариант «бостонского краба» изображен на фотографии выше.
(обратно)14
В 2015 году Исса впервые приехал в Америку и три недели гостил у нас. В прошлом году мы вместе отдыхали в Греции.
(обратно)15
До 27 сентября 2015 года, когда родилась Эмери Джеймс Макконахи. Теперь у Пэта есть дочь, которую он любит так же горячо, как Лори.
(обратно)16
В первый раз я услышал Мишку на Ямайке, в начале 2000-х гг., и сразу полюбил его музыку. Пять лет спустя я отыскал его, мы организовали совместный музыкальный проект, я основал компанию «j.k. livin Records» и выпустил пару альбомов Мишки.
(обратно)17
Вот уже двенадцать лет, где бы ни снимали фильм с моим участием, Камила и все наши дети всегда едут на съемки и живут вместе со мной.
(обратно)18
А знаете, что это я придумал термин «Макконессанс»? Да-да, честное слово. В 2013 году я был на кинофестивале «Сандэнс» с фильмом «Мад» и дал интервью корреспонденту MTV. Моя карьера уверенно шла на подъем, и я решил, что неплохо бы придумать какой-то девиз, своего рода бамперку. Разумеется, это не должно было исходить от меня.
– Мистер Макконахи, в последнее время у вас вышло много замечательных фильмов: «Киллер Джо», «Берни», «Супер-Майк» и вот сейчас «Мад», – сказал репортер.
– Да, верно. Спасибо. Я недавно давал интервью одному журналисту, и он назвал это Макконессансом, – ответил я.
– Здорово! Макконессанс. Классное слово, надо запомнить, – сказал он.
Эту историю я никогда и никому не рассказывал и сейчас записал ее впервые.
(обратно)