| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Виланд (fb2)
 - Виланд [litres] (Тени прошлого [Кириллова] - 1) 2579K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Оксана Сергеевна Кириллова
- Виланд [litres] (Тени прошлого [Кириллова] - 1) 2579K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Оксана Сергеевна КирилловаОксана Кириллова
Виланд
Редактор Вера Копылова
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Мария Ведюшкина
Ассистент редакции Мария Короченская
Художественное оформление и макет Юрий Буга
Корректоры Елена Барановская, Ольга Смирнова
Компьютерная верстка Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© О. Кириллова, 2024
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *

Пролог
…И опустошители твои будут опустошены…
КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ, 30:16
Апрель, 1943
Из запроса компании «Байер» в административное управление Аушвица: «…Стоит отметить, что партия из 150 женщин прибыла в хорошем состоянии. Однако нам не удалось получить заключительные результаты, потому что все они скончались во время испытаний. Любезно просим вас прислать еще одну группу женщин, в таком же количестве и по такой же цене (то есть 170 рейхсмарок за каждую). С уважением…»
Из телеграммы в Главное управление имперской безопасности, отдел IV B-4, Берлин, от 10.07.1942: «…Аресты евреев без гражданства в Париже будут проведены французской полицией с 10.7 по 18.7.42. Можно ожидать, что после этих арестов останется около 42 000 еврейских детей. Для этих детей изначально предусмотрена общественная помощь во Франции. Однако поскольку длительное совместное пребывание этих еврейских детей с нееврейскими нежелательно, а Союз французских евреев может разместить в своих приютах не более 400 детей, прошу срочно сообщить по телеграфу ваше решение: можно ли, начиная примерно с 10-го эшелона, отправлять вместе с подлежащими выдворению евреями без гражданства и их детей. Отмечу, что премьер-министр Пьер Лаваль лично выступил с предложением депортации детей, не достигших шестнадцати лет.
Гауптштурмфюрер СС Даннекер. Париж».
Хайфа, август, 1960. Допрос
Капитан полиции Авнер Лесс. Когда концентрационные лагеря отправляли в Главное управление имперской безопасности отчеты об умерших, разве они не должны были попадать и к вам, если там были евреи?
Подсудимый Э. По евреям этого не делали. Когда вначале были приказы об отдельных экзекуциях, тогда, конечно, были личные дела, а когда пошли уже списки, это стало уже… массовое дело. У нас списков не было. Я думаю, что такой… поименный список вряд ли… Зачем центральной инстанции отдельные имена? Нам бы понадобились для этого отдельные папки, целые шкафы, чтобы вместить поименные списки… Понимаете?
Октябрь, 1962
Из частной переписки: «…бывшая узница Езерская. Она уже помогала комиссии, если ты помнишь. Неизвестно, она знала или указала наобум, но на территории третьего крематория по ее наводке была обнаружена очередная уникальная находка. Банка была прикопана всего-то сантиметров на двадцать. Удивительно, как ее не нашли местные, когда перерывали тут все в поисках мифического еврейского золота. Не знаю, в курсе ли ты, но после официального закрытия лагеря поляки из окрестных деревень устроили здесь настоящий золотой прииск со всеми вытекающими. Они копали землю рядом с крематориями Биркенау и промывали ее в огромных мисках, говорят, кто-то даже нашел золотой зуб да пару монет, но по большей части намывали только человеческие кости. Ума не приложу, что чувствовали эти кладбищенские гиены, копаясь в могиле, в которой упокоились миллионы. Возвращаясь к нашей находке – вот что действительно на вес золота! Хорошо, что ее догадались обернуть в листовое железо, иначе треснула бы. Внутри, дружочек мой, были листы – небольшие, сантиметров десять на пятнадцать, очевидно, блокнот для записей, – соединены скрепкой, которая от времени проржавела настолько, что нам стоило большого труда отделить ее от бумаги, не повредив сами листы. Они плотно исписаны с двух сторон, и каждое слово для нас имеет невероятную ценность, сам понимаешь. По моим прогнозам, расшифровать удастся меньше половины, бумага сохранилась не лучшим образом. Но самое ужасное (о чем, кстати, предупреждал Томаш, когда мы удаляли скрепку), мы умудрились перепутать все листы, а они без нумерации. Теперь предстоит долгая и кропотливая реконструкция. У меня было не так много времени для изучения, только беглый осмотр, пока лишь могу сказать, что все на идиш, за исключением одной страницы, она на польском, но именно она содержит важные данные касательно евреев, отправленных в газ в октябре сорок четвертого…»
Ноябрь, 1980
Из стенгазеты Лесного техникума города Бринке: «…наш ученик Леслав Дурщ. Эту уникальную находку он обнаружил во время раскорчевки местности недалеко от руин третьего крематория. Рукопись находилась в стеклянной колбе от термоса, закупоренной пластмассовой пробкой. По сравнению с предыдущими находками эта скромнее – всего тринадцать страниц, но ее нужно выделить особо, она написана не на польском или идиш, а на греческом языке! Несмотря на пробку, грунтовые воды все же сумели просочиться внутрь колбы, повредив листы, однако отдельные фразы поддаются расшифровке, и они поражают своим оптимизмом, силой веры и мужества этого греческого узника: "Каждый день задумываемся над тем, есть ли еще Бог, и, несмотря ни на что, я верю, что Он есть и что все, чего Он хочет, есть Его воля… Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу". Остается только догадываться…»
Август, 1961
Из газетной заметки: «…бывший электрик, обслуживавший крематории Биркенау (Аушвиц II). Он сумел указать точное место одного из так называемых схронов зондеркоманды. Бумага, исписанная на идиш, отсырела и потемнела от времени, но музейный реставратор заверил, что больше пятидесяти процентов текста возможно восстановить. Расшифровка найденных записок ведется, но уже сейчас можно сказать, что эти триста сорок восемь листов являются бесценной находкой для истории. По свидетельству Порембского, таких схронов на территории крематориев не меньше сорока. В этом же тайнике найдены остатки человеческого пепла и перемолотых костей…»
•••
Сколько же они насовали в тот пепел? Как было уследить? Чего они хотели? Чтобы мир услышал, чтобы мир узнал? Утописты-трупоносы. Вы не нужны были миру тогда и утомили его своим плачем сегодня. А впрочем, копайте, копайте, ройтесь в пепле памяти, дышите им, не только мне задыхаться тем пеплом. Сомневаюсь, что вам нужна та правда, – половина ворошит эти останки, надеясь найти многострадальное еврейское золото. Ищите, ищите – не обрящете, все отдано за пайку. Нет там ничего, кроме их плача на бумаге. Да разве он вам нужен? Он мне больше нужен, мне, тому, кто убивал. Я с ними буду плакать.
Помню грека одного, сокрушался, что не может отомстить за себя и за весь народ свой. Жалел об этом. А я все думал после, когда и грека того уже не стало: а если невозможность совершить то мщение была благостным проявлением Божественного вмешательства? Меня Он лишил подобной благости, не услышал, как я молил Его об этом: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных…» Он услышал лишь ваши молитвы, грек: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных. Оставь это тем, кого Ты не возлюбил, Господи…»
Май, 1985
– Дора-Дора-помидора!
Звонкий детский голосок располосовал больничную тишину. Кажется, это была девочка. Хохотнув, она продолжила кого-то дразнить:
– Дора-Дора-помидора…
Кто-то шикнул на нее, и она резко замолчала. Послышались удаляющиеся шаги.
– Дора-Дора-помидора, – тихо повторил хриплый старческий голос, помолчал, затем еще тише, словно пытался распробовать слова на вкус: – Дора-Дора-Миттельбау… – Совершенно никаких эмоций, высохший, мертвый голос. Мой голос.
Я с трудом повернул голову и уперся взглядом в стену. На ней висела современная карта Европы. Кто додумался? Черточки, деления, штрихи, границы, мне непонятные и тяжелые. Вот здесь, в центре Германии, недалеко от Веймара, я вижу красную точку – это Бухенвальд. Точно такая же точка рядом с Мюнхеном – Дахау. Мой Дахау. Взгляд пополз выше – Флоссенбюрг, ад в аду Дора-Миттельбау, наш последний главный лагерь, там, где были похоронены глубоко под землей еще дышавшие и работавшие, затем еще выше к Гамбургу – Нойенгамме и Берген-Бельзен – лицемерная патология в концлагерной системе, там, где не уничтожали всех подряд, но хранили на продажу, на возможный обмен за наши никчемные жизни. Взгляд переместился в долину Рура – небольшой Нидерхаген, да, совсем небольшой, другое дело близ Берлина – Заксенхаузен, который я по привычке называю Ораниенбург. Тут же близко Равенсбрюк, приют слабых душ. Я перепрыгнул взглядом через нелепую границу в Австрию – и я уже в Маутхаузене с его филиалами, Гузеном и Эбензее. Теперь я в Чехии на берегу реки Огрже – здесь Терезиенштадт. Еще один прыжок во Францию – Нацвайлер, в Голландию – Герцогенбуш, в Югославию – Лойбл-Пасс. Еще одна невидимая граница, и я в Прибалтике – Кайзервальд, шикарный курорт, ставший транзитным адом в сорок третьем. Оттуда я направился на северо-восток, в поселок Вайвара, где лагерь вырос за несколько недель. Окидываю взглядом его про́клятый спутник Клоогу. Ими про́клятый. Ими, погибавшими там в нечеловеческих условиях на добыче сланца и торфа. Сколько их там, похороненных заживо в болотах? Захлебнувшихся, упокоенных в так необходимом нам торфе. На карте нет цифр. Вайвара, Вайвара – как имя звонкой прыткой девушки с толстыми косами, налитой, полнотелой, мягонькой, кровь с молоком. Но таких там не было, были изможденные существа, не мужчины и не женщины, что-то страшное, затаившееся на пути от женского к мужскому. Ползу взглядом обратно, ниже, по невидимому рейхскомиссариату Остланд. Там, в Каунасе, – третий прибалтийский узел смерти, вылупившийся из местного гетто. Сланцевые рабы, болотные мученики. Я двигаюсь дальше, в Польшу, – Майданек на окраине Люблина, пропитавшийся кровью восемнадцати тысяч человек за один день. Восемнадцать тысяч за один день – кровавыми пара́ми был напоен воздух всего Генерал-губернаторства[1]. И раненые рыдали и выли под телами мертвых, и венский вальс разносился из громкоговорителя с ними в унисон. И стих последний аккорд с последним выстрелом, и уснул последний узник, и полился шнапс рекой. Одни спали вечным сном, а другие упивались, будучи давно пьяными от кровавых испарений, мутивших больной разум. В бреду я бреду дальше, в Штуттгоф под Данцигом – поставщик рабских рук для немецких поселений в Западной Пруссии. Далее Гросс-Розен, Плашов, трудовой поначалу, но также не избежавший всеобщей участи. Весной сорок четвертого и его обитатели переоделись в концентрационные полосатые робы и провалились в пучину террора. Мы успели. Успели и здесь устроить ад. Я двигаюсь в следующие его круги – лагеря Глобочника: Собибор, Треблинка, Бельзен и, наконец, он… Аушвиц, моя боль, мое проклятие… Я вижу не только главные лагеря, я вижу десятки их спутников. «Моя» карта испещрена точками, нет живого места на теле Европы. Ничего живого не осталось. Господи, почему никто из них не видит этих кровавых точек? Снимите ее, проклятую…
Я медленно закрыл глаза.
Когда я открыл их снова, точек на карте не было. Они были у меня в голове. В моей памяти, которая никак не желала прогнуться под натиском старческого маразма. Как же я завидую старикам, жалующимся, что «память уже не та». Я помню. Я все помню. Память – самое тяжелое наказание, на какое можно обречь человека. И, вопреки всеобщему заблуждению, забыть, увы, гораздо сложнее, чем хранить в голове ясно и отчетливо. Кому-то страшно жить воспоминаниями, потому как это значит, что ты уже одной ногой в могиле, но много страшнее, когда твои воспоминания такие… Лай сторожевых собак и крики заключенных не дают мне спать. Я хочу спать. Господи, как же я хочу спать. Без снов.
Я повернул голову, на тумбочке лежала газета. На первой странице была статья, посвященная двадцатилетней годовщине окончания репарационных выплат Израилю. Покаянная, как и следовало ожидать.
Мне вдруг стало тяжело дышать. Воздух проходил в легкие мелкими порциями и не насыщал. Кажется, я захрипел. Нащупав на столике колокольчик, я попытался позвонить, но руки не слушались. Колокольчик выпал и укатился под кровать. В ту же минуту в палату вошла дежурная медсестра. Я посмотрел на нее долгим вымученным взглядом. Кажется, из новеньких. Раньше я ее не видел.
Очевидно, выглядел я отвратительно – она испуганно кинулась ко мне и начала щупать пульс. Я с трудом вырвал руку и положил ее на тяжело вздымающуюся грудь. Она тут же приложила к моему лицу маску. Дыхание восстановилось, и я уже сам отнял маску.
– Новенькая?
Она кивнула, поправляя на мне одеяло.
– Как зовут?
– Ривка, – коротко ответила она.
Губы мои сами собой разъехались в улыбке.
– А что, Ривка, мы с вами окончательно расплатились? Читала, во сколько сребреников вы оценили шесть миллионов своих?
На кой черт я назвал эту цифру, когда до сих пор не знаю, к какому количеству причастны мои руки? Да и как можно посчитать? Пытались, конечно. От Хёсса я слышал, помнится, предположение в три миллиона, но это до суда, а на суде в Варшаве он, конечно, был скромнее – миллион, хотя и деление на три его не спасло. Повесили. Русские утверждали, что четыре миллиона, в Нюрнберге – пять миллионов семьсот тысяч, евреи кричали о шести. Выходит, повторяю за евреями. Не впервой, с избранностью тоже плагиат вышел. Точно я знаю лишь одно число – выбитое на руке. С ним и буду умирать.
Ривка проигнорировала мой вопрос. Я продолжил:
– Ривка-еврейка, тебе в самом деле нравится ухаживать за стариком и подтирать за ним говно?
Мне до осточертения надоела эта палата. Я подозревал, что скорее сдохну здесь от скуки, нежели от язвы, никак не желавшей меня кончать, и я хватался за любую возможность развлечься, пусть даже таким низким способом.
– Ривка-еврейка, – повторил я, наслаждаясь едва сдерживаемым гневом девушки.
– Слушайте, – наконец не выдержала она, – я знаю, кто вы, меня предупреждали. Но вы, похоже, забылись.
Внутри у меня все заклокотало от глухого хохота, но наружу не пробился ни единый смешок, на что нужны были силы. Они знают, кто я! Да они и близко не подозревают, чем я занимался, иначе не лежал бы сейчас на попечении государства в замечательной, чистой больнице на западе Кёльна, а гнил бы в могиле, как остальные. А может, и могилы бы не удостоился, развеяли б прах по ветру.
– Ты говоришь, что знаешь, кто я, Ривка?
– Да, знаю, – кивнула девушка, – вы стоите на учете как бывший член СС. Вы все на виду, так что ведите себя прилично.
Если бы у меня достало сил, я бы все-таки расхохотался ей в лицо. Буквально пару лет назад я столкнулся с бывшим командиром подразделения СС, действовавшего на Восточном фронте. Он занимался карательными операциями. Иногда вместо расстрелов его подразделение заживо сжигало людей. И он приказывал делать это под музыку. Горит намертво заколоченный сарай, трещат старые, рассохшиеся доски, нервно пляшет грязное, чадящее пламя, и изнутри этого пекла раздаются вопли, полные муки, ужаса и нечеловеческой боли. И все это под звуки вальса из старого граммофона. Иногда командир смеялся в ответ на чью-то шутку, рассказанную тут же. Вот здесь впору добавить: нечеловеческий, мефистофельский смех, от которого кровь стыла в жилах. Но нет, смех был вполне себе человеческий, иногда прерываемый кашлем, вызванным едким дымом. Дело ведь в чем – то была не сцена из литературного произведения, то была реальность. Он действительно любил музыку, и она отвлекала его от происходящего, а сжигание экономило время – можно было оформить сразу большую партию, а заодно решался и вопрос последующей утилизации трупов. Потом, если мне не изменяет память, он проявил себя в подавлении Варшавского восстания, даже был награжден. Из заварухи выбрался легко – сумел скрыть свою принадлежность к СС благодаря поддельным документам, которые благоразумно подготовил заранее. После войны его страсть к музыке вновь проявилась, и он устроился в хор Ассоциации молодых христиан, с которым гастролировал по всей Европе. В старинных соборах они распевали религиозные гимны и немецкие народные песни, наслаждаясь рукоплесканием благодарных слушателей. Потом женился, а когда молодая жена забеременела, он, как ответственный глава семьи, задумался о более серьезной работе, которая должна была позволить ему достойно обеспечивать семью. К моменту нашей встречи он возглавлял отдел кадров в солидной фармацевтической компании. За рюмкой коньяка признался, что ему нравится работать с людьми, он легко находит с ними общий язык и быстро понимает, кто для какой работы годится. За свой карьерный взлет он благодарил… свой прошлый опыт службы. Что ж, принципы, заложенные СС, оказались не так уж и плохи в обыденной жизни. Строгая дисциплина, четкая исполнительность, тяга к порядку – все это помогло ему выделиться среди коллег. И сколько еще таких? Сегодня, наверное, исчисление идет на сотни, но в первые месяцы только в Южной Америке затаились тысячи, сумевшие бежать крысиными тропами. Один я знал местонахождение как минимум пяти десятков, а дюжину из них сумел бы даже перечислить по именам и званиям. И она говорит, что все мы на виду. Да она даже не представляет, сколько нас сейчас раскидано по миру, неприкаянных, живущих воспоминаниями и не имеющих возможности вскинуть голову и осмотреться вокруг из страха встретиться глазами либо с преследователями, либо с выжившими. И то и другое – одинаково страшно. Господи, нас даже слепые узнают: я поверить не мог, когда услышал об Эйхмане[2]. Говорят, его сдал незрячий еврей, пропущенный сквозь сито нацистских репрессий. Удивительно, даже слепое око начинает видеть, когда на кону отмщение и, кажется, еще десять тысяч американских долларов, обещанных в качестве награды. Кстати, странно, что разведка Израиля не сделала этого раньше, ведь Эйхман так «наследил», что – вот ирония – и слепой нашел бы. Его супруга даже не удосужилась поменять свое удостоверение личности в Буэнос-Айресе и продолжала щеголять фамилией мужа. Такую же фамилию они дали и своему четвертому сыну, родившемуся уже там. А вишенкой на торте стало интервью какому-то голландскому охотнику до сенсаций, которое в разное время выходило и в американской печати, и в аргентинской. Только совсем далекие люди не сумели бы углядеть личность анонимного рассказчика в этих статьях, а такого никак нельзя было сказать о тех, кто работал в израильской разведке. Правда в том, что Эйхман уже не скрывался. Он устал от этого. Как и все мы.
Я хорошо помнил нашу последнюю встречу, его потерянное лицо: «Я ведь пытался. И в Палестину их отправить пытался, и в Польше строил для них целый мир, чем не компромисс? Но нет, им нужно было подтолкнуть нас к… к этому!»
По Эйхману выходило, что во всем были виноваты… они. Впрочем, ничего нового в человеческом сознании. Бюрократ до мозга костей, он сохранял каждую бумажку, имевшую какое-либо отношение к особым акциям, каждый приказ сверху он тщательно визировал и копировал. Поначалу я думал, что это предусмотрительность, но потом я понял: объясняя очередной телеграммой от Мюллера[3] или Кальтенбруннера[4] всякое действие, он являл свое нутро почтальона. Вот кем были мы все. В этом даже было свое извращенное благо – иногда это дарило несколько дней жизни обреченным. Так, в июле сорок второго в пересыльном лагере в Дранси застряли четыре тысячи еврейских детей, которых отделили от родителей. Вряд ли Эйхман хотел подарить им дополнительные десять дней жизни, но именно столько заняло ожидание ответа из Берлина на запрос об этих детях. Он знал наверняка, каков будет ответ, но без бумажки не пошевелил и пальцем. Получив ее, он дал отмашку Даннекеру[5] отправить детский транспорт в Аушвиц. А там… работники из голодных детей были, откровенно говоря, никакие…
Лишь в конце маниакальная тяга к порядку Эйхмана дрогнула и он позволил себе невероятное – проявить инициативу и отправить венгерских евреев пешим маршем в Австрию. Но тогда все мы уже были на взводе и совершали глупые поступки.
Но одно действие не было официально прописано на бумаге. Ни у Эйхмана, ни у кого бы то ни было еще. Массовое уничтожение евреев. Не существует ни одного документа, где это приказывалось бы прямо, без обиняков. Что касается остального, то можно было не сомневаться – на любое распоряжение Эйхмана в его личном архиве нашелся бы приказ за подписью его начальников, санкционирующий это распоряжение. Все мы тогда послушно следовали приказам, в том мы видели свое назначение, а позже и оправдание. Что бы нам ни приказали, толковать было запрещено, задумываться и переспрашивать – запрещено, обосновывать – запрещено, можно было лишь выполнять. Ослушание приказа во время войны – трибунал. «Солдаты во все времена закованы в броню присяги. Так было всегда. Тут ничего не попишешь». Так мы все повторяли словно заведенные. Такую же линию гнул на суде и Эйхман. «Разумеется, повиновался. Я повиновался приказам, которые я получал, я повиновался, да. Присяга есть присяга. Я ей слепо следовал. Я бездумно следовал присяге», – раз за разом повторял Эйхман, будто перед ним сидел человек, слабый умом, которому нужно растолковывать все простейшими предложениями по нескольку раз. «Я не подлежу никакой ответственности, потому что присяга, которую я принял, обязывала меня к верности и послушанию. Мне приказал высший руководитель! Я находился в положении подчиненного и был обязан исполнять приказ. Это же ясно». Но в том зале суда это было ясно только ему одному.
Конечно, попытка прикрыться приказом у Эйхмана с треском провалилась. А впрочем, попытка не пытка, как говорится. Пытка была у других.
Но с другой стороны, я вспоминаю потуги Эйхмана еще в самом начале реализовать безумные проекты по переселению евреев в Палестину, на Мадагаскар, в район реки Сан в Польше, вспоминаю его отчаяние, когда одна за другой эти попытки терпели крах, и начинаю думать: может, действительно все так – по сути своей никто из нас не был юдофобом, лишь чертов приказ… Но эту мысль опасно завершать. Так, чего доброго, можно дойти и до самооправдания. Надо заставлять себя помнить: Эйхман уверовал в то, что эти акции истребления действительно необходимы, что они – залог безопасности немецкого народа в будущем. Истинно уверовал в то, что поступает единственно верно. Уверовал… по приказу. Именно так, он был одержим своей миссией по приказу, как бы нелепо это ни звучало. Равно как и все мы.
Интересно, видел ли я когда-нибудь того слепыша, сдавшего Эйхмана? Вполне возможно. Сколько их было, разве упомнишь. Бесчисленное множество обреченных и будущих калек просочились сквозь мою жизнь, как бесплотные тени. Или это я бесплотной тенью мелькнул в их жизнях? Помнят ли меня выжившие? Не просто собирательно, как некоего злого нациста, поступавшего в их понимании плохо, но меня как личность? Впрочем, с памятью у них все хорошо. И они отчаянно хотят, чтобы и весь остальной мир помнил. А если забыл, то вспомнил и еще раз устыдился того, что попустил. Такова была цель той показательной судебной постановки с Эйхманом в Израиле, собравшей аншлаг. Претензии понятны – мир, который кричал в первые годы, что «никогда не забудет», забыл очень быстро. Он просто хотел двигаться дальше, не испытывая ни малейшего желания продолжать копаться во всем этом в поисках уже никому не нужной истины. Первыми это прочувствовали книгоиздатели, сделавшие в свое время хорошую выручку на публикациях пронзительных мемуаров «выживших» и «прошедших сквозь горнило ада». Они громко жаловались на падение тиражей, на растущее безразличие и отсутствие всякого читательского интереса ныне, и то была правда, потому как тема перестала вызывать хоть какие-то эмоции. Сострадание стало дежурным, ибо наелись, пресытились и для умов сам факт произошедшего стал обыденностью. Хотя что говорить о мире, когда даже те, кто победно вошел в Германию и лично столкнулся с прозрачными существами без пола и без имени, вышедшими им навстречу из лагерей, быстро позабыли. Поначалу с их стороны не было никакого сочувствия ни к маленьким голодным оборванным Гансам, попрошайничавшим на улицах, ни к замерзавшим исхудавшим Лизхен и Гретхен, которых испуганные матери подталкивали в сторону солдат-победителей, ни к побиравшимся старикам, потерявшим в той страшной войне детей-кормильцев, – они охотно соглашались с коллективной ответственностью всего немецкого народа за эти ужасы. И долго так было: аж целых сколько-то дней. А потом оккупационные штабы завалили заявления от английских и американских солдат с просьбами разрешить вступить в брак с немками. Только в английской зоне их было без малого четыре тысячи. Помнить стало неудобно обеим сторонам.
Жаль, что мне не забыть об этом, в отличие от них, кричавших «никогда не забудем». Хотел бы, отчаянно жаждал, но не способен. Я, как евреи, не забываю. А евреям нужно отдать должное. Виртуозы. Все свели исключительно к себе. В лагерях сгинули коммунисты, социалисты, гомосексуалисты, политически неблагонадежные, цыгане, поляки, русские, черт, да кто там только не сгинул, долгое время евреи даже не составляли большинства среди заключенных. Но останови сейчас любого на улице и скажи ему «концлагерь», он в ответ бросит «евреи». Эта короткая ассоциативная цепочка прочно обвила людское сознание. В массовом восприятии общий геноцид, о котором говорилось в Нюрнберге, постепенно истаял до одного лишь холокоста. В Нюрнберге они были одними из, но позже затмили собой других напрочь, всё замкнули на себе и прочно заняли нишу мученичества, не позволяя кому-либо еще претендовать на нее. Сцена страданий стала принадлежать лишь им.
И вся суть того периода свелась лишь к одному горькому пониманию – мы верили, трудились и закладывали свои души лишь для того, чтобы впоследствии отчаянно разочароваться. Сейчас любое воспоминание тех вымороченных, безнадежных лет вызывает во мне не гордость, в которой я тогда пребывал, но болезненные ощущения. «Вымороченные, безнадежные годы» – как страшно говорить так о своей молодости, надеждах и истовой вере, о том, что тогда казалось поворотным моментом истории, пиком всего человеческого существования и свершением чего-то грандиозного. Еще страшнее… не признать этого. Есть и такие, кто не способен сделать этого до сих пор, как и тогда находились такие, кто еще на заре происходившего осознал, что нация не воспаряет, но летит в пропасть. Да, были примерившие на себя роль непрошеной совести, насмехавшиеся над триумфом, который все мы интуитивно предчувствовали. Я ненавидел их тогда. Я ненавидел собственного отца. Я был прилежным, педантичным и верным исполнителем, что вызывало у него лишь насмешку. «Покорность, возведенная в ранг добродетели, – суть и основа диктаторского государства, которое всех нас погубит» – кажется, так он тогда сказал мне. Но по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью. За идеи, которым был предан, я готов был работать без устали, не жалея себя, потому что у меня были идеалы, видит бог! Ради них я готов был пожертвовать собственной жизнью без раздумий. А вместо этого жертвовал чужими жизнями. Также, впрочем, без раздумий. Но это не шло вразрез с законом, ибо закон сказал вначале: «Можно». А затем: «Нужно!» Тем самым превратив нынешних патриотов и законопослушных граждан в будущих преступников. Необходимо понимать, что новое клеймо прилепили новые обстоятельства, понимаете? То, что считалось законом, потом стало злодеянием. Так сложилось. Вот и все. Мне просто чертовски не повезло – я родился не в том месте не в то время. Кстати, я не один в своем убеждении касательно невезения. «Гражданину, у которого хорошее правительство, повезло, гражданину, у которого правительство плохое, не повезло. Мне удача не сопутствовала» – так говорил на суде и Эйхман. Что ж, не раскаялся, но хотя бы пожалел.
Черт бы побрал эту немощь, даже усмехнуться больно. Без ложной скромности скажу, я был талантлив, да, определенно талантлив, сообразителен, исполнителен, энергичен, я обладал всеми качествами, чтобы сделать блестящую карьеру. И что же? Все это было бездарно сожрано реалиями времени и места и похоронено под толстым слоем мирового осуждения и презрения. Да, не повезло. Говорил уже? Возраст, ничего не попишешь. Я думал, что рожден для того, чтобы построить мир, в котором хочется жить и любить, заложить фундамент безбрежного счастья для своих детей, а вместо этого стал архитектором могильника, с которого кровь стекала потоками. Разрушенные и горящие дома, невспаханные поля, разлагающиеся трупы, люди, потерявшие веру во все, живущие ожиданием скорой и неизбежной смерти, – вот мои достижения. Если уж на то пошло – будь моя воля, я бы никогда не родился. Но нет на такое воли нашей, без спросу выплевывают в эту жизнь. Нашей воли ни на что, собственно, не было, ни на жизнь, ни тем более на смерть. И я говорю не только о выборе, умирать ли, но и о выборе, убивать или нет. Это много страшнее собственной смерти. Когда ты не убийца по сути своей, но руки твои по локоть в крови. Ведь с этим надо жить. Хоть бы и по приказу. Только оглянувшись назад, можно увидеть, где свернул не туда. Ведь дело в том, что тогда история еще не рассудила, а творилась. Момент тонкий. Это для вас Гитлер теперь как некая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла, понятного лишь по прошествии десятилетий. Для нас он был реальным человеком, нашим избранным правителем, способным одним лишь словом вознести или уничтожить – действительным образом влиять на наши жизни здесь и сейчас, понимаете? Сложно все проанализировать и понять «во время», а не «спустя». Такой проницательностью немногие могут похвастаться, а ведь к этой проницательности необходима еще и какая-никакая смелость. Впрочем, это проблема всех времен, даже тех, когда существует видимость выбора.
Но снова подчеркиваю, что это не попытка оправдаться, я не на суде, и надо мной не завис карательный меч, от которого надо увертываться. Напротив, я в теплой и чистой койке, и за мной заботливо ухаживают, так что есть время поразмыслить: действительно, какого черта я исполнял те приказы, преступные по своей сути? Почему только теперь понял, что они нарушали все законы человеческого бытия? Ломали всякую нормальность того, что мы называем цивилизацией? Почему только время и итоги способны развеять наши заблуждения, что то был триумф, а не время попустительства и слепоты? Но я продолжаю рассуждать дальше: да, на своем уровне я подчинялся приказу, уровнем выше тоже были приказы, но если дойти до вершины этой страшной пирамиды, то там будет лишь… пустота. Теперь уже нам известно, что он сознательно никогда не давал четких приказов уничтожать столько и так. Он лишь рисовал картину идеального в его понимании мира, а свита кидалась претворять ту картину в жизнь способами… разными способами, сообразными их возможностям и фантазии. И поскольку та картина идеального мира отменяла существование миллионов людей, то эти способы были страшными. Он обсуждал цели, но от их реализации абстрагировался, заставив свою свиту осознать, что залог успеха не только в выполнении приказов, но и в их предвосхищении. А потому это зло растекалось от всех них… нас, с самого верха до самого низа, оно было общим, от каждого по вкладу согласно должности и чину, что вместе явило миру нечто неимоверное в своей ужасности и огромности. Оно не могло быть плодом мысли и действий лишь одного человека. Либо не человека вовсе, а истинного дьявола во плоти. Но, узрев, весь мир вздрогнул, ошибочно судив, что все это идет от него и только от него, и наделил его поистине дьявольской личиной и мифологизировал, табуировав даже имя его. Но он был настолько обычен, мелок, малодушен и труслив, что боялся даже произнести вслух то, что претворилось в жизнь от его имени, но нашими силами – силами обыкновенных людей, которые не были ни злыми по своей сущности, ни тем более убийцами. Не погрешу, если скажу, что он и не знал тонкостей, что да как там происходило в тех душевых. Понимаете? Не он сыпал гранулы в трубу, не он закрывал заслонку, его там никогда и не было. Это делали те, кто уверовал в то, что правда за ним. Человек убивал человека по слову другого человека – вот что в сухом схематичном остатке. Как и всегда, на протяжении истории всего того человека. И оттого тошно, что схема-то немудреная, а видишь, попался на нее, как болван необразованный. А ведь был неглуп, да, совсем неглуп. Но попался, черт бы побрал, попался! Как и тысячу лет до того человек попадался.
Как же горько осознавать, что моя жизнь пошла под откос, потому что я уверовал в обычного провокатора, сумевшего прорваться наверх. В этом суть зла – оно до тошноты обыденное, трусливое, сонное и ленивое. Нужно признать, что в Нюрнберге на скамье подсудимых мир ожидал увидеть высокорослых светловолосых монстров, с кровью в глазах, в которых навсегда застыло надменное господское выражение, со сжатыми кулаками, с набухшими жилами, возможно, даже с пеной у рта, страшных, психически больных людей, извращенцев с явной садистской патологией. Вместо этого мир увидел самых обыкновенных людей, со своими проблемами, страхами и недомоганиями, с расстроенным стулом, неприятным запахом изо рта, плохим зрением и выпадающими от нервов волосами, стареющих, с незаладившейся карьерой, не представляющих, что их ждет, и от этого еще активнее портящих воздух. И у половины из них были степени докторов, полученные в лучших и старейших университетах Европы. В конечном итоге люди увидели таких же, как они сами. И вот эти-то обыкновенность и посредственность делали ситуацию еще страшнее. Ведь если они такие же, как и все, то не способны ли и все на то, что делали они, в соответствующих обстоятельствах? Задавайте себе этот вопрос почаще. Ведь беда в том, что ни одна кара, ни одно решение какого-то суда никогда не обретут абсолютную сдерживающую силу, необходимую для предотвращения злодеяния, уже когда-либо случившегося на этой земле. Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека. И, несмотря на все нелепые потуги Гиммлера, страдавшего тягой к мистицизму и недугом «великой избранности», в СС не было ничего инфернального. Вопреки общему восприятию, массовое уничтожение не было каким-то страшным судом над неугодными. Все было до тошнотворности буднично и регулировалось исключительно с практической точки зрения. Мы пришли к тому, что всего лишь решали вопросы экономического и социального характера, возможно, еще земельного, что, правда, можно отнести к экономическому сектору. Не более. Закупки сотен килограммов «Циклона Б»[6] шли в накладных рядом с канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Истребление целого народа стало делом рутинным и, пожалуй, само собой разумеющимся. Никто не осознавал, что поступает неправильно, потому что все происходящее стало новой обыденностью. Нормой, если угодно. И неудобный факт таков: самые ужасные преступления в истории человечества на счету не кровавых маньяков и умалишенных убийц, а простых интеллигентных людей, получивших достойные по меркам своего времени воспитание и образование. Не демоны, не вампиры, не людоеды, не ведьмы и даже не психически больные, увы. Самые обычные люди, жившие по перевранным понятиям: мы не уничтожали, не истребляли, не воевали – но проводили «чистки», «особые акции», «умиротворение недовольных», «борьбу с партизанами», «реализовывали свое природное право на Востоке», действовали в рамках «особого режима», по «особому приказу», «решали еврейский вопрос». Такая подмена понятий помогала верить, что наш образ мыслей и наши действия по-прежнему соответствуют всем нормам права. Так же как и везде, от нас требовали высоких показателей, и мы их давали, полагая, что труд всякий бывает. А потом цифры, факты, методы, весь масштаб содеянного тобою вскрывают, словно гнойный нарыв, смердящий за многие километры. И только тогда все осознаешь. Но с убийственной четкостью осознаешь лишь итоги, не умея понять и объяснить причины или хоть немного приблизиться к их логическому обоснованию.
Были хотя бы единичные проблески в нашем сознании? Очевидно, что-то было. Я помню доктора Зиверса, секретаря «Аненербе» – общества, изучавшего древнюю германскую историю, он подбирал в Аушвице для профессора Августа Хирта заключенных, которым предстояло стать частью анатомической коллекции в институте в Страсбурге. Изучив черепа этих заключенных, профессор Хирт должен был дать детальную характеристику «еврейско-большевистским человекоподобным существам» и подготовить материал для школьных пособий. Та идея была горячо поддержана самим Гиммлером, а потому я тогда помогал Зиверсу в организации транспорта. Мне прислали подробные указания по транспортировке: голова заключенного не должна была ни в коем случае быть повреждена, ее следовало аккуратно отделить и прислать в специальном жестяном ящике, заполненном жидкостью, исключающей процессы гниения. Каждый образец должна была сопровождать подробная анкета, содержащая данные о месте и времени сбора материала, антропометрические данные, дату рождения и все прочее, что можно было установить, а также, по возможности, предварительно сделанные снимки. К счастью, я тогда отвлекся на исполнение другого распоряжения и не успел отправить эти инструкции в Аушвиц, так как спустя несколько дней Зиверс сообщил мне, что профессор Хирт передумал насчет транспортировки, теперь он хотел, чтобы бо́льшую часть пути материал преодолел «в первоначальном виде». Признаться, я тогда несколько растерялся, не понимая, что имелось в виду. «Живыми, – уточнил Зиверс, видя мое замешательство, – привезем их в Нацвайлер, а там уже заспиртуем и расфасуем под личным руководством профессора». В итоге сто пятнадцать человек – семьдесят девять евреев, тридцать евреек, два поляка и четыре среднеазиата, каждый с подробной спецификацией, – отправились в лагерь Нацвайлер, что недалеко от Страсбурга, «в первоначальном виде». Так вот, уже уходя, Зиверс сказал мне словно между делом, но сейчас понимаю, что это было главное: «Они еще где-то ходят, дышат, а для них уже подготовлены застекленные тумбы и таблички с описанием костей. Черт бы меня побрал, если это когда-нибудь уложится в голове…» И он повел своими залихватскими усами, гордо топорщившимися в стороны, подкрученными и густо сдобренными блестящим воском, который позволял им весь день держать свою смехотворную форму. На процессе в Нюрнберге эти усы уже, конечно, не выглядели столь роскошно. Тогда британский обвинитель Джонс изрядно попотел, пытаясь взять Зиверса за эти самые усы и за жабры заодно, но тот, словно угорь, ловко ускользал от всех неудобных вопросов, ссылаясь на плохую память и невозможность восстановить детали дела. Он с тупым упрямством доказывал, что не помнит о важных мероприятиях военного периода, одновременно с легкостью вспоминая незначительные события, случившиеся до войны. Тем самым он выдавал себя с потрохами, но, в общем-то, это была единственно верная линия защиты для тех, кто еще питал какие-то надежды в Нюрнберге. С проклятой отчетливостью осознав, что натворили, все с яростью кинулись искать формальные оправдания, чтобы не получить приговор от мира и в первую очередь не вынести его самим себе.
И тут у угрей, сидевших на скамьях Нюрнберга, проявилась еще одна любопытная черта – менять свою значимость в зависимости от обстоятельств. Вначале все стремились перещеголять друг друга в цифрах, после – в их преуменьшении. Насколько важными и влиятельными персонажами все желали казаться прежде, настолько громко кричали о преувеличении собственной роли в залах суда. Так и Зиверс: «Я лишь передавал приказы и распоряжения дальше, пересылал отчеты, не вдаваясь в подробности. Я не мог иметь своего мнения в этом вопросе. Я не имел никакого отношения к непосредственному убийству тех людей. Я выполнял роль почтальона. Я уже не помню…» А между тем штандартенфюрер СС Вольфрам Зиверс был единственным человеком, который каким-то непостижимым образом умудрился пережить глобальную чистку «Аненербе» в тридцать седьмом, когда полетели головы всех, вплоть до руководителя общества доктора Германа Феликса Вирта. Зиверс же не только сохранил свою должность, но и пошел в гору. Гиммлер лично поручил ему создать и возглавить при «Аненербе» Институт военных исследований, который должен был взять на себя создание всей технической и хозяйственной базы, необходимой для исследовательских лабораторий в концлагерях. Я готов дать руку на отсечение, что Зиверс до самой последней минуты своей никчемной жизни помнил все детали, даже самые незначительные. Хотел бы забыть, но не мог. Как и все мы. Как и все, он пытался убедить обвинителей, что был лишь частью механизма, выполняя какую-то роль пересыльного, снабженца, производителя, доставщика, роль, которая ничего не значила, и, откажись он ее выполнять, ничего бы не изменилось. «Всего лишь звание, всего лишь должность, никакой реальной власти, я лишь винтик… Я лишь перевез тела… Я лишь доставил печи… Я лишь произвел синильную кислоту… Я лишь сконструировал газваген…[7] Я лишь предоставил помещение…» Понимаете, роль была у всех, к слову, не только у немцев, но каждый утверждал, что именно он не нес конечной ответственности, поскольку и без его вклада случилось бы то, что случилось. «Я лишь сопровождал поезд до польской границы, а там уже транспорт переходил в немецкие руки. Что они с ними делали далее, не ведаю…» – так говорил словацкий солдат Глинковой гвардии, тоже винтик без персональной ответственности, не забывший, правда, по пути до этой границы отобрать у евреев все самое ценное. Тот самый, который, по воспоминаниям одной словацкой еврейки, испражнялся на пол, а потом заставлял их убирать это голыми руками, приговаривая: «Мы научим вас, еврейских шлюх, работать».
Вершиной этого «я лишь» были слова Эйхмана на собственном процессе касательно той самой конференции в Ванзее[8] в январе сорок второго, запустившей историю нашей нации в обратном направлении. «Я молча сидел там со стенографисткой в углу, и никто о нас не побеспокоился, никто. Мы были слишком маленькими людьми». Великий архитектор механизма «окончательного решения», один из главных нацистских преступников приравнял себя к стенографистке. Я бы рассмеялся, если б не чертова боль в груди.
А как вам интервью бывшего начальника одной из канцелярий Рейхсбана[9] на востоке в нашумевшем документальном фильме?[10] Он занимался планированием железнодорожных маршрутов. Железные дороги Восточного фронта в разгар войны – знаете, что это значит? Он был вершителем сотен тысяч судеб. Своего рода царь на местах. Мощный винтик механизма, скажу я вам. Такой винтик не мог не знать. Но он настаивал: «Я всего лишь занимался координацией движения поездов. Были среди них и специальные, да, но я понятия не имел, кто в них. Моей задачей было скоординировать их путь из точки А в точку Б. Откуда мне было знать, что точка А – это дом, из которого их увезли насильно, а Б – лагерь, в котором их ждет газовая камера? Я был всего лишь простым чиновником в департаменте по планированию маршрутов. Шла война, понимаете, а после, когда все раскрылось, это стало для меня полнейшей неожиданностью, я не имел ни малейшего…» Ни малейшего, понимаете? Каждый день он переводил стрелки на своей подотчетной железной дороге в сторону лагеря, отправляя туда тысячи узников, каждый день с осознанием того, что происходит, с осознанием того, что он непосредственно причастен к этому, упокой, господи, идиота. Ему тоже пришлось нелегко, еще один калека нашего восхождения. Как он сказал, «специальные»? А другие их называли «поезда смерти» – те, другие, кто ехал в них. Но в одном тот царек, быстро отрекшийся от своего железнодорожного престола, был прав – ему пришлось складывать путевой пазл изо всех поездов, и из обычных пассажирских, и из «специальных». Всеми ведала самая обычная транспортная компания – «Центральноевропейское трансагентство» – та самая, в которой мы с тетей Ильзой покупали билеты на отдых в Бад-Хомбург. Кто-то в лагеря смерти, а кто-то на лечебные курорты, и все через одно агентство. Цинично? Удобно. Что ж, железнодорожный царек выкрутился, переведя стрелки. Сила профессиональной привычки, если позволите такой каламбур. На вопрос «А кто знал?» его стрелка указала на Эйхмана. Но тому, в принципе, должно было быть все равно – стрелкой больше, стрелкой меньше, когда на тебя устремлены копья всего послевоенного мира. Отчаянно отбиваясь от них на собственном процессе, Эйхман тоже заверял, что не отдавал ни приказаний, ни распоряжений, не указывал, кого гнать в газ, а кого расстреливать. «С этим я никогда, никогда, никогда, никогда дела не имел», – заверил он суд. И ведь не соврал: затворку в душевую он «никогда, никогда, никогда» не открывал, «Циклон» не закидывал, это верно. Просто усердно гнал эшелон за эшелоном со всей Европы. А потом, спустя годы, заявил в глаза дознавателю Авнеру Лессу, чей отец, фронтовик Первой мировой, кавалер ордена Железного креста, был умерщвлен в газовой камере Аушвица: «Мы же с этим не имели никакого дела, совершенно никакого. Мы не имели с этим никакого дела», – будто Лесс не понимал с первого раза, – «нисколько, нисколько, нисколько… Это же ужасно, что там делалось… Как же можно вот так просто палить в женщин и детей? Как это возможно? Ведь нельзя же… Я был сыт по горло таким заданием! Доложил группенфюреру Мюллеру: это не решение еврейского вопроса… Пожалуйста, не посылайте меня туда. Пошлите кого-нибудь другого, кто покрепче. Ведь хватает других, кто может на это смотреть, кто не свалится в обморок. А я не могу такое видеть, я ночью не сплю…»
Тут Эйхман не врал, таких действительно хватало, кто не валился в обморок. Я, например. Даже в свой первый раз. Стоял и смотрел, борясь с дурнотой, подкатившей к горлу, а позже и того не было. Были мысли исключительно об отчете, который мне предстояло подготовить. Возможности своего вестибулярного аппарата Эйхман тоже, конечно, принизил. Он был крепким парнем. Лживым, как оказалось, но крепким. «Заказ ста килограммов синильной кислоты – никакого, никакого понятия не имею! Я не знаю об этом, не знаю!» «Может, Гюнтер заказал?» – услужливо подсказывали бывшему оберштурмбаннфюреру на процессе. И он, как ребенок, радостно хватался за эту соломинку. Конечно же, это Рольф Гюнтер, его сотрудник, заказал почти центнер яда у главного гигиениста рейха доктора Герштейна, руководителя технической службы дезинфекции в Главном управлении СС. Но дело в том, что Гюнтер без ведома Эйхмана и опорожниться не смел, не то чтоб по собственной инициативе заказать такое количество яда. В принципе, не мне осуждать Эйхмана: он пытался спасти свою шкуру, но как-то слишком уж нелепо у него выходило. Неужели у него была хоть капля надежды на то, что он выберется из этой передряги живым? Что евреи дадут ему и дальше дышать тем же воздухом, что и они? Дурак. Шансов на том представлении у него не было: все свидетели защиты – немцы были исключены, ведь, ступи кто-то из них на землю обетованную, их бы тут же арестовали и судили вместе с Эйхманом. Большинство свидетелей обвинения были евреи из Израиля, и тут был элемент шоу, ведь всех их отбирали по заявкам, которых были сотни. Каждый жаждал личного триумфа справедливости над «исчадием ада». Но где они его искали? В суде? Серьезно? Если я что и понял наверняка в своей бесцельно прожитой жизни, так это то, что суд человеческий – гнилое заведение, не дай вам бог попасть туда, потому как правосудие – это последнее, что влияет на приговор в этой конторе, и это одинаково погано как для подсудимого, так и для остальных сопричастных, им же потом с этим жить. Я знаю, что говорю. Но продолжим: еще пятьдесят три человека приехали на суд из Польши и Литвы, я специально это подчеркиваю, ведь именно там Эйхман фактически не имел никаких полномочий. Что могли рассказать те пятьдесят три человека? О своей боли, ужасе пережитых страданий? Безусловно. О непосредственной вине Эйхмана? Уверен, половина из них даже не знала о нем в то время, когда все происходило. Им нужно было выплеснуть свою боль, и не важно, кто сидел на скамье подсудимых: Эйхман ли, Гиммлер, Хёсс, Гитлер… я. Им нужно было еще раз проговорить это: нельзя было переживать молча то, что с ними случилось. Я молчал – ничего хорошего из этого не вышло. Надеюсь, ни у кого не повернулся язык укорить их в показаниях, совершенно не относящихся к делу. У них было право на тот грандиозный сеанс психотерапии. И это самое большее, что мог дать им тот суд. В конце концов, не думает же кто-то, что хоть один из них мог удовлетвориться смертной казнью подсудимого? Уверен, что ни один не почувствовал себя отомщенным. Переиграть Эйхмана в сфере наказания человека человеком невозможно. Уж простите. Да и в целом затея тухлая. Даже если бы тот суд бесстрастно решал вопрос исключительно в правовом поле, без эмоциональных составляющих, вопрос Эйхмана выходил далеко за его пределы. Он сдерживался лишь границами сознания тех, кого он загнал в эшелоны, шедшие в лагеря смерти. Желали ли они просто вздернуть его – вопрос.
Увы, Эйхман тоже был обыкновенным. Маленький человек, карьерист-неудачник. Не редкость среди нас. И как враг он был не опасен, и как друг бесполезен. Говоря об убийстве в классическом понимании, он действительно не лукавил – лично он никого не убивал, думаю, ему бы не хватило духа собственноручно лишить человека жизни. Я познакомился с ним в Дахау, где он служил в австрийском полку. В тот период он изнывал от однообразия службы. Его предприимчивую натуру раздражало каждодневное ползание по-пластунски, и он жаждал стать частью чего-то нового и перспективного. Узнав его лучше, я понял, что в этом и была суть его натуры – он постоянно вступал в какие-то общества и организации, в детстве это было Общество христианской молодежи, затем движение юных туристов «Перелетная птица», позже каким-то образом нарисовалось молодежное отделение Германо-австрийского объединения фронтовиков. Когда на горизонте замаячили СС, Эйхман был уже одной ногой в масонской ложе «Шлараффия», как гордо именовала себя группа бездельников, собиравшаяся ради хорошего вина и юмористических выступлений. СС стали для него лишь одними из. В конце концов, почему бы и нет, если с масонами не задалось? В этом был весь он – вступал не по убеждениям, а потому, что надо было быть частью какого-то движения, потока, который рано или поздно куда-нибудь да вынесет, и желательно на сытые и благополучные берега. И, собственно, таких было большинство, и именно из таких получались самые надежные и исполнительные наци. Он постоянно говорил о будущем, строил планы, его деятельный мозг не знал покоя, впрочем, как не знал и партийной программы НСДАП[11]. Это выяснилось совершенно случайно в разговоре, тогда он пожал плечами и сказал, что позже изучит. Не уверен, что он в итоге сделал это. Как это ни парадоксально, но на заре нашей дружбы он не был хоть сколько-нибудь одержим антисемитизмом. Основными мотивами его поступков были банальный карьеризм и здоровое служебное рвение. Как любой рядовой бюргер с типичным воспитанием и без преступных наклонностей, он не испытывал какого-то явного наслаждения от осознания власти над жизнью и смертью. Тот, кого мир назовет одним из главных архитекторов смерти, стал им исключительно под влиянием условий, в которые поместили не только его одного, но весь Германский рейх. И лишь случай решил, что в этих условиях именно ему пришлось оказаться на слуху. Если бы Гитлер так же люто возненавидел, к примеру, протестантов и гневно указал своим перстом на них, то история содрогалась бы от имени штурмбаннфюрера Эриха Рота, ведавшего в РСХА[12] отделами IV B-1 и IV B-2 – делами католиков и протестантов соответственно. Но был избран народ избранный, а значит, и Эйхман, возглавлявший еврейский отдел IV B-4. Еще большей значимости ему придал Нюрнбергский процесс, на котором его… не было. Воспользовавшись этим, большинство обвиняемых постарались переложить именно на него всю ответственность, он же ничего не отрицал по банальной причине отсутствия. Тогда и появились первые эпитеты, придавшие «неуловимому» Эйхману ореол демоничности: «архитектор смерти», «дьявол во плоти, ответственный за отправку на смерть миллионов» и прочие, которые с радостью подхватила охочая до подобной дешевой крикливости пресса. Что ж, как бы иронично это ни звучало, тут Эйхман наконец-то получил свою порцию славы, которая ранее всегда проходила мимо него, недооцененного сверху и воспринимаемого мелким чином на местах, из-за чего он чрезвычайно страдал. Впрочем, новые обстоятельства, в которые его опрокинула жизнь, заставили Эйхмана с легкостью отказаться от той славы: «Это не я» – квинтэссенция всего допроса Эйхмана. «Я получил приказ от группенфюрера Мюллера». Мюллер от Гейдриха[13], Гейдрих от Гиммлера, Гиммлер – намек от Гитлера. Кто виноват? Очевидно, все. Никакой персонификации – это и пытался доказать Эйхман в суде, это же делала и вся послевоенная Германия. Он действительно не отдавал приказа уничтожать тех, кто попадал в его эшелоны, – ему попросту не надо было этого делать. Машина исправно работала и без его слов. Механизм был запущен однажды, и все молча обеспечивали его действие как нечто само собой разумеющееся. Не один, так другой действовал бы точно так же, как он, на основе распоряжений и приказов сверху – и вот в этом я склонен ему верить. Мне до сих пор сложно понять, какую часть персональной ответственности за это несет каждый из нас. Я сейчас не говорю о моральных уродах, действия которых имеют лишь одну возможную оценку, такие, безусловно, тоже были. Взять хотя бы дегенерата Глобочника[14]. После совещания в Ванзее, на котором Гейдрих окончательно дал понять, что отныне мы добиваемся не эмиграции евреев, а их истребления, в Люблин бригадефюреру Глобочнику полетел приказ подвергнуть этому решению сто пятьдесят тысяч евреев. Глобочнику пришлось в срочном порядке испрашивать себе еще один приказ с новыми цифрами, ведь к тому времени он умертвил уже не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Но сейчас речь не о таких, а об остальных, не проявлявших инициатив, но лишь исполнявших. Как я уже говорил, когда подобные действия совершает вся нация, они перестают трактоваться как преступление, но становятся новой нормой. И с таким подходом любая, даже самая извращенная мораль начинает усваиваться мозгом как нормативная. Именно поэтому основной целью было вовлечь в процесс каждого. И каждый стал крохотным, но винтиком целого механизма, каждый просто существовал и даже не осознавал, что спустя десятилетия его будут рассматривать не как единицу массы, которая всего-то хотела достойно и сытно прожить свою жизнь, но как часть движущего процесса истории. Как часть, которая осознает, что ничто не делается само по себе, но все итог какого-либо действия человека или бездействия. Которая ответственна, которая творила, потворствовала, не воспрепятствовала и тому подобное. Тот винтик не осознавал, что его персона в принципе удостоится того, чтобы быть рассматриваемой, настолько он считал себя не влияющим ни на что, но исключительно выполняющим то, что должно. Тот винтик считал все происходящее естественным процессом, которого просто не может не быть, для него это было обычное течение жизни, закономерность. Но истина в том, что без того винтика, сколь бы крохотным он ни был, весь огромный механизм мог дать сбой. И потому все эти «я лишь…» не были оправданием. Кто-то был этим винтиком осознанно, кто-то – бессознательно, кто-то только делал вид, что бессознательно. Но цель была достигнута – в окончательное решение так или иначе была вовлечена вся нация, все общество. Когда в Заксенхаузене в сентябре сорок первого начали расстреливать по три сотни советских военнопленных в день, полноценного крематория в лагере еще не было. Трупы жгли в передвижном, не удерживавшем ни дым, ни смрад. Все это быстро достигло домов Ораниенбурга. Я помню одного белобрысого, в коротеньких коричневых шортиках, лет пяти, не больше. Он подошел ко мне и деловито осведомился: «Герр офицер, а когда снова будут жечь русских?» Все знали. Это просто началось с малого, не как нечто грандиозное и невероятное, а просто как очередной процесс, которых сотни тысяч происходят в любом государстве. И если кого-то это покоробило в самом начале, то он оглянулся по сторонам, убедился, что все молчат, и решил, что ему показалось, будто в этом есть что-то дьявольское, нечеловеческое, противное нашему естеству. Но дело в том, что точно так же оглянулись все и подумали то же самое. Все молчали и прилежно трудились, как если бы это была обувная фабрика или машинный завод. Взять хотя бы тех же врачей. О медицинских экспериментах в лагерях заговорили после войны с придыханием, с расширенными от ужаса глазами, тоном, в котором сквозило откровенное неверие. Но разве были они для кого-то секретом во время войны? Я говорю о медицинских кругах. Их широко обсуждали на различных врачебных и фармацевтических конгрессах, где горделивые публичные доклады о проведенных исследованиях зачитывались один за другим, где на трибунах в открытую сообщалось, кто был использован в этих экспериментах и что с ними стало. Но хоть кто-то в зале выразил озабоченность этической стороной вопроса тогда? Многие профессора, которым был дан полный карт-бланш на их лагерные изыскания, печатались в научных журналах. Я лично помню восторженного специалиста из «Байера»[15], который приезжал к нам в Дахау тестировать сульфаниламиды на заключенных. Тестировал самозабвенно. Благодарил за подаренную возможность. Потом еще раз приезжал во время эпидемии тифа, привозил очередную партию препаратов.
Перебирая все это в памяти, я понимаю, почему не пытался бежать из Германии после окончания всего того ужаса, как многие, теми крысиными аргентинскими тропами. Не было более безопасного места для бывших эсэсовских преступников, нежели Германия, погрязшая в прозрении того, что совершала и позволяла совершать. Ведь нет ничего более связывающего, нежели соучастие. Все мы оказались связаны круговой порукой. А потому одни не имели никакого морального права призывать к ответу других. И общество это ощущало в массе своей, ведь всей нации сломали человеческое мировосприятие и постепенно адаптировали к насилию. Сломали настолько, что однажды один сердобольный водитель, везший меня в Хелмно, заметил про евреев: «Пожалуй, прикончить их быстро и безболезненно милосерднее, нежели они будут медленно подыхать от голода в гетто». А как вам такое проявление человеколюбия: вначале айнзацгруппы[16] расстреливали только мужчин, но что было делать с их женщинами и детьми, у которых больше не было кормильца? Ведь они были обречены на нищету и голод. И уже в августе сорок первого решено было расстреливать всех. Видите, одно цепляло за собой другое, ужас ситуации нарастал постепенно, а не вдруг. И по той больной логике в какой-то момент мы увидели в решении расстреливать вместе с мужчинами женщин и детей проявление сострадания или, того страшнее, гуманизма. Так поэтапно, шаг за шагом, мы спустились на самое дно человеческой природы, заставив колесо эволюции крутиться вспять. Изначально за понятием «окончательное решение еврейского вопроса» стояла лишь эмиграция, богом клянусь. А потом как-то наросло… Я не оправдываюсь, господи, я просто объясняю, как оно было. Чтоб вам было проще понять. Хотя где уж тут понять подобную степень повреждения разума у целой нации. Нации, ставшей венцом человеческого развития, олицетворением того, что мы называли высокоразвитой цивилизацией. Наконец, нации, которая в двадцатые годы благостно следила за тем, как евреи Восточной Европы пытаются скрыться в ее сени от ужасающих проявлений антисемитизма: погромов, избиений и унижений. Вот уж поистине дьявольский выверт истории. Но нужно быть честным – нация позволила сделать это. Нация не сильно сопротивлялась. Какое у нее оправдание? Те несчастные заключенные хоть могут сказать: «Нам угрожали оружием». А немцы? Угроза концлагеря? Никакой концлагерь не смог бы вместить весь немецкий народ! Правда в том, что сладкая возможность спихнуть все свои лишения, проблемы и неустроенную жизнь на другой народ, который не спешил давать жесткий отпор, дурманила голову. Это пьянило сильнее всякого вина. И вся нация опьянела, за исключением некоторых «трезвенников». Правда, и такие набрались смелости подать голос за пределами дома только после войны, например мой дурак-отец, которого я уже упоминал. Несчастный человек. Его действительно переполняли ярость и жгучий стыд. Напившись до беспамятства, он начинал буянить в местных пивных, горлопаня о постыдной и сознательной слепоте немцев, обвиняя всех и вся вокруг. Его пытались утихомирить: «Люди этого не заслужили, Эмиль. Они не знали, что творится за колючей проволокой». – «Разве? Мировое господство всем пришлось по вкусу. Низложение Франции? Конечно! Присоединение Австрии и Чехии к рейху? Отлично! Стадо рабов – поляков и русских для удовлетворения всех нужд арийцев? Замечательно! Задушить мировое еврейство, сосущее нашу кровь? Обязательно! Правду все знали, каждый день с трибун она вещалась в открытую. Разве по радио не слушали мы речи фюрера, который заверял, что наше право на все это лежит в самом законе природы? И все согласились». – «А если б не согласились, то оказались бы там же, за колючей проволокой, Эмиль». – «Восемьдесят миллионов! Восемьдесят миллионов немцев, черт бы нас побрал! Да у них бы проволоки не хватило! Мы не хотели раскрыть глаза, иначе это потребовало бы от нас определенных выводов. Это добровольная слепота. Мы видели, как запломбированные вагоны, полные полуголых истерзанных женщин, стариков и детей, мучимых голодом и жаждой, двигались из городов в лагеря и возвращались обратно пустыми. И мы не задавались вопросами. Хотя каждый знал, что творится в этих лагерях! Колонны этих несчастных, оголодавших, избитых гнали через города и деревни, не таясь! Мы видели нескончаемый дым из труб! Мы все это видели, но предпочитали не лезть. Мы считали, что нас это не касается. А это касалось любого здравомыслящего человека! Худшее, что мы могли сделать, – это не сделать ничего…» – обычно на этих словах его выталкивали на улицу, чтобы он не смущал остальных, пришедших расслабиться после тяжелого трудового дня и пропустить кружку-другую. Чего хотел добиться старик? Все уже давно уверовали: раз вся нация преступна, значит, никто не в ответе за это преступление. Хотел оправдаться? Перед кем нужно было бы – тех уже не было. Перед будущими поколениями? Обойдутся. Как бы сами не вытворили чего хуже. Перед самим собой? Пожалуй, что неплохо бы.
Я тоже жажду хотя бы примирения – с самим собой, конечно, на большее не рассчитываю. Но, к сожалению, мне это чувство недоступно. Для меня оно лежит в области полного искупления, которое невозможно, и глупо верить, что это удастся кому-нибудь из нас. «Понимание не обязательно ведет к оправданию и прощению» – уж не упомню, где я это услышал, но это верно: я способен объяснить, как так сталось, возможно, вы даже поймете, как постепенно произошел тот слом, заставивший незаметно переступить черту дозволенного, но, даже поняв, вы вряд ли сумеете оправдать или, того сильнее, простить. Постижение и уразумение не всегда ведут к прощению, уж точно не в нашем случае. Так стоит ли пытаться? Любопытное, конечно, человеческое качество – прощать. Совершенно для меня необъяснимое. Многие искренне веруют, что способны на это, и даже заявляют об этом во всеуслышание, когда кто-то молит их о том, но вы никогда не узнаете, так ли это на самом деле, теорема эта недоказуема. Возможно, прощать было бы легче, если бы каждый осознал, что делает это в первую очередь для себя, а не для подлеца-обидчика, потому как обида, гнев и ненависть к тому, кто оступился, нещадно терзают в первую очередь наш разум, и не только разум, но и само физическое здоровье наше. Но пока мы верим, что прощение нужно исключительно оступившимся, мы будем малодушно его придерживать, не понимая, почему через годы шалит давление и колет сердце. А ведь не только честное прощение, но даже самое обыкновенное безразличие на месте обиды и гнева при определенных условиях способно высвободить. Но человеку проще гневаться и ненавидеть. Я это проходил, я тоже ненавидел, вначале их, потом… самого себя. И теперь я так до конца и не разобрался, чего во мне больше сейчас – горькой вины или жгучего стыда? Говорят, стыд мы испытываем, когда нас волнует внешняя оценка других, а вина идет рука об руку с внутренним самоедством и только по тем дорогам, где хаживала совесть. В этом смысле вина была бы предпочтительнее. Благословенно будет место, где единственной властью станет совесть и чувство вины. А если верите, что для человека главным ограничителем является карательный орган, как принято считать в обществе, то ошибаетесь. Скорее его фантазия и то, что мы прозвали здравым смыслом.
В этой связи я вспоминаю Отто Олендорфа – командира айнзацгруппы D. Он был из тех редких людей, кто действительно беспокоился за своих солдат и их будущее чувство вины. Он никогда не позволял им устраивать расстрелы по отдельности, приказывая всему взводу жать на курок одновременно. Таким образом он решал вопрос личной ответственности и психологического давления, потому как считал, что все эти экзекуции были равно тяжелым испытанием как для жертв, так и для… его парней. Уравнял, что ж. Но я вдруг понимаю еще одно: по сути, у его парней была отличная возможность промазать. По большому счету, все мы имели возможность тщательно взвесить, оценить законность своих действий и их последствия, а затем взять и «промазать», если уж на открытое выступление не хватало решительности. Мы были не свободны в действии, но могли проявить подобие воли в бездействии. И только единицы так поступили. А потому не тешьте себя мыслями, что это дело рук маленькой группки умалишенных, дорвавшихся до власти, и что всего несколько больных чинов в СС ответственны за этот кошмар. Ведь если бы это было так, то режим пал бы в результате восстания немецкого народа против этого ужаса, но он пал всего лишь из-за поражения вермахта совсем на других фронтах борьбы. В действительности это было миллионное сплочение, иначе мы бы попросту не выстояли столько лет против могущественных держав и сил.
И сейчас вам нужно набраться сил и посмотреть правде в глаза: они – это все мы, по сути. Кто смелее, возможно, найдет в себе силы еще сильнее персонализировать: тот, сбрасывавший синие гранулы ядовитого пестицида, – это я. Признайся, хоть ты никогда не видел, что творится за высокой колючей проволокой под серым тягучим дымом, но это ты вел их, закрывал тяжелую герметизированную дверь, сбрасывал кристаллы синильной кислоты вниз, наблюдал через мутные смотровые щели, ворошил багром влажную слипшуюся кучу тел, пропитанную экскрементами, растаскивал этот липкий скорченный ком, вез его части на тележках к печам крематория, укладывал как можно компактнее, затем вычищал пепел… И все заново. По кругу. Признай: не только потому, что не нашел в себе сил выступить против, не только потому, что трусливо молчал, глядя на тяжелый, вязкий дым на горизонте и чувствуя тошнотворный запах, но и потому (быть может, тогда ты еще даже не родился), что сам бы это делал, если бы провидение было не столь милосердно к тебе и поставило на его место. Не обманывайся: если бы тебе приказали, если бы тебе платили за эту работу, если бы ты видел, что это происходило повсеместно, стало нормой, что каждый так поступает, если бы тот, кому ты верил, сказал, что это правильно, в конце концов, что в этом высшая справедливость, историческая и природная закономерность, – да ты бы и сам в это уверовал, глядя, как дисциплинированно они идут на это газовое заклание, словно и сами верят, что так надо и роптать против этого не до́лжно и бессмысленно, – ты честно и усердно, как любой исполнительный гражданин и патриот своей родной земли, делал бы свою работу. Безусловно, ты мог не быть тем, чья рука непосредственно ворошила пепел и закрывала заслонку в печи, но будь уверен, ты бы занял свое место в этом адском устройстве, стал бы его винтиком. И вскоре эта работа сделалась бы для тебя рутиной. Думаешь, мы были другими? Никто из нас и помыслить не мог, что способен на такое, пока не начал это делать. Думаешь, это в прошлом? Знай, что и сейчас где-то среди вас живут такие же несостоявшиеся охранники, капо[17], пулеметчики с вышки, лагерные врачи-исследователи. И узники. Это уж непременно. И нужна лишь подходящая ситуация, чтобы они проявились вновь.
Я могу привести сотни примеров добропорядочных граждан, тех самых, которые поначалу «и помыслить не могли». Знал я талантливого ученого-химика и не менее талантливого дельца Бруно Теша, который держал вполне себе безобидное предприятие – фирму по производству дезинфицирующих средств. Выработка на загляденье: две тонны кристаллического цианистого водорода в месяц. Он же синильная кислота – основа для «Циклона Б». Теш вполне мог избежать виселицы после войны, заявив, что продавал свою продукцию исключительно для дезинфекции, а уж как там в лагерях ею распоряжались… Но вот ведь какое дело, все это стало такой обыденностью, что химик, прекрасно зная, для чего используется его продукция, не задумываясь предложил Рудольфу Хёссу[18] поставлять не только «Циклон Б», но и специальное вентиляционное оборудование для газовых камер. Переписка эта была случайно найдена во время процесса. Теш и его первый заместитель Карл Вайнбахер были повешены. Но я хочу сказать, что таких была уйма: промышленники, директора, предприниматели – завидные отцы семейств и добропорядочные мужья, ревностные христиане, необъяснимым образом подладившие свой бизнес под реалии времени и сумевшие извлечь из этого немалые барыши. Когда в руководстве «ИГ Фарбен» встал вопрос об открытии очередного завода по производству синтетического топлива и каучука, оно обратило свои взоры на непримечательное польское селение Дворы близ Аушвица. Отличное транспортное сообщение и все природные ресурсы под рукой, а то, что рядом подневольные рабочие, – любопытное совпадение, не более. Рабский труд заключенных? Боже упаси! А если серьезно, какой делец откажется от фактически бесплатных рабочих рук по соседству? После того как «ИГ Фарбен» торжественно объявил о строительстве завода возле Аушвица, Гиммлер так же торжественно приказал расширить лагерь с десяти тысяч заключенных до тридцати. Четыре года эти тысячи надрывались и умирали там. Умирали на строительстве завода, с конвейера которого впоследствии не сошло ни грамма синтетического каучука. Он выдавал на-гора лишь трупы. До полного изнеможения работали и на заводах Густава Круппа – на радость и материальное благосостояние старого барона, которому уже и не нужно было то космическое состояние, а скорее добротная утка и исполнительная сиделка, поскольку старик впал в полный маразм. После войны судебные разбирательства вскрыли рыло респектабельной набожной промышленности, продемонстрировав ее глубокие познания в концлагерной действительности. Но будем честны, первоначальный шок от увиденного в лагерях прошел довольно быстро, гнев и ярость утихли, потому как мир торопился жить дальше, как я уже говорил. И многие действительно ответственные за страшное, бизнесмены, без зазрения совести пользовавшиеся принудительным трудом узников, сумели всеми правдами и неправдами дотянуть до периода «оттепели», когда уже даже судейский корпус был утомлен воплями выживших о возмездии. И они получили довольно мягкие, а некоторые – так и вовсе оправдательные приговоры. Помню одного охранника, который попал в Аушвиц на закате существования лагеря, хромой фронтовик после серьезного ранения, на передовой уже совершенно бесполезный. Оказавшись в лагере, он даже форму СС отказывался носить, предпочитая свое вермахтовское обмундирование, впрочем, тогда уже всем было плевать, кто во что одет, – мы стремительно двигались к краху. Это был утомленный и разочарованный ветеран, которому было не до узников. Нет, хлеб он им, конечно, не подавал, но и не поднял руку ни на одного из них. Держу пари, он даже не сподобился на оскорбление хоть одного заключенного. И он был казнен в апреле сорок шестого, как и многие другие рядовые охранники, личные водители, курьеры, помощники – те, которым просто не повезло, которые когда-то были отправлены в распоряжение не того человека. В то время как, например, тот же сынок Круппа, еще в сорок третьем перехвативший бразды правления империей у батюшки-маразматика, был приговорен к двенадцати годам, да и того не отсидел, будучи выпущен на свободу через три года по общей амнистии, – вернули и корпоративное имущество, и личное состояние, разве что не извинились вдогонку, хотя, может, и извинились, откуда мне знать.
Суть в том, что нельзя было надолго отправить в тюрьмы весь цвет высшего промышленного общества, оно и так терпело крах, а потому сошлись на том, что обвиняемых назвали оступившимися коммерсантами, которых заведомо ввели в заблуждение и которые исключительно по незнанию сумели извлечь всю возможную выгоду из суровых реалий режима. В конце концов, оступившиеся принесли извинения.
Подобная судебная чертовщина происходила повсеместно. Бывший комендант Гросс-Розена Йоханнес Хассебрёк, руководивший лагерем с октября сорок третьего и до самой эвакуации, прожил долгую и счастливую жизнь. Когда он был назначен на должность, в Гросс-Розене было не более трех тысяч заключенных. За время его службы эта цифра увеличилась до восьмидесяти тысяч. Кроме того, Хассебрёк отвечал и за тринадцать филиалов Гросс-Розена, куда отправляли умирать на тяжелых работах тех, кого уже не вмещал основной лагерь. Всего в хозяйстве Хассебрёка погибло около сотни тысяч. Во времена оны им были довольны: главный инспектор концентрационных лагерей, всесильный алкоголик Рихард Глюкс не скрывал, что радуется успехам своего протеже на службе. Англичане приговорили Хассебрёка к смертной казни. Позже это решение заменили на пожизненное, еще позже на пятнадцать лет, а вышел он и вовсе в пятьдесят четвертом и подался в бизнес, кажется, открыл лавку в Брауншвейге. Выжившие узники пытались прижать к ногтю бывшего коменданта и после этого, но он был оправдан как местным судом, так и Федеральным конституционным судом Германии после апелляции обвинения. До последних дней Хассебрёк не скрывал, что сожалеет о крахе Третьего рейха, о чем с ностальгической грустью поведал одному израильскому историку, вздумавшему написать про него в своей книге.
Еще один пример. В Сербии немецкая армия столкнулась с сильным партизанским сопротивлением. На всякий случай расстреляли всех евреев мужского пола. Встал вопрос, что делать с их семьями, армейцы не хотели брать на себя ответственность и спихнули несчастных вдов с детьми на местного командира полиции и безопасности доктора Эмануэля Шефера. Шефер посчитал, что правильнее всего будет умертвить их в газвагенах. Шесть тысяч двести восемьдесят женских и детских душ. В пятьдесят третьем наконец и он предстал перед судом в Кёльне. Он получил шесть с половиной лет тюрьмы. За шесть тысяч двести восемьдесят душ. Это по девять часов и шесть минут тюрьмы за каждого убитого. Как вам такой расклад? А если я скажу, что Шефер вышел досрочно спустя три года? Получается по четыре часа и восемнадцать минут за каждого. После освобождения Шефер переехал в Дюссельдорф, где работал рекламщиком до самой смерти. А потому, повторюсь, суд человеческий – сомнительное заведеньице. Я не увидел в нем правды ни во времена нашей силы, когда судили евреев и противников режима, ни после, когда мы поменялись местами. Приговор всегда и везде заказывали режим и его нужды на данный момент. И не дай вам бог уверовать, что чистое правосудие, основанное на справедливости, может стоять в основе того приговора. То, что один суд сегодня назовет «форсированной эмиграцией» и законной «конфискацией», другой завтра назовет «гоном на смерть» и «разграблением чужого имущества». Смотря кто у власти в день заседания.
По большому счету всем нам нужно было извернуться и продержаться в тени до того времени, когда трибуналы союзников над военными преступниками завершились и эстафетную палочку в этих делах приняли немецкие и австрийские суды. Случилось это в пятьдесят пятом, тогда утвердили знаменитый сто четвертый закон[19], который передавал денацификацию полностью в немецкие руки. Это должно было помочь Германии «восстановить доверие мира», так говорилось в преамбуле того закона. Фактически союзники передали бремя наказания немцев немцам и с интересом следили, что сами творившие думали о своих делах, какова степень осознания и какую меру считали заслуженной за то, что сотворили. Немцы со всей свойственной им педантичной основательностью приступили к делу, начав делить всех на категории, подкатегории и подподкатегории: на тех, кто творил, и тех, кто извлекал выгоду, на тех, кого просто зацепило, кто оказался не в том месте не в то время, на тех, кто числился, но не делал, и тех, кто делал, но не числился, на тех, кто преследовал по приказу и кто – по инициативе, кто сочувствовал, но ничем не помогал, кто помогал, но молчал, кто занимал должность, но не извлекал из этого дивиденды, кто сорвал куш, но в партии не состоял, кто участвовал, но не проявил себя, кто проявил, но не состоял, на тех, кто… кто… кто… Были даже созданы судебные палаты, которые сортировали всех по группам. В палаты входили председатели, заместители и бесчисленное множество заседателей, чьи кандидатуры утверждал министр по делам политического освобождения (и такого придумали). Только в американской зоне было рассмотрено три с половиной миллиона дел. От этого утомились даже бесчисленные заседатели, сидевшие на окладах. И как-то постепенно занялись перевоспитанием: обязательные экскурсии в концлагеря, лекции, просмотр документальных фильмов. Работа ведется, и бог с ней. Перевоспитание случилось, «доверие мира» было восстановлено, а старое позабыто, при разработке новых указов немецкие законодатели обратились к новоявленному мерилу, отныне почитавшемуся за образец, – Конституции США. Конституции, при создании которой в свое время опирались на европейские принципы законности англичан, французов… и немцев (и снова гомерический хохот про себя, ибо проклятая боль в груди по-прежнему не дает этого сделать вслух). Что ж, все круги имеют свойство замыкаться. И когда наказание уступило место порицанию, тогда даже у самых отъявленных появился шанс. Если они не Эйхман, конечно. Доходило ведь до абсурда. Так, один австрийский суд, в Инсбруке, если мне не изменяет память, внимательно заслушав показания свидетелей-евреев, бывших заключенных Плашова[20], заявил, что описанное ими насилие просто не укладывается в голове, а потому не могло происходить на самом деле. «Невообразимо» – так было сказано этим свидетелям. Идиоты. Вообразимо все. Тем более то, что происходило на самом деле. На самом. Деле. И вот тут-то в отдельно взятом случае во всей красе исполнилась одна из наших старых надежд: мир просто не поверит в это, ведь де-юре мы были одной из самых просвещенных наций цивилизованной Европы. Но мы не умели даже скрыть все это должным образом. Мы верили в свою победу, а потому закапывали неглубоко во всех смыслах. А потом… потом все случилось так быстро, что закопать глубже уже не было времени, об этом не думали, просто отступали, опять же во всех смыслах. И надо же было такому случиться, действительно нашлись идиоты, не поверившие, – обвинения в том австрийском суде были сняты.
Я продолжаю анализировать, снова и снова пропуская всё сквозь мелкое сито моих старческих воспоминаний, терзаю себя и зарываюсь еще глубже. Ведь не могло все сводиться к банальному исполнению приказа. Даже с напрочь искаженным восприятием действительности, с разумом, поврежденным «новой нормальностью», были необъяснимые попытки абстрагироваться, совершаемые будто бы бессознательно. Даже в лучшие времена, когда немецкая армия атаковала на всех фронтах и тень расплаты не маячила на горизонте, мало кто желал афишировать свою явную причастность к акциям. Да, мы могли обвинять евреев во всех бедах и грехах, кричать об этом во всеуслышание и одобрительно кивать головой, слушая радио и читая партийные газеты, но это не то же самое, что быть персонально ответственным за смерть конкретных Сары, Ривки, Авраама или маленького Шломо. Никто не желал, чтобы соседи узнали, что именно он расстрелял того мальчика, жившего на их улице, никто не желал, чтобы родные узнали, что именно он отдал приказ уничтожить ту семью, державшую швейную мастерскую неподалеку. Помню, рейхскомиссар Остланда Генрих Лозе, окончательно запутавшийся в устных распоряжениях, приказал остановить расстрелы евреев в одном из подконтрольных ему латвийских городков и в отчаянии запросил официальную инструкцию по их уничтожению. Но найти подобную директиву на бумаге ему тогда так и не смогли. И дело не только в том, что вопрос был деликатный, запрещенный к разглашению, но мало кто жаждал оставлять истории свою подпись под подобным распоряжением. Очевидно, ту истину, что происходившее преступно и наказуемо, ответственные постигли интуитивно, а потому, выходит, где-то в глубине наш организм чувствовал неправильность. Я специально не говорю – разум. Разум наш в тот момент умер – с этим приходится согласиться, и это лучшее, что он мог сделать для процветания той системы. Но что-то пробивалось в наше нутро сквозь общенациональный морок, если ответственные избегали прямых приказов на бумаге, и это, увы, лишает последнего оправдания, за которое можно было уцепиться. Ну что ж, виновны по всем статьям.
Тот, кто и по сей день отчаянно цепляется за верность присяге, за подчинение, дисциплину и долг, объясняя творившееся, искренне веруя, что это может стать оправданием, живет и ныне мертвым разумом. Что не самый плохой вариант для них.
В какой-то мере я даже завидую таким. Я, к своей горечи, теперь ясно понимаю, что мы, солдаты СС, были совершенно свободны в своем выборе. Тогда мы полагали, что если откажемся убивать, то убьют, скорее всего, нас. И по своему невежеству или гордыне мы не видели в той ситуации выбора. Но в том он и состоял: убивать или быть убитым. Варианты, которые предоставляют обстоятельства, не всегда могут быть по душе, но этот выбор неизменно есть, и мы свободны в нем. Даже там и тогда мы могли проявить свою свободу воли. И теперь я понимаю, что всякое мое действие есть мой выбор. Не приказ, не распоряжение, не просьба – это исключительно мое решение.
Теперь, конечно, миллионы людей, которых тогда еще и на свете-то не было, уже составили свое собственное мнение о случившемся – я имею в виду произошедшее под названием «Третий рейх», – и это мнение давно утвердилось и пересмотру, конечно же, не подлежит. Но в действительности все было несколько сложнее, да. Говорят, молодым теперь страшно от осознания того, что было бы в случае нашей победы. А что было бы? Тут все просто: не было бы преступников-нацистов, были бы нацисты-триумфаторы, а победителей, как известно, не судят. Я не был победителем, поэтому отец судил меня. Судил и прятал после войны в подвале нашего старого дома в Мюнстере, отчаянно оберегая от другого суда. Такая вот семейно-правовая драма или комедия, тут как вам угодно. В первые годы я еще пытался малодушно искать свою правду в творившейся вокруг чертовщине, с тупым упорством указывал отцу, что только спустя три года ООН догадалась официально признать геноцид преступлением и определить наказание за него.
– Так за что судили в Нюрнберге, если такого преступления юридически не существовало? Задним числом, отец? Но закон не имеет обратной силы. Видишь, на всяком суде нашлось место лицемерию!
– Спрашиваешь, по какому закону судили? По закону человеческого бытия. От человека не должно вонять трупами, сынок.
Я заткнулся. Он меня уел. На это мне нечего было ответить. Несмотря на такие вспышки, я тепло вспоминаю период наших подвальных споров и молчаний. Не потому, что тогда мы вдруг стали чем-то напоминать семью, но потому, что тогда мне не надо было убивать… Сидеть месяцами под собственным домом – невелика цена за такую благость. Сны, правда, были истинной мукой, да, впрочем, это и сейчас так. Меня корежит во сне и скручивает в потный, липкий ком ядовитого страха. Я прикрываю глаза и вижу сквозь небольшие отверстия, как люди наползают друг на друга, карабкаются, невольно и безостановочно давят один другого, отчаянно пытаясь добраться до массивной двери, как раздирают собственные лица и цементные стены с одинаковой легкостью, как безнадежно вгрызаются в воздух в попытке захватить хоть каплю того, что поможет их легким дышать, но вместо этого заглатывают еще больше газа. Я слышу их хрип, который, оказывается, может быть истошным, вижу их выкатившиеся глаза и вывалившиеся языки, слышу, как сочатся жидкие испражнения из их обмякших тел. Каждую ночь я задыхаюсь под горой тех тонконогих трупов с раздутыми животами и заострившимися треугольными черепами, обтянутыми синей кожей, каждую ночь я пытаюсь выбраться из-под них и глотнуть воздуха, но вместо этого в мой горячечный рот с сухой белой пленкой у кромки губ попадает окаменевшая рука или посеревшая стылая пятка. Я вижу эти скрученные тела-веревки, их опавшие подбородки, черные осколки зубов и чувствую вкус того, что вижу, – гной, гниль разложившегося могильника, испещренного мелкими опарышами, которым и поживиться-то нечем, ибо плоти почти не осталось. Но вдруг одно из тел начинает шевелиться, то, что когда-то было головой, приподнимается и уставляется на меня темными пустыми глазницами. Я просыпаюсь. Обмочившись. Лежу в мокрых кальсонах, смотрю в белый потолок.
– Как мало ты знаешь, Ривка. – Я откинулся на подушку.
Дыхание опять стало тяжелым и прерывистым. Ривка поспешила приложить маску к моему лицу. Сделав несколько вдохов, я убрал ее.
– Если вам хуже, я могу позвонить вашей жене, – смягчившимся голосом проговорила медсестра.
Еще чего не хватало. Я внутренне содрогнулся от подобной перспективы.
– Ривка, ты видела мою жену?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Не вздумай звонить этой глупой корове. А вдруг я умру и ее бессмысленные глаза будут последним, что я увижу в этой жизни? Это страшно, Ривка. Нет-нет, нужно свести к минимуму ее посещения. В моей корове нет ни капли правды, ни грамма истины, ни в ней, ни в ее выкормышах, которых она, на свою радость, понесла от меня. Ничего нет и никогда не было. Она прах и тлен. Ривка, ты представляешь, каково это – спать с прахом, совокупляться с тленом? Это страшно, Ривка.
Медсестра растерянно смотрела на меня, не зная, что ответить. Пытаясь скрыть замешательство, она полезла под кровать за колокольчиком.
– Это страшно, Ривка, – повторил я, глядя в белый потолок.
Девушка вытащила колокольчик и положила его на прикроватную тумбочку.
– Зачем же вы женились на ней?
Я пожал плечами.
– С женой меня спарили обстоятельства. Обычные, жизненные. Ей нужен был статус замужней дамы, а мне – чистые носки и рубашки. А впрочем, почему бы и нет, не она, так другая. Кто-то же должен был тушить мне капусту и отбеливать воротники.
– И вы ее никогда не любили? – с недоверием спросила медсестра.
Я усмехнулся и посмотрел на нее, но черты лица не мог разглядеть.
– Дай-ка мне очки, – попросил я.
Она достала из ящика тумбочки футляр, вытащила из него очки и помогла мне нацепить их на нос. Я еще раз внимательно посмотрел на девушку. Хорошенькая, с большими серыми глазами, в которых светилось и любопытство, и опаска, и еще черт знает что.
– Ее – никогда, – честно ответил я.
– А вообще? – Ривка присела на край моей кровати.
Я задумался. И вновь начал вспоминать. Всю свою жизнь я бежал от воспоминаний, но от воспоминаний о ней в особенности. Моей единственной искренней надеждой было то, что когда-нибудь смерть избавит меня от этой тяжелейшей пытки памятью… соединив нас вновь.
Я начал вспоминать скрупулезно, тягуче и болезненно, день за днем своей никчемной жизни, чтоб еще раз попытаться понять, как могло статься то, что сталось.
Виланд
Я родился девятнадцатого марта тысяча девятьсот тринадцатого года в баварском Розенхайме. Меня назвали Виланд Кристоф Райнер фон Тилл в честь дедов по обеим линиям и какого-то друга детства моего отца. Первые годы жизни я провел словно в тумане, помню только постоянные слезы матери, испуганные глаза бабки, у которых на устах было одно слово – «война». Еще не зная, что это означает, я боялся вместе с ними заодно, потому что так надо было, это было общепринято. Все вокруг боялись и с замиранием сердца ждали вестей с фронта.
Отца своего я впервые увидел, когда мне было пять лет. Мы тогда только схоронили бабку. Помню, возвращались с матерью из лавки, и вдруг она бросила корзину и кинулась на шею какому-то незнакомому мужчине. Он мне сразу не понравился. Какой-то посеревший, худой, с искривленным, изуродованным носом, он внимательно осмотрел меня темными, глубоко запавшими глазами. Но мне ничего не оставалось, кроме как принять его и свыкнуться с его существованием. Именно от него я узнал, что такое война и почему все ее боятся. Отец служил в артиллерии, был произведен в фельдфебели и награжден Железным крестом первого класса, но награду эту цеплял только по необходимости, чаще она пылилась в материнском бюро, завернутая в платок. Когда никто не видел, я доставал ее и с благоговением рассматривал. Я сдувал с нее пыль и, придерживая за черную ленту с белой окантовкой, с трепетом прикладывал к своей груди. На ордене была чуть заметная царапина, по которой я осторожно проводил ногтем. Однажды отец застал меня за этим делом и дал ощутимую затрещину. В испуге я подумал было, что он боялся, будто я испорчу его орден, но, глядя, как он выхватил его у меня из рук и небрежно швырнул вместе с платком в бюро, я осознал, что дело не в этом. Отец молча вышел из комнаты. Я продолжал стоять на месте, злобно глядя на его уходящее отражение в зеркале.
Я уже вступил в тот возраст, когда многое начал понимать. Мать рассказывала, что отец ушел на войну, будучи полон мыслей о славных делах, которые ему предстояло совершить во имя отечества, и даже маячившая на линии фронта возможность гибели ради этого ничуть его не пугала. Я же увидел разочарованного и уставшего старика двадцати семи лет от роду, придавленного чем-то, что он называл «разбитыми иллюзиями». По вечерам после ужина в нашей семье велись разговоры всё больше о христианской справедливости, перемежаемые литературными обсуждениями, политические же темы были под запретом. Я чувствовал, как в моих родителях взращивался непоколебимый пацифизм, чего они не скрывали, а скорее наоборот. Отец вернулся к своей прежней профессии учителя и на уроках всеми силами насаждал свои взгляды среди учеников. Порой во время его пламенных речей мне хотелось провалиться сквозь землю со стыда, я сидел, вжавшись в скамью и опустив голову. Как же в этот момент я ненавидел его, себя, всех вокруг, прекрасно знавших, что я его сын. Сейчас я понимаю, что по большому счету всем было на это плевать, никто не видел ничего зазорного в речах отца, а многие и вовсе слушали его с интересом. Тогда же я внутренне кипел. Как он мог говорить о доброте и всепрощении, о бедах, которые несут войны, когда Германская империя теперь стояла на коленях перед всем миром, будучи полностью разоружена, ограблена экономически и земельно, и народ несправедливо задыхался от кризиса? Как можно было такое попустить, простить и забыть? Так мог говорить только трус и предатель. Такой же трус и предатель, как те, которые решили подписать кабальное перемирие, когда мы еще способны были задать жару врагу. На своих уроках отец не позволял писать сочинения на общественные темы – лишь литературно-художественные размышления, он жестко пресекал всякие политические споры в пределах школы, впрочем, как и за ее пределами во время пеших прогулок с классом. Он был активным участником «Перелетных птиц» и постоянно таскал нас в походы, в которых мы проводили какие-то бессмысленные собрания Общества любителей природы, разучивали дурацкие песни из сборника Бройера «Лютня-простушка», затем распевали их, сидя у костра на берегу Кимзее. Живописное озеро располагалось недалеко от города и за свои размеры было прозвано Баварским морем. Привольно раскинувшееся у подножия гор, оно действительно выглядело впечатляюще, и рыбалка на нем была не таким уж отвратительным времяпрепровождением, а выловленная и приготовленная тут же на костре форель и вовсе была замечательна. Но, к сожалению, все это сопровождалось уже набившими оскомину пацифистскими разговорами нашего учителя – моего отца. Я совершенно не понимал, как можно быть настолько невосприимчивым к тому, что творилось в стране. Наконец мне надоело, и я наотрез отказался участвовать в этом балагане. Отец и мать пытались повлиять на меня, но оба по своей природе были слишком мягкими. Я же обладал тяжелым нравом и сильной волей, взращенными во мне непонятно каким чудом.
Однажды, слоняясь с друзьями по городу, мы наткнулись на некое подобие митинга. Центром его был затянутый с ног до головы в кожу мотоциклист среднего роста. Лицо его не представляло собой ничего необычного: округлое, бледное, маленький шаровидный нежный подбородок, серые, судя по прищуру, близорукие глаза, тонкие, правильной формы губы. Он снял кожаные перчатки и бросил их на еще горячий бак своего мотоцикла. Я обратил внимание на его ухоженные, почти женские руки, но, впрочем, так же быстро я переключился с его внешности на речь. Он был прирожденным оратором, громко кричал о еврейском капитале и большевизме, призывая к борьбе с теми, кто стоял и за тем и за другим. Поначалу я мало вслушивался в слова, меня заворожило, как он говорил: порывисто, восторженно, словно готов был тут же выпорхнуть из своей оболочки и, обратившись в слова, которые сам же и рождал, мчаться по миру, раздавая то, во что верил. Я жадно наслаждался зрелищем свежего идейного человека, удивительным образом оказавшегося в нашем захолустье, и постепенно начал вслушиваться в то, что он говорил.
– Это чуждое, негерманское племя давно внедрилось в нашу жизнь, вцепившись исключительно в самые прибыльные и влиятельные сферы. Думаете, сколько их в юриспруденции? Половина! Вы думаете, он свой, но это вы так думаете, потому как этого они и желают, но то лишь видимость. Проникая в чужое сообщество, они всегда пытаются создать государство в государстве. И процесс этот ожидаем, потому как еврей лишен каких бы то ни было представлений о пользе обществу, ведь племя сие не умеет жертвовать, но лишь потреблять. Конечно, живя с нами, они со временем выучивают, как до́лжно поступать человеку достойному, чьи помыслы направлены на благо общества, но, даже изучив эту нехитрую науку, они не пошевелят и пальцем, если это не принесет им барыши. Все, что свято для нас, будь то семья, религия, политика, верность стране, – для них лишь средство наживы. Они не создали ничего прекрасного из того, чем обладают. Ни единой монеты в их кошельке, ни единой тряпицы на их теле, ни единого куска хлеба в их доме нет, которые бы они не отняли нечестным путем. Здесь нет никаких хитрых схем! Их рыночные спекуляции и аферы просты как дважды два. Они ловко оперируют спросом и предложением, часто откровенно подтасовывая и то и другое, а затем вынуждают производителей продавать им по низким ценам, а сами перепродают по высоким. В итоге обманутый сельский производитель меньше получает, обманутый горожанин больше платит! А что есть разница, излишек? Это и есть еще одна часть мирового еврейского капитала, который растет и крепнет с каждым днем, без оглядки на войны, неурожаи, инфляции и страдания настоящих немцев! И чем больше таких обманутых немцев, тем больше еврейский барыш. Вот они, ваши деньги, заработанные по́том и кровью на земле наших немецких предков, они идут на благо и пользу еврейства, которое заглатывает все больше и больше и никак не насытится! Именно этими еврейскими капиталами и были поддержаны «ноябрьские преступники»[21], которые способствовали провозглашению позорной демократической республики. Эти мерзавцы воткнули нож в спину Германии, принудив великую нацию встать на колени перед врагом, который не был ни сильнее, ни умнее ее. У нашей армии было достаточно сил, чтобы продолжать, но почему они это сделали? И здесь все просто как дважды два: еврейским воротилам не нужна сильная, умная, процветающая Германия. Такую Германию они не смогут подмять под себя и доить дальше. Им нужна слабая, покорная и всего боящаяся Германия. Такой они легко смогут управлять, дергая за свои нити из-за ширмы. Настало время обрезать эти нити! Пришло время создать сильное государство, власть которого положит конец этому позору, свергнет республиканский режим и уничтожит его еврейский оплот.
– Все дельцы ищут выгоду, еврей ли, немец. А тот, кто не ищет, так тот разве делец? Тот банкрот форменный, – раздался насмешливый голос из толпы.
Незнакомец и не думал злиться, наоборот, улыбнулся и вскинул тонкий палец вверх, вновь призывая к вниманию:
– Это правда, дела ведут все, инстинкт накопительства есть у всякого, самая последняя домохозяйка будет торговаться и искать выгоду, но домохозяйка будет до хрипоты торговаться на благо своей семьи, чтоб сытнее накормить своих детей и усталого после тяжкого рабочего дня мужа. Так же как и немецкий предприниматель будет исходить из интересов не только личного обогащения, но всей Германии. Немецкий делец будет думать и о себе, и о промышленных интересах страны и ее общества. Еврею же это безразлично, все его действия направлены на благо его самого, еврея. Все ресурсы страны, сырье, продукцию, производство – все он употребит лишь себе на пользу. Так делает дела еврей, ему безразличны интересы общества, в котором он живет. Он будет постоянно расстраивать всю экономическую структуру, торгуя из-под полы, он будет выжимать общество до последнего, и если для того, чтобы закинуть в свой сейф лишний пфенниг, надо будет поменять веру, то еврей сделает и это без раздумий. Ради комфортного накопительства они переходили в христианство, но душой оставались в синагогах, используя новую веру лишь как средство достижения целей. Еврей остается евреем в любой вере, это уже ничем не вытравить из его крови. И, по сути, он становится обыкновенным шпионом, который скрыл истинное лицо за маской, введя в фатальное заблуждение окружающих. Они туго набивают свои кошельки, но когда что-то вдруг идет не так, то тут же прикидываются банкротами и сбегают. Вы для них – лишь средство обогащения. Верите ли вы, что они по доброй воле остановятся? Откажутся от своих грязных прибылей? Нет, они и дальше будут паразитировать на немецкой честности и открытости. Кто после мировой войны быстрее всех достиг богатства и процветания? Евреи. Немцы же продолжают изнывать от неустройства и бед. Почему? Потому что настоящему немцу свойственен честный и тяжелый труд, который не может быстро принести дивидендов. Методы же еврейского предпринимательства заставляют задуматься. Они способны извлечь выгоду из всего, даже из собственного банкротства, которое, безусловно, лишь прикрывает их торгашеские махинации. Обратитесь к истории, друзья мои, и вы поймете, что еврейская раса на протяжении всего времени жила лишь торгашеством, я отказываюсь называть это торговлей, ибо еврейское предпринимательство – это особый вид предпринимательства. Они не воевали, не трудились тяжко на земле, культурные и интеллектуальные ценности имели для них интерес только с точки зрения возможной продажи или спекуляции. Всюду, где появлялся еврей, велись дела – будь то музей, библиотека, рынок, площадь, больница или даже война! Кто, как не евреи, извлекал наибольшую пользу из всех военных конфликтов, в которых, конечно же, они не принимали солдатского участия?! Всем известно, что они всегда уклонялись от службы в армии, используя свои финансовые возможности и влияние…
– Хаим служил в мировую, и брат его не вернулся, и сына Штокманов поставили под ружье… – раздался недовольный голос в толпе, но мотоциклист не слышал его.
– И от кого мы получили нож в спину в восемнадцатом? Всеми силами они тайно способствовали этому постыдному перемирию на ужасных для Германии условиях, а потом еще и смели требовать, чтобы мы продолжали выполнять эти условия даже в самые тяжелые времена, в дни сумасшедшей инфляции, напрочь обесценившей все сбережения немцев. Нормально ли это, я вас спрашиваю, когда, получая заработную плату утром, к вечеру честный рабочий уже не может на нее купить даже бутылку молока, ибо утром она стоила пять миллиардов марок, а к вечеру все десять? Когда немцам нечего было есть, этот волк в овечьей шкуре Ратенау[22], еврейское отродье, пробравшееся на самые верха, продолжал преклоняться перед Антантой, отправляя им репарации, обескровливающие Германию. Но разве война, проигранная по вине еврейских предателей, является достойной причиной того, чтобы целая нация была обречена на рабство? И не будем забывать, что Ратенау был одним из тех, кто заявил, будто мы проигрываем войну и не имеет смысла ее продолжать. Но так ли это было на самом деле? Когда были подписаны унизительные условия этого постыдного перемирия, наши солдаты были на вражеской территории! На всех фронтах! Понял ли кто-то, почему нас заставили поспешно бросить свои позиции? Много странного в той истории, но одно несомненно: те, кто проливал свою кровь на фронте и гнил в окопах, получили за свою преданность родине лишь позор и бесславие и стали посмешищем в глазах всего мира, потому что кто-то преследовал свои частные цели! И сегодня мы знаем, кто это! Мы знаем, кто эти преступники, не желающие ни воевать за страну, в которой живут и которой обязаны всем, ни возделывать ее земель. Это паразиты, умеющие лишь спекулировать тем, что выращено на этой земле руками немца.
Мотоциклист сделал паузу, чтобы перевести дух, и в этот момент кто-то успел вставить замечание:
– Верно, кто ж будет спорить, так ведь это потому, что евреям всегда было запрещено владеть землей. Не давалось им такого права, вот они и полезли в торговлю да суды, а теперь, выходит, мы их за это же корить будем? И где эти паразиты-спекулянты? Хаим? Так тому не до спекуляций, отспекулировал свое в мировую, вернулся без руки и слепой на один глаз. Прогоним его, кого ругать будем? Себя, что ли?
Из толпы вновь раздались смешки.
– Семья Хаима здесь давно, в третьем поколении. Он немец поболее многих. А вот те евреи, которые повадились к нам в поисках лучшей жизни из России и Польши после войны, вот те да, – задумчиво проговорил кто-то.
– В этом и ошибка! – мотоциклист чуть ли не взвизгнул, но вовремя себя осадил. – Они хотят, чтоб мы так думали, будто они стали одними из нас. Но еврей никогда не перестанет быть евреем, в каком бы поколении он тут ни находился. Почему они целыми семьями повадились к нам после войны? Они бегут от гонений и погромов! Почему они думают, что здесь их не ждет то же самое? Потому что мы слишком мягки, чтобы дать им соответствующий отпор, потому что мы слишком цивилизованны, чтобы опускаться до таких скотских погромов, как поляки и русские. Но пора прекратить эту мягкотелость! Мы уже достаточно пострадали от их племени. Нужно выдворять их обратно, а заодно и тех, кто уже давно прячется под немецкой личиной. Когда империя на коленях, – страстно продолжал мотоциклист, – кто извлекает дивиденды из национального экономического краха? Вы все еще думаете, что они не опасны, так я вам объясню, почему у вас в голове сложилось такое ложное представление. Чтобы влиять на общественное мнение, они всеми правдами и неправдами пролезли в газеты и на радио и подмяли под себя всю прессу. О, это великая власть! Каждый раз пачкая газетную бумагу своей статейкой или засоряя радиоэфир своим рассказом, еврей в первую очередь думает, принесет ли это материальную выгоду лично ему или его хозяину, еще более отвратительному еврею. Они хорошо понимают, что, удерживая в своих руках прессу, они могут вертеть общественным мнением, как им вздумается. Они имеют мощнейший инструмент управления и влияния на неокрепшие умы нашей молодежи. И это таит в себе смертельную опасность для Германии. Сегодня вы читаете газету, а завтра вы несете свои деньги еврею – вот чем опасно еврейское засилье в прессе. И это происходит в то время, когда пресса просто обязана быть главным инструментом духовного воспитания и подъема немцев. Но еврейская пресса затыкает рот каждому, кто решил проявить смелость и открыто выступить против них. Они оха́ют речь любого здравомыслящего политика, а потом заткнут ему рот, имея в своем арсенале великое множество экономических способов давления. Разве секрет, что даже газеты, занимающие антисемитскую позицию, вынуждены менять ее, так как перестают получать рекламные объявления от агентств, которые держат всё те же евреи? В итоге мы читаем лишь то, что угодно им. И все это инспирировано на деньги, которые они украли у нас же! Нам туманят разум за наши же деньги! Даже если они будут располагать истинной информацией, но эта истина будет идти вразрез с их целями, они будут лгать и скрывать действительное положение вещей. Вы не дождетесь от них правды, если она им невыгодна. За каждой рекомендацией в их статейках скрывается спекуляция. И если попускать и далее, то эта еврейская спекулятивная бацилла будет распространяться с невиданной скоростью, саботируя все истинно немецкое и совершая преступление против самой природы, если угодно. А потому нужно как можно скорее сорвать с их рыл немецкие маски, которые они нацепили на себя много лет назад. Они не немецкие евреи! Немецкие евреи – такого понятия даже не существует. Это природный оксюморон. В их случае ассимиляция – это паразитический процесс. Ни один народ не пустил бы их на свою территорию и в свою жизнь, если бы осознал, сколь они опасны. Это проблема не только немцев, но всех народов, ибо евреи – бич всего мира. Им нужно задуматься, почему весь мир гонит их прочь. У всех народов случаются военные конфликты между собой, но все народы объединяет одно: все они питают отвращение к евреям.
И он обвел выразительным взглядом притихшую толпу.
Горожане, слушавшие мотоциклиста, стали неуверенно переглядываться, кто-то пожал плечами и все же спросил:
– Так куда им податься? Где существовать?
– А зачем им вообще существовать? – вкрадчивым вопросом ответил мотоциклист и улыбнулся, мягко растянув свои тонкие губы.
Он продолжил говорить, разобрав всю еврейскую историю до Христовых времен. И я слушал, ловя каждое его слово. Это было как вспышка молнии среди ясного неба, заставившая меня размышлять. И я видел, что пламенное выступление мотоциклиста произвело впечатление и на моих друзей. Расходились мы весьма задумчивые.
– Пропагандист, – знающе проговорил лавочник Шваббе, шедший впереди нас, – много их сейчас расплодилось, да только в этой партии самые речистые и горластые.
– Может, и дело говорит, кто ж его знает…
Я догнал лавочника:
– Что за партия, герр Шваббе?
– Национал-социалистическая рабочая, – бросил он мне и вновь обратился к своему собеседнику: – Сколько их теперь развелось, и не сосчитаешь. И главное, все сюда прут, Бавария стала прибежищем для всех горлопанов, а разобрать их – так шайка безработных, которые не знают, куда себя приткнуть.
– Здесь-то они зашевелились. Воротят дела, какие хотят.
– А все потому, что в пику Берлину наши власти их активно поддерживают. Вот те и стекаются к нам со всех концов, будто медом намазано.
– И правильно! – неожиданно подал голос старший сын Шваббе Эрих. – Рано или поздно Бавария пойдет маршем на Берлин, чтобы призвать к ответу социалистов. Сколько можно исполнять позорные условия Версаля?[23]
– Эти бесконечные марши и демонстрации ни к чему хорошему не приведут, – тут же одернул отец сына, – все эти напыщенные речи и потрясание оружием только затуманивают народу разум и толкают на неверный путь. Германия еще не оправилась от мировой войны, чтобы окунаться в гражданскую, сынок.
– А кто говорит о гражданской? Немецкий народ должен объединиться против внешнего врага. Нужно лишь втолковать это социалистической кучке в Берлине. Впрочем, там нужны жесткие меры. Там крепко засели те, кто втыкал нам нож в спину в восемнадцатом.
Герр Шваббе замедлил шаг и внимательно посмотрел на сына:
– А ты, я смотрю, уши-то развесил, наслушался этих горлопанов из коричневой шайки.
– А оно, может, и так. Все лучше, нежели терпеть, что творится, – недовольно проворчал Эрих.
Название партии крепко засело у меня в голове.
Дома мать уже накрывала ужин. Я сел за стол и молча наблюдал за ней. Расставляя тарелки, она спросила, о чем я думаю.
– О евреях, – неожиданно выпалил я.
Мать замерла с тарелкой в руках и озадаченно посмотрела на меня.
– Они распяли Иисуса, из-за них у многих немцев нет работы, и вообще войну мы тоже из-за них проиграли, еще газеты, журналы, радио тоже под их контролем, еврейский капитал и заговор… это тоже…
– Что тоже?
Мы с матерью одновременно обернулись. В дверях стоял отец. Я напряженно смотрел на него исподлобья.
– Ты знаешь, – наконец проговорил я.
– Нет, поясни. – Вопреки моим ожиданиям, он был совершенно спокоен.
Прошел и сел за стол напротив меня. Мать снова засуетилась с тарелками.
Я никак не мог собраться с мыслями, чтобы пересказать то, что говорил мотоциклист. Вся волнующая информация бушевала у меня в голове и выплескивалась какими-то обрывками.
– Их вожди еще при царе Соломоне вступили в сговор против остальных народов и договорились подчинить себе всю торговлю и финансовую систему нашего мира, а для того они расползлись по всему миру и внедрились во все народы, чтобы подрывать их благосостояние изнутри. Своими кровавыми и вонючими щупальцами они всасываются в чужое, но делают это незаметно, а потому до сих пор, спустя тысячи лет, наш народ не осознаёт, в чьей он власти.
Отец слушал меня внимательно, не перебивая. Когда я умолк, он еще немного помолчал, глядя на меня, и наконец проговорил:
– Еврейский заговор против всего немецкого народа, в это нам верить теперь? Когда правительство не способно наладить то, на что подвизалось, и тащит нас в тартарары, другие теперь хотят нас этим задурить и переманить? Что ж, извечный прием. Да только дураков нет. Порядок нужен да честь, а не заговоры выдумывать.
– А газеты? Они захватили все печатные органы, и теперь нет никакой свободы прессы. Они печатают что им надобно, а мы…
– Свобода прессы, сынок, понятие довольно относительное. Эта свобода заключается в свободе владельца газеты выражать свои интересы, только и всего. Уж кто бы ни был ее владельцем – еврей ли, немец, социалист, коммунист или эти новые горячие крикуны в коричневых рубашках, – всякий будет свое двигать, а коль скоро его попытаются урезонить, так мигом возопит о свободе слова. Да только своего слова. – Отец усмехнулся. – Последнее дело читать те газеты. Да и другие тоже не надобно, сынок. Я вот Шиллера из библиотеки принес, дать тебе?
– Как ты не понимаешь?! Евреям только прибыль нужна, плевать им на Германию, и на немцев плевать. Они обманывают честных людей ради наживы. Почти все лавки их, и там они занимаются всяким жульничеством. Спекулируют… по завышенным ценам продают нам плохой товар. Все потому, что евреи хотят легкой жизни. Тяжело работать – это не для них.
– Плохой товар? – Отец задумчиво посмотрел на мать, которая нарезала хлеб. – Я купил этот хлеб в лавке Штокманов вчера. Утром ты с аппетитом уплетал его с вареньем и сейчас, думаю, не откажешься. Так ли уж он плох? Ты можешь удивиться, почему я сейчас покупаю именно у них, ведь их лавка дальняя, но у них дешевле, совсем немного, но когда каждый пфенниг на счету, то и это радует. Ты говоришь, не хотят работать, а лавка как же? Разве она сама по себе существует? Разве в ней не нужно работать?
Я шумно выдохнул, все больше распаляясь от спокойного и чуть насмешливого тона отца.
– Я сказал, они не хотят по-настоящему работать, руками на земле, понимаешь? Хлеб они сами не взращивают, а покупают дешево у крестьян и продают дорого горожанам. Нам, отец!
– Так ведь им на протяжении веков запрещено владеть землей. Начни кто-то из них возделывать землю, «тяжело работать», как ты говоришь, его бы тут же обвинили в нарушении закона, оштрафовали и отправили б в тюрьму, понимаешь? А насчет Иисуса – тут ты прав, нехорошо вышло, сынок.
Мать тихонько прыснула со смеху и села рядом.
Ужинал я молча и в злобе.
Вернувшись как-то домой после школы, я застал у нас гостя. На вид ему было лет тридцать пять – сорок, судя по всему, бывший вояка. Высокий лоб, мясистый нос, недобрый взгляд, приметная родинка на щеке – он мне сразу не понравился, да и вел себя странно: был возбужден, говорил излишне резко, порывисто. «Армейский приятель отца», – шепнула мать.
Не привлекая к себе внимания, я сел с тарелкой в углу стола. Мать пододвинула мне хлеб, и я принялся за еду.
– Помнишь, как при Ипре? – проговорил гость.
– Помню, – невесело кивнул отец, – и Ипр помню, и у Нёв-Шапель пришлось туго.
– Там-то тебе клюв и подпортили, – хлопнув отца по плечу, расхохотался незнакомец.
Отец усмехнулся, потирая свой искривленный нос. Мать нахмурилась, но вмешиваться не стала. Она достала из шкафа бутылку шнапса и поставила на стол. Гость одобрительно кивнул.
– Как Берта и дети поживают? – поменял тему отец.
Видно было, что воспоминания о войне были ему неприятны.
– Да что им сделается, живы-здоровы.
– Сколько им уже, Теодор? – Мать присела рядом с мужчинами.
– Ирме уже… – Гость задумался, высчитывая в уме: – Ирме уже двенадцать, а Герману, выходит, недавно восемь исполнилось.
– Как время летит, – проговорила мать, – уже такие взрослые.
– Да уж, мою молодость сожрали, скоро свою будут прожигать, – проговорил гость с усмешкой.
– Не говори так, Теодор, дети – это счастье, – покачала головой мать.
– Эх, Герти, когда-то для меня счастьем было поступить в техническое училище, так нет же, выяснилось, что эта курица вновь беременна. Только и разговоров было: ты должен кормить семью, ты должен зарабатывать, иди на службу, забудь об учебе… – Теодор распалялся все больше и больше. – В конце концов, могла бы и позаботиться, чтобы без последствий. Вы же, женщины, знаете разные штуки, чтобы предотвратить…
Мать положила ладонь ему на плечо и погладила, стараясь успокоить.
– Тише, Теодор, здесь ребенок. – Она кивнула в мою сторону, но гость даже не посмотрел на меня.
Я сделал вид, что их разговор мне совершенно не интересен.
– Так ты по-прежнему в «Фарбене» работаешь? – отец, не любивший неловких ситуаций, опять переменил тему.
– Да, с химиками все более-менее стабильно, – вновь расхохотался Теодор, уже через секунду позабывший свои печальные мысли, – эти ценят решительного и исполнительного офицера, да и работа по мне, не помню, говорил ли тебе, меня перевели в службу безопасности.
– Нет, не говорил, – отец покачал головой.
У меня все больше создавалось впечатление, что приятель отца – психически неуравновешенный, и даже если бы он нес откровенную чушь, родители бы с ним соглашались, только бы не злить и не расстраивать его. В то же время я видел жалость в глазах матери, когда она смотрела на гостя; хотя она жалела всех без исключения, но сейчас в ее взгляде застыло особенное сострадание. Она все еще поглаживала Теодора по плечу, и отца сей факт нисколько не смущал.
– Вот так, Эмиль, после десяти лет службы я оказался не нужен своей родине. Обременен семьей, выброшен на улицу, вынужден пополнить ряды сотен тысяч фронтовиков, преданных тылом, и все из-за этих проклятых социал-демократов, коммунистов и евреев, проклятая Веймарская республика! – Он ударил кулаком по столу так, что бутылка со шнапсом, выставленная матерью, зазвенела. – А химическому концерну я оказался нужен! – И Теодор вновь зашелся своим грубым раскатистым смехом.
Я уже перестал изумляться резким перепадам в его настроении.
Отец разлил шнапс, и Теодор на время смолк. Выпив, он повернулся к отцу и проговорил уже спокойнее:
– Эмиль, я ведь к тебе с делом. Я в партию вступил. – Теодор полез во внутренний карман и бережно извлек билет с фотографией.
Я вытянул шею, стараясь разглядеть документ.
– Все-таки примкнул к ним, – покачал головой отец, разглядывая партийный билет, – к штурмовикам?
Тот кивнул:
– Но это еще не все, я присматриваюсь к другому партийному формированию.
Он посмотрел на отца странным взглядом.
– Охранные отряды, – догадался тот, – слышал, там строжайший отбор. Ты по возрасту не проходишь, – отец с сомнением покачал головой.
Теодор резко выхватил у него билет и тут же спрятал его в карман.
– Возраст не главное, главное, что здесь и здесь, – он поочередно ткнул себя в голову и в грудь. – Эмиль, тебе нужно присоединиться к нам. За нами будущее. Вот увидишь, партия поднимет Германию с позорного дна, на котором мы оказались по милости засевших в тылу прохвостов. Это не просто политическая партия, это выплеск всех чаяний истинных немцев, то, чего мы все давно ждали. Кто мы сейчас в глазах мира? Неудачники! Но скоро все поменяется, партия даст нам знатный толчок в нужном направлении, вот увидишь, Эмиль.
– Что нового она нам предложила? – пожал плечами отец. – Все те же клятвенные обещания экономического чуда да ругань евреев. Было уже. Одно хорошо, ваши национал-социалисты хоть прямо не призывают молодежь убивать евреев, как в Лиге защиты и сопротивления.
– Вот еще, мараться об них, – поморщился Теодор.
Отец выразительно посмотрел на гостя, и тот поспешил продолжить:
– Ты должен понять, что сейчас идет становление, мы растем, как все живое. И те, кто будет с партией у истоков, вырастут вместе с ней, и это уже не шутка, если ты понимаешь, о чем я.
Я окончательно позабыл о еде и, уже не скрывая любопытства, откровенно слушал их разговор. Теодор говорил:
– И ты, и я, и наши с тобой семьи, и семьи тысяч других достаточно нажрались дерьма, мы отдали этой стране все, что у нас было, нашу молодость, силы и веру, и что мы получили взамен? Жалкие местечки-подачки, с которых нас гнали поганые социал-демократы, занявшие лучшие посты при республике. Нам, старым воякам, не нашлось места даже в рейхсвере[24], который ныне – откровенный позор, жалкая тень былой великой армии. Но время все исправит, расставит по своим местам, и те, кто вовремя примкнул к истине, кто поддержал ее власть в самом начале и пошел с ней вперед без страха и оглядки, те будут вознаграждены сполна. Ты уж поверь мне, Эмиль, поверь. Мы вернем наши земли, необходимые для процветания народа, я говорю сейчас о тех, в чьих жилах течет густая, истинно немецкая кровь. Мы выкинем всю иностранную шваль, живущую на нашей земле и пользующуюся благами, принадлежащими нам по праву рождения. Уничтожим все нетрудовые и…
– Теодор, – отец вскинул руку, пытаясь унять словесный поток гостя, – Теодор, ты говоришь по написанному. Эти двадцать пять пунктов[25] мне хорошо известны. Довелось мне ознакомиться с литературным трудом вашего руководителя. Отвратительный материал. Такого надругательства над немецким языком я давно не встречал. Поразительные стилистические ошибки сочетаются с лексикой нерадивого школьника. Но одного у автора не отнять: энергия и целеустремленность у него неуемные. У нас в школе уже провели агитацию, среди старших ребят эта зараза распространяется со скоростью света. Хорошего я в этом не вижу, молодежь разбушевалась, ведут себя так, как будто им все дозволено, носят ножи, пугают сверстников, называют это агитационной работой.
Отец бросил на меня выразительный взгляд, и я тут же опустил голову, уставившись в тарелку.
– Зараза?! – возмутился Теодор, словно не слышавший, что отец произнес после этого слова. – Мы говорим о будущем нашей родины, твоей и моей, Эмиль! Ты считаешь, что социалисты накормят твоего сына? Или коммунисты приведут нас к стабильности? Не будет у нас ни того ни другого с таким подходом! – Его лицо начало багроветь. – Скоро и рейхсвер пойдет за нами. Любой, кто хоть раз надевал форму, жаждет отмыться от унижений этих лет. Может, в открытую они еще опасаются, но, скажу тебе по секрету, уже каждый второй юнец из кадетского училища за нас. Все хотят мяса, пива и хлеба, вместо этого жрут позор здоровенными ложками по милости прохвостов, заседающих в рейхстаге[26].
– К восстанию, значит, призываете…
– Поход на Берлин неминуем! Помилуй, это уже каждой домохозяйке ясно. В своей ненависти к берлинским крысам вчерашние соперники станут союзниками, а Гитлеру под силу объединить их и повести за собой. Ты бы его слышал! Когда этот человек выступает перед толпой, это уже не человек. Это пророк! Он превращается в нечто сверхчеловеческое, стоящее над всеми нами. Натурально, мессия великой Германии. За ним пойдут, Эмиль, помяни мое слово. За ним пойдут. После Ландсберга[27] он стал только сильнее, вся та шумиха с путчем пошла ему на пользу. Даже самые далекие тогда всё поняли. Этого парня полюбили уже во всех слоях, от простых трудяг до толстопузых промышленников, хоть и не у всех еще есть смелость сказать об этом вслух, ну ничего, эта скромность вылечится. Я тебе по секрету скажу: у него в кармане уже и министр юстиции, и глава полиции, информаторы в каждом министерстве. В открытую уже никто не решается пресекать нацистские демонстрации, все путем переговоров и увещеваний, знают, что полицейские вот-вот перейдут под знамена штурмовиков. И это только начало. Вникни, Эмиль, сегодня эти люди еще раздумывают, к кому примкнуть, а завтра выстроятся в очередь, и уже мы будем выбирать, брать их с собой в славный путь или нет. И уж поверь, тугодумы, не способные пораскинуть мозгами и верно оценить баланс сил, потом крепко пожалеют.
Отец внимательно слушал, он не перебивал, но так ни разу и не кивнул. Стоило гостю умолкнуть, как он протяжно вздохнул, набирая воздух. Я с тоской уставился в тарелку – сейчас начнется.
– У истоков славного пути ненависть не должна лежать, Теодор. Объединяет, говоришь? Так это до поры до времени, а потом это станет гидрой, пожирающей собственные головы, и никому добра от этого не будет. Мюнхен как червивый плод сейчас, разъедается заговорами и контрзаговорами. Город пухнет от митингов и стычек, кишит шпиками, которые уже и сами запутались, кому и на кого доносить. Немудрено, что в такой ситуации он легко задурил головы растерянным людям своими речами.
– Для того чтобы обычные речи достигли такого эффекта, они должны попасть в уши, жаждущие слышать. Вникни, Эмиль, вникни! Народ жаждет. Твой народ.
Отец покачал головой, уже не обращая внимания на настроение гостя.
– Не знаю, Теодор, не знаю. Я и тем не верю, и от этих добра уже не жду. По мне, так лишь бы не хуже, чем сейчас. И главное, чтоб не обратно к войне.
В этот момент мне казалось, что я могу собственноручно задушить отца. В моих глазах он выглядел самым жалким и трусливым существом на свете. Сидящий на крошечной кухне в опрятной, но застиранной одежде, усталыми глазами глядящий на окружающий мир и ничего не желающий, а самое страшное, даже боящийся уже что-либо желать, – я содрогнулся при осознании, что когда-нибудь могу стать таким же, но еще более меня угнетало понимание, что он не одинок в своих мыслях и таких, как он, может быть, тысячи – страшащихся что-либо предпринять для изменений к лучшему.
Я с остервенением размазал по столу хлебный шарик, который катал до этого.
– Не хуже, чем сейчас, Эмиль?! Да нас имеет всяк, кто хочет. Вспомни, как в двадцать третьем французы и бельгийцы оккупировали Рейн, когда нам уже нечем было выплачивать эти проклятые репарации. Что сделало наше хваленое правительство? Ничего! Не было ни сил, ни решительности. Разве таких вождей заслуживает великий германский народ?
Отец ничего не ответил.
Гость остался у нас на ночь, мать постелила ему в единственной свободной каморке на первом этаже. Утром он тепло распрощался с родителями и вышел из нашего дома; я уже ждал его на улице. Увидев меня, он молча кивнул и собрался пройти мимо, но я преградил ему дорогу.
– Я видел, как вы вчера показывали свой партийный билет отцу, – проговорил я прямо.
Он уже внимательнее окинул меня взглядом и осторожно произнес:
– Положим.
– Пожалуйста, – горячо заговорил я, – помогите и мне вступить, что для этого нужно? Я хочу принести пользу своей стране.
– Сколько тебе лет, сынок?
– Почти шестнадцать. – Я тут же расправил плечи и выпятил грудь.
В действительности в то время мне было только пятнадцать, но выглядел я на все восемнадцать. Я был физически развит, высок и силен и часто ловил на себе особые взгляды девушек, природу которых в силу возраста или пуританского воспитания не понимал, отвечая широкой наивной улыбкой.
Гость покачал головой.
– Ты еще слишком молод, мой мальчик. Не могу я без разрешения отца распорядиться твоей судьбой. Хоть он и превратился в самодура, но все же он по-прежнему мой друг, спасший когда-то мою шкуру.
Я резко сник, настроение у меня вмиг испортилось. Даже в свое отсутствие отец умудрялся портить мне жизнь. Видя мое разочарование, Теодор порылся в своем портфеле и что-то достал.
– Нá вот, возьми почитай, только отцу не показывай, очень уж он у тебя трепетный стал к таким вещам.
Он протянул тонкую книжицу. На мягкой потрепанной обложке большими буквами было отпечатано название партии, под ним был нарисован мотыгообразный крест, обведенный толстым кругом. Я тут же спрятал брошюру под рубашку. Он быстро кивнул, затем хотел было сразу идти, но на мгновение все же задержался и крепко пожал мне руку. И направился в сторону вокзала. Я еще долго смотрел вслед этому высокому человеку с тяжелой походкой, будучи, к своему сожалению, почему-то уверен, что больше никогда его не увижу.
Мне понадобилось менее часа, чтобы проглотить брошюрку от корки до корки. «Арийцы – элита белой расы. Сподвижники прогресса, мыслители, творцы, воины – высшие создания природы. Сверхлюди». Я тихо шевелил губами, жадно поглощая строчку за строчкой: «…как никакой другой народ, они имеют право на лучшее жизненное пространство…» Держать полученную информацию в себе было выше моих сил, мне необходимо было с кем-то обсудить прочитанное. На следующий день я рассказал обо всем Отто, своему школьному приятелю. Тот передал остальным. Мы начали слушать радио, читать газеты, выуживать информацию о деятельности партии где только можно, а после уроков бурно обсуждать последние новости и свои мысли на этот счет. Мы осознали, что именно мы избраны для того, чтобы переломить отчаянную ситуацию, в которой оказалась Германия, потому что мы – немцы и уже по одному этому имеем право. Само провидение было за нас, поскольку наделило нас силой и властью над остальными, и пришло время воспользоваться этим. Это кружило голову, заставляло кровь бежать быстрее, а сердце биться отчаяннее. Мы спорили, дрались, тут же мирились и мчались выплескивать энергию, которая хлестала через край.
Нам нужен был смысл, и мы нашли его.
Заводилой у нас был Эрих Штицель, ему уже исполнилось восемнадцать. Ходили слухи, что в школе он считался тупицей, заставлявшим даже самых терпеливых учителей бессильно опускать руки, но при этом он был невероятно амбициозен – нелепое сочетание, а потому я был склонен верить, что на Эриха наговаривали. Он был враждебен ко всему происходящему, что вело к недовольству и частым возмущениям, но при этом он всегда оставался необычайно серьезен. У него были огромные глаза, пристально ощупывавшие каждого пред ним, и низкий, чуть хриплый голос, заставлявший окружающих невольно умолкать и прислушиваться, даже когда он говорил тихо. Эрих был прирожденным лидером, я откровенно восхищался им. Он часто наведывался к родственникам в Мюнхен, и именно от него мы узнавали все последние новости из гущи событий. Часто он привозил с собой «Фёлькишер Беобахтер»[28], в которой я жадно прочитывал всякую новость об охранных отрядах[29]. Все обсуждали штурмовиков[30], которые наделали много шума своими выступлениями, а потому были постоянно на слуху, но для меня, как и для других мальчишек, именно охранные отряды стали чем-то манящим, новым. Если в штурмовики брали всех без разбора, и старых, и молодых, и слабых, и сильных, и, поговаривали, ради численности не чурались принимать даже пьяниц, то в охранные отряды был жесткий отбор. Это была самая настоящая элита, стать частью которой могли только лучшие из нас. Чтобы попасть туда, необходимо было соответствовать огромному количеству жестких требований, которые подробно перечислялись в газете. Там же была большая фотография отряда, которую я рассматривал с восхищением и завистью: внешний вид, выправка – всё свидетельствовало об их избранности. Еще бы, ведь они были приближены к первым лицам партии. К моему сожалению, даже имея идеальные характеристики, попасть в их ряды было сложно, так как численность этих отрядов была сильно ограничена, в отличие от формирований штурмовиков.
Зимой, после рождественских празднований, в этой же газете мы прочитали о назначении нового рейхсфюрера, возглавившего эти охранные отряды. Его карточка была напечатана рядом с сообщением, и я пораженно узнал в нем того мотоциклиста, который несколько лет назад приезжал в наш городок и рассказывал о евреях. Он изменился, стал полнее, глаза его спрятались за стекла небольших аккуратных очков, и тем не менее это был он, я мог поклясться. Поговаривали, что он еще больше усилил дисциплину в отрядах и распорядился принимать лишь тех, кто соответствовал не только самым строгим физическим критериям, но и расовым. Втайне каждый из нас мечтал, что именно он станет тем счастливчиком, который удостоится подобной чести. Эрих даже раздобыл где-то черные фуражки, и мы нарисовали на них черепа. Однажды я забыл снять эту фуражку перед домом, за что получил нагоняй от отца, но меня это ничуть не расстроило, наоборот, в тот момент я почувствовал себя истинным борцом за свои принципы и идеалы. И чем сильнее распалялся отец, тем бо́льшим бунтарем и повстанцем я себя ощущал. Но справедливости ради стоит отметить, что он так ни разу и не выпорол меня, как обещал.
– Это избранные, усёк, сопляк?
Было жаркое лето двадцать девятого.
В горле пересохло, необычайно хотелось пить, но было лень идти к колодцу за водой. Я бессознательно чертил в пыли какие-то кривые фигуры мыском ботинка и краем уха слушал, как Эрих поучал чем-то провинившегося Отто.
– А мы чем не избранные? – ввернул Отто.
Из присутствовавших здесь мальчишек Отто был единственным моим одноклассником.
Эрих с усмешкой покачал головой.
– Начать с того, что ты еще малявка. Туда берут настоящих мужчин двадцати трех лет от роду, у которых здоровье бычье и телосложение как у Берта.
Высоченный Берт был помощником в мясной лавке. Он тут же поиграл мускулами на своих руках-сваях, которыми запросто мог погнуть не самый тонкий железный прут.
– Здоровье у меня и так лучше всех, и на физвоспитании я самый быстрый, – тут же парировал Отто.
Эрих посмотрел на меня и приподнял брови. Я тут же подскочил и громко продекламировал:
– Внешний вид, выправка, поведение, железная дисциплина и расовая чистота! Хронические пьяницы, болтуны и лица с иными пороками не подлежат рассмотрению!
Отто ничего не ответил и хмуро уставился на свои башмаки. Я знал, в чем была причина его резкой угрюмости: отец Отто, вернувшись после войны, запил по-черному и вскоре умер. Сгорел от спирта, как говорила моя мать. И вряд ли Отто мог рассчитывать, что это не будет отражено ни в одной из необходимых рекомендаций.
– Можно и к штурмовикам, – заикнулся было долговязый Макс, но Эрих тут же накинулся на него:
– Дурак!
– Но ведь, по сути, и те и другие служат одной партии, и цель у них, выходит, едина, – продолжал протестовать Макс.
– Не равняй! – еще громче рявкнул Эрих.
Макс окинул всех нас взглядом, словно пытался найти поддержку, но все молчали. Он пожал плечами, затем вдруг неожиданно перевел тему:
– Вчера с матерью были на кладбище у бабки, там недалеко могила одного еврея, отца торговца Хаима.
И Макс посмотрел на Эриха, словно пытался загладить свою предыдущую оплошность.
– Еврей зарыт рядом с немцами, непорядок, – согласно кивнул Эрих, тем самым давая понять, что принимает замечание Макса в качестве извинения.
Мы не знали, чем заняться, и не нашли ничего лучше, чем податься на кладбище и посмотреть на могилу, о которой говорил Макс. Там он указал на захоронение с шестиконечной звездой. Впрочем, таких было много, но мы почему-то сосредоточились на несчастном отце Хаима.
Эрих достал заветную книгу в красном переплете и начал зачитывать оттуда обведенные карандашом отрывки, посвященные неполноценности и опасности, которую несли евреи. Постепенно он распалялся, его голос становился громче, брови то сходились, то расходились, изгибаясь дугой, пока наконец не сошлись так, что превратились в одну прямую полосу, почти скрывшую от нас его сверкавшие круглые глаза, направленные на книгу.
– «Нет такой мерзости, к которой не был бы причастен хоть один еврей. Если вскрыть такой нарыв, вы найдете, словно червя в гниющем трупе, ослепленного внезапным светом, жида!» – рычал Эрих.
Я почувствовал, как во мне быстро поднимается волна гнева, требующая выхода. Слова, которые выплескивались из перекошенного рта Эриха, проплывали у меня перед глазами живыми образами. У моих ног была уже не могила отца торговца Хаима, а средоточие всего, что стало причиной унижения и страданий Германии.
– Грязный отброс! Из-за них всё…
Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я с остервенением пнул каменную плиту. Моему примеру последовали остальные. Не жалея ни ног, ни ботинок, мы принялись бить по плите и земле, обрамлявшей ее, вздыбливая комья, поросшие редкой травой. Отто схватил валявшуюся неподалеку гнутую трубу и со всей силы ударил ею по плите. Отколовшийся кусок камня отскочил ему прямо в лицо и расцарапал щеку, но Отто даже не заметил этого, продолжая со звериным рыком дубасить по плите, будто она была виновата в том, что его отец сгорел от пьянства. Я не знаю, сколько это продолжалось, просто в какой-то момент понял, что окончательно выбился из сил, и, тяжело дыша, прекратил так же внезапно, как и начал. Пятясь назад, я с ненавистью смотрел на плиту. Она, конечно же, не раскололась, но пострадала изрядно, ощерившись царапинами и многочисленными сколами. В этот момент Макс спустил штаны и начал мочиться на нее – пыльный сухой гранит тут же потемнел от горячей струи. Остальные начали молча расстегивать штаны. Напоследок каждый посчитал своим долгом плюнуть на могилу.
Кто-то видел нас на кладбище, и на следующий день о нашем поступке гудела вся школа.
– Я тебя выпорю, если не прекратишь, – гремел отец.
Прикрывая лицо платком, плакала мать. Я молчал. Очевидно, они думали, я не знаю, что им ответить и как оправдаться, но я попросту считал ниже своего достоинства что-либо объяснять им.
– Так больше продолжаться не может, – покачал головой отец, – я поговорю с директором Штайнхоффом, с вами нужно что-то делать.
Повернувшись к матери, он сокрушенно проговорил:
– Эта новомодная зараза распространяется с опасной скоростью. Они подражают друг другу, как обезьяны, совершенно не вдумываясь в суть этого… этого… этих идей!
Через неделю в школе было сделано объявление о запрещении национал-социалистической литературы. Болваны! Меня разбирал смех. Приток желающих примкнуть к организации после этого запрещения вырос в несколько раз. Директор Штайнхофф и мой отец оказали нам неоценимую услугу: те, кто в нашем захолустье еще раздумывал о молодежном движении партии, сделали свой выбор после объявления Штайнхоффа. Запрещение оказалось лучше любой агитации.
Вскоре пришли новости о волнениях в Киле, Ганновере и Мюнхене, которые спровоцировали члены гитлерюгенда, и я захлебывался от зависти. Сидение над книгами и трата драгоценного времени на зубрежку уроков, в то время как решалась судьба моего народа, казались преступлением. Мне хотелось быть там, с ними, в центре событий, вершить историю, рисковать жизнью, а не раздавать газеты и мочиться на могилы старых евреев, но пока я не мог присоединиться к ним. Как бы я ни презирал родителей, я подозревал, что пока без них пропаду. И, видя, что не все вокруг еще осознали, за кем правда и будущее, я готов был выть от бессилия, равно как и был готов доказывать истину ежедневно чем угодно, доводами ли, кулаками ли.
Однажды мы с Максом и Отто, как обычно, слонялись по окраине города. Заняться было нечем. Эриха с нами не было, и красоваться было не перед кем, но тема наших разговоров оставалась неизменна.
– Слышал, говорят, в Нюрнберге выкрадывают и убивают христианских младенцев. Евреи, знамо дело, – начал Макс.
– Для чего? – лениво спросил я, развалившись прямо на траве.
– Добавляют их кровь в свой ритуальный хлеб. Маца, кажется, ее готовят в Песах, праздник у них большой.
Я представил себе кусок хлеба, красный и влажный от младенческой крови, и меня передернуло от гадливости.
– Думаю, даже для них это перебор…
– Ага, перебор, – язвительно протянул Макс. – А куда накануне их Песаха исчезают сотни младенцев по всей Германии?
Я не знал, куда они деваются. Собственно, как до этого и не знал, что они вообще исчезали. В этот момент послышалось легкое повизгивание из кустов. Я присмотрелся, но ничего не разглядел, тогда встал, подошел ближе и раздвинул ветки. Под ними в тени лежала сука со щенками. Она затравленно посмотрела на меня своими гноящимися глазами, но с места не двинулась: два щенка сосали молоко. Я знал, что это за собака, уж слишком примечательный окрас – белая с черными широкими кругами вокруг глаз, как у восточного медведя. Я видел ее в бакалейной лавке Леви, она постоянно там терлась. Очевидно, убежала, чтобы ощениться в одиночестве.
– Это шавка торговца Леви, – подтвердил мою догадку Отто, – убежала, наверное.
– Даже собаки не хотят жить с евреями, – хохотнул Макс.
Ему самому его шутка показалась остроумной.
Сигналом послужила фраза Отто:
– Уж Эрих бы не дал еврейской собачонке плодиться.
Я не имел ничего против собаки и ее щенков, но мысль о том, что могу сделать что-то, что понравится Эриху и даже впечатлит его, обожгла разум горячей волной.
Приподняв ветку, я нагнулся и потянулся к щенкам. Сука ощерилась и зарычала. Я испуганно отдернул руку. Тогда Макс схватил валявшуюся неподалеку палку и ткнул ей в морду. Собака отчаянно залаяла, но снова не двинулась с места. Нависнув над щенками, она огрызалась на каждый тычок палки. Тогда Макс замахнулся и ударил изо всей силы. Псина протяжно заскулила, но тут же вновь разразилась яростным лаем. Макс ударил еще раз, и ему все-таки удалось отогнать ее от щенков.
– Хватайте их! – крикнул он.
Мы с Отто подхватили по щенку и кинулись прочь. Пятнистая собака продолжала бежать за нами, не переставая лаять. Макс на ходу пытался достать до ее хребта палкой, но животное не обращало внимания на эту угрозу. Ее блестящие глаза были устремлены на наши с Отто руки, в которых были зажаты теплые полуслепые комочки. В какой-то момент Максу все же удалось еще раз огреть ее палкой по самому темени, у собаки потекла кровь, она тягуче и прерывисто заскулила и отстала. Крупные красные капли падали на пыльную дорогу, оставляя петляющую линию за ней, но она не останавливалась и семенила за нами, продолжая жалобно скулить.
Пробежав еще несколько улиц, мы нырнули в чей-то пустовавший сарай. Макс прикрыл за нами скрипучие двери. Мы с Отто, не сговариваясь, положили щенков на пол и растерянно посмотрели друг на друга. Никто из нас не решался сделать то, что подразумевалось.
– Да что уставились?! Кончайте их!
И Макс, распаленный борьбой с собакой, с хрипом опустил палку на тщедушную черепушку одного из щенков. Я не успел закрыть глаза и увидел, как она безобразно деформировалась, кровь брызнула во все стороны, и, кажется, вылетел крохотный разбитый глаз. Я сглотнул. Комок подступал к горлу. Было ясно, что щенок мертв, но Макс ударил еще раз. Потом переключился на другого. Теперь я уже не закрывал глаза не потому, что не успел, а потому, что не мог. Больным, измученным взглядом я следил за окровавленной палкой, опускавшейся на маленький коричневый комок, который сминался и принимал невообразимые формы под ударами. Господи, прекрати это! Господи, если ты есть…
Вскоре на полу было шерстяное кровавое месиво.
Я услышал странные звуки за спиной. Обернувшись, я увидел согнувшегося пополам Отто. Его обильно тошнило прямо под ноги.
Ночью я не спал. Как только я закрывал глаза, я видел перед собой ощерившуюся суку с черными пятнами на морде. Я все еще чувствовал в руках мягкое, теплое, дышащее… Что на меня нашло? Зачем я это сделал? Черт подери, как же это было омерзительно. И самое ужасное, никто же не заставлял. Эрих бы никогда и не узнал, если бы мы прошли мимо той собаки.
Я проворочался до утра, раз за разом представляя, как разворачиваюсь и иду прочь от куста, оставив отдыхать в его тени собаку и ее щенков. Я до мельчайших подробностей представлял картину своего отступления, с тоскливой безысходностью осознавая, что мне никогда не удастся ее реализовать, так как иное уже было сделано. Завтракать я не стал, несмотря на недовольство матери. Боялся, если запихну в себя хоть кусок, то меня тут же вывернет наизнанку.
Мы с Отто строго-настрого пригрозили Максу: если он хоть кому-то проболтается о произошедшем, то мы лично его прикончим. Макс обиделся.
– Как будто я один там был, – недовольно проворчал он.
Этот случай мы больше не обсуждали. Я хотел забыть его как можно скорее, благо события в школе постепенно вытеснили его из головы. Мы стали прижимать и устрашать еврейских учеников, чтобы показать им их место. Начали с евреев из младших классов, к старшим пока не лезли.
– Это более восприимчивая аудитория, – заявил Отто.
Мы с Максом согласились.
Если утром, на первом перерыве, мы ограничивались лишь подзатыльниками, то после уроков, когда многие учителя уже расходились и еврейские морды не имели возможности пожаловаться, мы устраивали настоящие стычки. Втроем мы зажимали в углу очередного носатика и драли ему уши, пока он не начинал ныть от боли. Напоследок мы вытаскивали из его сумки тетрадь, вырывали лист и наспех писали «билет в Палестину в один конец», а затем запихивали за шиворот ноющему школьнику. Об этих билетах нам рассказал Эрих. «В Мюнхене уже каждая еврейская собака обилечена», – смеялся он. Прежде чем отпустить очередного еврея, мы строго приказывали ему молчать, если он не хотел повторения «обилечивания» на следующий день.
Все шло гладко, пока Макс не увлекся и не оставил приметный синяк на скуле младшего сына аптекаря Гурвица. Под нажимом отца тот поведал, кто его так отделал. Нас вызвали к директору, а после жесткого выговора передали родителям. Я понимал, что очередной лекции не миновать, и уже был готов к родительским нравоучениям и, возможно, даже к розге от отца. Но вместо этого мать просто тихо сообщила, что я отправляюсь на месяц к тете Ильзе, ее старшей сестре. Отец и вовсе ничего не сказал, лишь посмотрел на меня так, как обычно смотрел на него я, – с презрением.
Очевидно, вырвав из привычного окружения, родители хотели отвадить меня от моих устремлений. Я, конечно же, был против и сопротивлялся всеми силами, но все-таки был усажен в поезд и отправлен во Франкфурт, а оттуда в Бад-Хомбург.
Когда-то Бад-Хомбург был излюбленным местом отдыха русской аристократии, приемы и вечеринки не стихали здесь на протяжении всего лета и в рождественские праздники. Об этом мне рассказала тетка Ильза, старая вдова, проживавшая одна в огромном доме на Линденштрассе. Однако после войны город утратил былой лоск, и сейчас здесь было тихо и спокойно.
В полном одиночестве я бродил по лесным склонам горы Таунус, считая не только дни, но и часы до своего возвращения из ссылки. Желая скоротать время, иногда заходил в курпарк[31]. В его глубине находилось сооружение, напоминавшее старый неухоженный дворец. Оказалось, это была водолечебница. Когда-то она была открыта только для августейших особ, теперь же и я мог выпить там минеральной воды и искупаться в термальном источнике. На противоположной стороне парка стояла русская капелла, которую построил какой-то знаменитый архитектор по фамилии Бенуа. Тетка Ильза рассказала, что в ее закладке лично принимал участие российский император Николай II.
Я запомнил все эти детали, потому что они были связаны с главным событием моей жизни.
Неподалеку от этой капеллы я впервые и увидел ее.
Она стояла ко мне спиной, прячась от жаркого солнца под белым воздушным зонтиком. Я поразился хрупкости ее фигуры. У нее была настолько тонкая талия, что создавалось впечатление, будто ее можно переломить одной рукой. И почему только мне пришла эта дурацкая мысль в тот момент?
Неожиданно подул ветер, взметнувший ее светлые волосы. Порыв усилился и вырвал зонтик из ее рук. Солнечные лучи тут же полоснули по прелестной головке, опалив кудри, ярко зазолотившиеся до слепоты, которая постигла бы всякого, вздумавшего пристально и бесстыдно смотреть на них. Вскрикнув, она обернулась и попыталась поймать зонт за изогнутую ручку, но не тут-то было. Ветер, поднявший пыль, понес его прямиком ко мне. Я продолжал наблюдать. С тягучим треском заволновались кроны деревьев, полетели ослабевшие листья. Я прикрыл лицо ладонью, спасая глаза от пыли, но сквозь пальцы по-прежнему видел ее. Она бежала за зонтиком, придерживая одной рукой падающие на лицо волосы, а другой – подол платья, так и норовивший взметнуться ввысь. Зонтик уже был у моих ног, я наклонился и быстро подхватил его. Небо внезапно и стремительно заволокло и где-то вдалеке загрохотало. Девушка испуганно замерла и на секунду зажмурила глаза. Я молча стоял, не отводя от нее взгляда. Заметив это, она смущенно уставилась себе под ноги. И тут упала первая тяжелая капля, вторая, и вот уже ливень громко забарабанил по иссушенным дорожкам. Дурман истосковавшегося по дождю парка постепенно начал окутывать все вокруг. Она первая вышла из оцепенения и кинулась под раскидистое дерево, я за ней. Не говоря ни слова, я поднял над ней ее зонтик, правда, от дождя он плохо спасал. Я хотел скинуть свою куртку, чтобы накинуть ей на плечи, но никак не мог набраться смелости сделать это.
– С утра па́рило, так и знал, что будет дождь, – наконец проговорил я.
Она чуть повернула голову и растерянно посмотрела на меня. Ко лбу ее прилипла прядь, потемневшая от воды. Мне захотелось убрать ее, но я вовремя одернул себя.
– Да, – только и произнесла она.
Это был божественный голос. Самый нежный и прекрасный, который я когда-либо слышал. Я готов был так стоять вечно и держать над ней зонтик, глядя, как вздымается крохотная грудка под промокшей тканью кружевного платья. Завитки ее белокурых волос, еще минуту назад непослушно разлетавшиеся по сторонам, теперь облепили ее плечи и спину. Я чуть заметно подался вперед, чтобы вдохнуть запах ее мокрых волос, и в этот момент из-за деревьев показалась какая-то толстуха с плащом в руках. Несмотря на свои телеса, она довольно прытко мчалась в нашу сторону.
– Это моя гувернантка! – радостно воскликнула девушка и выпорхнула из-под защиты густой лиственной кроны.
Я же так и остался стоять под деревом с бесполезным дамским зонтиком в руке.
Вечером за ужином я показал тетке этот зонтик.
– Сегодня в парке его забыла девочка, такая худенькая, с золотистыми вьющимися волосами, – как бы невзначай произнес я.
– О, должно быть, дочка Вернеров, Бекки, замечательная девочка.
– Бекки Вернер, – зачем-то негромко повторил я.
– Да, – кивнула тетка, сделав глоток чая, – весьма достойная семья, каждое лето приезжают сюда. В этом году они припозднились. Нужно будет нанести визит, я, знаешь ли, приятельствую с Ингрид Вернер, матушкой Бекки.
Я ничего не ответил. На следующий день я выяснил у нашего молочника, где проживали Вернеры, и, взяв зонтик, направился туда.
Не столь важно, о чем я думал, сколь то, какие эмоции обуревали меня. Это было что-то новое, странное и, надо признаться, не очень приятное, так как сердце колотилось где-то в районе горла, мешая нормально дышать, ладони потели, а живот сводило, заставляя малодушно подумывать о визите в уборную, а не к Вернерам. По пути я встретил одну из тетушкиных знакомых и поздоровался с ней. Я не узнал собственного голоса, он звучал хрипло и испуганно. Я прочистил горло и двинулся дальше. Когда я наконец нашел нужный дом, был уже полдень. Встав в тени лип, я внимательно смотрел на окна, тревожно теребя в руках зонтик. Кто-то мелькнул в окне на втором этаже, может, она?
Я простоял почти час, но так и не решился позвонить в дверь. Проклиная собственную глупость и трусость, я побрел домой.
На следующий день я поклялся себе, что позвоню в дверь, чего бы мне это ни стоило, но, откровенно говоря, не уверен, что выполнил бы эту клятву, если бы не случай. На мое счастье, когда я уже мялся возле двери, она открылась и на пороге показалась та толстая гувернантка, прибежавшая в парк с плащом. Очевидно, она собиралась куда-то идти, но замерла и удивленно посмотрела на меня. Я чуть поклонился и, словно в свое оправдание, показал ей зонтик.
– Та девочка, которую вы увели, забыла.
Толстуха улыбнулась и потянулась за зонтиком.
– Благодарю, я передам.
Но я не выпускал зонтик из рук.
– Я бы хотел сам, – настойчиво произнес я, пытаясь заглянуть ей за плечо.
– С кем ты там разговариваешь, Магда? – раздался женский голос из глубины дома.
На крыльцо вышла женщина в элегантном темно-синем домашнем платье и с любопытством посмотрела на меня. У нее были такие же красивые светлые волосы, как и у Бекки, только уложены двумя косами вокруг головы. Я сообразил, что это, скорее всего, ее мать.
– Добрый день, фрау Вернер, – как можно почтительнее произнес я.
– Откуда вы меня знаете? – полюбопытствовала она, продолжая разглядывать меня.
– Я племянник Ильзы Клозе, – отрекомендовался я и тут же добавил, что принес забытый ее дочерью зонт.
Ингрид Вернер просияла.
– Как любезно с вашей стороны. Проходите, молодой человек.
Они посторонились, пропуская меня в дом. Я зашел и остановился посреди гостиной.
– Бекки, будь так добра, спустись! – крикнула фрау Вернер.
Она спускалась по ступенькам вприпрыжку, перепрыгивая через одну. Я понял, что ей было не больше тринадцати. Увидев меня, она на мгновение замерла, лицо ее вмиг стало серьезным, и остаток лестницы она преодолела уже спокойно, ступая на каждую ступеньку.
– Бекки, это Виланд фон Тилл, он принес твой зонтик, – проговорила ее мать.
Бекки подошла и без слов забрала у меня зонт. Затем, отойдя к матери, приподняла смущенное лицо и тихо произнесла:
– Благодарю вас.
Я не знал, что мне делать и что говорить. К счастью, на выручку вновь пришла фрау Вернер.
– Ждем вас сегодня с тетушкой на чай.
Обратно я мчался опрометью. Я не мог дождаться вечера, чтобы вернуться в дом Вернеров в красивой выходной одежде и показать себя в лучшем свете. Тетка же не могла понять моего возбуждения и списала все на благотворное влияние минеральных вод Бад-Хомбурга.
– Вот ведь, приехал замученный и молчаливый, а теперь полон энергии. И почему Герти раньше не отправляла тебя ко мне?
Я не стал ее разубеждать. Во́ды так во́ды.
За ужином тетя Ильза и Ингрид Вернер оживленно болтали, никто им не мешал: муж фрау Вернер был в каком-то мужском клубе, собиравшемся по вечерам в парковом казино, а мы с Бекки, воспользовавшись тем, что на нас не обращали внимания, выскользнули из-за стола и ушли в гостиную.
– Еще раз благодарю за зонтик, – произнесла она, когда мы оказались одни.
– Не стоит, – поспешно ответил я.
Я вновь поразился, сколь хрупкой и лучезарной она была, словно светилась изнутри. И я пошел на этот свет. Бессознательно я взял ее за руку, ожидая, что она сейчас же отнимет ее и отстранится, но она не сделала этого, напротив, повернулась и смело глянула мне в лицо. На нем не было никакой напускной стыдливости, лишь любопытство и интерес.
– Сколько тебе лет, Виланд? – спросила она.
– Шестнадцать, а тебе тринадцать?
– Вот еще, – она резко вскинула голову, – уже четырнадцать!
– Давай завтра погуляем в парке, – предложил я.
– Давай, – согласилась она, – я буду с Магдой.
Очевидно, на моем лице слишком явно отразилось разочарование от перспективы провести время в компании гувернантки, и Бекки поспешила добавить:
– Не волнуйся, когда мы с ней заходим в купальни, она встречает приятельниц и совершенно забывает обо мне, тогда я выхожу и брожу по парку совершенно одна.
В эту ночь я долго не мог сомкнуть глаз, все представлял себе завтрашнюю прогулку с Бекки: о чем мы будем говорить, как себя вести, куда пойдем. Лишь через несколько часов сладких предвкушений я все-таки погрузился в беспокойный сон.
На следующий день я спрятался недалеко от входа в водолечебницу. Я видел, как туда прошествовали Магда и Бекки, а минут через десять девушка вышла уже одна. Она огляделась, и я помахал ей рукой.
Мы долго гуляли по тенистым аллеям. И я уже не боялся брать ее за руку, чувствовал, что она не против. Тогда я мог лишь догадываться, что ей было так же приятно, как и мне, ощущать эти прикосновения. Меня пробирала дрожь, когда я держал в своей большой ладони ее узкую кисть. Я попеременно то сжимал ее, то перебирал тонкие пальцы. Она не боялась, не жеманничала, была открытой и естественной, как и положено чистому и безгрешному ребенку четырнадцати лет.
Наши прогулки вошли в привычку. Мы гуляли по парку каждый день и с каждым разом становились все ближе и ближе друг другу. Конечно, мы не перешли определенной черты, потому что попросту не ведали, как ее переходить, но всем нутром ощущали – далее нам друг без друга никак.
Иногда я расстилал в укромном уголке парка на траве свою куртку, и мы сидели, прижавшись друг к другу. Я перебирал ее золотистые кудри, смотрел на ее закрытые глаза, легкую полуулыбку и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Рядом со мной была моя Бекки, моя девочка, мое сокровище.
Однажды мы шли по дорожке, и из кустов выскочил чей-то спаниель. Собака кинулась к нам, виляя хвостом и заливисто лая, и Бекки тут же спряталась мне за спину. Она прижалась ко мне так близко, что я чувствовал ее дрожь. Она испуганно смотрела на собаку.
– Пошла прочь! – Я быстро нагнулся и схватил камень.
Спаниель остановился и растерянно глянул на мою руку, затем перевел взгляд на мое лицо, зашевелил было снова хвостом, но я угрожающе вскинул руку, в которой был зажат камень. Собака развернулась и умчалась в кусты. Я бросил камень и обернулся к перепуганной Бекки.
– Боишься собак? Глупышка, она же небольшая.
Бекки кивнула, но продолжала испуганно смотреть на кусты. Я обнял ее. Неожиданно она подняла голову и внимательно посмотрела на меня.
– Поцелуй меня, Виланд, – проговорила она.
Я растерялся.
– Ну же, поцелуй меня. – Ее нежный голос зазвучал требовательно.
Глубоко внутри такие мысли уже шевелились во мне, но то были скорее несбыточные мечты, которые потому и были прекрасными, что являлись нереальными. А сейчас она сама просила об этом.
Забыв дышать, я осторожно наклонился и прикоснулся к ее губам. Они были мягкие и теплые, от них пахло имбирным печеньем, которое она, очевидно, ела за завтраком. У меня закружилась голова. Я хотел отстраниться, но Бекки вдруг открыла рот, и я почувствовал, как она скользнула кончиком языка по моим губам. Мне показалось, что земля у кромки обрыва, над которым я балансировал, вдруг провалилась и я полетел в пропасть. Это был мой первый в жизни поцелуй.
Я ошеломленно прижал Бекки к себе.
Это было неимоверно прекрасно, но я все испортил. Я почувствовал предательские ощущения внизу живота, которые беспокоили иногда по утрам. Только не это!
Судя по всему, Бекки тоже это почувствовала. Глаза ее расширились, она испуганно отстранилась и посмотрела вниз.
Я чувствовал себя осквернителем.
– Что это? – спросила она.
– Ничего, – ответил я грубее, чем хотел, и отвернулся от нее, красный как рак.
Неожиданно она рассмеялась и попыталась повернуть меня обратно.
– Ну же, Виланд, ты ничего не должен от меня скрывать, ведь мы же поклялись. Глупо что-либо скрывать от своей будущей жены.
То была чистейшая правда, мы поклялись друг другу в вечной верности и любви, дело оставалось за малым – во всем признаться родителям и дождаться возраста, позволяющего вступить в брак.
Я нехотя повернулся, стараясь прикрыть свой срам руками, и произнес:
– Это некоторые особенности мужской природы. Я не могу это контролировать.
Она внимательно смотрела на меня, в ее взгляде уже не было испуга.
– Я знаю, когда это происходит, – уверенно проговорила она, – когда мужчина хочет женщину.
– Господи, Бекки, где ты услышала такие слова?! – возмутился я.
– Я подслушала разговор Магды с ее кузиной Гретой, когда та выходила замуж. Накануне свадьбы Магда учила Грету, что ее ждет в первую брачную ночь, а я спряталась за балдахином и все слышала, – ничуть не смущаясь, призналась Бекки.
Подумать только, моя маленькая Бекки оказалась в этой теме более подкованной, чем я. Нельзя сказать, чтобы я вообще ничего в этом не смыслил. Когда отец только вернулся с войны, в первые месяцы они с матерью потеряли всякую бдительность и не всегда закрывали дверь в свою спальню. Однажды ночью я проснулся от грозы и по обыкновению испуганно кинулся к матери, но возле их двери остановился как вкопанный. На кровати я увидел нечто, заставившее меня позабыть о грозе. Намертво сплетясь друг с другом, словно змеи, они странно двигались, заставляя скрипеть старую кровать. Скрип этот время от времени заглушался раскатами грома, и тогда их потные тела освещались отблесками молнии. Во время одной из вспышек я увидел закатившиеся глаза матери и ее искривленный страшной улыбкой рот. Тогда она показалась мне самым омерзительным существом на всей земле. Не замечая меня, они продолжали двигаться. Ниже пояса они практически слились – мне казалось, что отец тонул в матери. В тот момент самым большим моим желанием было, чтобы они поскорее разлепились, но отец, словно назло мне, еще сильнее загонял в нее свой отросток, будто хотел, чтобы она вобрала в себя всего его. Я вернулся в свою комнату и, пораженный увиденным, долго плакал, уткнувшись в подушку.
– Виланд, я тоже тебя хочу. – Голос Бекки вырвал меня из оцепенения.
Я не мог поверить, что слышу эти слова от маленького чистого создания.
– Ты не знаешь, о чем говоришь. Это омерзительно.
– Вздор! – неожиданно гневно произнесла она. – Когда двое любят друг друга, в этом нет ничего омерзительного.
Фраза была слишком чужой для Бекки, и, хоть она произнесла ее без запинки, видно было, что она мало что в ней смыслила.
– Ты услышала это от Магды? – догадался я.
Она кивнула. Совсем по-детски, наивно глядя на меня. Я со вздохом обнял ее и снова прижал к себе. Больше она не отстранялась, даже чувствуя мое возбуждение.
Месяц пролетел незаметно. Вернеры собирались остаться в Бад-Хомбурге до конца сентября, а потому в конце лета я начал уговаривать тетку оставить меня еще на месяц.
– Тетушка, драгоценная моя, – ластился я к ней, – этот замечательный воздух и воды идут мне на пользу, я ощущаю подъем сил, как никогда прежде. К тому же я так привязался к тебе, что буду очень скучать. – Я глубоко вздыхал, всем своим видом демонстрируя, сколь сильно буду скучать.
Старая дева буквально таяла. Мне не составило труда заставить ее написать родителям письмо, в котором она убеждала их в необходимости продления моих каникул. Я с нетерпением ждал их ответа. Он пришел быстро. Прочитав его, тетя Ильза удивленно спросила у меня:
– Твоя мать интересуется: не примкнул ли ты здесь случайно к какому-либо кружку и не связано ли твое желание остаться именно с этим?
– Вот еще, – фыркнул я и был честен как никогда.
– Так и напишу, – кивнула тетя Ильза.
Я понял, что добился своего.
Парк, по которому мы с Бекки гуляли, начал постепенно меняться. Сочная зелень уступила место желтым, красным и коричневым мазкам, щедро расцветившим холст пейзажа вокруг нас. Эта перемена напоминала нам с Бекки, что ничего не вечно и вскоре придет конец и нашим прогулкам.
– Завтра родители отправятся в гости к Кёллерам, а Магду я спроважу к подругам, – сказала Бекки, когда мы уже подходили к источникам, – ты должен обязательно прийти. Я тебе кое-что расскажу, Виланд. Кое-что важное.
– Я приду, Бекки, – пообещал я.
На следующий день я дождался, когда вслед за четой Вернер дом покинула и Магда, и незаметно проскользнул через черный ход, который Бекки нарочно оставила открытым. Оказавшись в полумраке коридора, я почувствовал, как она ящеркой скользнула ко мне и обвила своими тонкими ручками шею. Поцелуи давно стали для нас делом привычным, но от этого не менее приятным.
– Виланд, мне нужно что-то сказать, – произнесла она, отстранившись.
В ее голосе звучало сильное волнение, и я напрягся в ожидании тревожных новостей.
– Вчера я услышала, как отец с матерью обсуждали волнения в больших городах, из-за которых нам необходимо уехать раньше. Мы покинем Бад-Хомбург через два дня.
Внутри меня все оборвалось. Безусловно, я и раньше понимал, что когда-нибудь наше лето закончится, но я наивно полагал, если за две недели начну морально готовиться, то к моменту нашей разлуки смогу примириться с этим.
– Так скоро? – выдавил я, в отчаянии глядя на Бекки.
Она грустно кивнула. Мы прошли наверх, в ее комнату. Испуганный скорой разлукой, я не мог насмотреться на ее печальное лицо, старался вобрать в память каждую ее черту, и мне все было мало. Я жадно вдыхал аромат ее волос, стремясь надышаться ею хоть немного впрок. В какой-то момент на меня нашло страшное умопомрачение, и, не в силах бороться с собою, я кинулся к ней, покрывая поцелуями милое лицо. Лишь ощутив на губах солоноватый привкус, я понял, что она плачет. Все еще держа ее лицо в своих ладонях, я спросил:
– Я испугал тебя?
Она покачала головой. И я понял, что она, так же как и я, страдала до слез от скорой разлуки. Забыв обо всем на свете, я вновь начал ее целовать – губы, носик, заплаканные глаза, нахмуренный лоб, белокурые мягкие волосы. Она распустила их, я с наслаждением зарылся в них руками и прижал ее так крепко к себе, что рисковал сломать.
Мое возбуждение мы почувствовали оба. И тут Бекки сделала то, что по-настоящему напугало меня. Она завела назад руки и начала расстегивать длинный ряд пуговок у себя на спине. Вскоре платье было на полу, и, переступив через него, она осталась в одной сорочке и белье. Замерев, я наблюдал за ней. Без всякого стеснения она стянула с себя сорочку и подошла ко мне. Меня колотила дрожь. Я впервые видел обнаженную девушку, и это была не просто девушка, это была моя любимая Бекки.
Я даже не пытался отговорить ее, потому что чувствовал: если эмоции, бушующие во мне, не найдут выхода, я просто умру. И это было не только на эмоциональном уровне, но и на физическом, меня буквально распирало изнутри. Но в то же время я боялся навредить ей, ведь я был таким огромным и высоким, а она такая тоненькая и миниатюрная, неужели это возможно? Дрожащими руками я скинул куртку, свою коричневую рубашку и брюки, стыдливо стянул белье и присоединился к Бекки, которая уже нырнула под одеяло. Ее еще полудетская кровать была явно не рассчитана на то, что мы собирались сделать. Пружины жалобно скрипнули, когда я навис над Бекки. Держась на руках, я смотрел на сокровище перед собой. Грудь ее еще до конца не оформилась, это были чуть припухшие нежные холмики, внизу только начали золотиться волосы. Своей коленкой я осторожно развел ее ножки и опустился. Бекки тихо охнула, но не стала отталкивать меня. Я попробовал немного надавить и проскользнул в нее буквально на сантиметр. Все заволокло туманом, сквозь который я мог разглядеть лишь распахнутые, блестящие глаза Бекки. Она раздвинула ноги шире, словно приглашая меня, и я сделал резкий рывок. Не удержавшись, она закричала. Я испуганно закрыл ей рот ладонью, но остановиться уже не мог и продолжал двигаться. Я видел, что ей больно, чувствовал, как она извивалась подо мной, пытаясь выскользнуть, но намертво прижал ее к кровати. Там внизу было так тесно, горячо, все пульсировало и горело. Я не мог понять, где находился центр моего наслаждения в эти мгновения, и в голове все плыло, и внизу все растекалось сахарно-карамельным сиропом. Одной рукой я по-прежнему зажимал ей рот, другую завел ей за спину и крепко обнимал. Господи, ей больно, а я не останавливаюсь, я животное! Я это понимал и все равно продолжал. Сколько это длилось, секунду, минуту, час, вечность, не знаю, я потерял счет времени. Неожиданно внизу что-то взорвалось, и в голове рванул фейерверк. Без сил я упал на Бекки.
Через некоторое время я обрел способность мыслить. Меня окатило волной ненависти к самому себе, я боялся посмотреть на Бекки. Обидел, милая, милая, милая…
– Виланд, – она нежно позвала меня.
Я поднялся на руках и взглянул на ее заплаканное лицо. Она не выглядела обиженной или расстроенной, ее лицо светилось любовью. И я разрыдался.
Она гладила меня по голове, пытаясь успокоить. И лишь через некоторое время я сумел взять себя в руки.
– Тебе было очень больно?
– Это ничего, – проговорила она, – я знала, что так будет. Магда говорила Грете, что в первый раз всегда так. Это ничего, – повторила она. – Скажи, тебе было хорошо?
– Очень, – признался я.
Измученное лицо Бекки просияло.
– Как я рада, а мне было в душе́ хорошо. Это было чувство такого единения, которое я даже представить себе не могла. Виланд, ведь мы с тобой теперь настоящие муж и жена.
Я кивнул со всей серьезностью и поцеловал ее в лоб, покрытый испариной.
Мы еще полежали немного и начали собираться. Еще не хватало, чтобы родители Бекки застукали нас.
На простыне алело небольшое пятнышко. Мы убрали ее, и Бекки принесла новую, которую мы постелили на место прежней, а старую я свернул в тугой узел, решив забрать с собой.
Бекки достала из своей маленькой сумочки кусок стекла.
– Зачем это? – удивился я.
– Хочу поклясться тебе на крови в своей вечной верности, ты сделаешь для меня то же самое?
Я не раздумывал ни секунды. Схватив стекло, я полоснул по ладони сильнее, чем следовало. Бекки испуганно вскрикнула.
– Зачем же так сильно?
Мы оба рассмеялись от моей глупости. Я прижал к кровоточащей ладони простыню, которую собирался забрать. Бекки сделала осторожный надрез на указательном пальце, и мы приложились друг к другу.
Домой я шел, будучи все еще не в силах уложить в голове случившееся. Словно одурманенный алкогольными парами, я придурковато улыбался каждому встречному, не различая, впрочем, их лиц. В каждом я видел только одно лицо. Оно стояло у меня перед глазами, даже когда я закрывал их. Я был счастлив и полон намерений объясниться с родителями Бекки перед отъездом, когда приду ее провожать. Конечно же, я не расскажу им обо всем, кое-что касалось лишь нас с Бекки, – я вновь улыбнулся. Скажу им, что люблю их дочь и намерен жениться на ней, когда она станет постарше. Вернеры показались мне людьми умными, здравомыслящими и современными, уверен, они не станут препятствовать переписке с их дочерью, надо будет записать их точный адрес. А зимой я обязательно к ней поеду, а там и до лета недалеко, а значит, и до ее пятнадцатилетия, а совсем скоро и шестнадцать исполнится, а мне восемнадцать, я пойду работать, чтобы она ни в чем не знала нужды… Замечтавшись, я споткнулся и со всего маха плюхнулся в зловонную лужу, но даже это не испортило мне настроения. Кое-как отряхнувшись, я пошел дальше, продолжая улыбаться как блаженный, будучи не в силах поделить себя между сладостными мыслями о будущем и не менее сладостными впечатлениями от произошедшего. Меня распирало от эмоций.
Ночью я спал отвратительно. Все тело горело, глаза слезились, в ушах стучало. Левая рука поначалу немного ныла, но с каждым часом боль становилась все острее. Когда рассвело и в комнату пробились первые лучи солнца, я с трудом поднял больную руку. Ладонь была красная и опухшая, рана от пореза воспалилась и кровоточила. Я попытался вытереть ее кончиком одеяла, но боль была нестерпимой. На белом одеяле, помимо свежей крови, остались какие-то темные зловонные сгустки.
Я попытался встать, чтобы позвать тетю Ильзу, но голова закружилась, и я рухнул на пол.
Дальше все происходило урывками – я почувствовал, как меня подняли и уложили, и снова наступила темнота. В какой-то момент случился небольшой проблеск, во время которого незнакомые голоса пробились до моего воспаленного сознания:
– Возможен сепсис. Будем отрезать…
– Не позволю! – Твердый голос тети Ильзы.
– Тогда я не ручаюсь за жизнь мальчика.
Я чувствовал, что в моей руке копошатся тысячи, тысячи тысяч кровожадных муравьев, они терзали и раздирали мою руку, сосали и жрали мою плоть, а потом резко прекратили. Я ничего не чувствовал, словно на месте моей руки была пустота.
Сколько я так пролежал, не знаю. Просто однажды открыл глаза и понял, что нахожусь в полном сознании. Неимоверно хотелось пить, я провел липким языком по губам, они были сухие и потрескавшиеся. Позвал тетю, но из горла вырвался едва слышный хрип. Я боялся повернуть голову в сторону больной руки, так как не чувствовал ее. Боялся увидеть там пустоту.
Скрипнула дверь, и надо мной склонилось изможденное лицо тети Ильзы.
– Виланд, мальчик мой, ты очнулся. Как твоя рука?
Я все же повернул голову. Слава всем святым! Конечность была на месте, перебинтованная, с посеревшим плечом, но до кончиков отросших ногтей вся в сохранности.
– Можешь пошевелить ею? – спросила тетя.
Я попытался, но она была словно чужая, лишь слегка дрогнули пальцы. Увидев это, тетя довольно кивнула.
– Хорошо, доктор Лееч предупреждал, что так и будет. Но чувствительность есть, это хорошо, мой мальчик.
– Пить, – прохрипел я.
Тетя налила из кувшина воды и помогла мне напиться. Это отобрало у меня все силы, и я измученно откинулся на подушки.
– Где Бекки? – спросил я.
Тетя непонимающе нахмурилась.
– Какая?.. А, дочка Вернеров? Они уехали из города дней десять назад.
Я закрыл глаза. Если бы я не был так слаб, я бы, наверное, расплакался. Десять дней назад, моя Бекки, ее увезли, и мы даже не попрощались. Я лежал, отчаянно жалея и ее, и себя, пока наконец не утвердился в мысли, что разыщу ее во что бы то ни стало, едва выздоровею, и этим успокоил себя хоть на время.
Когда я сумел встать, то первым делом поплелся к высокому зеркалу. Взглянув в него, я устрашился того, что увидел. Я не узнавал себя: изрядно похудел, лицо, округлившееся и разрумянившееся за лето, вновь вытянулось, осунулось и приобрело пыльный оттенок, под глазами залегли темные круги.
Проведя в кровати и в кресле еще несколько дней, я убедил тетю, что мне необходимо подышать свежим воздухом, и сразу же направился к дому, где жили Вернеры. Я не тешил себя надеждой, что они вернулись, я лишь хотел разузнать, куда они уехали. К моему великому счастью, женщина, присматривающая за домом, узнала меня. Без долгих уговоров она дала мне мюнхенский адрес Вернеров.
Через неделю тетя Ильза отправила меня домой, а сама начала собираться в Берлин, где по обыкновению проводила зимы.
По пути в Розенхайм я думал только о Бекки: где она сейчас, что делает, думает ли обо мне?
Увидев меня, мать испуганно всплеснула руками и запричитала:
– Господи, Виланд, что Ильза с тобой делала, морила голодом?!
С тетей Ильзой мы сговорились ничего не рассказывать родителям, а потому я поспешил успокоить мать:
– Все в порядке, была легкая простуда.
Я с трудом дождался окончания ужина, чтобы убежать в свою комнату и начать писать письмо Бекки. Но уже первая строчка ввела меня в замешательство. Как начать? Я написал «Любимая Бекки», затем подумал и смял листок, – а вдруг письмо увидит ее мать. На чистом листе я написал «Милая Бекки». Посмотрел и понял, что и это тоже не годится. «Бекки». Да, пусть будет так.
Я слышал, как зазвенел дверной колокольчик, понял по голосам, что пришли Отто и Макс, очевидно, узнавшие о моем возвращении, слышал и то, как мать не самым любезным тоном сообщила им, что я занят. Я и не думал выходить из комнаты, мне было наплевать и на Отто, и на Макса, и на мать. В этот момент весь мой мир был сосредоточен в листе, лежавшем передо мной на столе, на котором пока было выведено лишь одно милое сердцу имя. Я подробно описал Бекки, что со мной приключилось и почему я не пришел с ней попрощаться, заверил, что сейчас со мной уже все в порядке, и под конец выразил надежду, что у нее тоже все хорошо и она ответит мне как можно скорее. Перечитав еще раз, я убедился в нейтральности своего тона. Уже было поздно бежать на почту, и я спрятал письмо под подушкой. На следующий день я первым делом отправил его.
Сменялись дни, тягучие, бессмысленные, похожие один на другой, а ответ не приходил. Я донимал Карла-почтальона, срывался на матери, что-то бубнил, когда меня спрашивал отец. Мне было не до них. Выждав некоторое время, я написал еще одно письмо, но и оно осталось безответным. Неужели Бекки обиделась, что я не пришел с ней попрощаться? Но ведь я все объяснил в письме. Может, я неправильно записал адрес? Десятки объяснений молчания Бекки роились у меня в голове и не давали покоя. Я истосковался, мне было физически необходимо увидеть Бекки, а у меня не было даже ее карточки, черт бы меня побрал…
После затяжной болезни я выглядел особенно невзрачно на фоне своих друзей. Я начал посвящать много времени возвращению былой формы: каждый день бегал и упражнялся. Так я убивал сразу двух зайцев: тренировался и отвлекался от мыслей о Бекки, что в любое другое время сделать было практически невозможно. Часто Отто составлял мне компанию, мы убегали в парк и после часовой пробежки затевали борьбу, изрядно осторожничая, конечно, чтобы не навредить друг другу. На радость отцу я начал заниматься и греблей. С командой мы ездили на озеро Кимзее, где я тренировался до одурения и вскоре стал основным загребным в своей восьмерке. Успехи на межшкольных соревнованиях не заставили себя ждать, но меня прельщали не столько радость побед и сияющие жестяные кубки, сколько возможность задавать ритм семи парам рук, быстро и слаженно работавшим за моим корпусом, и ощущение, что веду их за собой именно я. Ну а собственные руки, крепчавшие с каждым днем и бугрившиеся под рубашкой, стали приятным дополнением к этой новой страсти.
Так пролетела зима, за ней пришла такая же торопливая и слякотная весна. Она еще не вступила в свою прелестную стадию липкой зелени и приятного тепла, но была промозглой и ветреной, – я шел из школы с Отто, впереди мы увидели долговязую фигуру Макса, старательно перепрыгивавшего лужи. Он нас тоже заметил и ускорил шаг нам навстречу. Вместо приветствия он молча протянул какую-то листовку. Я начал читать: «…мы, рабочая часть движения, самые счастливые и довольные. Мы готовы праздновать и кричать от радости, узнав, что наш заботливый Гитлер потратил десять тысяч на новенький "мерседес", а мюнхенское руководство строит себе особняки да с помпой перестраивает квартиры, заботясь больше о личных архитектурных проектах, нежели о народе. Нам нравится голодать, особенно зная, что наши фюреры получают по пять тысяч марок в месяц. Мы радуемся за их меню: заграничные деликатесы, птичьи языки да акульи плавники с лучшим французским вином и шампанским. Мы восхищены, что средства партии идут на перестройку и отделку Коричневого дома[32], низкий поклон архитектору Троосту. Мы испытываем истинное наслаждение, зная, что Гитлер большую часть времени шатается по стройкам, ателье, кафе и ресторанам в сопровождении своей свиты…»
– Что это? – хмуро спросил я.
Сердечные страдания на долгое время отвлекли меня от важных событий, происходящих вокруг. Во время жарких споров друзей я оставался больше безмолвным слушателем, погруженным в свои мысли и терзания по Бекки. Но пришло время окончательно позабыть девчонку, не желавшую меня знать, и вспомнить о действительно важных делах.
– Это раскол партии. Эту дрянь распространяют штурмовики. – Макс быстро спрятал бумажку в карман. – Эрих сказал, в их рядах серьезное недовольство, они отказываются участвовать в партийных маршах. Хороши же отряды. Только позорят партию.
– Я слышал, это оттого, что зимой им не выдали теплую обувь, они мерзнут, – поразмыслив, проговорил Отто, – половина из них безработные. Некоторые откровенно голодают.
– Многие голодают, не только они, – проворчал Макс, – чертов кризис. В Германии сейчас пять миллионов безработных. Многие думали, что в штурмовых отрядах им сытно будет, вот и ринулись туда за бесплатными пайками, но сколько ж денег нужно, чтобы задарма кормить столько прожор?
Это была причина, по которой я недолюбливал коричневорубашечников[33]. У меня создавалось стойкое убеждение, что, в отличие от СС, они вливались в партийные ряды не по идейным соображениям, а из любви к бесплатной жратве. Возможно, мне было легко так рассуждать, ведь каждый день я получал сытный завтрак, обед и ужин, уж не знаю, чего моим родителям это стоило, но нужно было отдать им должное – в нашем доме голодные времена не ощущались. Правда, было у меня подозрение, что немалую роль в этом сыграла помощь состоятельной тети Ильзы. Я никогда не задавался вопросом, откуда у тетки столько денег, кем был ее муж, когда и отчего он погиб, я не припоминал, чтобы когда-нибудь видел его, хотя до прошлого года я и с теткой-то не так часто виделся – ее краткие визиты к нам в Розенхайм можно было пересчитать по пальцам. Но как бы то ни было, я был уверен, что не будь у меня регулярного обеда, я бы и тогда не позорил честь партии подобным мещанским нытьем. Это уж как пить дать.
– Глядишь, народ, задавленный нуждой, и поверит этим бумажкам, – проговорил Макс, похлопав себя по карману, в котором спрятал листовку.
– А с другой стороны, хочется уже во что-то поверить, – пожал плечами Отто, – миллионы сидят без работы, уж я-то знаю, мать пятый месяц обивает пороги за пособием, жрать скоро будет нечего.
Макс недовольно сплюнул и проворчал:
– Сами еле зиму протянули. Довели народ до края, полнейший развал и разруха.
Я посмотрел на Отто, затем на Макса, переминавшегося в рваных ботинках.
– Все проклятая республика, Макс, эти позорные трусы поставили нас на колени, потому и надо голосовать за нацистов, – с жаром проговорил я, – Гитлер не боится прямо слать к чертям Версаль с его репарациями. Уж он-то покончит и с республикой, и с коррупцией, и с евреями, и работу даст каждому немцу, тогда-то уж все нажремся досыта.
– Оно-то все так, – согласно кивнул Макс, – и ты знаешь, как надобно, и я знаю, как оно верно, да только у власти все не те. Президент Гинденбург чурается Гитлера, как чумной собаки. А оно и немудрено, учитывая, как штурмовики позорят партию.
– Выше нос, Макс. Выиграем выборы и еще посмотрим, кто кого будет чураться!
Мы распрощались с Максом, и каждый пошел домой.
С наступлением лета родители заставили меня задуматься о дальнейшем образовании.
– Учеба не ограничивается одной лишь школой… – начала мать лекцию, которую я благополучно пропустил мимо ушей.
Как будто я и сам не знал, что учеба – это не только школа. Но у меня впереди был еще целый год на раздумья, и я не желал забивать голову лишними мыслями раньше времени. Впрочем, год тот летел довольно быстро. На Рождество тетя Ильза прислала нам подарок – радиоприемник! Я с благоговением поглаживал деревянный корпус, пока отец крутил ручку, настраивая звук. Вскоре раздалась тихая мелодия, изредка перебиваемая легким треском. Мать восторженно захлопала в ладоши. Глядя на нее, отец тоже не сдержал улыбку.
Позже родители ушли на праздничный обед, который устраивал директор Штайнхофф. Едва за ними закрылась дверь, как я начал крутить ручку приемника, пока сквозь треск не пробился резкий голос. Я сразу узнал его. Это австрийское металлическое звучание я слышал уже не раз. Из-за него не сразу замечалось, что голос у его обладателя был на самом деле мягкий.
«Четырнадцать долгих лет различные партии насиловали германскую свободу со всей возможной жестокостью, избивали настоящих немцев дубинками, предавали народ и обрекали его на голод и позор. Пришла пора положить этому конец…»
Он облекал такие простые и в то же время правильные мысли в идеальную словесную форму. Это был восторг, чистый восторг. Его голос проникал в мое сознание, цеплялся за самые его глубины и воспалял мой мозг. Я завороженно слушал, ничего не видя перед собой. Постепенно он входил в раж, модуляции его голоса повышались. Я уже видел, как он умывается собственным потом, доводит сам себя до состояния бессилия, близкого к изнеможению, как орошает микрофон слюной. Он заговорил еще быстрее. Слова лились, и каждое было похоже на искусный выпад фехтовальщика, коловшего точно в цель, а затем молниеносно отступавшего на шаг назад, чтобы сам слушатель осознал, что поражен словом в самое сердце. Этими выпадами он постепенно загонял внимавшего ему в какой-то экстаз, в измерение, где тот переставал быть самим собой, но становился сгустком веры в источник этого голоса и в то, что он приведет Германию к величию.
«Настало время прекратить этот террор. У нас не будет места чужеземцам, нам не нужны паразиты, хватит их кормить. Нужно направить все усилия на оздоровление нации!»
Каждое слышимое мной слово было словно ниспослано свыше, оно было откровением, истиной. Не знаю, в какой момент моя рука оказалась в штанах, но я ничего не мог поделать. Возбуждение было таким сильным и неожиданным, что я не мог с ним справиться. Я задвигал рукой, чувствуя, как капли пота стекают уже по моему лбу. С каждым его словом, с каждым моим движением меня пронизывало насквозь и топило в пучине бесстыдного восторга.
«Настало время героической идеологии, которая осветит идеалы будущего Германии. Политическая борьба будет жесткой, но открытой…»
Он окончательно перешел на крик, и в этот момент пронзительная судорога свела мое тело. Не устояв на ногах, я рухнул на колени. Скрючившись и все еще подрагивая, я наполнял свою ладонь горячим и липким семенем.
Голос прервался. Я видел его руку, стиравшую пот с напряженного лба, прилипшую прядь его темных волос. Я все видел. Я был там с ним. Я всегда буду с ним.
Я продолжал стоять на коленях, постепенно приходя в себя. Тяжело дыша, я осторожно вытащил руку из штанов. Придерживаясь за стену, встал и огляделся в поисках подходящей тряпки. На глаза попалась старая газета, я вытер об нее руку, смял и выкинул. После паузы голос из радиоприемника перешел к жесткой критике Веймарской республики.
После долгих дней, полных страданий по милой Бекки, я наконец сумел заставить себя не думать о ней ежеминутно. Ни на одно из моих писем она так и не ответила, моя грусть сменилась непониманием, непонимание – обидой, а на смену обиде пришла злость, которая постепенно начала затягиваться забвением. С каждым месяцем я все реже воскрешал в голове светлый образ маленькой хрупкой девочки, гуляющей по парку в Бад-Хомбурге, лишь иногда по ночам сердце судорожно сжималось при воспоминании о том дне, когда мы «обручились». Но вскоре и это сошло на нет.
Вслед за подарком пришло письмо от тети Ильзы, в котором она приглашала меня провести рождественские каникулы в ее берлинском доме. Я готов был прыгать до потолка от счастья, представляя, как Макс и Отто просто лопнут от зависти, но родители остудили мой пыл.
– Там сейчас небезопасно, все эти волнения, – неуверенно проговорила мать, – ты непременно во что-нибудь ввяжешься.
– Подожди до лета и отправляйся в Бад-Хомбург, если уж так желаешь повидать тетю Ильзу, – предложил отец.
До вечера я демонстративно не выходил из своей комнаты, проигнорировав и обед, и ужин. Перед сном ко мне зашла мать и присела на кровать.
– Пообещай мне, что не ввяжешься ни во что дурное. Я слышала, что происходит в Берлине и Мюнхене, я буду переживать за тебя.
Я понял, что моя поездка состоится, и в этот момент почувствовал необычайную нежность к матери. Не в силах скрыть своей радости, в порыве я крепко обнял ее и почувствовал, как она обмякла в моих сильных руках. Утерев украдкой слезы, она поцеловала меня и вышла.
Берлин встретил меня не самым радушным образом – дул промозглый ветер, глаза слепило зимнее негреющее солнце, – но мне казалось, что это лучшая погода на свете. Я с любопытством рассматривал торопливых прохожих из окна теткиной квартиры, пока она сама не позвала меня пить чай.
– Я нашла тебе компанию, Виланд. На ужин придет моя приятельница Элиза Штольц с сыном, – произнесла тетушка, делая глоток из крошечной перламутровой чашечки, – он примерно твоего возраста. Не хочу, чтобы ты заскучал со старой вдовой.
– Ну что вы, тетя Ильза, мне с вами нисколько не скучно. – Я широко улыбнулся.
Аккуратно отставив чашечку, тетушка рассмеялась.
– Ах ты маленький лис, Виланд.
Сын фрау Штольц Хайнц оказался чуть ниже меня ростом, но, когда он смерил меня оценивающим взглядом, мне показалось, что на меня смотрят сверху вниз. Внутренне я напрягся, настроившись на презрительное отношение столичного франта к деревенщине, но ничего подобного не произошло, Хайнц неожиданно дружелюбно протянул мне руку и крепко пожал мою.
– Фрау Клозе говорила, ты из Розенхайма.
Я кивнул.
– И как там в Розенхайме? Спокойно? Что говорят?
Я пожал плечами.
– У нас всегда спокойно. А что должны говорить?
Хайнц насмешливо прищурился и едва заметно качнул головой.
– Э, брат, сейчас везде что-нибудь да говорят, выборы на носу, сам понимаешь. Везде неспокойно.
Я встрепенулся, но вовремя осадил себя, понимая, что вначале нужно было прощупать почву.
– И что, кто популярен в столице? – как бы между прочим поинтересовался я.
Глаза Хайнца сузились еще сильнее, губы разъехались в легкой улыбке, но отвечать он не спешил. Он забарабанил пальцами по столу, словно раздумывал, стоит ли удостаивать меня ответом.
– За всеми стоит сила, за кем-то бо́льшая, за кем-то меньшая, – наконец протянул он, разглядывая свои полноватые розовые пальцы, затем резко вскинул голову и спросил в лоб: – А ты за кем стоишь?
Я не ожидал такого быстрого перехода и замялся. Мое смятение было очевидно, и Хайнц произнес:
– Не бойся, мы не на допросе, не сойдемся во взглядах – ты меня больше не увидишь. Всего и дел-то. Но если столкнемся на улице, ты уж не обессудь.
Я больше не раздумывал и, выпрямившись во весь рост и вскинув руку, громко произнес:
– Да здравствует Национал-социалистическая немецкая рабочая партия!
На сей раз лицо Хайнца расплылось в широкой улыбке, обнажившей его довольно крупные передние зубы, и он удовлетворенно произнес:
– Новое время, новые символы, новые люди. Добро пожаловать в Берлин, друг!
Я с облегчением понял, что мы «сошлись во взглядах».
Хайнц оказался интересным малым, остро и метко шутил, был в курсе последних событий, обсуждение которых и заняло у нас остаток вечера. На следующий день он зашел за мной, чтобы «показать город».
– Хайнц, мальчик мой, Рейхстаг и Бранденбургские ворота – само собой, но не стоит обходить вниманием и кафедральный собор с картинной галереей, ты понимаешь, о какой я говорю.
– Конечно, фрау Клозе, – заверил Хайнц.
Едва мы вышли на улицу, Хайнц торопливо перешел дорогу и оглянулся, будто проверял, успеваю ли я за ним. Я не отставал ни на шаг. Мы прошли несколько кварталов, прежде чем свернули в какой-то двор. Пройдя его, мы вновь выскочили через арку на улицу и пошли дальше. Хайнц молчал, я не задавал вопросов. Наконец мы приблизились к серому каменному двухэтажному зданию, обогнули его и оказались прямо у неприметного входа. Хайнц постучал, и ему незамедлительно открыли. Невысокий бледный мальчик, которому на вид было не больше четырнадцати лет, пугливо воззрился на меня:
– Кто это, Хайнц?
Но мой провожатый даже не удостоил того взглядом.
– Кто надо, Герберт, с дороги.
Хайнц довольно грубо отпихнул мальчишку и повернулся ко мне:
– Проходи, Виланд, я познакомлю тебя с замечательными людьми.
Я вошел в коридор без единого окна. Освещение было скудное, но я сумел разглядеть нарисованные от руки плакаты с лозунгами и символикой партии, кое-где были развешаны вырезки из газетных статей, но что там было напечатано, я не разобрал. Хайнц потянул меня дальше. Миновав коридор, мы вышли на лестницу, поднялись на второй этаж и уперлись в единственную дверь. Хайнц постучал и, не дожидаясь ответа, вошел, я проскользнул за ним. Это оказалось просторное и светлое помещение, четыре больших окна выходили на улицу, широкие подоконники были завалены книгами и плакатами, в шкафах у стены лежали толстые стопки перевязанных газет. На длинном столе в центре комнаты были разложены листовки, коробочки с краской и кисти. За столом сидели молодые люди, которые старательно срисовывали с листовок изображение и переписывали текст на разрезанные тетрадные листы. Хайнц нахмурился.
– Опять не прислали?
Один из присутствующих, который не участвовал в рисовании, а лишь наблюдал, кивнул:
– Отделение Кноппа перехватило практически всю партию.
Хайнц тихо ругнулся.
– Чертов Кнопп, умеет работать засранец.
Парень, наблюдавший за производством рукотворных листовок, подошел к нам ближе. На вид ему было лет двадцать, крепкий, светловолосый, с красивым, я бы даже сказал, немного женственным лицом.
– Виланд, это Саша Штайн, один из наших руководителей.
– Откуда ты? – поинтересовался Саша.
– Из Розенхайма.
– Бавария, значит, – задумчиво проговорил мой новый знакомый.
Я кивнул на листовки.
– Для чего это?
– Мы участвуем в предвыборной кампании, распространяем листовки и брошюры, расклеиваем плакаты. Люди должны сделать единственно верный выбор, и мы работаем для этого. Какой выбор сделаешь ты?
Тут же вмешался Хайнц, не дав мне возможности ответить:
– Он сделает правильный выбор, Саша. Я бы не привел к нам чужого.
– Так ты хочешь нам помочь? – вновь посмотрел на меня Штайн.
Я сделал шаг вперед.
– Готов сделать все, что от меня потребуется.
Я чувствовал, как быстрее забилось сердце. Я в столице, в самой гуще событий, с людьми, взгляды которых разделяю, и могу принести действительную пользу! Я уже представлял, как несу впереди толпы плакат с лозунгом, как прорываюсь на баррикады, чтобы водрузить знамя партии на вершину… Но с вершины меня быстро спустили.
– Вот кисточка, краски, Тимо тебе все объяснит, – проговорил Саша и повернулся к Хайнцу: – Пойдем, нужно переговорить. В Моабите красные совсем распоясались…
Они вышли из комнаты. Я сел за стол и придвинул к себе чистый листок. Несмотря на помощь Тимо, выходило у меня криво, краски растекались, было много клякс и пятен. За час я сумел сделать всего две листовки. Позже пришел Хайнц и, даже не глянув на них, похвалил меня.
– Завтра мы пойдем продавать наши газеты, ты с нами?
– Спрашиваешь, – хмыкнул я.
Как оказалось, ни фрау Штольц, ни тем более моя тетушка не подозревали, чем занимается Хайнц. И мне это было только на руку. На следующий день вставать пришлось рано. На улице Хайнц впихнул мне стопку газет.
– Между страницами листовки, – предупредил он, – не растеряй.
Я пролистал верхнюю газету, в середине лежала листовка, нарисованная от руки. В некоторых газетах были отпечатанные на станке.
– Пока нам не хватает материалов, – пояснил Хайнц, – но после победы на выборах все изменится, вот увидишь.
На улице было холодно. Поначалу я пытался действовать в вязаных перчатках, но было неудобно отделять одну газету от другой. Я снял перчатки и спрятал их в карман. Дело пошло быстрее, но буквально через полчаса я перестал ощущать свои околевшие пальцы. Я дышал на них, но это мало помогало. Тем не менее я не прекращал дело. Когда мы продали все газеты, появился Саша, он передал нам пачку листовок уже без газет.
– Их раздаем бесплатно, – проговорил Хайнц.
С этим мы справились быстро. Бесплатно люди готовы были брать даже то, что им не нужно, да и, откровенно говоря, я все-таки начал халтурить, впихивая иногда по две, а то и по три листовки. В этот момент я мечтал поскорее добраться до теплой гостиной тети Ильзы и выпить чашку горячего чая со сдобным кренделем в сладкой пудре. От этих мыслей у меня окончательно свело желудок, ведь утром я был так взбудоражен, что напрочь позабыл о завтраке.
– Можно идти, сегодня мы неплохо поработали, – сказал Хайнц, торопливо впихнув какому-то неприветливому толстяку последнюю листовку.
Ловко лавируя между прохожими, мы пошли обратно. Неожиданно Хайнц остановился и придержал меня за руку. Я проследил за его взглядом. Впереди возле магазина стояла группа молодых людей. Они что-то обсуждали, не обращая на нас никакого внимания.
– Красные, – прошипел Хайнц, кивая на них, – совсем твари осмелели.
Словно что-то почувствовав, один из них вскинул голову и заметил Хайнца, он что-то сказал остальным, и уже все уставились на нас.
– Идем, – резко бросил Хайнц и пошел на противоположную сторону улицы.
Красные мрачно провожали нас взглядами, но с места не двигались. Поравняться с ними мы не успели, Хайнц увлек меня в ближайший переулок. Я уже успел выучить дорогу и знал, что так нам придется сделать крюк, но спорить не стал. Это было разумное решение.
– Какого черта они здесь делают, это наш сектор! – возмутился Хайнц, когда мы прилично удалились. – Этого нельзя допускать.
Когда мы пришли, Хайнц отвел меня в комнату, в которой накануне рисовали листовки.
– Подожди здесь, мне нужно поговорить с Сашей. – И он тут же вышел.
Я не сразу сообразил, что нахожусь в комнате не один. В углу стола, сгорбившись, примостился худой паренек.
– Привет, Герберт, верно? – вспомнил я его имя.
Он кивнул.
– А я Виланд, мы виделись вчера. – Я подошел и протянул ему руку.
Он робко протянул бескровную ладонь. Я пожал ее, она была ледяная.
– Замерз?
Он качнул головой.
– Нет, у меня всегда руки холодные.
– Сколько тебе? – спросил я.
– Пятнадцать, – произнес Герберт.
– И родители не против того, чем ты занимаешься?
– А чем я занимаюсь? – пожал он плечами. – Мне не доверяют ничего серьезного, так, кисточки отмываю, листовки с газетами сортирую. А если бы и занимался, так никто б ничего и не сказал: мать год назад умерла, а отцу, в общем-то, плевать.
Я молчал, думая, что бы еще у него спросить. Между тем он тихо добавил:
– Везет тебе.
Я удивленно взглянул на него, он продолжал смотреть прямо перед собой и негромко говорить:
– Только появился, и тебя сразу на улицы, газеты доверили.
Мне стало жаль парня, хотелось сказать ему что-то ободряющее, но на ум ничего не приходило. Он опустил голову и начал промокать сухим полотенцем отмытые кисти. Я молча наблюдал, как он убирал все в шкаф. Вскоре вернулся Хайнц.
– Нигде не могу найти Штайна, пошли, на сегодня мы свободны.
Мы вышли на улицу, ближе к вечеру стало еще холоднее. Хайнц поежился.
– Что мы будем делать завтра? – спросил я, натягивая перчатки. – Опять раздавать газеты и листовки?
– Скорее всего. Нужно, чтобы как можно больше людей знали, за кого действительно стоит голосовать. Еще не хватало, чтобы этот кочегар[34] пробился. А его прихвостни не сдают оборотов.
– А что насчет Гинденбурга?[35]
Хайнц вздохнул, я ждал, что он выскажет свое мнение, но он так ничего и не ответил. Мы расстались, и я заторопился домой. Я уже с наслаждением предвкушал сытный горячий ужин с сахарными кренделями на десерт, как увидел нечто, заставившее позабыть о еде. Чуть поодаль стоял Саша. Он прижимался спиной к стене жилого дома, вернее, его заставляли прижиматься. На него напирали двое, лицо одного из них показалось мне знакомым. Я всмотрелся в него внимательнее и вспомнил, где его видел, – это был один из тех красных, которых мы встретили сегодня с Хайнцем. Не раздумывая ни секунды, я кинулся вперед. На моей стороне оказался эффект неожиданности. Оттолкнув одного так, что он рухнул на тротуар, я переключился на другого. Тот сориентировался быстро и тут же встал в стойку, выставив перед собой кулаки, молниеносно выкинул вперед руку, но я был готов и увернулся. В эту секунду из ступора вышел Саша. Он ударил по затылку красного, но удар вышел неуверенный, и тот лишь присел, но не упал. На его лице отразилось удивление, словно он только сейчас вспомнил, что за спиной у него оставался еще один противник.
– Бежим! – крикнул Штайн.
Я замешкался, понимая, что вдвоем мы легко одолеем их, но Саша словно прочитал мои мысли:
– Бежим, говорю, они здесь не одни, сейчас остальные появятся.
Этого объяснения оказалось достаточно, и я припустил следом за ним. Даже в теплом зимнем пальто я мог бежать еще долго, но Саша начал выдыхаться. Мы нырнули в темную арку и припали к стене. Саша тяжело дышал.
– Все, не могу больше, – перемежая слова глубокими вдохами, прохрипел он.
Я выглянул из арки, никто нас не преследовал.
– Спасибо, – наконец проговорил Саша, все еще тяжело дыша, – если бы не ты, мне б серьезно досталось. Работа на улице стала небезопасной, сам видишь, красные совсем распоясались. Хайнц сказал, что твоя тетка не в курсе.
– Ни тетка, ни мать с отцом, – подтвердил я.
– Жаль. И не расскажешь им о твоем геройстве.
– Какое геройство, – торопливо отмахнулся я, но внутри меня распирало от довольства: такие слова от руководителя одной из столичных ячеек!
Весть о том, что я вырвал Сашу из лап красных, быстро распространилась среди моих новых друзей. На следующий день меня пригласили на собрание руководителей, где обсуждали планы на неделю, подсчитывали количество реализованных газет и вырученных денег и утверждали лозунги, которыми собирались расписать стены в нашем секторе. Я был в восторге: меня, новичка, запросто пригласили участвовать на равных во всех собраниях и обсуждениях. Видели бы меня Отто и Макс, сдохли бы от зависти!
Я был невероятно воодушевлен и полностью захвачен волнующей атмосферой, царившей в Берлине. Мне хотелось больше всех продать газет, раздать больше всех листовок, я готов был ценой собственной жизни гнать красных из нашего сектора, но с того вечера больше не натыкался на них. Другие были не столь удачливы: сообщения о стычках, которые для многих заканчивались больницей, приходили постоянно.
– Вчера Харольду и Берту досталось.
– А чего они поперлись в Тиргартен?
– Чего-чего, будто не понимаешь, в том секторе все уже по горло сыты нашими газетами, никто не покупает, а Штайн и Глоббе требуют больше. Оно и понятно, сверху с них тоже спрашивают.
Я вышел из комнаты, в которой обсуждали Харольда и Берта, и поднялся на второй этаж, чтобы забрать новую партию листовок и плакатов. В зале сидели Саша и еще один руководитель – Вирт Глоббе.
– А, Виланд, заходи, – добродушно пробасил Вирт.
Они продолжили беседу, больше не обращая на меня внимания.
– Понимаешь, нужен взрыв, информационная волна, которая снесет всю красную шваль на пути. Это будет мощнейшая акция, – увещевал Саша, – никаких полумер.
Вирт покачал головой.
– То, что ты предлагаешь, весьма рискованно. Да и не думаю, что они попадутся на эту удочку.
– А это уже моя головная боль. Но они попадутся, поверь, еще как попадутся, – заверил Саша, понизив голос.
Но в голосе Вирта все еще сквозило сомнение.
– Не уверен, и, с другой стороны, это неправильно, что ли. – Он посмотрел в окно, его задумчивый взгляд скользил по уличным деталям, но он их словно не замечал, будучи весь в своих мыслях, которые старательно пытался уложить сообразно своим понятиям о чем-то правильном. – Мы не должны действовать такими методами. – Он снова покачал головой. – Это… это недостойно национал-социализма.
– Вирт, на войне все средства хороши, – жестко произнес Саша.
– Но сейчас не…
– Война! – рявкнул Саша так, что даже я, со стопкой листовок уже у двери, вздрогнул. – Война за достойную жизнь, – уже спокойнее добавил он, – и слеп тот, кто этого не видит…
На следующее утро во время завтрака тетя Ильза вдруг отложила газету, которую бегло просматривала, и произнесла:
– Уже конец января, Виланд, время летит быстро, скоро ты отправишься домой, мой мальчик.
Эта мысль уже давно не давала покоя мне самому. Мне очень хотелось еще хоть ненадолго задержаться в Берлине. Я расстроенно посмотрел на тетку и не удержался от вздоха.
– А ты не думал о том, чтобы остаться у меня? – неожиданно предложила она.
Моя рука с кофейной чашкой замерла в воздухе. Мне показалось, что я ослышался.
– Ну да, – продолжила она, – молодой, красивый, полный сил и перспектив, что тебе делать в вашем захолустье, когда вся жизнь здесь? Нет, я непременно напишу Герти.
– Тетя! – воскликнул я и кинулся перед ней на пол, трепетно обвив руками ее ноги и склонив голову ей на колени.
Она начала нежно гладить меня по волосам. Откровенно говоря, я уже давно осознал, что тетя Ильза изнывает от одиночества в этой огромной квартире, но даже и помыслить не мог, что это способно подтолкнуть ее к подобному решению. В этот момент я эгоистично возблагодарил небо за то, что оно так рано забрало у нее мужа, не подарив своих детей.
Утро было полным восторгов не только для меня. Первым, кого я встретил в ячейке, был Герберт. Его бледное лицо сияло от счастья.
– Саша сказал, сегодня я пойду раздавать листовки. Виланд, меня отправят в самое ходовое место! – с гордостью и одновременно доверительным тоном сообщил он.
Я потрепал Герберта по плечу, искренне обрадовавшись за него. Затем поднялся на второй этаж; все уже были в сборе, кроме Саши. Вирт был несколько рассеян.
– Сегодня важная агитация. Активно призываем присоединиться к шествию партии, после планируется выступление Гитлера, – проговорил он, раздавая листовки.
Мы поделили материалы и пошли на улицу. Даже жуткий холод не мог испортить мне настроения в это утро. Возбужденный мыслями о том, что тетя непременно уговорит родителей оставить меня в Берлине, я начал раздавать листовки прямо по пути, сопровождая каждую сияющей улыбкой, а то и подмигиванием. Шагах в десяти от нас шел Герберт, громко выкрикивавший лозунги. Он не умолкал ни на минуту, подскакивая то к одному, то к другому прохожему. Вскоре у него не осталось ни одного листочка. Он подбежал к нам с Хайнцем.
– Виланд, а можно я твои раздам? Я никому не скажу, – пообещал он.
Хайнц расхохотался.
– Держи мои, активист.
Он впихнул счастливому Герберту свою пачку, и тот тут же умчался вперед.
– Если он будет так орать на морозе, то простудит горло, – усмехнулся я.
– Зато сколько счастья у сопляка, – пожал плечами Хайнц.
Мы успели сделать еще несколько шагов, как вдруг увидели перепуганного Фридриха, который работал с нами в одном секторе. Он промчался мимо нас, крикнув на ходу:
– Красные! Их там человек десять. Дёру, дёру!
Из-за поворота показалась небольшая толпа. Фридрих явно ошибся, но не в нашу пользу: красных было около пятнадцати, не меньше. Глаза Хайнца испуганно расширились.
– Виланд, бежим, – торопливо бросил он.
В этот момент я увидел Герберта, который стоял спиной к приближающейся толпе и ничего не замечал.
– Герберт! – во всю мощь своих легких заорал я.
Он вскинул голову и счастливо замахал мне рукой, в которой была зажата листовка. Случайные прохожие, почувствовав неладное, заторопились перейти на другую сторону улицы. Герберт растерянно смотрел им вслед. Только сейчас он увидел, что к нему движется толпа агрессивно настроенных людей с красными повязками на руках. Он не успел сделать ни шага, через секунду у него уже выбили из рук листовки, и они взмыли в воздух, подхваченные ветром. Еще ни один лист не успел коснуться земли, а Герберта уже били: один из толпы ударил его по лицу, и тот рухнул как подкошенный, остальные начали пинать его ногами. Я ринулся было к нему, но Хайнц крепко обхватил меня и потянул назад.
– Идиот, они убьют тебя, бежим!
Я напряг мышцы и с легкостью стряхнул с себя руки Хайнца, но, освободившись, продолжил стоять на месте, с горечью осознавая, что ничем не помогу Герберту. Я начал медленно отступать.
– Сволочи, мы здесь! Догоните нас! – Это было все, что я мог сделать для Герберта.
– Ты совсем спятил? – в ужасе прошипел Хайнц.
Красные как по команде вскинули головы. Одного из них я тут же узнал – его я сбил с ног, когда выручал Сашу. Не сговариваясь, они тут же кинулись в нашу сторону. Мы с Хайнцем пустились бежать. Возможно, в тот день мои бесконечные тренировки в Розенхайме спасли мне жизнь. Я бежал с легкостью и очень быстро начал отрываться, но сзади с натугой пыхтел Хайнц. Я обернулся и понял, что он скоро свалится, – он уже держался за бок и морщился от боли. Мы выскочили за угол и побежали вдоль длинного дома, в конце которого виднелась вывеска бакалейной лавки. Я оглянулся, убедился, что красные еще не выскочили из-за угла, и, не раздумывая ни секунды, втолкнул Хайнца в лавку. Он завалился внутрь, как куль с мукой.
– Сиди там!
Я припустил к следующему повороту и притормозил возле него, дожидаясь, когда преследователи появятся на этой же улице и заметят меня. Через несколько секунд из-за угла появились красные и, увидев меня, благополучно промчались мимо лавки. Теперь я мог не сдерживаться. Мне хватило пяти минут, чтобы даже самый упорный из них понял всю тщетность своих намерений. Убедившись, что меня больше не преследуют, я еще немного пробежал и наконец остановился, раздумывая, что делать дальше. Возвращаться обратно было глупо, но и идти домой я не мог, не узнав, что сталось с Хайнцем и Гербертом. Несколько часов я слонялся вдоль набережной Шпрее, и, лишь когда начало смеркаться, я набрался смелости и пошел обратно. Со страхом я пробирался в штаб, постоянно оглядываясь и бросая внимательные взгляды на прохожих. Наконец я добрался до нужного дома, и, к моему великому облегчению, первым, кого я встретил, оказался Хайнц. Он был бледен как полотно, но цел и невредим. Он кинулся ко мне и крепко обнял.
Я смущенно вывернулся из его объятий. В этот момент из комнаты выскочил Фридрих.
– Живой? Живой! Саша, Вирт, Карл, он вернулся!
Мы вошли в ярко освещенную комнату, полную людей. Я обвел взглядом всех присутствующих. Здесь были члены не только нашей ячейки, но и отделения Кноппа. Однако я не видел среди них Герберта.
– Где он? – спросил я у Хайнца.
Тот сразу понял, кого я имею в виду, и помрачнел.
– Он сумел вырваться, когда ты отвлек их. Но его догнали.
– И?
Хайнц молчал. Подошел Саша:
– Эти звери несколько раз ударили его ножом. Но даже сейчас Герберт, как истинный национал-социалист, продолжает бороться… – громко произнес он, чтобы все слышали, но докончить не успел.
– Он в больнице, – менее высокопарно и тихо перебил его Вирт.
Все замолчали.
Спал я беспокойно, всю ночь мне мерещилось счастливое лицо Герберта, устремленное на меня, его вскинутая рука, в которой он зажал листовки – свои первые листовки, подхваченные и бессмысленно разнесенные ветром над Берлином. Проснулся я более утомленным, чем был накануне, и намеревался первым же делом отправиться в больницу, чтобы навестить Герберта.
– Ах, что же это такое творится! – услышал я испуганный и вместе с тем недовольный голос тетушки. – Если это дойдет до Герти, боюсь, будет не так-то легко уговорить ее оставить тебя.
В мою спальню вплыла тетя Ильза, потрясая перед собой газетой. Я присмотрелся, это была «Дер Ангриф»[36].
– Что случилось, тетя? – нервно спросил я, еще точно не уверенный, хочу ли знать ответ.
– Полюбуйся, мой дорогой, что творится на улицах. Как я рада, что ты благоразумен, мой мальчик. Сердце старой тетки не выдержит, если с тобой что-то случится.
Я взял газету и с гадким предчувствием развернул ее. На первой странице было отпечатано огромными буквами: «Как красные злодейски убили Герберта Норкуса из гитлерюгенда».
Так я узнал фамилию Герберта.
Он умер по пути в больницу от потери крови.
Мне стоило больших усилий, чтобы сдержаться и не показать тете, насколько мне было плохо. Волна горячей, всепоглощающей ярости накрыла меня с головой, я чувствовал, как меня всего колотит от ненависти к убийцам. Боясь, что тетя Ильза заметит, как у меня дрожат руки, я поспешно вернул ей газету.
– Что же им мирно не живется, – недоумевала она, – совсем еще ребенок, сколько ему было?
Она уткнулась в газету в поисках цифры.
– Пятнадцать, – даже не задумываясь, хмуро брякнул я.
За завтраком тетя продолжала сокрушаться, я молчал. Мне уже не хотелось никуда идти. После обеда пришел Хайнц.
– На улицах творится что-то невообразимое, видел сегодняшние газеты?
Я кивнул.
– Народ волнуется, только и разговоров, что о Герберте, – продолжил Хайнц, – несладко его родителям сейчас.
– У него был только отец, мать умерла год назад.
– Правда? – удивился Хайнц.
Я посмотрел на него исподлобья долгим взглядом, но так ничего и не произнес.
– Зато теперь все узнают истинное лицо красных, – проговорил Хайнц, пожимая плечами, – мы ведь просто раздавали листовки и никого не трогали, а они буквально налетели на нас, да еще выбрали самого слабого.
Все это, слово в слово, я уже прочитал в «Дер Ангриф».
Похороны Герберта Норкуса превратились в пышное шествие. Можно было подумать, что хоронят национального героя. За гробом, который несли Саша, Вирт, Фридрих и еще трое неизвестных мне молодых людей, шли сотни, может, даже тысячи берлинцев. Я даже не знал, как далеко за нами тянулась толпа. Продвигались мы медленно, и, когда наконец добрались до кладбища, я уже ног не чувствовал от холода. Слово взял пастор. Я не слышал, что он говорил. Вокруг было слишком много людей. Даже тихо переговариваясь, они создавали шум, заглушающий и без того тихий голос старика. Но неожиданно все смолкли. Я поднял голову и увидел, что вперед к импровизированной трибуне вышел невысокий мужчина. Не узнать его было невозможно: хромой, тщедушного телосложения, носатый, тонкогубый, с большими, невероятно пронзительными карими глазами.
Он оскалился, обнажая крупные желтые зубы.
– Сегодня страшный день, – изо рта гауляйтера Берлина Йозефа Геббельса повалил пар.
Голос был чистый, прекрасно поставленный, проникновенный. Говорил он медленно, раздельно, с торжественной строгостью.
– Мы хороним кровного мученика национал-социалистического движения Герберта Норкуса. Он был образцом для всех членов гитлерюгенда, примером для всей немецкой молодежи. И он был зверски убит при исполнении служебного долга во имя фюрера! Эти трусы видят, за кем сила, за кем правда, за кем будущее, и им не остается ничего другого, кроме как нападать со спины. Но ошиблись те, кто считает, что им сойдет с рук это преступление. Наступит день мести – никто не поколеблет нашу веру в это. И тогда те, кто болтает о гуманности и любви к ближнему, но убил нашего товарища без суда, узнают силу новой Германии. Тогда они будут молить о пощаде. Но будет слишком поздно. Новая Германия требует искупления!
Волна восторженных криков оглушила меня. Бессознательно я начал вместе со всеми скандировать имя Норкуса. Мы вскидывали руки, громко повторяя: «Герберт, Герберт!» В голове у меня затуманилось. Я видел страшный оскал Геббельса, который удовлетворенно обводил взглядом раскинувшееся перед ним людское море; чувствовал жаркое дыхание окружавших меня людей, которые ни разу в жизни не видели того, чье имя теперь выкрикивали, но сейчас были готовы идти и убивать за него. Меня теснили со всех сторон, толпа бесновалась, кто-то закричал, что убийц видели в Моабите, и я почувствовал, что человеческий водоворот подхватил меня и потащил прочь с кладбища. Весь день мы шатались по Берлину, выкрикивая лозунги и угрозы в адрес красных, которые в этот день благоразумно попрятались по своим норам.
Выдохся я лишь под вечер и, опустошенный, с промокшими ногами, побрел домой.
Тетя Ильза умела уговаривать. Не знаю, как ей это удалось, но мать дала свое позволение на то, чтобы я остался в Берлине, но с условием, что продолжу учебу. Признаюсь, это требование несколько озадачило меня. Не в том смысле, что я не планировал возвращаться на учебную скамью, но ранее я думал исключительно об учебных заведениях в Розенхайме, иногда робко помышлял о Мюнхене, но ни разу не задумывался о столичных университетах. И здесь вновь пришла на помощь тетушка, которая благодаря своим связям сумела устроить меня в Университет Фридриха Вильгельма, где уже учился Хайнц, вначале на курсы слушателей, а потом и посодействовала поступлению. Так я начал изучать юриспруденцию.
Учеба захватила меня с головой. Я постепенно отошел от нашей ячейки – не перестал разделять прежние взгляды, наоборот, еще сильнее и искреннее проникся духом национал-социализма, но произошедшее с Гербертом долго не давало мне покоя, и я знал, что если продолжу, то, встретив красных, могу натворить дел. Когда я раздумывал над этим, то задавался вопросом: способен ли я на убийство? В день похорон Герберта, когда мы носились по городу в поисках красных, разъяренные и полные ненависти, я вполне мог сподобиться на страшное, находясь в дурмане жажды мести, но сейчас, сидя на студенческой скамье в стенах старинного и благородного университета, мог ли я даже помыслить, что смогу совершить нечто подобное?.. И между тем это был все тот же я.
В марте прошли выборы, в обоих турах Гитлер занял второе место, уступив Гинденбургу. Я разглядывал цифры повторного голосования, красовавшиеся на первых страницах газет: «Гинденбург – 19 359 983 человека, Гитлер – 13 418 547 человек, Тельман – 3 706 759 человек». Одно радовало – кочегара коммунистов можно было окончательно сбросить со счетов.
– Удивительно, как за столь короткое время этот говорливый молодой человек сумел добиться такой поддержки. – Опустив очки на самый краешек тонкого носа, тетушка Ильза тоже изучала результаты выборов. – Еще вчера мы знали его как беспокойного и радикального оппозиционера и не более того, а уже сегодня фактически треть населения готова передать ему управление страной. Что ж, нужно отдать ему должное, в нем действительно что-то есть.
Незаметно наступило лето, во время которого мы с тетей успели съездить в Бад-Хомбург. С замиранием сердца я подошел к дому Вернеров и с огромным разочарованием узнал, что там теперь новые хозяева. Тетя Ильза также не знала, куда делись его прежние обитатели, и, видя, что я откровенно скучаю в сонном курортном городке, она поспешила обратно в Берлин. Отныне вся ее жизнь крутилась вокруг меня. На следующий день после нашего возвращения в гости на чай пришли Штольцы. После подробного рассказа о нашей скучной поездке перешли к обсуждению последних берлинских новостей.
– Сейчас Германия превратилась в настоящий Вавилон. Сотни мнений и идей, призванных вытащить нас со дна, раздаются с каждой деревянной приступочки, мало-мальски напоминающей трибуну, – проговорил герр Штольц. – Эта политическая разноголосица способна свести с ума любого здравомыслящего человека. Как, помилуйте, сориентироваться в этом бардаке и сделать хоть какой-то адекватный выбор?
– А выбор делать необходимо. В этом году Гинденбургу исполнилось уже восемьдесят пять, говорят, его сознание совсем ослабло, – рассуждала фрау Штольц.
Привыкший спорить с женой во всем, что касалось политики, на сей раз герр Штольц был с ней согласен:
– Это так, он дряхлеет день ото дня и, боюсь, даже не дотянет до следующих выборов. А мы в условиях этого политического бардака, к моему величайшему сожалению, просто не способны…
– Но к чему-то вы все же склоняетесь? – перебил я, не выдержав этой застольной велеречивости.
– Как сказал один небезызвестный государственный деятель, «в политике выбор – меньшее из зол». И что принесет нам меньшее зло…
– Ерунда, – снова перебил я, окончательно позабыв о приличиях, – существует выбор, который принесет нам исключительную благость. И слеп тот, кто не видит этого.
Герр Штольц отставил свою чайную чашку и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде не было возмущения моим неучтивым поведением, напротив, он выглядел совершенно спокойным.
– Я понимаю, к чему вы клоните, молодой человек. Что ж, Гитлер тот еще горлопан, и некоторые его заявления во многом опасны, но глупо спорить с тем фактом, что именно у него пока самая убедительная программа. Знаете, почему она самая убедительная? – Он вопросительно глянул на меня, но, судя по тому, как быстро он сам же и продолжил, ответа от меня он не ждал. – Видите ли, представляя ее, он раз за разом повторяет очевидное. И что тут возразить? Это как отрицать, что белое – это белое, а черное – черное. Его аргументы столь очевидны, что никто другой даже и не додумается ими оперировать как раз в силу их очевидности. И тут напрашивается два вывода: либо он величайший идиот, либо величайший гений.
– Но разве идиот может заставить поверить в себя столько немцев? – вмешалась тетя Ильза.
– Тогда остается второе. – Герр Штольц развел руками и усмехнулся.
Я молчал, не зная, как отнестись к подобному мнению, – в нем не было оскорбления, но было и мало чести. Пока я размышлял над этой дилеммой, герр Штольц продолжил:
– Все его речи относительно национального достоинства и прав для рабочих звучат отрадно для народного германского уха, этого у него не отнять. Он необычайно силен в том, в чем наши консервативные политики проваливаются, словно нерадивые студенты на экзаменах: легко достигает контакта с простыми людьми, озвучивая такую программу, которую те ждут, и такими словами, которые тем понятны, с той интонацией, которая заставляет даже их трепетать. Он прекрасно понимает, что чем проще политическая агитация, тем она действеннее, поскольку рядовой человек с улицы любит, когда все просто и понятно. И Гитлер дает этому человеку то, что он способен переварить и усвоить. В то же время, – герр Штольц поднял указательный палец, подчеркивая то, что он собирался сказать, – у него хватает ума не скатываться в прямо уж откровенный примитивизм, и тем самым он дает понять, что не считает народ, который следует за ним, бездумным стадом. Это его великое умение прочитать душу толпы и выучить все ее чаяния и есть залог его успеха. Впрочем, задача сия сама по себе не сложна. Желания толпы во все времена одинаковы: блага и благосостояние – те самые «хлеба и зрелищ» – идеалы со времен Римской империи, для простого люда не изменившиеся. Меняются лишь идеи касательно их достижения. Как раз этими идеями и нужно уметь жонглировать, что этот господин виртуозно делает. Это чистый театр – его публичные выступления, я имею в виду. Он лицедей, каких еще поискать, и это не в упрек ему сказано. Этот господин обладает поистине магическим ораторским даром. Стоит признать, когда он выступает перед толпой, это какое-то колдовство, ей-богу.
– В эти моменты он душка, такая харизма, такая страсть, – хихикнула фрау Штольц, кивая после слов мужа.
– Аудитория пьянит этого человека, – продолжил герр Штольц, – его риторика и подача становятся просто божественными. И самые простые и банальные, если угодно, вещи, произнесенные этим голосом на пике истерии, трясущимся от возбуждения, приобретают совершенно иное звучание и смысл. Соглашусь, в эти моменты кажется, что он выходец из каких-то неведомых нам областей бытия. Но пробовали вы хоть раз прочитать его речи, находясь в одиночестве в своей комнате? Боюсь, вы разочаруетесь, молодой человек, по большей части это нагромождение штампов да обобщения частных случаев. Он говорит, что ночь темна, а вода мокрая. Великими эти речи делают лишь атмосфера и исступление, до которого толпа доводит себя сама. И это, увы, не делает чести народу. Какую форму способен воспринять малообразованный человек, замученный безработицей, нищетой и неопределенностью? Как раз форму таких же эмоций, надрыва и истерии. В силу плачевной ситуации, в которой оказались немцы, они ныне далеки от разумного диалога. А потому столь истеричная и чувственная подача – елей для голодной толпы. Она безрассудно увидала в нем пастыря, который наконец разделил тяготы ее существования. Беда лишь в том, что этот пастырь ложный. Ведь то, что он говорит, довольно опасно. Его нападки на евреев…
Тут уж я не мог выдержать:
– Но ведь это святая правда! Они спекулируют на черном рынке, наживаясь на страданиях окружающих. Более того, не гнушались подобным и в военное время, когда немцы проливали…
– Расовый романтизм в вас силен, юноша, – на сей раз уже герр Штольц перебил меня, – но если принимать на веру слова герра Гитлера, то на страданиях окружающих наживаются и коммунисты, и социалисты, и еще бог весть кто, и всех он обещал ликвидировать раз и навсегда.
– Что он подразумевает под этим? – спросила фрау Штольц.
– Понятия не имею, Элиза, – пожал плечами ее супруг, – в конце концов, мы живем в цивилизованном обществе, где жизнью, к счастью, правят мораль и законодательное право.
Герр Штольц неторопливо поднес чашку к губам и сделал маленький глоток, затем посмотрел на меня. И вновь во взгляде его не было ни тени недовольства, скорее снисходительность, которая злила меня еще больше.
– Но стоит признать, что, несмотря на некоторые провинциальные замашки герра Гитлера, он все же обладает большей начитанностью и бо́льшим кругозором, нежели средний германский политик. Левых он удовлетворяет агрессивными нападками на правящий класс и закостеневшую экономическую систему, правые активно аплодируют ему за восхваление великих традиций германского величия и уничижение тех, кто не чтит эти традиции. Его жесткая критика сторонников Веймарской республики, которые подчинились требованиям Версаля, добавила ему немало очков среди военных. Когда нужно, он не стесняется мимоходом записывать себя в верующие, ибо понимает, что его атеистические порывы оттолкнут последователей, а ему одинаково нужны и баварские католики, и прусские протестанты. Он, как маятник, качается из стороны в сторону, попутно обещая этим сторонам то, что им хотелось бы иметь. Знаете, он из того типа горлопанов, которые вчера случайно сподвигли последовать за собой лавочников и мелких служащих, сегодня – крупных промышленников, а завтра за ними вдруг последует вся страна.
– Вы обвиняете герра Гитлера в цинизме и лицемерии? – выдавил из себя я.
Герр Штольц улыбнулся, но за улыбкой я разглядел откровенную усмешку:
– Скорее восхищаюсь его прагматизмом. Этот человек понимает: чтобы собрать под сенью своей горячо любимой свастики всех и каждого и прийти к власти, ныне он должен быть терпимым к любым взглядам. – Альберт Штольц посмотрел на супругу и тетю Ильзу, внимательно его слушавших. – Вспомните хотя бы, как мастерски герр Гитлер использовал надежды королевских семей на реставрацию монархии, понимая, что их поддержка может оказать сильное влияние во время выборов. Он заверял, что со временем восстановит монархию, но уверен, что в его реальных планах не существует коалиции старого и нового. В его реальных планах сам черт ногу сломит. Каюсь, я прочел страниц сто писанины, которую сей пастырь накропал в Ландсберге[37], больше я не осилил, ибо это откровенный бред сумасшедшего. Идеи, изложенные в этой книге, несут погибель той нации, которая решится их реализовать. Я так скажу, лучше пять раз пойти на Францию, нежели единожды ступить на землю русских, что в будущем предлагает сделать герр Гитлер.
– Но разве это можно воспринимать буквально? – пожала плечами тетя Ильза. – Признаюсь, я тоже полистала эту книгу. Идеи, которые там описаны, слишком радикальны, уверена, и сам автор не считает их реализацию возможной. Это всего лишь бредни уставшего и измученного узника, которым он был в тот момент. Наверняка он и сам это уже осознал.
Я ничего не ответил тете Ильзе. Продолжая смотреть в упор на герра Штольца, я упрямо произнес:
– Адольф Гитлер не ищет альянсов, способных уронить его в глазах народа, ради каких-то временных привилегий.
– В этом вы, безусловно, правы, молодой человек. Герр Гитлер ищет власти высшей и окончательной. Но я по-прежнему считаю, что как раз здоровая правительственная коалиция является единственно верным решением для усмирения хаоса, терзающего ныне Германию. Нацистам необходимо в нее вступить, если они действительно жаждут принести пользу, а не вред.
– Да Германия устала от коалиций! Партия на партии и партией погоняет, а толку никакого. Кровососы, не знающие, что делать. Пришло время действий одного решительного руководителя. И умные люди понимают, что приход Адольфа Гитлера к власти – дело времени. Весьма короткого, – добавил я, – скоро и сам президент осознает, насколько велика сила за Гитлером, и назначит его канцлером.
Я внимательно поглядывал на герра Штольца, ожидая его реакции на свою дерзость, но тут вмешалась тетя Ильза:
– Уверена, Гинденбург никогда на это не пойдет. И благодарить за это герр Гитлер должен своих распоясавшихся молодчиков в коричневых рубашках.
Альберт Штольц перевел взгляд на нее, но и ей ответить не успел. На сей раз взволнованно заговорила его жена:
– Святая правда, теперь только и слышно о том, что они задерживают людей без какого-либо суда. Даже полиция не позволяет себе такого явного беззакония. Вечером по улицам стало страшно ходить. Кругом одни беспорядки и стычки. Не дай бог попасть под горячую руку этим бандитам.
Я снова не утерпел:
– Так ведь и коммунисты жаждут их крови! Эти столкновения спровоцированы, ни один конфликт не бывает односторонним. – Я постарался унять волнение в голосе, но он все равно дрожал.
Герр Штольц и не думал со мной спорить, наоборот, одобрительно кивнул головой:
– Вы правы, мой друг, обе стороны не без греха. Эта мысль на вес золота, в любом конфликте действительно виноваты двое. Я рад, что вы это понимаете.
Я опешил от его согласия и добродушия. Он вновь повернулся к жене и тете Ильзе и продолжил:
– Но ведь и распустить штурмовиков нельзя. Только представьте, как возрастет количество безработных, и это приведет к еще бо́льшим беспорядкам.
– Но что же тогда лучше? – Обе женщины вопросительно посмотрели на него.
Он усмехнулся, взял чашку и, прежде чем сделать глоток, начал повторять:
– Как сказал один небезызвестный деятель, «в политике выбор – меньшее из зол». И что принесет нам меньшее зло…
Я закатил глаза и, извинившись, вышел из-за стола.
В конце июля должны были состояться выборы в рейхстаг – уже третьи за полгода. По этому поводу Гитлер собирался выступить на стадионе в Груневальде[38]. Я был уверен, что Хайнц тоже отправится туда. В нужный день сразу же после завтрака я двинулся к Штольцам, собираясь перехватить Хайнца дома, но не успел выскочить из подъезда, как столкнулся с ним нос к носу. Его круглое лицо тут же расплылось в улыбке:
– Вот так удача, а я как раз за тобой. Пошли быстрее! Все наши уже, наверное, там.
Когда мы добрались до места, улица, прилегающая к стадиону, была уже запружена людьми. Полиция пыталась хоть как-то регулировать этот возбужденный поток, но ее усилия были тщетными: толпа бесновалась и напирала, в едином порыве скандируя имя главы НСДАП.
– Когда будут пускать на стадион? – спросил Хайнц у прижатого к нему в толпе рабочего.
Тот с трудом повернул голову и удивленно посмотрел на Хайнца.
– Ты, парень, видать, не от мира сего. С утра пускали, весь стадион забит уже.
Мы с Хайнцем разочарованно переглянулись. Нечего было и мечтать, чтобы пробраться на сам стадион.
– Говорят, там яблоку негде упасть, – прохрипел молодой парень, приплюснутый к моему плечу.
– Будто здесь раздолье, – недовольно пробормотал Хайнц, не перестававший орудовать локтями, чтобы хоть немного приблизиться к огромным воротам, маячившим впереди.
– Тут хоть вздохнуть можно, а там, говорят, уже нескольких синеньких вытащили из толчеи, – произнес рабочий.
Я грубо проталкивался вслед за Хайнцем, пытаясь не упустить его из виду. Вслед нам недовольно ворчали люди, не одаренные такой же физической крепостью. Неожиданно дрожащая от возбуждения и нетерпения толпа замерла и затихла: ожили громкоговорители, установленные по случаю прямо на улице, ведущей к стадиону. Тут же забыв про Хайнца, я застыл. Все лица в едином порыве устремились к рупорам, будто мы могли не только слышать через них, но и видеть. И вот они разом зазвучали. Голос лился из них тихо. Медленно. Как будто бы даже неуверенно, словно украденным звуком прощупывая этот огромный дышащий организм, состоящий из тысяч переплетенных тел. Словно пытаясь обратиться к каждому из этих тел.
«Те, которые привели нас к этой катастрофе, теперь спрашивают меня: что я намерен буду делать, если Германия пойдет за мной? И хоть ответа они не заслуживают, я его все-таки дам. После того, что вы сотворили с великой Германией, ее нужно восстанавливать сверху донизу, точно так же, как вы ее уничтожали сверху донизу…»
Голос зазвучал громче. Его обладатель возбуждался. Я стал ощущать его дыхание. Горячее, опаляющее. Его слова хлестко били по лицу, непримиримо. Намертво вколачивались в мозг завороженной толпы, словно гвоздями. Становились осязаемыми, обильно сдобренные брызжущей слюной, летящей с тонких напряженных губ, отороченных темной жесткой кисточкой усов. Я видел перед собой эти губы, я осязал дыхание, выходящее из их пределов. Голод, безработица, нужда, репарации, республика, разложение, взяточничество, позор… Неожиданно он замолчал. И я сумел перевести сбитое дыхание. Дав мне это сделать, он продолжил. Я вновь начал ощущать преступный физический восторг. Его голос взвинтился до крика. Сумасшедшее головокружение, возбуждение – он был здесь, рядом, буквально в сотне метров, отделенный от моего разгоряченного сознания всего лишь несколькими слоями сплетенных потных тел. Моих тел – мы все стали единым целым. Он говорил о том, что все мы ощущали, но не имели достаточного разума выразить словами. Мудрые лаконичные мысли били словно бич. Гений. Истинно гений! Благодаря ему Германия станет во главе великих держав. Низложение ноябрьских подонков не за горами. Отныне полумер не будет. Не будет постыдного пресмыкательства перед Западом. Время великого национального обновления настало! Это были мои мысли. Мои личные мысли, которые раздавались из громкоговорителя. Они шли от моего сердца, находящегося сейчас в самом центре многотысячного стадиона, в мою голову. Отныне никаких сомнений ни у кого быть не должно. Пришла пора довериться тому, кто действительно выведет Германию к вершинам.
Голос в громкоговорителе стал выше, задрожал от напряжения, закричал. Задрожала толпа в едином чувстве. Напряжение достигло болезненного апогея. И он замолчал. Раздался взрыв. Толпа бесновалась. Кто-то рядом рыдал от эмоций. Я был без сил. Окончательно позабыв про Хайнца, я начал выбираться из толчеи.
Нацисты выиграли выборы в рейхстаг, получив больше тринадцати миллионов голосов.
– Это двести тридцать мандатов, – сделав глоток кофе, произнес Альберт Штольц, – отныне они самая многочисленная фракция.
Многозначительно приподняв брови, он обвел внимательным взглядом всех сидящих за обеденным столом в нашей гостиной:
– Я обязан отдать должное герру Гитлеру, он уже давно мог совершить очередной переворот и захватить власть, но он упорно идет к ней правомерным путем. Очевидно, уроки Пивного путча им хорошо выучены.
– Быть может, это и искреннее уважение к Гинденбургу? – с улыбкой предположила тетя Ильза.
– В этом случае недолго осталось, говорят, старик совсем плох, – усмехнувшись, проговорил Хайнц, с аппетитом уплетавший свежие эклеры.
На сей раз Штольцы пришли в полном составе.
– Однако, судя по разговорам в моем книжном клубе, многие по-прежнему не доверяют Гитлеру, – произнесла фрау Штольц, подливая в крохотную чашечку горячий кофе.
– Дело в том, дорогая, что нацисты слишком распущенны, они анархичны. Их жестокие столкновения с коммунистами, акты насилия по отношению к евреям и даже просто к тем, кто не разделяет их взглядов, – все это только учащается и, безусловно, настораживает консервативных немцев. Я бы даже сказал, отпугивает. Дебоши штурмовиков окончательно вышли из-под контроля. Где бы ни появлялись эти молодчики в коричневых рубашках, там сразу же возникают беспорядки, крики и ругань. Напиваясь, они громят все что ни попадя: лавки, редакции, аптеки, конторы, при этом прикрываясь идеями партии. Они даже детей не жалеют, я слышал, что на этой неделе в Кёпенике избили пятнадцатилетнего школьника, раздававшего коммунистические листовки. Говорят, будет чудо, если мальчик встанет на ноги.
Мы с Хайнцем переглянулись, но промолчали. И если уж на то пошло, то в некотором роде герр Штольц был прав – штурмовики действительно создавали дурную рекламу партии. Весь Берлин кишел слухами, что они что-то затевают, поговаривали даже, что коричневорубашечники устали ждать, когда Гитлер придет к власти законным путем, и самовольно планировали захватить рейхстаг с помощью оружия. Днем они маршировали по улицам строгими колонами, создавая ощущение порядка и законности, но по вечерам я лично не раз слышал выкрики: «К черту Папена[39] и интригана Шлейхера![40] На Рейхстаг, пока не поздно!» Было очевидно, что стоит только чиркнуть спичке недалеко от тлеющего коричневого пламени, как запылает весь Берлин.
– Да, в некоторых вопросах люди герра Гитлера действуют крайне неподобающе, стоит признать сей факт, – произнесла тетя Ильза.
– Радикально и жестоко, Ильза, – тут же проговорил герр Штольц, – но именно это и цепляет нашу горячую молодежь. Гитлер хорошо знает, как завоевать их внимание: предложить меры опасные, но возбуждающие, и они пойдут за ним куда угодно. Но видите ли, этот бездумный авантюризм хорош, допустим, в путешествиях или спорте, но никак не в политике. Он подменяет разум эмоциями. И, боюсь, сей курс ведет партию к бедствию.
Я не выдержал:
– Но разве можно по одной паршивой овце судить обо всей семье? Если забыть про штурмовиков, разве в чем-то ином он не прав? Если нынешнее правительство не способно позаботиться об интересах нации, то нация обязана действовать сама! Мы и так достаточно нахлебались позора.
Герр Штольц несколько озадаченно посмотрел на меня, будто только сейчас заметил, затем снова перевел многозначительный взгляд на тетю Ильзу:
– Вот, пожалуйста, то, о чем я говорил. Все эти агрессивные политические агитации окончательно задурили голову нашей молодежи. Я даже представить боюсь, какой беспорядок в их головах. Они должны думать об учебе, но вместо этого горят желанием идти на баррикады за этим австрийским чертиком, а он, судя по его литературному творению, которое мы уже имели возможность обсудить, вполне может оказаться обыкновенным сумасшедшим.
– И что? – проворчал я. – В нынешнее время другим не пробиться.
Глядя на мое пылающее лицо, тетя Ильза ласково и ободряюще улыбнулась мне.
– Ну что ж, хоть кто-то заинтересовал их политикой.
Но на сей раз герр Штольц не был настроен столь миролюбиво. Нахмурив брови, он продолжил говорить с явной тревогой в голосе:
– Возможно, если явных фанатиков вроде Геббельса да откровенно сумасшедших типа Гесса и Розенберга убрать из партии, то она встанет на нужные рельсы и покатит в сторону истинной социальной революции, которая, не спорю, нужна. Но когда главным аргументом в борьбе за власть у этой клики является уличное насилие, это уже о многом говорит. Они окончательно позабыли о своей политике ублажения всех и всякого, теперь они щедро разбрасываются антисемитскими, антибольшевистскими и антиклерикальными лозунгами, взращивая необоримую ненависть между всеми группами общества. Таким образом они не добьются успеха, а людей может пострадать изрядно. И самое печальное, что это будет молодежь.
Я покачал головой. Для меня было совершенно очевидно, что отец Хайнца не смыслил в идеологии нацизма. Чертов умиротворитель, как и мой родитель. Я скосил взгляд на Хайнца: позабыв об эклерах, он опустил голову и смотрел на пустую тарелку перед собой. По его сжатым губам и напряженному подбородку я догадывался, что он испытывал в эти мгновения.
– Вы только вдумайтесь, – продолжал герр Штольц, не замечая состояния сына, – более половины кавалеров Железного креста – добрые католики. То есть те, против кого в том числе выступает партия этого австрийского господина, – главные патриоты и славные солдаты нашей страны!
– Ах, Альберт, мне кажется, виной вполне может быть несогласованность между их руководителями. Только представь, сколь сложно управлять такой многочисленной партией, – проговорила тетя.
Герр Штольц нервно усмехнулся:
– Столь сложно, что они и сами теряют линию, которой придерживаются! Вначале на глазах всего честного народа какой-то бенедиктинский аббат благословляет штандарты штурмовиков и поливает их святой водой. А спустя неделю их «Беобахтер» выдает статью с оскорблениями католиков и карикатурами на Христа…
– Отвратительная статья, – торопливо вставила фрау Штольц.
– И удивительное дело, – герр Штольц с искренне непонимающим видом развел руками, – как они вообще сумели взять такой резвый старт именно в Баварии – исконно католической?! Розенберга с его оскорбительными пасквилями против католиков должны были заклевать там в первую очередь. Одно несомненно: пресмыкательство и поклонение всей этой клики перед своим фюрером развили в нем манию величия поистине национальных масштабов. Говорят, Гитлер лично заявил, что должен войти в Берлин, как Христос в храм Иерусалимский, и отхлестать всех несогласных. – Герр Штольц вздохнул, переводя возмущенное дыхание. – Вхождение фюрера во храм Христов… – Он сокрушенно покачал головой. – При столь радикальном настрое этот мессианский комплекс довольно опасен, Ильза. Сегодня он ведет к светлому будущему, пожимая руку всякому, кто решил подойти, а завтра это уже недостижимый фанатик за толстыми стенами, распрощавшийся с разумом.
Возле «Кайзерхофа»[41] творилось что-то невероятное – толпа бесновалась, ожидая явления Адольфа Гитлера. Я переминался с ноги на ногу, вместе со всеми трясясь от январского холода и нетерпения. Это было время великого триумфа: тридцатого дня под нажимом общественности Гинденбург все-таки сместил фон Шлейхера с должности рейхсканцлера и назначил на его место Гитлера! Кругом были сияющие лица, веровавшие, что это начало великой свободной Германии, обещанной исстрадавшемуся народу.
– И чего тянул старик? Менял кабинеты как перчатки, а стабильности никакой.
– Если начистоту, я уже и запутался, кто с кем и против кого.
– Судя по их заявлениям в газетах, они там и сами уже слабо понимали, кто против кого и заодно с кем.
– Дураку было понятно – сразу надо было ставить Гитлера, чтоб не было такого бардака! У этого рука твердая. Приведет к порядку!
– Явно знает, что делать. Теперь-то все будет по-другому.
– Уж явно лучше, чем вчера. Долой разноголосицу!
Вечером опять пришли Штольцы. Я с плохо скрываемой усмешкой поглядывал на Альберта Штольца, ожидая, что-то он теперь скажет. Но в этот раз он был молчалив. Разговор повела тетя Ильза. Наливая гостям чай, она начала с главной новости дня:
– Стоит признать, этот господин проделал серьезную работу, чтобы добиться своего.
Герр Штольц по-прежнему молчал. Тогда я все же не выдержал.
– Тетушка, только подумайте, – проговорил я, стараясь не смотреть на гостя, – у нас было больше тридцати партий! И каждая тянула на себя! Разрывали на лоскуты страну, и без того подранную в кровь. А он! Явился ниоткуда и… И сшил эти лоскуты! Теперь мы едины!
Я прервался, пока тетя Ильза подавала гостям до блеска начищенный поднос, на котором стояли крохотные дымящиеся чашечки.
– А главное, все сделал по закону! Он не терзал и так истерзанный народ очередной революцией… – Я вошел в раж, чувствуя небывалое воодушевление. – …Чтобы оказаться на вершине власти, но он честно обрел эту власть, чтобы вершить что-то более великое, чем просто революционный переворот! Вот увидите, тетя, скоро придет конец и безработице, и коррупции, и, главное, тлетворному влиянию коммунизма.
– Но каким путем? – все-таки подал голос герр Штольц, так и не взявший чашку с подноса. – Нацисты наконец достигли своей цели, но, вместо того чтобы угомониться и начать выказывать преданность закону и порядку, стали действовать еще более радикально. Вопреки всем ожиданиям насилие на улицах только нарастает, но теперь оно еще и узаконено, ко всему прочему. Не спорю, в тяжелые времена у страны есть потребность в людях, которые способны осуществить революционную встряску. Но потом, когда цель достигнута, самым умным будет избавиться от них, ибо далее они несут лишь опасность. Запомните это, мой юный друг.
Тетя Ильза еще раз протянула герру Штольцу поднос, но он отрицательно покачал головой.
В течение нескольких недель по всей Германии прошли факельные шествия. Вечером, едва темнело, тысячи штурмовиков наполняли центральные улицы. Строгими рядами они маршировали, подсвечивая яркими пылающими факелами в руках пылающее так же ярко воодушевление на своих же лицах. Я стоял и завороженно провожал взглядом колонны, конца которым не было видно. Шеренги по четыре в ряд шли точно в ногу, чеканили, громко отбивая дробь по мостовой, и этот слаженный грохот идеально начищенных черных сапог порождал массовый психоз. Грохот проникал глубоко в подсознание, действуя лучше и эффективнее, чем любое словесное увещевание. Он вводил в ступор, погружал в гипноз, заставлял повиноваться и идти следом. Тысячи ног шагали как одна. Тысячи тел действовали как единый организм. Тысячи разумов были подчинены единому духу. Это было чарующе, в этом заключался необъяснимый мистицизм, это вызывало восторг и ужас одновременно. Глядя на эти грандиозные шествия, я не мог унять восторженную дрожь. Красный свет пламени слепил, я жмурился и выкрикивал вслед за ними: «Смерть евреям!» «Республика – дерьмо!» – хрипло надрывался рядом Хайнц. «Когда с наших ножей польется еврейская кровь, все окончательно станет хорошо…» – затягивал кто-то из штурмовиков, и сотни голосов тут же подхватывали песню.
Несмотря на великие дела, творившиеся на улице, я много времени посвящал и учебе, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это негласное условие моего нахождения в Берлине. Каждую неделю тетя писала длинные и подробные письма моей матери, отчитываясь о моих успехах, а потому я старательно корпел над книгами и конспектами, не делая себе никаких поблажек. Впрочем, стоит отметить, что выбранные предметы давались мне легко, и я испытывал истинное удовольствие от их изучения в стенах аудиторий, в которых когда-то читали лекции братья Гримм и Макс Планк.
Однажды вечером, засидевшись над очередной книгой, я вдруг услышал нарастающий шум и крики за окном. Вскочив из-за стола, я кинулся к окну. Все люди бежали в одном направлении. Я проследил это направление взглядом и в ужасе понял, что происходит.
Я выскочил в гостиную и наткнулся на взволнованную тетушку, на ходу запахивавшую халат.
– Виланд, что происходит? – с тревогой спросила она.
Окна ее комнаты выходили на другую сторону, и она не могла видеть пылающее зарево на западе.
– Тетя Ильза, кажется, горит Рейхстаг!
Я схватил куртку и накинул ее прямо на пижаму. Тетушка прильнула к окну и не видела, как я торопливо натягивал ботинки. Обернувшись, она испуганно вскрикнула:
– О мой бог! Что же это такое, Виланд, куда ты?!
Я уже спускался по лестнице. На улице я первым делом ухватил за руку пробегавшего мимо мальчишку.
– Рейхстаг, да? – взволнованно спросил я.
Мальчишка с расширенными от возбуждения глазами закивал:
– Да-да! Говорят, поджог!
Я кинулся вперед, обгоняя остальных. Чем ближе была цель, тем сложнее было продвигаться, толпа становилась плотнее, на площади и вовсе пришлось пустить в ход кулаки и локти, чтобы проложить себе путь дальше. Несколько раз я чуть не упал на скользкой брусчатке, рискуя быть раздавленным оторопевшей и взволнованной толпой. Какие-то зеваки, чтобы лучше видеть, пытались взобраться на памятники фон Роону[42] и Мольтке[43], но скользили и падали с постаментов. Наконец-то я пробрался к оцеплению, дальше было нельзя, даже здесь без специальной одежды находиться было тяжело. Лицо обдавало жаром, глаза слезились, дышать было трудно, промороженные за зиму деревья дымились и щедро коптили низкие тяжелые облака. Я уставился на здание: пылали все четыре башни и центральный купол. Время от времени пламя над ним с жутким свистом взмывало в черное небо, затем так же резко опадало.
– Тридцать миллионов марок в трубу, – сокрушался стоявший рядом со мной старик.
– Говорят, внутри уже ничего не спасти.
– Знамо дело, выгорело дотла.
– А это кто?
– Кажется, спасли из пожара.
– Повезло мальцу.
Мимо протащили полураздетого и перепачканного парня. Он был без куртки, в одной рваной рубашке. По его взгляду сложно было что-то понять, он смотрел прямо перед собой, зрачки его застыли, будто он ничего не замечал вокруг. Меня удивило, что со спасенным обходились столь бесцеремонно, ему не предлагали ни одежды, ни одеяла, напротив, грубо волокли, крепко держа за руки.
– Это ж Маринус! – воскликнул все тот же старик, переживавший из-за тридцати миллионов.
– Вы его знаете? – спросил я, провожая взглядом пожарных, тянувших странного парня.
– Он когда-то работал каменщиком вместе с моим сыном. После несчастного случая бедолага почти ослеп, и хозяин уволил его.
В эту секунду раздался громкий треск, и в десяти метрах от нас упала дымящаяся балка. Толпа испуганно отхлынула назад, послышались крики, но их тут же заглушил громкий гудеж. Гудел купол, тонувший в черном едком дыму.
– Разойтись, опасно! – надрывались пожарные, но толпа и не думала сдавать назад.
– Говорят, сам Геринг уже едет. Вешать обещают на месте.
– Кого?
– Знамо дело кого – коммунистов! Говорят, их рук дело.
Пожар удалось потушить только к полуночи. Лишь после этого горожане начали разбредаться по своим домам. Тетя Ильза, конечно же, и не думала ложиться: едва я вошел, она кинулась ко мне с объятиями.
– Виланд, ты сведешь старую тетку в гроб, – строго упрекнула она, но любопытство было выше ее сил: – Ну, что там, рассказывай!
– Сгорело полностью. Сам Геринг приезжал, заявил, что это поджог.
– Да кто же на такое способен? Могли же люди пострадать!
– Коммунисты, – зло проговорил я, – они и не на такое способны. Одного уже поймали.
Усталый, я отправился спать.
На следующий день Берлин лихорадило от новостей прошедшей ночи и ее последствий. Разносчики газет на все лады перекрикивали друг друга:
– Голландский коммунист Маринус ван дер Люббе признался в поджоге! Полиция ищет соучастников!
– Коммунистическая партия ответственна за поджог. Готовился новый переворот!
– Гинденбург подписал экстренный декрет «О защите народа и государства»!
– Волна арестов за антигосударственную деятельность!
– Вводятся профилактические заключения под стражу!
– Обыски и аресты без судебных ордеров!
– Баварские чистки!
– Борьба за спокойствие – превентивные заключения!
– Сорок восьмая статья Конституции отменена!
– Во имя безопасности народа отменяются свобода прессы, собраний, союзов, объединений и право на частную переписку!
В связи с поджогом Рейхстага было объявлено чрезвычайное положение, во время которого вводилось право на свободные обыски и проверку личной почты. По всему Берлину носились грузовики со штурмовиками, которые арестовывали каждого попавшего под подозрение. Облавы следовали одна за другой. По слухам, за считаные дни было арестовано несколько тысяч членов коммунистической партии.
– Чертовы коммунисты! Не было печали, – негодовала фрау Штольц за традиционным субботним чаем.
– Элиза, – одернул ее герр Штольц, – что за выражения? И потом, говорят, у этого полуслепого ван дер Люббе не все в порядке с головой, помимо прочего, он пытался поджечь здание ратуши и какое-то бюро. Думаю, он просто сумасшедший, испытывающий нездоровое влечение к огню.
– Что ты такое говоришь? Он во всем признался, он коммунист и…
– Насколько я знаю, его выпихнули из партии несколько лет назад.
– Но…
– Хватит, Элиза. Даже с точки зрения банального здравомыслия сложно представить, чтобы этот мальчишка сумел так быстро поджечь громаднейшее здание. Очевидцы говорят, что оно было полностью охвачено огнем спустя пару минут после того, как учуяли запах дыма. Очагов возгорания явно было несколько. Этому ван дер Люббе было не под силу протащить столько канистр горючего в одиночку, да еще сделать это так, чтобы ни одна живая душа не заметила.
Фрау Штольц недовольно поджала губы и начала гневно размешивать сахар, едва слышно ударяя ложечкой по тоненькому фарфору. Герр Штольц попытался смягчить ситуацию. Он мягко сжал руку жены и проговорил:
– Но в одном Элиза права, теперь вся пресса подконтрольна одной партии, на интересные и смелые статьи рассчитывать больше не приходится. И это действительно печалит.
– Нет в том беды, если партия единственно верная, – тихо, но твердо проговорил я, посмотрев прямо в лицо герру Штольцу.
Все взгляды за столом тут же устремились в мою сторону. Я продолжил, смелея от слова к слову, пересказывать то, что еще утром вычитал в партийной газете:
– Грамотное управление прессой вернет к ней доверие! Газеты больше не будут пестреть разношерстными мнениями и наглыми выдумками авторов-пройдох. Тех самых, которые пытаются реализовать собственные цели и больше ничего! Все проеврейские редакции ищут выгоду исключительно для себя и своих хозяев! А пресса – это как школа, сильнейшее средство воспитания народа, ничто не может сравниться с ней по степени воздействия на массы. И величайшая глупость оставить это средство в руках еврейских и красных редакций! Теперь же она станет вестником истины.
Меня распирало от ощущения правды, от знания того, как будет лучше, и поражало, как остальные могут быть столь слепы и не понимать этого.
– Молодой человек, понимаете ли вы, что заключает в себя понятие «свобода печати»… – начал было герр Штольц, но я тут же обрубил его:
– Евреи прикрывались ею, чтобы распространять свою чушь и наглую ложь!
– Сегодня свобода печати, а завтра свобода воли…
– Кому нужна свобода воли, когда речь идет о безопасности целой нации? Тот, кто даст немцам защиту, достоин владеть и их волей.
Герр Штольц сокрушенно покачал головой.
– Вы даже не представляете, молодой человек, сколь опасен мир, где права человека становятся вторичными по сравнению с «общим благом». – Он намеренно сделал ударение на последних словах, произнеся их с некоторой долей иронии. – Сегодня заберут ваши права, а завтра свободу мысли и совести.
– Это идеальный мир. Мир, в котором нет места ни жалобам, ни разногласиям. Где главная цель – сильная и великая Германия. И каждый немец должен быть готов пожертвовать во имя этой цели и состоянием, и волей, и самой жизнью. И цель эта должна господствовать и над нашими мыслями, и над нашей совестью.
За столом воцарилось молчание. Герр Штольц и его жена перевели взгляды на растерянную тетю Ильзу. Она продолжала молча смотреть на меня. Я опустил голову и принялся ковырять остатки своего кремового пирожного.
– Всякое мнение имеет право на жизнь, – наконец спокойно проговорила тетя Ильза.
Было непонятно, относились ли ее слова к моему праву озвучить мысли или все-таки к свободе печати. Никто не решился уточнить, и тетя Ильза добавила:
– Пусть так, лишь бы не хуже. В конце концов, главное, что мы идем к достижению этой цели не путем войны. Я помню тот ужас и не желаю к нему возвращаться, поэтому пусть герр Гитлер делает как считает нужным. Ему виднее.
Я задумчиво уставился на тетю Ильзу, вспомнив, что ровно те же фразы мой отец когда-то говорил гостю, сидевшему в нашей крохотной кухне и рассказывавшему о национал-социализме. Забавно, однако, выходило: теми словами отец выказывал свое противление Гитлеру, и теми же словами тетя Ильза теперь поддерживала его. Общие и мертвые фразы, годные ко всякой власти и во все времена и ничего не выказывающие на самом деле. Я усмехнулся.
Между тем тетя Ильза перевела разговор на другую тему:
– Вы слышали о Дахау?
Герр Штольц с готовностью переключился:
– На службе сегодня что-то обсуждали в связи с заметкой в газете, но я ее не видел. А что любопытного пишут?
Тетя Ильза повернулась ко мне:
– Виланд, дорогой, подай вот ту газету.
Я подал тете свежий выпуск «Фёлькишер Беобахтер». Она быстро нашла нужную страницу.
– Тут напечатали речь Гиммлера в муниципалитете Мюнхена. Вот: «В среду, двадцать второго марта, близ Дахау будет открыт первый концентрационный лагерь. В нем будут размещены пять тысяч узников. Планируя лагерь такого масштаба, мы не поддадимся влиянию каких-либо мелких возражений, поскольку убеждены, что только такая мера позволит спать спокойно всем добропорядочным немцам». – Она оторвала взгляд от газеты и посмотрела на Штольцев. – Он опирался на поправки к этому новому закону «О защите народа и государства». Весьма любопытный шаг, не находите?
– Бог мой, Ильза, и кого они хотят туда отправить в таком количестве? – удивленно воскликнул герр Штольц.
– Политзаключенных, кого же еще, – вмешалась его супруга, – я слышала, только за последнюю неделю было арестовано больше трех тысяч социал-демократов, прибавь к ним тех коммунистов.
Тетя Ильза продолжила чтение статьи:
– «В него будут помещены все коммунисты и, если в том будет необходимость, функционеры социал-демократических движений и рейхсбаннеры, которые представляют опасность для государства. Ввиду их чрезвычайного упорства и категорического нежелания отказаться от агитации за свои убеждения свободу им предполагается не предоставлять. Все слухи относительно будущего дурного обращения с заключенными лишены всяких оснований…»
Я уже читал эту статью, поэтому незаметно выскользнул из-за стола.
Волна арестов продолжалась. Как объявил Гитлер по радио, превентивные заключения были мерой вынужденной: «Народ бурлит недовольством, которое вызывают провокации этого оппозиционного сброда! Действия этих негодяев становятся наглее с каждым днем, глупцы не понимают, что сами же и пострадают от праведного гнева честных немцев. Ради их же собственной безопасности, которая вряд ли может быть гарантирована в случае массовых народных выступлений, мы отправляем этих людей туда, где сможем обеспечить их защиту…»
– Они еще ничего не совершили, – недоумевал какой-то старик в продовольственном магазине, куда меня отправила тетушка, – но их лишают свободы! Это противоречит всем нормам права! – В порыве возмущения он приподнял руку с тростью, едва не задев стоявшую позади него даму.
– Не совершили, но могут, – тут же вмешалась эта дама, – и, скорее всего, так и сделают, если их вовремя не остановить.
– Позвольте, но откуда нам знать, что они сделают, а чего нет? – вопросительно посмотрел на нее старик.
Женщина возмущенно всплеснула руками и перешла на повышенный тон:
– А вы предпочитаете проверять? Извольте, я мать, у меня трое детей, и я не желаю подвергать их опасности быть на одной улице с этими… – Она запнулась, не найдя подходящего слова, и рассерженно повторила: – С этими! Да и на что им жаловаться? Дармовая еда, мягкая кровать, крыша над головой и безопасность от своей же дурной головы. В конце концов, если ты добропорядочный немец, тебе нечего опасаться.
– А еще не коммунист, не социал-демократ, не еврей и не безработный, – усмехнулся старик.
Все находившиеся в магазине рассмеялись.
В университете мы начали показывать студентам-евреям, где их истинное место. Поначалу дело ограничивалось угрозами, у некоторых для острастки отбирали и тут же на их глазах рвали книги и конспекты лекций. Одни понимали с первого раза и ходили по коридорам, смиренно опустив голову и стараясь никому не смотреть в глаза, в других же еще теплился дух противоборства. И тогда мы перешли к более решительным действиям: каждый день мы избивали одного-двух, дабы они были наглядным примером остальным евреям.
Однажды мы гурьбой ввалились в аудиторию и с удивлением обнаружили, что в первом ряду гордо восседал Лео Бебель. При виде нас он втянул голову в плечи, но с места не сдвинулся.
– Кто это у нас здесь? Вонючка Бебель занимает первые места! – угрожающе засмеялся Хайнц. – Тебе же вчера дали билет в Палестину в один конец, почему не воспользовался?
– А он, видать, захотел остановку в Гамбурге сделать, – раздался голос с заднего ряда, – там с ними не церемонятся. Слышали, на днях гамбургские штурмовики согнали всех жидов на стадион и заставили зубами стричь траву? Эй, Бебель, будешь траву зубами стричь?
– Пошел вон, Бебель, – коротко бросил я.
Но Лео не двигался.
– Еврей плохо слышит? – громче произнес Хайнц.
– Еврей плохо видит, – неожиданно огрызнулся Лео.
Честно говоря, я не ожидал от него такой смелости.
– С последних рядов я не вижу, что преподаватель пишет на доске, – попытался объяснить он.
– Так надень очки, – рявкнул Хайнц.
– Вы их сломали еще позавчера. – Лео опустил голову и ухватился за край стола, демонстрируя, что не уйдет.
– Да что вы церемонитесь с евреем?! – взревел Генрих, двухметровый верзила, вошедший за нами.
Он схватил тощего Бебеля за ворот куртки и буквально выдернул из-за стола. Даже не вскрикнув, он полетел к лекторской трибуне. Рухнув у ее подножия, он несколько секунд лежал без движения, нелепо раскинув руки и ноги в стороны. В таком положении его и застал доктор Деклер. Быстро скользнув глазами по Лео, преподаватель посмотрел на нас долгим усталым взглядом. Мы молчали.
– Студент Бебель, прошу покинуть аудиторию и привести себя в порядок за ее пределами. Остальных прошу занять свои места, мы начинаем.
Подняв с пола свою тетрадь, Лео Бебель поплелся к выходу. Я успел заметить его полный ненависти и бессилия взгляд, но смотрел он не на нас… а на доктора Деклера.
По всему университету были развешаны «Двенадцать тезисов» студенческого союза, направленные против негерманского духа, проще говоря, против поганых евреев, продолжавших всеми правдами и неправдами цепляться за студенческие скамьи. «Наш самый опасный враг – еврей и тот, кто зависим от него, – было выведено крупными красными буквами на каждом плакате. – Еврей может думать только по-еврейски. Когда он пишет по-немецки, то он лжет…»
Студенты собирались возле плакатов группами, зачитывали текст вслух и с жаром обсуждали.
– Они чужестранцы!
– Семья Шварцман уже в четвертом поколении живет в Берлине, какие они чужестранцы? А вот твои родители вернулись из Франции только после войны.
– Но я не еврей!
– Но и не немец, так в чем разница?
– Я тебе покажу, в чем разница!
Повсюду вспыхивали конфликты. Профессора были не в силах препятствовать всем ссорам и дракам, случавшимся в стенах университета. Они были заняты лихорадочным латанием дыр в лекторском составе после введения квот для евреев-преподавателей: отныне в высших учебных заведениях допускалось не более полутора процентов евреев от всего преподавательского состава. Впрочем, и они вскоре ушли, так как их лекции все равно никто не посещал. Мы в открытую заявили, что не желаем видеть ни одной еврейской морды за преподавательской кафедрой.
– Мышление наше стало совсем уж простым, коль столь примитивное сознание могло так легко завоевать нас, – тихо проговорил доктор Гишпан перед тем, как навсегда покинуть стены университета, и его счастье, что эти слова услышали лишь мы с Хайнцем, следившие, чтоб он ничего не прихватил из аудитории.
В итоге доктору Деклеру, читавшему у нас право, пришлось взять на себя не только историю, но и литературу, к которой он не имел никакого отношения. Было видно, что ему это откровенно неинтересно, вел он безэмоционально, часто ограничивался зачитыванием длинных кусков из книг и даже не пытался скрыть, что в навязанном ему предмете разбирается слабо. Неинтересно было и нам, на занятиях мы громко перешептывались, обсуждая последние события.
– По новому закону должны были уволить всех чиновников еврейского происхождения, но вмешался Гинденбург и заставил сделать исключение для ветеранов мировой и тех, чьи родственнички там погибли. В итоге больше половины остались на тепленьких местах. Вникаешь? И тут выкрутились благодаря старику, прогнулся, старый пень.
– Вникаю, на фронте, выходит, много их брата полегло.
– Я не к тому сказал, идиот…
– Говорят, уже больше тридцати тысяч смылось во Францию и Голландию.
– А толку-то, когда их здесь еще больше полумиллиона воздух портит?
– Если все четыре предка – и деды, и бабки по матери и отцу – евреи, тогда все ясно. А если только с одной стороны или, скажем, только дед или бабка, тогда как считать?
– Смотря с какой стороны, с отцовской или с материнской…
– Ерунда, это не имеет значения, а вот если сам чистенький, а муж или жена, предположим…
– Незаконное сожительство!
– Я слышал, у отца Руди с этим не все чисто, говорят, в церковной книге регистрации браков… – Голос Хайнца понизился до тихого шепота, чтобы Руди, сидевший через два ряда от нас, не услышал.
Средоточием политической жизни теперь была Кролль-опера на недавно переименованной Кёнигсплац – туда переехал парламент после пожара Рейхстага. Двадцать третьего марта на сцене, привычной к опереттам и драмам, была проведена очередная сессия парламента, явившая кардинально новое искусство под названием «Закон о преодолении бедственного положения народа и государства». Отныне конституция Германии не была истиной в последней инстанции, теперь лишь рейхсканцлер Адольф Гитлер определял законность законов. Окончательной и закономерной точкой явился декрет от четырнадцатого июля.
– «Отныне Национал-социалистическая немецкая рабочая партия является единственной партией в Германии! – громко зачитывал Хайнц первую полосу. – Всякий, кто попытается сохранить или воссоздать организационную структуру какой-либо другой политической партии либо же предпримет какие-либо шаги к созданию новой политической партии, будет арестован и отправлен на каторжные работы сроком до трех лет. В случае, если деяние преступника потребует более тяжкого наказания, оно будет рассмотрено в индивидуальном…»
Дочитать Хайнц не сумел, его голос потонул в возбужденном студенческом гаме:
– Отныне есть лишь один фюрер, и имя ему Адольф Гитлер!
– Слава Гитлеру!
– Хайль Гитлер!
Я ощущал себя как в канун Рождества – чувство великого праздника переполняло меня. Весь Берлин украшали транспаранты и плакаты с тезисами партии. После занятий мы носились по городу со специально созданными отрядами молодежи и инспектировали книжные магазины, которые торговали книгами Манна, Ремарка, Брехта, Цвейга, Толлера, Верфеля, Франка и других, таившими тлетворную проеврейскую заразу на своих страницах. Переворошив все полки, мы рвали и топтали найденные, нелегальные отныне книги, а прежде чем уйти, на дверь каждого магазина прибивали списки того, чем теперь запрещалось торговать под угрозой ареста.
– Виланд, что ты делаешь?
Тетя Ильза, привлеченная в комнату шумом, пораженно воззрилась на меня.
Я и вправду действовал не слишком осторожно, грубо сваливая книги с полок прямо на пол.
– Тетя Ильза, от этого нужно избавиться, – торопливо проговорил я, не прерывая своего занятия.
Я продолжал внимательно изучать корешки книг и вытаскивать необходимые. Тетя Ильза подошла и подняла одну.
– Собрание современной лирики чем не угодило? – удивленно произнесла она.
– Оно в списке. – Я даже не обернулся. – Значит, и в него пролез какой-то еврейский стихоплет.
– Ну уж нет. – Тетя начала поднимать книги с пола и решительно ставить их на место. – Эту библиотеку собирал еще мой покойный муж, не позволю уничтожать ее из-за мимолетного веяния времени.
– Тетя! – Я стремительно обернулся и пораженно посмотрел на нее. – Мимолетное?! О чем ты говоришь, эти книги не близки нам, они ломают все наши моральные устои!
Тетя Ильза ничего не ответила и продолжила молча расставлять книги. В глазах ее была грусть, и я подумал, что это связано с воспоминаниями о ее муже. Очевидно, эти книги были дороги ей как память о нем. Я не стал упорствовать, но ближе к вечеру, когда тетя Ильза отправилась на прогулку с фрау Штольц, я все-таки вытащил несколько томов, так как не мог прийти на Опернплац с пустыми руками.
По моим подсчетам, к шести часам на площади и близлежащих улицах собралось не менее двадцати тысяч горожан. Здесь были не только студенты и профессора, но и обычные жители Берлина, прижимавшие к груди связки книг. Я с трудом нашел в условленном месте Хайнца. Он ожидал меня между оперным театром и зданием университета, где была подготовлена площадка для огромного костра. В центре уже возвышалась внушительная гора книг, действительно напоминавшая рождественскую елку. На специальных помостах ожидали кинооператоры и фотографы, не желавшие упустить ни единой детали.
– Нужно пробраться ближе к трибуне, сейчас будет выступать Геббельс, – взволнованно проговорил Хайнц.
Привычно работая локтями и извиваясь, словно змеи, мы начали протискиваться вперед. Прежде чем увидеть одного из главных партийных ораторов, я услышал его голос, который вознесся над площадью, усиленный во много раз микрофоном:
– Огонь очищает и озаряет! Сегодня огонь очистит от скверны и озарит истинный путь Германии, озарит новую эпоху, в которую мы вступаем с великой честью. Дух немецкого народа выразит себя с новой силой, – грохотало над волнующимся морем людей. – Пришло время новой эры и новых людей, которых взрастит новый порядок!
Мы наконец-то пробились в первые ряды. Геббельс стоял на возвышении. Перед ним на деревянной платформе установили стол, укрытый полотном со свастикой. На нем стояли опутанные проводами микрофоны, две бутылки с водой, стакан и листы с текстом, в которые рейхсминистр даже не заглядывал. По его знаку гору книг подожгли сразу в нескольких местах. Очевидно, их предварительно полили каким-то горючим, так как полыхнули они мгновенно. Я почувствовал жар на лице, щеки и нос обдало тягучим угарным потоком. «Одарен по-сатанински, велик, истинно велик», – услышал я восхищенный шепот позади себя. Я зачарованно смотрел на огненные языки, пытавшиеся дотянуться до чистого неба и лизнуть его.
Несколько студентов-активистов вышли из толпы и подошли к пылающей горе книг так близко, что их лица стали багровыми. Превозмогая боль, но не отворачиваясь, они громко прокричали:
– Против классовой борьбы и материализма! За народность и идеалистическое мировоззрение! Мы предаем огню сочинения Маркса и Каутского!
Бросив книги, они вскинули руки и, развернувшись на пятках, вернулись на свои места. Настала очередь следующих.
– Долой декадентство и моральное разложение! Упорядоченному государству – порядочную семью! В огонь книги Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера!
Еще несколько книг последовало в костер.
– Дадим отпор политическим предателям! Все силы – народу и государству! Мы предаем огню сочинения Фридриха Фёрстера!
Следующая группа студентов.
– Скажем нет половой распущенности, растлевающей наши души!
В огонь полетели книги Зигмунда Фрейда.
– Нет фальсификации нашей истории и осквернению великих имен, мы будем свято чтить наше истинное прошлое! В огонь Эмиля Людвига и Вернера Хегеманна!
– Искореним антинародную журналистику еврейского пошиба в годы национального восстановления! Сгорите, сочинения Теодора Вольфа и Георга Бернгарда!
Огонь разгорался сильнее, мои глаза слезились, я перестал ощущать запахи, но не отводил взгляда и шепотом повторял каждое слово, выкрикиваемое студентами-активистами. Сердце готово было выскочить из груди, когда Хайнц ткнул меня локтем в бок.
– Пошли, наша очередь.
На негнущихся ногах я последовал за ним. Я подошел к огню так близко, что опалил ресницы и брови, лицо запылало еще сильнее, жар нестерпимо жег все тело, но я готов был скорее умереть, нежели здесь, на глазах у всего Берлина и великих партийных лидеров, сделать хоть шаг назад.
– Нет псевдописателям, предающим героев мировой войны! – услышал я словно издалека свой низкий, зычный голос, казавшийся мне сейчас чужим. – Да здравствует воспитание молодежи в духе истинного патриотизма! Долой сочинения Эриха Марии Ремарка!
Что было силы я швырнул в трескучий огонь свои книги и, повернувшись к трибуне, вскинул руку. Я не знаю, от чего больше плавился: от жара ли, исходившего от костра, или от одобрительного взгляда Геббельса, которым он одарил меня. Я слышал, как за спиной другие студенты кричали призывы, кидая в огонь книги Альфреда Керра, но мне казалось, это было не в паре метров от меня, а в другом измерении. Я же был загипнотизирован, заворожен блестящими глазами рейхсминистра и не мог отвести от него взгляда. Хайнц потянул меня за руку, и мы вернулись на свое место.
Дома тетушка отругала меня за подпаленные брови.
– Посмотри на себя, на кого ты похож, и одежда вся пропахла дымом. Видела бы тебя твоя мать. Марш переодеваться!
На следующий день в газетах написали, что по всему Берлину было сожжено не менее двадцати тысяч книг.
– Двадцать, ты только представь себе, двадцать тысяч! – потрясая газетой, восторженно проговорил Хайнц, когда мы на следующий день встретились в университете.
– Фон Тилл, Штольц, вас вызывает профессор Хансен.
Мы оторвались от газеты и как по команде вскинули головы. Перед нами стоял активист Герман Пфенинг. В руках он держал какой-то список. Сверившись с ним, он пошел дальше. Мы с Хайнцем переглянулись. Хуго Хансен преподавал экономику. Его боялись и уважали одновременно, по влиянию в университете с ним вряд ли кто мог соперничать, даже ректор. Все знали, что он имел связи в высших политических кругах и был вхож на многие важные партийные мероприятия.
Поднявшись на второй этаж, мы постучали в дверь и, дождавшись приглашения, вошли в кабинет. Внутри уже стояли студенты, среди которых были и те, что накануне вместе с нами бросали книги в огонь под заранее утвержденные выкрики. На их лицах было настороженное любопытство, судя по всему, они тоже не знали, зачем их пригласили. Мы дождались еще двоих, и профессор Хансен прервал молчание:
– Университет выражает вам благодарность за истинную преданность Германии. Вчера вы проявили себя как немцы, которым небезразлична судьба страны, подарившей вам жизнь.
Он обвел нас одобрительным взглядом. Мы молчали, восторженно взирая на профессора. Осанка и все точные движения его тела выдавали военное прошлое. Он был высок, широк в плечах, но с возрастом погрузнел и обзавелся животом, на который часто во время лекций укладывал руки, украшенные двумя массивными перстнями. Волосы его были по-прежнему густые, но уже с яркой проседью, зато зрение, судя по всему, сохранилось идеальное, он никогда не щурился, даже если обращался к студентам с дальних рядов.
– Подобные деяния не должны оставаться без внимания. Они символизируют вашу непоколебимую верность фюреру и будут служить примером для остальных. От имени университета позвольте вручить вам награды, и, заверяю, все это найдет отражение в ваших личных характеристиках.
Хуго Хансен взял со стола наградные листы и начал поочередно называть наши фамилии. Затаив дыхание, я ждал, когда он произнесет мою, но меня вдруг отвлек шорох в углу. В массивном кресле, скрытом наполовину темной ширмой из резного дерева, кто-то сидел. Поняв, что он выдал свое присутствие, незнакомец встал и подошел ближе. Он был в черном мундире, в руках держал фуражку, отделанную белым кантом. Я посмотрел на знаки различия и тут же непроизвольно вытянулся в струну: незнакомый гость был группенфюрером.
Он встал рядом с профессором Хансеном. Тот умолк.
– Вчера вы доказали, что готовы служить на благо германского народа. – Голос группенфюрера был низкий и грубый. – Сейчас это особенно ценно. Закладывается основа будущего государства. И люди, которые ведут нас, нуждаются в опоре, состоящей из молодых, здоровых, сильных и идеологически верно мыслящих людей.
Несмотря на попытку группенфюрера придать своему тону доброжелательность, звучал он сурово. Он продолжал говорить, буравя студентов пристальным взглядом.
– Вы знаете про многочисленные аресты, которые сейчас вынуждена производить полиция. Трусливые враги называют это террором. А что об этом думаете вы?
Мой рот раскрылся, а язык начал чеканить слова прежде, чем я успел осознать это:
– В этом залог будущего порядка и благоденствия. Мы обязаны подчиниться и содействовать, если мы истинные патриоты Германии. Тотальная дисциплина сегодня – это спокойствие и комфорт завтра.
Кровь отхлынула от моего лица, едва я замолчал. Гость смотрел на меня в упор.
– Вы проявили себя с прекрасной стороны, – наконец произнес он.
– Как и мои товарищи по учебе, – торопливо проговорил я.
Группенфюрер кивнул, будто соглашаясь.
– Студент фон Тилл состоял в одной ячейке с молодым героем Гербертом Норкусом, – снова вступил в разговор профессор Хансен.
Я сильно удивился, что он был в курсе этого, но виду не подал. Профессор продолжил:
– Вместе они вели пропагандистскую работу накануне выборов, все это отражено в характеристике фон Тилла – смею отметить, блестящей характеристике.
Гость еще раз кивнул, продолжая рассматривать меня в упор.
– Замечательно, – с одобрением проговорил он, – как раз такие нам и нужны, молодые, сильные духом и телом, с правильными взглядами и, надеюсь, безупречным генеалогическим древом. – Он еще раз внимательно окинул нас всех взглядом и коротко добавил: – Можете идти.
Прижимая к груди наградные листы, мы заторопились к двери.
– Как видите, у нас здесь качественное поголовье: высокие, здоровые, отличный потенциал, – услышал я за спиной голос профессора Хансена.
В коридоре мы все молча переглянулись.
– Вот так штука, – восхищенно проговорил Хайнц, уставившись в свой наградной лист, – такой человек лично отметил.
– Кто это был? – спросил я.
– Ты не узнал, кто был в кабинете Хансена? – пораженно спросил верзила Генрих.
Я покачал головой.
– Ну ты даешь, это же сам Йозеф Дитрих! Приближен к фюреру, лично ответственен за его охрану. В его подразделение входят самые лучшие, он постоянно рыскает в поисках достойного пополнения, – произнес Хайнц.
– Ты думаешь…
– А что тут думать, книги жгли вместе, а присмотрел он тебя. Скажи спасибо природе, – усмехнулся Хайнц и многозначительно пощупал мое плечо.
Я смущенно дернул рукой, сбрасывая его ладонь. Переехав в Берлин, я не забросил спорт: в университете я продолжил заниматься атлетикой, борьбой да еще ко всему прочему добавил занятия фехтованием. Что ж, кажется, мое усердие не прошло даром.
После лекций я столкнулся в коридоре с профессором Хансеном. Мне показалось, что он нарочно меня искал.
– Я надеюсь, вы не обманете наших ожиданий, – он выразительно приподнял брови.
Я завороженно кивнул, ожидая, что он скажет дальше.
– В числе прочих я назвал ваше имя. Сделайте так, чтобы я не пожалел об этом.
Не прощаясь, профессор Хансен пошел прочь.
Вечером за ужином я рассказал тетушке о произошедших за день событиях. Вопреки моим ожиданиям, она была не сильно поражена, лишь удовлетворенно кивала головой.
– И вас не удивляет факт моей встречи с таким высоким чином? – не вытерпев, спросил я.
Тетя Ильза многозначительно улыбнулась.
– Ты очень перспективный мальчик, Виланд. И нужные люди это сразу видят.
Она широко улыбнулась и потянулась за шоколадным бисквитом.
– Возможно, мне понадобятся некоторые документы, нужно написать матери, – проговорил я.
– Если ты имеешь в виду проверку расовой чистоты, то оставь это мне. Я займусь этим вопросом. Тебе не о чем переживать, и с нашей стороны, и со стороны твоего отца – все чисто.
На следующий день я отправился в ателье делать фотографию в полный рост, которую необходимо было приложить к анкете и документам, подтверждающим мою расовую чистоту. Я представил, как некий важный доктор будет изучать мою фотокарточку через лупу, внимательно вымерять мои пропорции, и мне стало не по себе: а вдруг где-то не сойдется с нормами? Я еще раз придирчиво посмотрел на себя в зеркало и медленно выдохнул, пытаясь унять тревогу.
С того дня я начал еще больше времени уделять физической подготовке. Каждые выходные я бегал многокилометровый кросс, отжимался по сотне раз на дню и фехтовал без устали. Меж тем приближалось девятое ноября. Эта дата была помечена в моем настольном календаре красным карандашом. Очередная годовщина Пивного путча должна была ознаменовать начало моей новой жизни. На торжественной церемонии в числе таких же избранных из разных университетов счастливчиков-анвертеров[44] я был объявлен новобранцем. На мое счастье, в этой же группе оказался и Хайнц. Не то чтобы он обиделся бы на меня в случае, если бы его не приняли, но укреплению нашей дружбы это бы точно не поспособствовало. Хайнц мне искренне нравился, и, в конце концов, только благодаря ему я быстро освоился в Берлине и попал в ячейку гитлерюгенда.
Гордые и счастливые, мы щеголяли в выданной нам черной форме СС. Пока еще на ней не было погон и петлиц, но это ничуть не омрачало нашего блаженства, теперь это был лишь вопрос времени. Остальные студенты смотрели на нас с Хайнцем с уважением, порой в их взглядах проскальзывала опаска, даже верзила Генрих не мог скрыть этого чувства, я же упивался этим и был уверен, что Хайнц тоже. В январе нам наконец-то выдали временное удостоверение СС. С превеликим трепетом я принес его домой и показал тете Ильзе как некую драгоценность, достойную самого бережного и уважительного отношения. Тетушка одобрительно скользнула по нему взглядом и тут же занялась своими делами, я же еще долго разглядывал клочок бумаги, сделавший меня одним из самых счастливых людей на земле. Словно невзначай я забывал удостоверение на столе, когда к тете Ильзе приходили гости, клал сверху на книги во время лекций, ронял перед приятелями в университете, словом, делал все, чтобы лишний раз напомнить окружающим, кто я теперь. Но что это было по сравнению с тем, что я испытал двадцатого апреля, в день рождения фюрера! Я видел, как с большим трудом скрывает свое волнение бледный Хайнц, получая погоны, петлицы и постоянное удостоверение. И я завидовал его выдержке и самообладанию: подумать только, отделался всего лишь мертвенным цветом лица, я же готов был рухнуть на землю от волнения. Неужели это я, с безупречной выправкой и одуревшим от счастья лицом, получаю погоны, петлицы и становлюсь полноправным членом СС?
– Клянусь тебе, Адольф Гитлер, фюрер и канцлер Германского рейха, быть верным и храбрым. Торжественно обещаю повиноваться тебе и назначенным тобою начальникам и хранить послушание до самой смерти. Клянусь, и да поможет мне Бог!
На мое счастье, мы произносили клятву все вместе, и в этом хоре восторженных голосов, полных страсти, веры и любви, мой взволнованный молитвенный хрип легко затерялся.
– Вы должны осознавать, кем становитесь. Немцы – элита наций, СС – элита немцев. – Штурмбаннфюрер, вручавший нам удостоверения, сделал паузу, давая осмыслить сказанное, лицо его было серьезным.
Впереди нас ожидал теоретический курс и получение Имперского спортивного знака. Как я и рассчитывал, спортивные нормативы я сдал с легкостью, более того, готов поклясться, что впечатлил даже экзаменатора, который сделал дополнительную отметку в моем личном деле. Теперь к моим знакам на форме прибавился и значок на груди – овальный венок из дубовых листьев, внутри которого были вылиты три переплетенные буквы[45]. Дело оставалось за теорией.
– Кому мы служим в первую очередь и почему повинуемся? – задал мне вопрос Хайнц.
Мы сидели в моей комнате и готовились. На подносе стояли нетронутые чашки с чаем, а на тарелке высилась гора эклеров, заботливо заказанных тетей Ильзой из кофейни. Мы были так увлечены, что напрочь позабыли о еде.
– Мы служим немецкому народу и его фюреру. Мы повинуемся из внутреннего убеждения, из веры в Германию, в фюрера, в единственно верное движение, из веры в СС, – без единой запинки отчеканил я.
Хайнц заглянул в записи и кивнул:
– Сказал как написано. Моя очередь.
И я начал зачитывать Хайнцу вопросы из тетради.
Всю теорию мы вызубрили до последней точки. Разбуди меня ночью, и я без запинки готов был отчеканить любой параграф. Несмотря на это, я невероятно волновался перед устным тестом, боясь ответить недостаточно искренне и уверенно, поэтому по вечерам, будучи в одиночестве, упорно тренировался перед зеркалом. Вопреки моим опасениям, экзамен я сдал блестяще. После этого половина нашей группы была призвана на короткий срок в вермахт. Остальные, кому еще не исполнилось двадцати трех, в том числе и мы с Хайнцем, направились в Имперскую службу труда, где нам предстояло отработать и получить необходимые характеристики, с которыми мы были вправе рассчитывать на свое первое звание.
По пути мы наивно размышляли о сельскохозяйственных работах на свежем воздухе, сытных обедах со свежими фруктами и овощами, отдыхе в мягких стогах сена и забавах с фермерскими дочками, но на деле все вышло совершенно иначе. Все силы службы были направлены на увеличение площади обрабатываемых земель, и согласно этому плану нас направили на осушку болот. Хайнц работал на доставке песка и щебня, мне повезло меньше, я рыл каналы. Но, даже утопая по колено в вонючей жиже, с ног до головы облепленный мухами и изнывающий от жары, я и не думал расстраиваться и уж тем более жаловаться или просить о переводе. Я из кожи вон лез, чтобы заработать отличные характеристики, то и дело представляя, как обзавидуются мои берлинские приятели, когда я вернусь уже со званием. А там, глядишь, можно будет претендовать на место в специальном отряде Дитриха, чем черт не шутит, мечтал я, усиленно вгрызаясь лопатой в тягучую каменистую грязь.
В конце мая меня неожиданно вызвали обратно. Выслушав приказ незамедлительно явиться в штаб, я не мог понять, радоваться или переживать. Я настолько разволновался, что даже не заскочил домой к тетушке, чтобы привести себя в порядок и передохнуть после дороги, а сразу же с вокзала направился в указанное место. Остановившись перед мрачным пятиэтажным зданием, я оправил форму и с опасливым интересом начал разглядывать окна. Так и не высмотрев ничего любопытного, я взошел по каменным ступеням и попал в просторный вестибюль. Повсюду сновали люди, но шагов их было не слышно, все звуки глушил толстый ворсистый ковер, покрывавший каменный пол. Я торопливо нашел необходимый кабинет и уже собирался постучать, как дверь открылась и навстречу выпорхнула расстроенная машинистка, прижимая к груди стопку документов. Посмотрев на мои погоны, она даже не спросила, по какому я делу, коротко бросила: «Придется подождать» – и умчалась.
У стены стояли три стула, но я и не думал присаживаться. Замер рядом с ними в ожидании. Через минуту машинистка вернулась в кабинет. Когда она проскальзывала, я успел заметить, что в кабинете находилось несколько человек.
– Меры жесткие, это да, но ведь порядок – пожалуйста, извольте-получите. Рейхсфюрер лично выражал свое одобрение, – раздалось из кабинета сквозь неплотно прикрытую дверь.
Я напряг слух и подался вперед, но в этот момент дверь захлопнули изнутри.
Простояв у кабинета битый час, я так и не дождался приглашения. Томительное ожидание притупило нервозность, и я решил, что ничего страшного не случится, если я отлучусь на пару минут в туалет. Вернувшись, я увидел возле кабинета ту самую девушку.
– Где вас носит? – возмущенно прошипела фройляйн.
Я промолчал. Она пропустила меня в кабинет, а сама вновь исчезла. Теперь внутри находился только штандартенфюрер. Он долго что-то читал, наконец оторвал взгляд от бумаг и взглянул на меня. Я вытянулся в струну и назвал себя. Он кивнул.
– Вы направляетесь в лагерь Дахау в распоряжение коменданта этого лагеря оберфюрера Эйке, – произнес он и вновь уткнулся в свои документы, давая понять, что сказал все, что хотел.
Здесь явно была какая-то ошибка. Меня не могли никуда отправить, тем более на службу в чье-то распоряжение, ведь я еще не закончил с трудовой повинностью. Впереди была еще одна присяга, назначенная на девятое ноября. Словно почувствовав мое замешательство, штандартенфюрер вновь вскинул голову и с вопросительным недовольством уставился на меня.
– Я еще… я был на трудовой повинности, когда получил приказ явиться. Девятого ноября…
– Да-да, – перебил он меня, – девятого ноября состоится присяга, и получите свое звание. А сейчас отправляйтесь в Дахау, ваша трудовая повинность теперь проходит там. – Он уже хотел снова вернуться к своим документам, но, очевидно, растерянность на моем лице заставила его сжалиться, и он добавил уже мягче: – Там сейчас необходимо толковое пополнение. Вы наряду с другими были отобраны по анкете, характеристикам и личному делу. Поздравляю. Все инструкции и пояснения получите на месте.
– Виланд, мальчик мой!
Тетя Ильза, не ожидавшая меня раньше осени, кинулась целовать меня. Я с трудом выбрался из ее объятий. Она отстранилась и внимательно осмотрела меня.
– Похудел, – недовольно констатировала она.
За ужином я рассказал тетушке о переменах, которые меня ожидали.
– Дахау? – нахмурилась она. – Который близ Мюнхена?
Тетя Ильза была не в восторге от того, что мне придется покинуть Берлин, тем более так скоро. Вечером, когда я собирал вещи, она вошла в мою комнату и присела на стул. Некоторое время молча наблюдала за мной, потом со вздохом произнесла:
– Нужно уведомить твою мать, не думаю, что она обрадуется.
Я покачал головой, продолжая аккуратно укладывать свои вещи.
– Тетушка, неужели вы не понимаете, теперь это неважно, обрадуется она или нет. Отныне я сам себе хозяин и не завишу от них. Я уже не ребенок, а взрослый мужчина. Пора бы всем это понять.
– О, дорогой, для Герти ты навсегда останешься ее маленьким сыном, которого нужно оберегать. – Тетя Ильза грустно улыбнулась.
Я пожал плечами и положил сверху еще одну рубашку. Она продолжала смотреть на меня с печалью в глазах.
– Обязательно соверши пешую прогулку до Мариабрунн, Виланд, оттуда открывается волшебная панорама Альп, а в хорошую погоду и весь Мюнхен как на ладони. Пейзажи там великолепные, истинно баварские, а воздух…
Голос ее дрогнул, глаза заблестели, и она украдкой промокнула их кончиком платка, который сминала в руках. Я торопливо подошел к ней и взял ее тонкие руки в свои.
– Тетушка, ведь мы не навсегда расстаемся. И в конце концов, это отличная возможность для меня и, пожалуй, великая честь.
Она торопливо кивнула.
– Ты уже знаешь, где будешь жить? Я могу написать одной приятельнице, у нее дом рядом с…
– Нет-нет, что вы, – перебил я, – игрушки кончились, это настоящая служба.
– Как знаешь, обещай хотя бы, что напишешь сразу же, как приедешь, а я пока отправлю письмо Герти, хотя, пожалуй, стоит все же телеграммой…
Тетушка вышла из моей комнаты. Я запоздало вспомнил, что не успел попрощаться с Хайнцем.
Для направлявшихся на службу в лагерь специально был выделен отдельный вагон. Ровной колонной мы промаршировали к нему и по одному начали заскакивать, торопясь укрыться от внезапно начавшегося дождя. Я прошел к свободному месту и скинул свой мешок. Сзади меня кто-то толкнул, я обернулся.
– Тесно тут, – пробормотал высокий темноволосый парень вместо извинения.
На лоб ему то и дело падала прядь непослушных волос, которую он без устали откидывал назад. Шумно выдохнув, он опустился рядом со мной.
– И жарко, – подумав, добавил он. – Франц Ромул. – Он протянул мне руку.
– Виланд фон Тилл.
Напротив нас уже сидели двое, блондины, с похожими чертами лица и совершенно одинаковым прищуром, очевидно братья. Поезд дернулся, немного сдал назад, словно стоял под уклоном, и начал внатяг медленно и шумно набирать скорость. Когда Потсдамский вокзал остался позади, я отвернулся от окна.
– Сколько нам ехать? – поинтересовался один из блондинов.
– Ни разу не был в Мюнхене? – вместо ответа насмешливо спросил Франц.
Тот пожал плечами:
– Нам не доводилось выбираться дальше пригорода Берлина.
– Братья? – озвучил мою догадку Франц.
Блондин кивнул.
– Карл Кох, это мой брат Ульрих.
Ульрих, в отличие от родственника, был немногословен. За весь путь он едва ли проронил с десяток слов.
– Небось, и про Дахау мало что слышали? – спросил Франц.
Я не вмешивался, моя-то жизнь, конечно, не ограничивалась одним лишь Берлином, но и я про Дахау знал немного, в основном из газет, в которых писали, что там содержались как коммунисты с социал-демократами, так и наркоманы, гомосексуалисты, иеговисты и евреи. Еще помню, где-то было упоминание про скандал, разразившийся в лагере год назад, из-за которого даже коменданта сняли с должности.
– А ты, видать, в курсе всего, – усмехнулся Карл Кох.
Франц приподнял брови и осклабился.
– Может быть. – И он посмотрел на меня, будто проверял, слушаю ли.
Я слушал.
– Год назад там руководил Векерле…
Точно, так звали коменданта, которого убрали.
– …Недальновидный дурак. Говорят, разгуливал с хлыстом в окружении собак, выглядел внушительно, а по факту – пьянство да взятки. По слухам, не было при нем никакого порядка и дисциплины, все брали неприкрыто.
– Его за взятки убрали? – спросил Карл.
Франц обвел нас взглядом человека, который испытывал явное удовольствие от того, что знал больше остальных, и ответил:
– Нет. – Он сделал еще одну паузу. – Баварская полиция раскопала кое-что поинтереснее. Охранники убили без причины трех евреев. Убили и убили, кто их считать будет. Но пьяные охранники начали хвалиться в пивнушке, что замучили жидов до смерти, обставив все как при попытке к бегству. Вот мюнхенская прокуратура и заинтересовалась, ну и обо всем доложили министру юстиции Франку.
– Я слышал, что было четыре еврея, – неожиданно подал голос Ульрих, – четвертый выжил и в больнице успел шепнуть жене, что с ним случилось. А уж она разнесла по всей округе…
Франц снисходительно посмотрел на него и пожал плечами:
– Детали. В общем, Векерле сняли, и на его место Гиммлер лично назначил Теодора Эйке. Откуда нарисовался, не знаю, но поговаривают, что этот парень ненормальный, кто-то клялся, что видел его в психушке в Вюрцбурге… – Франц сделал паузу и многозначительно добавил: – Среди пациентов. Не берусь утверждать, но порядок он навел. Выгнал из охраны к чертовой матери всех баварских полицейских и заменил их эсэсовцами. Теперь там строжайшая дисциплина, говорят, без ведома Эйке и мышь не проскочит. Гиммлер в восторге.
– А еще говорят, что под руководством Эйке любой превращается в бездушную скотину, – снова совершенно неожиданно вставил Ульрих. Даже брат посмотрел на него с удивлением.
Мы с Францем переглянулись.
– Верно, – ухмыльнулся Франц, – и это говорят. Но также говорят, если понравишься Эйке, то быстро поднимешься. Сам-то он в тридцатом еще манном[46] был, а буквально пару месяцев назад получил бригадефюрера.
Карл присвистнул. Франц продолжал поглядывать на нас так, словно хотел еще что-то сказать, но раздумывал, стоит ли.
– Видно, ты многое знаешь про службу в Дахау, – подначил его я.
– Узнать всегда можно, когда хочешь. Там царят суровые порядки. Даже пожилых могут избить. Раздеть догола и отлупить плетью.
– Пожилых? – недоверчиво переспросил Карл. – Верно, чушь.
Я тоже не был склонен верить подобным слухам и покачал головой. Франц откинулся на спинку:
– Я лишь сказал, что слышал.
Я отвернулся к окну и уткнулся носом в исхлестанное дождем стекло. Вряд ли хоть кто-то из болтунов, распространявших подобные слухи, видел воочию то, о чем говорил. Люди всегда склонны выдумывать небылицы, когда не имеют возможности заглянуть за высокие стены.
Как и следовало ожидать, свободного времени на прогулки по Мюнхену у нас не было. На вокзале уже ожидали два автобуса, которые должны были отвезти нас в Дахау.
– Стройся по двое в ряд! – раздался строгий зычный голос.
Отныне мы не принадлежали себе.
Нам предстояло проехать еще около семнадцати километров к северо-западу от Мюнхена. По пути я жадно разглядывал родные баварские пейзажи, наслаждался буйством зелени бескрайних пастбищ, очерченных вдали высокими горами, вершины которых были размыты голубоватой дымкой. Взгляд торопливо перебегал по причудливо выписанной природой линии горизонта, пока не уткнулся в две уродливые фабричные трубы, подпиравшие дождевое небо, никак не вписываясь в общую картину. Судя по всему, мы направлялись в их сторону.
– Лагерь, – тихо проговорил Карл Кох, сидевший позади меня.
Я не сразу заметил колючую проволоку – вдоль дороги, по которой мы ехали, она была почти полностью скрыта кустарниками и деревьями. Автобус проскочил мимо добротных двухэтажек, затем показались неприглядные бараки, контрастировавшие с уютными домиками. Дорога резко ушла влево, и сразу после поворота автобус затормозил у ворот. Приказа выходить не последовало, мы сидели не шевелясь. Через пару секунд послышался грубый окрик, и ворота раскрылись, автобус проехал по идеально ровной дороге, сзади вновь лязгнули ворота, и мы медленно покатили между длинными грязными постройками, похожими на заводские цеха. Наконец мы остановились перед небольшим зданием, располагавшимся поодаль от остальных. «Комендатура» – гласила табличка. Снова никаких приказов не последовало, и, неуверенно переглянувшись, мы начали выгружаться. К автобусу уже подбредали лагерные охранники, многие ухмылялись, кто-то разглядывал нас откровенно насмешливо.
– А, молодняк, образцовая смена, – громко проговорил долговязый парень, шедший впереди.
Несмотря на сарказм, звучавший в его голосе, держался он довольно дружелюбно.
– Она самая, – вышел вперед Франц и твердо посмотрел охраннику прямо в глаза.
Карл и Ульрих подтянулись к Францу и встали у него за спиной. Не раздумывая ни секунды, я подошел к ним.
Охранник недоуменно замер, но тут же расхохотался.
– Горячие, это хорошо. Такие здесь нужны. Готлиб, – представился он, глядя на Франца.
Тот медлил. Я напрягся, понимая, что если конфликт случится, то остаться в стороне не получится. К счастью, Франц все-таки назвал в ответ свое имя, и я выдохнул.
К нам подошли еще несколько охранников.
– Что, молодняк, идем располагаться, – проговорил Готлиб.
И мы пошли за ним по дороге, выложенной щебенкой.
– Вам повезло, жить будете как аристократия, казармы – высший класс, спасибо папаше Эйке. Мы-то еще полгода назад дрыхли в железных пакгаузах, деревянные кровати в три этажа, не желаешь? Это тебе не матушкина перинка, птенец.
Мы так и не поняли, кто из нас «птенец». Готлиб ни к кому лично не обращался.
– Посмотрели бы вы, на что этот лагерь был похож, когда мы сюда только попали. Дороги? Конечно, как же, трясины и болота не желаешь? Первые заключенные и вовсе дрыхли на цементном полу, хотя этому сброду что сделается. – Готлиб смачно сплюнул на щебенку.
Казармы стояли в отдалении, вокруг них даже были разбиты клумбы, поодаль стояли теплицы. Все выглядело ухоженно. Мне начинало здесь нравиться.
– Там живут офицеры и семейные, – Готлиб махнул в сторону двухэтажных домиков, которые мы проезжали.
– А заключенные где? – спросил Карл, с любопытством вертя головой.
Готлиб указал рукой на одноэтажные кирпичные бараки.
– Вон там, мы их кое-как перекроили из пороховых складов – фабрика тут раньше была, – пояснил он, – поделили на отсеки, запихнули двухъярусные койки. Но это все временно. У папаши большие планы. Скоро разберем это фабричное дерьмо, построим новые жилые бараки для заключенных, расширим территорию.
– Зачем? – снова спросил Карл.
– Не хватает тех бараков, чувствуется это. Их все везут и везут. И для себя постараемся, казармы получше, столовые, магазин, парк, цветники, и бассейн для офицеров будет, и тир для тренировок, даже кинотеатр и спортивное поле, папаша обещал все по высшему разряду.
Мы бросили свои мешки в казарме и пошли обратно в ту часть лагеря, где находились заключенные. Все это время Готлиб болтал без умолку. Мы пришли на некое подобие площади, тут уже находились остальные охранники, они нетерпеливо поглядывали на нас, словно чего-то ждали. Готлиб крикнул одному:
– Веди из девятого.
Тот кинулся в ближайший барак.
Вперед вышел один из охранников. Мы быстро столпились вокруг него, все хотели видеть говорившего.
– Я лагерфюрер Кегель. Вы знаете, куда попали. Это место создано для защиты германского народа от вредного элемента. Заблудшие, которые угрожают безопасности Германии, отправлены сюда на перевоспитание. И наша священная задача – способствовать этому всеми силами. Во имя великой Германии! – крикнул он и вскинул руку.
– Во имя великой Германии! – подхватили остальные охранники.
– Во имя великой Германии! – громко закричал я.
Несмотря на изматывающую дорогу, в это мгновение я почувствовал неимоверное воодушевление и прилив сил. Хотелось делать что-то сейчас же. Во имя великой Германии…
Впереди показалась шеренга заключенных в одинаковых тиковых робах, некоторым роба была явно не по размеру и свисала с них, словно с вешалки. Преступники даже не глянули на нас, их безучастные осунувшиеся лица были устремлены в спины идущих впереди, глаза потухшие, без единого проблеска мысли и желания. Услышав приказ остановиться, они покорно замерли. Мне казалось, они даже моргать перестали. Втянув головы, они съежились в ожидании чего-то. По знаку Кегеля два охранника с дубинками подошли к этой жалкой полосатой кучке и принялись хаотично наносить удары. Я непроизвольно сделал несколько шагов назад, пока в кого-то не уперся, – медленно обернувшись, я наткнулся на расширенные от ужаса глаза братьев Кох, затем перевел взгляд на недоуменно-испуганное лицо Франца, увидел раскрытые от неожиданности рты других новобранцев. Я понял, что они видят то же, что и я. Удары продолжали градом сыпаться на узников. Я впился взглядом в чей-то выбитый зуб, лежавший на щедро окропленной кровью земле. Подняв голову и будучи не в силах оторвать взгляд от этого страшного зрелища, я вдруг осознал, что меня больше всего ужасало. Они не пытались прикрываться от ударов. Вжав головы, истекая кровью, люди в полосатых робах даже не поднимали руки. Войдя в раж, один из охранников подпрыгнул и с огромной силой опустил дубинку на спину одного из заключенных. Тот беззвучно рухнул на землю.
– Хватит, – приказал Кегель.
Тяжело дыша, те двое прекратили. Лагерфюрер выразительно посмотрел в нашу сторону.
– Ваша очередь, – с ободряющей улыбкой произнес он и кивнул на шатающихся заключенных.
Никто из новичков не двинулся с места. Кегель снова улыбнулся, всем своим видом демонстрируя, что он ожидал подобной реакции.
– Хладнокровие и выдержка, вот чему вы должны научиться в первую очередь. Здесь сострадание предосудительно, ибо равносильно преступному намерению против своего же народа. Жалея эту падаль, вы подвергаете опасности не только себя, но весь рейх. Даже тень жалости укажет этим врагам на ваши слабые места, и поверьте: придет момент, и они это используют против вас и ваших семей. Здесь сочувствие – страшный порок, тем более для эсэсовца, чью форму вы имеете честь носить. Оно лишь позорит вас. Нам нужны твердые, решительные солдаты, которые беспрекословно выполняют приказы. – Улыбка медленно съехала с добродушного лица Кегеля, он умолк на секунду, и внезапно лицо его перекосилось от ярости. – А теперь взяли дубинки и прошлись по этому дерьму! – заорал он.
Я сглотнул, к горлу подкатил тошнотворный ком. Кегель выхватил у охранников дубинки, липкие от пота и крови, и подскочил к нам. Ближе всего к нему стояли Карл и Франц. Ослушаться приказа они не смели. Со смесью ужаса и отвращения я наблюдал, как Франц медленно подошел к избитым заключенным. Те смотрели на него затравленно, без надежды. Он поднял дубинку и опустил ее, затем сильнее, еще сильнее, еще раз, его не нужно было понукать. Он делал это уверенно, но без бешенства, с которым до него орудовали охранники. Так, как исполнил бы любой приказ, будь то доставить документы, будь то наказать дубинкой, подумалось мне. Карл все еще не двигался, лицо его сравнялось по цвету с его блондинистыми волосами. Он потерянно наблюдал за Францем, отчаянно надеясь, что о нем забудут.
– Выполнять приказ, чего встал! – заорал ему на ухо Кегель, подкравшийся сзади.
От неожиданности Карл подскочил на месте и сделал шаг вперед. Он поднял дубинку и неуверенно ткнул в ближайшего заключенного.
– Кто так бьет? – прорычал Кегель и выхватил у него дубинку. – Вот так!
Голова заключенного дернулась, изо рта полетели брызги крови, попавшие Карлу на руку. Он посмотрел на свою ладонь, перепачканную темными сгустками, и поперхнулся. По телу его пробежала судорога, он не успел сделать ни шагу в сторону, его стошнило прямо на месте.
– Грязная свинья, – проговорил Кегель, но, к моему удивлению, не Карлу, а заключенному, которого сам же и огрел дубинкой, – вот до чего ты довел честного человека. Убирай!
Узник опустился на колени и начал руками сгребать рвоту Карла. Я понял, что еще секунда – и меня тоже вывернет наизнанку. Я почувствовал чью-то руку у себя на плече – согнувшийся пополам Ульрих держался, чтобы не упасть. Другой рукой он зажимал себе рот.
Это был ритуал посвящения для новичков Дахау.
В этот день я не смог ужинать.
Братья Кох отказались и от завтрака.
– Зря нос воротите, молодняк. Сил надо набираться, а тошно, так ромом прочисть да сардинкой закуси, зря, что ли, папаша для нас дополнительный паек выбивал? – беззлобно подтрунивали охранники, которые накануне были с нами на аппельплац[47].
В течение дня мы все узнали о местном распорядке. Иерархическая цепочка командования концлагеря начиналась с коменданта. Собственно, в комендатуру мечтал попасть всякий охранник, намеревавшийся сделать карьеру, но, по слухам, удавалось это единицам. Это была высшая лагерная инстанция, полностью отвечавшая за функционирование Дахау. Служащие в административном отделе ведали повседневными делами, вели деловую переписку с вышестоящими формированиями и инспекциями, составляя ежедневно кучу рапортов, отчетов и заявок, следили за продовольствием и вещевым имуществом узников, за условиями проживания охранников, но, как мы позже узнали, они и носа не казали внутри лагерного периметра, и вся их бурная деятельность развивалась исключительно на бумаге. Политический отдел ведал личными делами узников: они регистрировали всех прибывавших заключенных, вели допросы, фиксировали и проверяли случаи смерти и занимались всеми формальностями в случае освобождения. Непосредственный же надзор за заключенными осуществлял шутцхафтлагерфюрер – второй человек в Дахау после коменданта. В его распоряжении было несколько лагерфюреров, дежуривших посменно. Их основной заботой были списки заключенных, которые непременно должны были сойтись во время перекличек. Они же следили за порядком и исполнением всех наказаний. Очень быстро мы поняли, что лагерфюреры могли принимать любые меры в отношении заключенных, которые считали необходимыми. Помогали им раппортфюреры. Бараками с заключенными управляли блокфюреры. Они могли появиться там с проверкой в любое время дня и ночи. Кроме того, блокфюреры отслеживали всю исходящую корреспонденцию узников – без их ведома за колючую проволоку не могло проскочить ни единого клочка бумаги с текстом. Еще ниже в этой цепочке стояли командофюреры, руководившие рабочими бригадами заключенных в каменоломнях, на строительстве дорог, корчевке пней и расчистке территорий под новую застройку. Те, кому повезло, занимались облагораживанием территории. Все функции лагерных эсэсовцев были строго регламентированы «Служебным предписанием для охраны», изданным Эйке, однако на деле многие обязанности кочевали от одного к другому.
– Мы должны держать этот сброд в узде! Никаких поблажек, поют – бейте, смеются – бейте, плачут – бейте, собираются группами больше двух человек – бейте. Бейте этот сброд, не жалея сил, – повторял Стефан Кегель перед строем новичков.
И мы впитывали каждое слово.
На следующий день нам раздали карательный распорядок концлагеря, который также составил Эйке. Его надлежало выучить наизусть. Я изучал страницу за страницей, поедая абзацы въедливым взглядом. Согласно этому предписанию всякий, «кто сообщает подлинные или лживые сведения о концлагере, а также распространяет россказни о зверствах для передачи врагам в целях ведения пропаганды…», подлежал повешению. Все, что происходило в лагере, должно было оставаться в лагере.
– Нападет на эсэсовца – расстреливайте на месте, отказывается повиноваться или работать – расстреливайте на месте, бунтует – расстрел на месте, подстрекает других – расстрел на месте, агитирует – расстрел на месте, попытался сбежать – расстрел на месте и его, и всех, кто был рядом с ним… Страх наказания – вот единственное чувство, которое должно руководить их существованием здесь. Вы должны добиться от них полной утраты воли к жизни. Запомните, никакой жалости. Она будет использована против вас же. Все признаки сострадания необходимо подавлять в зародыше. Ненависть – вот ваша защита, – терпеливо объяснял Кегель. – Вы не просто тюремщики, вы элита нации, следящая за врагами государства. Во имя всего святого, будьте патриотами!
Ожидалась очередная партия арестованных по сорок второй. Все сопроводительные приказы были одинаковы: «В силу статьи I декрета имперского президента об охране народа и государства от 28 февраля 1933 года Вы, (имя), подвергаетесь превентивному лишению свободы в интересах государственной безопасности и порядка. Основанием является подозрение в том, что Вы, (имя), занимаетесь деятельностью, враждебной по отношению к государству». Менялись лишь имена. Имена тех, к кому я заранее чувствовал отвращение, не будучи в силах понять: за что они так ненавидели свою же страну и почему плели интриги и заговоры?
Полицейский автобус остановился на плацу. Первыми из него выскочили конвойные. Один из них передал лагерфюреру Конраду Дильсу папку со списками. Тот быстро пробежался по ним глазами, кивнул и передал Готлибу. Из автобуса полезли арестованные, они затравленно осматривались по сторонам, прижимая к себе мешки с личными вещами. Мы же прижимали к себе оружие.
Готлиб начал громко зачитывать фамилии. Сверившись со списком, он приказал:
– По пять стройся, вперед!
Мы уже знали свои места. Франц и я встали перед колонной арестантов. Следом за ними выстроились остальные охранники. Сжавшись, заключенные смиренно маршировали за нами. Все происходило в полном молчании.
– Заходи! Пошевеливайся! – понукал Готлиб, уже стоя возле дверей сортировочной.
Внутри они сбились, словно стадо баранов, покорно ожидая дальнейших приказаний.
– Раздеться, быстро. Вывернуть свои мешки.
Они разделись, аккуратно сложив перед собой одежду. Оставшись совершенно голыми, они прикрылись руками и вновь уставились на нас, ожидая своей дальнейшей участи. По знаку Готлиба мы начали ворошить их вещи. Нам нужно было найти и отобрать ножи, вилки, булавки, ключи – любые принадлежности, которыми можно было нанести вред, – и большие суммы денег. Больше пяти марок – уже считалось большой суммой. Мелочовку можно было оставить, так как заключенные имели право отовариваться в лагерном буфете и покупать там джем, масло, сигареты, мыло. И поначалу я действительно оставлял мелочь, но, заметив, что старшие охранники выгребали все подчистую, перестал это делать.
– Внутри карточка моей жены, позвольте оставить!
Один из заключенных, у которого я проверял вещи, схватил овальный кулон, судя по всему, из чистого серебра. Я растерянно глянул на него, не решаясь отпустить цепочку, которую уже держал в руках.
– Не положено, – промямлил я, досадуя на свой мягкий тон.
– Что здесь? – К нам подошел Готлиб.
Не объясняя, я кивнул на пожилого человека, вцепившегося в кулон.
– Эта вещь дорога мне, позвольте… – начал он.
Лицо Готлиба налилось.
– Ты что себе позволяешь, грязная свинья! Фамилия! – рявкнул он.
Арестант мелко задрожал всем телом, но украшение, в котором была спрятана карточка жены, не выпускал.
– Фамилия, – прорычал Готлиб, вскидывая дубинку.
– Яничек, Тадеуш Яничек, секретарь, – испуганно проговорил он, вжав голову в плечи.
Готлиб сверился со списком. Яничек был бывшим секретарем Союза красных фронтовиков, находившегося когда-то под руководством коммунистической партии.
– Поганая красная свинья!
Готлиб размахнулся и отвесил бывшему секретарю звонкую пощечину. Седая голова резко запрокинулась и не сразу вернулась на место. Очень медленно Яничек выровнялся, руки его разжались, и он выпустил злополучный кулон.
– Тащите его. – Готлиб кивнул Карлу и еще одному охраннику, имени которого я пока не знал.
Никто из заключенных не двинулся с места, чтобы помочь секретарю, имевшему глупость вызвать гнев эсэсовцев. Все старательно отводили взгляды. Опытный охранник сгреб костлявого Яничека и поволок в другое помещение. На ходу он сделал знак Карлу следовать за ним.
Мы продолжили обыск, я старался не думать о подслеповатых глазах старика-секретаря, которыми тот вцепился в меня, когда его тащили. Зачем он так смотрел на меня? Неужели ждал, что я кинусь на его защиту? Старый идиот.
Готлиб приказал арестантам по одному подходить к столу, отмечаться и получать номер, который отныне заменял им имя. Когда с этим было покончено, Готлиб начал громко знакомить их с правилами внутреннего распорядка. Это было несложно: перечислить все проступки и закончить словом «расстрел». Опустив головы, арестанты внимательно слушали. В этот момент дверь в соседнее помещение распахнулась, и в сортировочную влетел Тадеуш Яничек – именно влетел, как будто им выстрелили из пушки, – и упал голыми коленями на каменный пол. Не вставая, он так и замер на четвереньках. К нему уже неторопливо подходил охранник, который его выводил.
– Встать! – приказал он.
Старый секретарь уперся дрожащими руками в пол и медленно встал. Лицо его было разбито, правый глаз стремительно заплывал, ухо было порвано, с него по шее стекала кровь. С трудом переставляя непослушные ноги, Яничек встал в строй. Готлиб удовлетворенно проводил его взглядом и с ласковой улыбкой спросил у голых людей:
– Кто-то еще желает оставить себе что-нибудь на память?
Желающих не нашлось.
Я увидел бледного Карла, он прижимался к холодному косяку железной двери.
– Вперед, пошевеливайтесь, – снова скомандовал Готлиб.
Когда заключенные проходили мимо него, он повел носом и поморщился.
– Надо с этим что-то делать, – пробормотал он, – нужно отчищать этих свиней перед распределением. Воняют, сил нет.
Действительно, от многих исходил сильный запах мочи, нечистот и затхлости. Я знал, что они находились под арестом уже долгое время. Согласно сопроводительным документам, некоторые по нескольку месяцев ожидали решения в тюрьмах, где не было возможности помыться.
В куче сваленных вещей, дожидавшихся сортировки, блеснул кулон. Я поднял его, подковырнул ногтем и раскрыл. Внутри была карточка. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я осторожно выковырял ее и спрятал в карман, а кулон вновь бросил в кучу.
Позже мы выдали арестантам белье, пустые тюфяки и наволочки, которые заставили набить соломой, и только после этого распределили заключенных по баракам.
За обедом Карл был молчалив. Я исподлобья наблюдал, как он без аппетита ковырял у себя в тарелке. Рядом, не обращая внимания на настроение брата, уминал кашу Ульрих. Я подсел ближе.
– Ну как? – спросил я ненавязчиво.
Карл посмотрел на меня и пожал плечами. Ульрих отвлекся от уничтожения каши и проговорил как ни в чем не бывало:
– Не жрет ничего с тех пор, как приехали.
– Тебя, судя по всему, это не беспокоит, – услышал я за спиной насмешливый голос Франца.
– А что я ему – мать, что ли? – отирая рот, проговорил Ульрих.
Карла, казалось, эта беседа ничуть не интересовала. Он по-прежнему был погружен в себя, не слыша и не видя ничего вокруг. Я ткнул его в спину.
– Что? – недовольно отозвался он.
– Ничего. – Я пожал плечами.
Поздним вечером в казарме, уже засыпая, я вдруг услышал шепот Карла. Он присел на мою кровать в одних трусах и майке.
– Виланд, эй, ты спишь? – зашептал он, затеребив мое одеяло.
– Идиот, – зло ответил я, – слезь с моей кровати, еще за гомиков примут.
– Виланд, это хорошо, что ты не спишь, я вот что хотел сказать. Я завтра попрошу о переводе.
– Еще чего, – вскинулся я и тут же сел. – Зачем?
– Я не этого ожидал, я хотел служить, а здесь я только и делаю, что бью людей, они даже не защищаются. Виланд, почему, черт подери, они не прикрываются? Даже не пытаются.
Меня это тоже не то чтобы раздражало, но вызывало недоумение: своей тупой покорностью они словно требовали еще и еще. Даже не желая их бить, я всякий раз наливался яростью при виде этого коровьего повиновения, и в голове становилось горячо от едва сдерживаемых эмоций, которые просились наружу.
– Не знаю, Карл. Они шокированы, напуганы, возможно. Возможно, смирились с тем, что их ожидает.
– Вот-вот, делай с ними что хочешь, словно это куклы. Виланд, меня это злит. Сегодня я потерял над собой контроль, я бил этого секретаря так, как никогда в жизни. Вы не видели, а я его так отходил дубинкой, что он еле дополз обратно в сортировочную.
Я впился взглядом в Карла. В темноте я не мог разглядеть его лица, видел лишь горящие глаза.
– Это ты его так? Я думал, тот старый охранник… все так решили.
Карл сглотнул. Он потеснил меня и сел совсем близко, упершись спиной в мою подушку. Он подтянул к себе ноги и обхватил руками колени, уткнувшись в них подбородком, словно обиженный ребенок.
– Нет, это я. Тот лишь толкнул старика в спину, когда мы возвращались, – пробормотал он.
Я не знал, что ответить. Карл легко раскачивался вперед-назад, словно маятник, и смотрел прямо перед собой. Я тронул его за плечо.
– Ты выполнял приказ. Ты не мог ослушаться.
– Да-да, – отстраненно кивнул он, – эти люди, они не просто так здесь, они наши враги, враги наших семей, враги Германии.
– Враги Германии, – тихо повторил я за ним.
Внезапно из темноты раздался голос Франца:
– Девочки, сколько можно, я уже готов поверить, что вам нравится в одной кровати.
Слева насмешливо хрюкнул Ульрих.
– Замолчи, придурок, – шикнул Карл на Франца и змеей скользнул из моей кровати прочь.
Сигнал к подъему грубо выдернул меня из беспокойного сна. Я с трудом продрал глаза. В такую рань есть не хотелось, и я через силу запихнул в себя пару кусков хлеба с маслом, запив их холодным кофе.
Мы сонно плелись в сторону бараков, где узники уже получали свой завтрак. Ветер донес до нас едкий запах подгорелого пшена. Через несколько минут кухонная команда загрохотала пустыми бачками, таща их обратно на кухню. На «лугу», как в Дахау называли большую площадь для поверок, начали выстраиваться длинные серые колонны. После переклички они быстро разделились на рабочие команды.
– Пошевеливайтесь, свиньи вонючие, хоть какую-то пользу принесете. Возрадуйтесь и возблагодарите, что делаем ваше существование не таким бессмысленным, – с громким смехом проговорил коренастый Штенке, усердствовавший в любое время суток.
Мы с Францем сопровождали одну команду. Выйдя за забор, мы двинулись к складам с инструментами для рабочих. Арестанты получали инструменты в зависимости от работ. Сегодня нашей команде предстояло расчищать территорию для новой дороги – Штенке велел брать кирки, лопаты и топоры. Весь инструмент был в белой пыли, очевидно, вчера его использовали на гравийных работах. Когда мы наконец достигли места, солнце уже начало припекать. Не дожидаясь приказа, заключенные молча приступили к работе. Раньше этот участок был частью густого леса, деревья срубили другие рабочие команды, теперь нужно было выкорчевать массивные пни. Те, у кого были лопаты, окапывали их по кругу, затем топорами обрубали толстые корни, уходившие глубоко в землю, после поддевали киркой и раскачивали пень. Выдернутые пни заключенные скатывали в одно место. Воды для узников не было предусмотрено, я видел, как они, обливаясь потом, облизывали потрескавшиеся, пересохшие губы, в уголках которых скопилась белая липкая пена. Они работали без перчаток, у многих на руках быстро полопались волдыри, очевидно, еще не зажившие после предыдущих работ, на черенках лопат оставались красные пятна вперемешку с грязью и потом. Один из заключенных не выдержал и прервался на мгновение. Желая облегчить жжение, он подул на ладони и был в ту же секунду сбит прикладом. Даже я не ожидал такой прыти от Штенке и вздрогнул от неожиданности. Узник упал лицом во взрытую землю.
– Ленивая свинья! – закричал Штенке и замахнулся еще раз, но не ударил. – Вставай, красное животное. Слишком много жира, пора худеть!
Узник тут же вскочил, схватил лопату и принялся молча окапывать очередной пень.
– Что, принцесса, ручки болят? Покажи руки! – не унимался Штенке.
На жаре его лицо раскраснелось, жирные прыщи налились кровью.
Узник заработал с удвоенной энергией.
– Покажи руки, собака! – Штенке размахнулся и ударил его ногой под колено.
Тот дернулся и согнулся, но выставил перед собой руки, не понимая, чего от него хотят. Руки были грязные, в кровавых волдырях, на одной руке пузыри лопнули, обнажив кровавое мясо.
– Посмотрите на эти руки! Белые, мягкие, как у девчонки. Да он до этого ни разу в своей жизни не работал, сосал кровь и деньги у рабочих. Так? – нависнув над ним, громко и угрожающе спросил Штенке.
Остальные арестанты продолжали усиленно корчевать пни, будто это было единственное, что интересовало их в жизни. Никто не был настолько глуп, чтобы смотреть на Штенке и своего товарища.
– Так? – еще раз повторил Штенке и замахнулся прикладом.
– Нет-нет, – заключенный замотал головой, затравленно глядя на оружие, – я работал, я честно зарабатывал и кормил свою семью.
– Семью? Ты еще наплодил маленьких щенков, себе подобных?! Кем ты был, свинья, пока не встал здесь на путь истинный?
– Я работал в союзе рейхсбаннеровцев[48].
Я поморщился, уже зная, что последует за этим признанием.
– Поганая социалистическая свинья, грязный бонза!
Штенке громко харкнул прямо в бледное лицо заключенного. Я отвернулся, чтобы не видеть, как тот утирается. Мне было неимоверно жарко, хотелось пить, хотелось, чтобы смена поскорее закончилась и мы могли убраться с этого солнцепека. К тому же из-за пыли, которую поднимали арестанты, таская пни, нестерпимо першило в горле. Я обернулся в поисках спасительной тени и увидел Франца, тот развалился под высоким кустом, рядом с ним было еще несколько охранников, которые лениво наблюдали за работами со стороны. А какого черта я здесь стою? Я тут же присоединился к ним.
– Штенке сегодня в ударе, – зевая, пробормотал долговязый Улле Шнейхардт.
Я вытащил из кармана платок и утер вспотевший лоб, затем тщательно протер шею. Платок моментально стал мокрым и грязным. Хотелось скорее добраться до душа. Не успел я убрать платок обратно, как услышал душераздирающий вопль. Все вскочили и кинулись к рабочей площадке. Растолкав столпившихся узников, мы увидели отвратительную картину: на земле, корчась от боли, лежал один из заключенных, он держался за перерубленную стопу. Половина ее свисала на кровавых лоскутах кожи и остатках ботинка, причем из-за хлещущей крови было непонятно, что есть что. От каждого дерганого движения несчастного кровавый кусок отрубленной ноги покачивался. Рядом стоял бледный рейхсбаннеровец. Не отводя потерянного взгляда от перерубленной конечности, он выронил топор и медленно осел на землю. Озверевший Штенке подскочил к нему и с яростными криками стал наносить ему удар за ударом. Тот и не пытался увернуться.
– Что произошло? – требовательно спросил Франц у остальных номеров.
– Нехорошо вышло. Бенни ничего не видел из-за слез, вот и саданул случайно по ноге Лафонтеля, как по корню, – торопливо объяснил один из них.
Я зло сплюнул. Теперь проблем не оберешься, чтоб их, идиотов, черт побрал. А ведь смена практически закончилась, теперь же возись с этим калекой, пиши отчеты. Очевидно, эти же мысли посетили и остальных охранников – никто и не думал оттаскивать разъяренного Штенке от рейхсбаннеровца.
В лагерь мы вернулись до сигнала, оповещающего об окончании работ, с одним раненым и трупом. Заключенный Бенджамин Райх был застрелен «при попытке к бегству».
Штенке и Шнейхардт тут же отправились докладывать обо всем лагерфюреру Дильсу.
– Вот фон Тилл тоже там был.
Какого черта! Я обернулся и зло посмотрел на долговязого Улле, который как ни в чем не бывало показывал на меня пальцем. Теперь я обязан был задержаться.
Дильс окинул нас троих пытливым взглядом и проговорил:
– Все трое к шутцхафтлагерфюреру, доложите о попытке к бегству и необходимых мерах, которые приняли. Все как положено.
– Так точно!
В комендатуре мы присели, ожидая, когда нас позовут в кабинет. Но из него неожиданно выглянул сам шутцхафтлагерфюрер и спросил:
– Где Кальсен?
Мы переглянулись, никто из нас и в глаза не видел Кальсена. Что касается меня, то я даже не представлял, кто это.
– Был же здесь, куда делся? Ладно, а вам чего?
– Мы… по поводу попытки к бегству арестанта, – волнуясь, проговорил Штенке.
– Расстреляли?
– Так точно, на месте.
– Ладно, двое ко мне, а третий живо к коменданту.
Он подошел ко мне и вручил плотный конверт.
– Лично коменданту Эйке в руки. И встретишь Кальсена, эту ленивую сволочь, скажи, чтобы мчался сюда.
Штенке и Шнейхардт торопливо протиснулись в кабинет, а я помчался на всех парах к лестнице. Шутка ли, непосредственное поручение шутцхафтлагерфюрера, личная встреча с комендантом! Каждый день все мы слышали о нем, но я все еще не имел чести видеть его лично. Говорили, что он на короткой ноге с Гиммлером и чуть ли не каждый месяц встречался с ним лично, а также имел свободный доступ к самому фюреру. Уже у самого кабинета путь мне преградил адъютант. Очевидно, мой вид вызвал у него подозрения, но я твердо сказал, что приказано «лично в руки». Тот не стал настаивать. Постучав и услышав ответ, я с трепетом вошел. Теодор Эйке сидел за широким столом напротив окна, в которое ярко светило солнце, и я видел только очертания его массивной фигуры. Подойдя ближе, я наконец сумел разглядеть великого и ужасного, о котором в лагере говорили со страхом и восторгом. И узнал его.
– Дядя Теодор? – От неожиданности я забыл устав.
Он внимательно разглядывал меня, будто силился вспомнить, где видел.
– Ты малец Эмиля фон Тилла, так? – наконец медленно проговорил он.
Я утвердительно кивнул, все еще не в силах поверить, что передо мной стоял старый сослуживец отца. Тот самый, что сидел у нас на кухне и спорил.
Эйке встал и медленно обошел вокруг меня, одобрительно разглядывая форму. Остановившись, положил руки на плечи и, глядя в глаза, проговорил:
– Значит, добился своего? Молодец, парень. А что же Эмиль, Герти, миролюбы кухонные, не против?
– Против. – Я не сумел сдержать улыбку, услышав, как Эйке назвал родителей.
– Вот это я понимаю. Ни враги, ни семья – никто не сбил с толку. Силён.
Он потрепал меня по плечу. Я передал ему конверт, он прочитал от кого, положил его на стол и снова перевел на меня взгляд:
– Давно ты здесь?
– Прибыл с пополнением несколько недель назад.
– Да, теперь служить в Дахау не стыдно. Теперь люди с гордостью говорят: «Я служу в Дахау», потому что я сделал из этой дыры образцовое место, сынок. Хорошо организованная система, которая основана на принципе безоговорочного и абсолютного повиновения, – вот что есть Дахау сегодня, парень. Садись.
Я послушно опустился на стул. Эйке вернулся на свое место и начал расспрашивать меня о жизни после Розенхайма. С одобрением выслушал о моем участии в гитлерюгенде, особенно заинтересовался встречей с Дитрихом.
– Тот еще лис, – усмехнулся Эйке, – ну, ты продолжай.
Мы просидели минут двадцать, не меньше, пока в дверь не постучали. Это был шутцхафтлагерфюрер. Он с удивлением воззрился на меня, не понимая, почему я все еще в кабинете коменданта. Я понял, что мне пора уходить. На прощание Эйке произнес:
– Это судьба тебя привела сюда, парень. Это судьба. Мне нужны такие люди. Люди, из которых я сделаю настоящих политических солдат, которые станут военной и государственной элитой в одном лице! Уже сегодня СС – это истинная порода, это повадки настоящей немецкой знати. Вот что дал нам чистейший расовый отбор, сынок.
Он встал и по-отечески потрепал меня по плечу. Это не ускользнуло от глаз недоумевающего шутцхафтлагерфюрера.
В прекрасном настроении я влетел в казарму. Франц уже был чист, свеж и благоухал словно майская роза.
– Чего лыбишься, будто только что с девчонки слез? – проговорил он, приглаживая мокрые волосы маленьким гребнем.
– Да так, встретил старого друга семьи.
– Надеюсь, не по ту сторону колючей проволоки, – ухмыльнулся он.
Улыбка тут же съехала с моего лица. Я с негодованием посмотрел на него.
Заключенных везли со всей Германии. Вскоре я потерял счет этим группам, которых одну за другой выплевывали в лагере многочисленные автобусы и грузовики. Они слились для меня в одно сплошное безликое месиво, с которым необходимо было бороться и которое нужно было держать в узде, чтобы оно не распространяло зло по всей стране.
И я учился держать их в узде. Нас всех учили.
Очень быстро я понял, что самым страшным для заключенных были не побои, которыми их ежедневно щедро одаривали. Даже самое жестокое наказание не могло сломить их, но вся воля к сопротивлению разбивалась о неизвестность: никто не знал срока своего заключения, «профилактический арест» значил, что они будут в нашей власти столько, сколько захотим мы. Я понял: если сказать самому измученному и болезненному на вид арестанту, что «завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через год на свободу», то он вынесет всякую суровость нашей дисциплины, все тяготы и лишения. Но стоило самому сильному сказать «неизвестно когда», то он ломался еще до того, как его спины касалась дубинка Штенке. Вот что рубило их на корню. Они переставали верить, вместе с верой исчезала надежда, а люди без надежды были все равно что мертвые.
– Ни в коем случае нельзя жалеть. Даже полумертвый встрепенется от доброго взгляда или доброжелательного кивка. Едва почувствовав в вас эту заразу, самый отчаявшийся вновь обретет волю к жизни. И тогда бунт неизбежен. Вы думаете, что проявили любезность, ничего не значащую деликатность, а они усмотрят в этом вашу слабость и поймут, что с вами можно бороться. И тогда тоже бунт неизбежен. Один жест, которому вы не придадите никакого значения, может стать началом. Эти собаки знают, как направить все в нужное русло, их коварство не знает границ. Этот жест станет первым звеном в цепочке ваших проступков, которая закончится содействием при побеге. И тогда бунт уже в масштабах всей страны неизбежен, – снова и снова повторял Кегель на построении. – Унизить, раздавить и подчинить. Чтобы они забыли о том, что такое сопротивление. Понятно?
Мы понимали.
Унижение принимало разные формы, порой совершенно отвратительные. Зайдя вечером в туалет при казарме охранников, я от неожиданности замер на месте. У стульчаков на коленях стояли заключенные, которые голыми руками выгребали дерьмо в специальные ведра. Вонь стояла несусветная.
– Скреби, скреби тщательнее, грязная свинья. Говно к говну не липнет!
Собравшиеся охранники, следившие за исполнением наказания, казалось, не замечали смрада. Я уже собирался выскочить прочь, как заметил среди охранников Карла. С нездоровым блеском в глазах он понукал одного из арестантов. Лицо его налилось кровью.
– Проклятый бонза, еще чище! Надо будет, языком вылижешь! – исступленно кричал он, сходя на хрип.
Рот его был полон слюны, которая вылетала при каждом слове-плевке. Войдя в раж и уже не контролируя себя, он опустил руку на голову арестанта и со всей силы толкнул его вниз. Не удержавшись, тот лицом уткнулся в нечистоты. Карл взвыл от восторга. Охранники одобрительно зашумели.
Я больше не мог выносить эту вонь и пошел прочь.
Шел второй месяц нашей службы в Дахау.
Вскоре к нашим обязанностям прибавилась проверка исходящей корреспонденции заключенных. Раз в месяц они могли написать одно письмо и получить в ответ от семьи комплект чистого белья. Среди тряпок попадались и запрещенные вещи: табак, сигареты, лекарства. Те, кому адресовалась очередная посылка с контрабандой, наказывались. Подлежали наказанию и те, кто пытался в письме домой хоть каким-то образом намекнуть о том, что происходило в Дахау. Но таковых попросту не было: «Дорогая Гретхен, мне живется сносно…», «Милая Анна, у меня все хорошо, целуй от меня детей…», «Дорогой Ганс, не тревожься, береги себя и маму…», «Дитя мое, у твоего отца все неплохо…».
Ни в одном письме я не встретил жалоб. Все послания были похожи друг на друга, разнились лишь имена. Никакой откровенности в них не было, это были всего лишь очередные подтверждения, что человек жив и дееспособен. Задерживать эти открытки было не за что.
Как правило, после обеда мы ходили по баракам в поисках проштрафившихся на посылках. На сей раз таковых оказалось пятеро. Я стоял на улице, дожидаясь, когда выведут очередного заключенного. Я не любил заходить внутрь, воздух там был спертый, воняло немытыми телами. Когда вытащили четверых, Франц сверился со списком:
– Пятого придется оставить. Столяр.
Ремесленников мы не трогали. Это было негласное правило. Так, припугивали, орали, замахивались прикладами, давали затрещину-другую, но не калечили. Здесь их руки были на вес золота, а потому, едва прибывала новая партия арестантов, на заметку сразу же брались столяры, плотники, каменщики, строители и портные. Строители возводили новые казармы, кухни, прачечную, сараи и прочие необходимые лагерю постройки. В просторном цеху плотники и столяры были заняты изготовлением мебели для офицерских домов. Их же изделиями была обставлена канцелярия и комендатура. Портные строчили робы для других арестантов, а также занавески, обивку для мебели, полотенца и покрывала для эсэсовцев. Самые умелые шили одежду для офицеров и их жен. К примеру, один из таких – противный еврей Гроссман, которого хотелось прибить просто за его страшный еврейский нос и въедливые черные круглые глаза, испуганно ощупывавшие всякого, кто стоял над ним, – обладал руками швейного бога, если таковой существовал. То, что он делал с тканью, иглой и ниткой, было произведением искусства, такое не стыдно было предложить и высшему командованию. Только потому Гроссман был еще цел, здоров и относительно благоденствовал, получая усиленный паек, а по выходным даже двойную порцию того, что на арестантской кухне называлось мясом: жилы, старое сало и хрящи. Откровенно говоря, по качеству все, что выходило из наших лагерных мастерских, было куда лучше того, что присылали извне. Так что, судя по всему, Дахау начинал превращаться в предприятие, которое имело не только исправительную функцию, но и все шансы стать экономически выгодным.
Мы отвели четверых штрафников на «луг». Там уже находилась рота охранников. Эйке настаивал, чтобы при официальных наказаниях присутствовало как можно больше людей. Всех штрафников тут же приговорили к двадцати пяти ударам палкой. По приказу охранника несколько заключенных вытащили козлика – деревянное приспособление, на которое укладывали штрафников. Два блокфюрера уже стояли рядом с ним и крутили в руках дубинки, ожидая, когда наступит их очередь приступить к делу. Вскоре появился шутцхафтлагерфюрер, и блокфюреры тут же подошли к первому штрафнику, неестественно худому и сутулому. Поняв, что будет наказан первым, он даже не поменялся в лице. Глядя перед собой пустым взглядом, он позволил уложить себя лицом вниз на гладкое, отполированное по́том и кровью дерево. Двое охранников держали его за руки и голову, чтобы не дергался и не вывернулся с козлика. Я ожидал, что этот худой арестант будет орать как резаный, но, к моему изумлению, он не издал ни звука. Закрыл глаза, сжал губы в тугую нитку, стиснул кулаки, и ни звука. Даже не стонал. Спина его быстро покрылась лиловыми отметинами. Когда дубинка попадала несколько раз по одному и тому же месту – а один из блокфюреров нарочно старался продемонстрировать шутцхафтлагерфюреру свою прицельность, – то кожа кровоточила. После особенно точной серии ударов появилось рассечение, из которого кровь полилась рекой. Наконец двадцать пять ударов было отсчитано, но встать арестант не сумел. Те же охранники, которые держали его, просто смахнули тело на землю.
Настала очередь второго. Он был высок, достаточно крепок, и в его бегающем, затравленном взгляде еще оставалось что-то живое: очевидно, прибыл недавно.
– Сейчас мы пустим тебе жир, свинья красная, – усмехнулся один из блокфюреров, перехватывая удобнее дубинку, – жаль, твоя свиноматка не увидит, как тебя посадят на палочную диету.
После первого же удара заключенный с диким ревом извернулся, словно змея. Державший его охранник не устоял и отлетел на пару шагов назад. Разозленный, он вновь вцепился в голову штрафника, дав знак блокфюрерам, что они могут продолжать. Реакция арестанта явно вдохновила их, и они принялись за дело с удвоенной энергией. Я посмотрел на заключенных-зрителей. Им было строго запрещено отворачиваться или закрывать глаза, если они не хотели оказаться на месте штрафников. Подбородки их были напряжены, словно сведены судорогой, глаза каждого немигающим взглядом смотрели на место наказания, но я уже давно разгадал их прием: они выбирали определенную точку – колено, локоть, палец, сапог, ножку козлика, что угодно – и, вперившись в эту деталь, смотрели на нее, стараясь не видеть всей картины целиком.
Не отворачивались и охранники – все мы были на виду друг у друга.
Постепенно крики перешли в стоны, которые не стихли и после того, как заключенного сняли с козлика и бросили на землю к первому. Следующий, коренастый и жилистый арестант, даже смог стоять на ногах после наказания. Последний тоже. Очевидно, блокфюреры устали после второго штрафника.
Пыльный участок, щедро залитый солнцем, дышал зноем. Вокруг не было ни единого дерева. Мне казалось, мы потели не меньше арестантов. Рядом со мной вонял Штенке. Я незаметно отстал от него на пару шагов, не желая больше вдыхать вонь его потных подмышек. Ко мне подошел Франц, жевавший сухую травинку.
– Ну как твои посиделки с дядей Тео? – иронично проговорил он, но так, чтобы никто не слышал.
– Он в последнее время все больше в Мюнхене, там что-то намечается.
– Чтобы понять, что что-то намечается, не нужно якшаться с комендантом. Нарыв давно гноится, и скоро он лопнет. Рём[49] слишком зарвался. Он уже открыто претендует на полную власть над обороной Германии. Сегодня он возьмет контроль над всеми арсеналами, а завтра пойдет на Берлин, чтобы подвинуть фюрера.
Тут Франц был прав. Руководитель CA и его армия штурмовиков окончательно вышли из-под контроля. Рём уже потребовал для своих прихлебателей все командные посты на востоке, а затем провел самостоятельные переговоры с французским атташе в Берлине. Ситуация окончательно обострилась, и конфликт стал явным. Было глупо отрицать, что фюрер оказался в весьма затруднительном положении: бывший преданный соратник явно тянул одеяло на себя.
– Уверен, скоро Рёма уберут. Гейдрих практически довел рейхсфюрера до нужной кондиции. А объединившись, они донесут эту мысль и до фюрера, – тихо говорил Франц, продолжая следить, чтобы никто, кроме меня, его не слышал.
Я молча раздумывал над его словами. Арестанты продолжали корчевать пни под яростные ругательства Штенке. Я протер платком мокрый лоб – дело бесполезное, через минуту соленая испарина выступила вновь.
– Даже если Рёма и посадят, его сторонники будут активно тащить его обратно. Это поднимет всю муть со дна болота. Еще неизвестно, что хуже, – наконец заключил я.
Франц посмотрел на меня долгим многозначительным взглядом, в его глазах по-прежнему была усмешка.
– А кто говорит об аресте, – вкрадчиво произнес он, – в СС все делается на далекую перспективу.
Я пожал плечами.
– Говорят, Рём единственный, кто обращается к фюреру на «ты». Думаю, они действительно друзья. Рём стоял рядом с ним во время путча. Думаешь, его решатся…
От разговора нас отвлек громкий визг Штенке.
– Поганая собака, я тебе покажу, как ломать лагерное имущество!
Один из арестантов сломал черенок лопаты, попытавшись поддеть инструментом толстый пень. Штенке уже успел ударить его несколько раз прикладом и теперь обхаживал упавшего арестанта сапогами. Не сговариваясь, мы с Францем кинулись к нему и начали оттаскивать в сторону от уже неподвижного тела. Франц яростно зашептал Штенке на ухо:
– Хватит, Отто, на тебе и так уже несколько расстрелов при попытке к бегству! Слишком много объяснений. Дильс этого не любит. Достаточно пустить кровь этой свинье. Оставь его.
Глаза у Штенке были выпучены, он тяжело дышал. Мы отпустили его, и он тут же отер рукавом слюну со рта. Он никак не мог отвести взгляд от лежавшего на земле арестанта. Я снова тронул его за плечо. Он тряхнул головой и огляделся.
– Что уставились, черви земляные, работать! – проорал он остальным заключенным, хотя те и не думали прерываться ни на секунду.
Штенке отошел в сторону и присел на один из пней. Франц на всякий случай остался с ним. Я вновь полез в карман за платком и нащупал какую-то бумажку. Достав ее, я с удивлением уставился на фотокарточку, силясь вспомнить, откуда она у меня. На ней была изображена круглолицая женщина с грустными глазами. Пожав плечами, я выбросил карточку прямо под ноги арестанту, рубящему корни. Он нагнулся, схватил ее, приблизил к глазам и тут же спрятал под одежду. Быстро оглядевшись, он посмотрел на меня и беззвучно прошептал одними губами:
– Спасибо.
Я не мог поверить своим глазам. Это был тот заключенный, который цеплялся за серебряный кулон во время моей первой приемки. Кажется, секретарь Союза красных фронтовиков, его имени я, конечно же, не помнил. И это была фотокарточка, которую я вытащил из его злополучного кулона. И теперь надо же было случиться такому дьявольскому совпадению.
Я грубо выругался про себя. В глазах арестанта сияла чертова благодарность. Он заработал с удвоенной силой. Я буквально чувствовал его эмоции на расстоянии. Он был счастлив, насколько можно быть счастливым в его положении. И таким счастливым его сделал я! А все, чего хотелось мне, – приложиться хорошенько дубинкой к его темени, чтобы не сиял так явно.
Я поспешил отойти от него.
Неожиданно Эйке начал проводить серьезные боевые учения. Отныне у нас не было ни минуты свободного времени: служба в лагере чередовалась с изматывающей военной подготовкой. Мы быстро осознали, что проводить дни на пыльном солнцепеке с рабочими командами было не самым сложным. Страшно было разочаровать Эйке на учениях. Мы часами разбирали и собирали оружие, чистили его и устраняли всевозможные поломки, маршировали, ползали, бегали, приседали, потом упражнялись на стрельбищах. Кто-то в шутку сказал, что зря портим мишени, когда под боком столько бонз, которые так и просятся на прицел. Это дошло до Эйке. На следующий день Кегель распорядился привести двух заключенных-евреев. Никто не посмел ни возразить, ни усомниться в правильности методики коменданта. Вначале выпустили одного.
– Пошел вон, собака, – бросил ему Кегель и обернулся к нам.
Арестант не понимал, чего от него хотят, и продолжал стоять на месте, затравленно глядя в спину Кегелю. По нашим взглядам лагерфюрер понял, что еврей не убегает. Он развернулся и заорал тому прямо в лицо:
– Вон, я сказал, беги! Свободен! – Он вскинул винтовку, давая понять, что будет стрелять, и тогда заключенный побежал в сторону лесных болот, которые примыкали к территории лагеря с северной стороны.
У меня перехватило дыхание: на наших глазах арестант дал дёру, а мы ничего не делали. Судя по изумленным глазам остальных, всех обуревали похожие эмоции. Тем временем Кегель как ни в чем не бывало начал объяснять:
– Ваша задача – убрать его с одного выстрела, и не просто ранить и предотвратить бегство, а убить. Повторяю, выстрел должен быть смертельным. Кох, начинай!
Последнее было обращено к Ульриху. Без слов он вскинул винтовку, но Кегель начал ему откровенно мешать. Он подошел сзади и начал орать Ульриху прямо на ухо самые грязные ругательства. Опешивший Ульрих промазал и удивленно посмотрел на Кегеля.
– Вы можете оказаться в совершенно непредсказуемых условиях. Двадцать отжиманий! Штенке, следующий!
История повторилась. Кегель специально мешал стрелявшим, усложняя задачу. Тем временем арестант уже добежал до забора из колючей проволоки, который ограждал стрельбище, и начал скачками перемещаться вдоль него.
– Ромул, давай! – приказал Кегель.
Франц был совершенно спокоен, в его глазах не было ни капли волнения, а в действиях – суеты. Он вскинул винтовку, казалось, даже не слыша дикого ора Кегеля, и выстрелил. В ту же секунду Кегель замолчал. Сузив глаза, он внимательно вглядывался в лежащего в траве арестанта.
– Проверить, – наконец приказал он двоим из роты.
Через пару минут они доложили:
– Наповал, в голову.
Второго арестанта использовать было уже нельзя. Он лежал без сознания на земле.
Особое внимание уделялось рукопашному бою и гимнастике. После отработки каждого занятия следовала проверка. Нас делили на две команды, которые соревновались между собой не только в стрельбе и борьбе, но и в решении технических задач. Звания здесь не имели значения, офицеры соревновались вместе с рядовыми. Поначалу мы испытывали неподдельное удовольствие, когда рядовой брал верх над старшим по званию. По удовлетворению в глазах Эйке я видел, что и ему это тоже нравилось. Казалось, для него не существовало различия в чинах. Постепенно и мы стали терять это чувство кастовости, начал улетучиваться страх перед вышестоящими, а те избавлялись от чувства надменности и превосходства перед нижестоящими. Таким папашей можно было гордиться, он мог наставить любого на верный путь. Мы и боялись его, и восхищались им, и боготворили его, как истинного главу большого семейства.
– Всякий эсэсовец в своем сознании должен быть готов отдать себя рейху без остатка вплоть до самопожертвования, вплоть до убийства родного человека, если тот пойдет против государства или идей Адольфа Гитлера! Здесь есть один закон – воля фюрера, и вы ее исполнители! Сама судьбы избрала вас, чтобы вы были движущей силой национал-социализма! Вы, воины без страха и упрека, станете спасителями немецкого народа, вы очистите немецкую кровь от скверны. Бессмертные – вот кто мне нужен, вот кого я поведу за собой! И вы ими станете. Слава великой Германии! – разрывая легкие, орал Эйке перед строем.
– Слава великой Германии! – гремели и уносились в небо сотни голосов.
– Когда целую страну нужно привести к единому порядку, жестокость неизбежна. Только так устраняются сомнения и междоусобная вражда. Каждый, кто противится этому, должен быть немедленно исключен из общественной жизни! И главным орудием этого очистительного процесса является лагерь! Единственно возможное место для грязной пены наших дней, коей являются эти вырожденцы. И вы, элита нации, призваны смыть ее с честного немецкого общества.
Мы слепо повиновались каждому его слову, которое стало законом в государстве Дахау. Его слово было правдой.
– Кто верит в Бога? Я распну каждого, кто скажет мне, что верит. Здесь не место для молитвенников и ладана, которые разъедают и разрушают душу истинного немца точно так же, как евреи уничтожают нашу расу. Фюрер – вот наш бог! Вот за кем мы пойдем! Вот за кого мы без колебаний готовы отдать свои жизни! Если тебе посчастливится умереть молодым в бою, ты не скажешь: «Дева Мария, прими мою душу!» Что ты скажешь?!
– «Адольф Гитлер» будут мои последние слова! – с жаром выкрикнул эсэсовец, к которому обращался Эйке.
– И тогда можешь спокойно испустить последний вздох. Ты жил правильно и умер истинно. Хайль Гитлер!
– Хайль Гитлер! – Общая молитва тысяч молодых, сильных, полных жизни солдат Эйке уносилась в голубое безмятежное небо над Дахау.
Настал момент, когда я перестал чувствовать страх, боль и усталость, я отрешился от всего, стал действовать словно машина. Меня интересовали лишь три переменные: приказ, выполнение и доклад.
– Безусловное подчинение! Ваши тела больше не принадлежат вам, они принадлежат фюреру! Ваша задача – выжать из них как можно больше на благо будущего Германии!
И Эйке выжимал из нас все до последнего. Усталые, вымотанные, мы отрабатывали приемы до глубокой темноты. Оставив на щебенке куски своей кожи с ладоней и локтей после бесконечных приказов «по-пластунски!», мы возвращались в казармы, еле волоча ноги, а ведь еще нужно было привести в порядок к следующему дню свою форму, которая стала уже мала в плечах. Ульрих как-то измученно заметил, что комендант не дорожит нашими жизнями, настолько безрассудно он выматывал нас на учениях. Но правда была в том, что сумасбродный «дядя Тео» не дорожил даже собственной жизнью, не говоря уже о жизнях других.
Теперь мы тихо радовались, когда наступала смена в лагере. Дежурство на смотровых вышках или конвоирование рабочих команд было настоящим отдыхом после учений Эйке. Я удивлялся, как при таком графике у кого-то из охранников еще оставались силы на издевательства над заключенными.
– Штенке и ему подобные, похоже, именно в этом и черпают силу, – усмехнулся Франц, когда я выразил свое удивление вслух.
Мы наблюдали за очередной забавой Штенке. Вместе с двумя охранниками он выбрал пару заключенных-коммунистов, которых заставили вырыть яму.
– Чтоб не меньше метра в глубину, а длину по себе меряйте, – приказал Штенке.
Бледные заключенные под понукание охранников копали больше часа. Я видел, как тряслись их руки, как они с ужасом молча переглядывались, но ни на секунду не прервали своего занятия.
– А теперь встали на край, – громко и внушительно проговорил Штенке, вскидывая винтовку, – мордой к могиле!
На негнущихся ногах узники подошли к краю ямы. Штенке щелкнул винтовкой и вдруг заорал:
– Ба-бах!
Один из узников как подкошенный рухнул в яму. Второй остался стоять на месте, на его выцветших полосатых штанах быстро увеличивалось мокрое пятно.
Охранники захохотали.
– Обоссался! Я же говорил! Гони марку, – с трудом превозмогая хохот, проговорил Штенке Шнейхардту.
Долговязый Улле хоть и вытащил купюру нехотя, но смеяться не переставал. Штенке выхватил деньги у него из рук.
– Доставай эту свинью, – кивнул он на второго арестанта, потерявшего сознание. – Этот небось еще и обосрался.
– Почему я? Сам и доставай, твоя идея, – проговорил Улле.
– Эй, – Штенке поманил обмочившегося заключенного, – приведи в чувство эту собаку, иначе действительно пристрелю.
Тот полез в яму.
– Что в голове у этого идиота? – пробормотал я, повернувшись к Францу. – И не лень ему было целый час возиться ради этой глупой шутки.
Франц посмотрел на заключенного, пытавшегося вытащить обмякшего товарища из ямы. Тот не приходил в себя.
– Это секретарь, на которого спорили, – лениво зевнул он.
Я непонимающе посмотрел на него. Франц пожал плечами:
– Думал, ты в курсе. Парни устроили развлечение. Нужно выбрать неприметного номера и сделать ставку, через сколько он сорвется и покончит с собой. Штенке на прошлой неделе всех подначивал, носился с блокнотом по всем казармам. Карл поставил, признаюсь, и я тоже, но сейчас понимаю, что не стоило этого делать. Наш друг Штенке играет грязно. Забился на две недели и теперь доводит этого бедолагу, чтобы сыграла его ставка. Не удивлюсь, если завтра этого секретаря обмажут дерьмом и оставят на всю ночь перед бараком.
Во время ужина мы обсуждали новости, приходившие извне. Бури еще не было, но легкая зыбь уже волновала страну. Вот-вот что-то должно было произойти.
– Штурмовики готовят мятеж, попомните мое слово, – звенящим шепотом произнес Штенке, – они планируют переворот.
– Все это слухи, – пожал плечами Ульрих.
– Мне это известно из проверенных источников, информация точная. – Штенке посмотрел на Ульриха в упор.
Франц усмехнулся. Штенке тут же перевел взгляд на него.
– Вряд ли они что-то замышляют, это не про коричневых тюфяков, – намазывая хлеб джемом, проговорил Франц. – Но прочистить организм все равно не мешало бы. Они как бесполезный аппендикс, пухнущий от дерьма, которое его все заполняет и заполняет. Вскоре их разорвет от собственной значимости, и тогда это дерьмо забрызгает нас всех.
Невозможно было понять, шутит он или говорит всерьез. Его чуть насмешливая манера всегда сбивала меня с толку.
– Но штурмовики вооружаются, это ты не будешь отрицать? – навис над столом блокфюрер Райхенау.
Франц и бровью не повел.
– Пустые разговоры, – он откусил бутерброд с джемом и прожевал, – все их шишки отдыхают. Пока мы находимся в полной боевой готовности, они в отпуске и даже не подозревают о том, какая каша заварилась. Они дальше собственного носа не видят.
– Не такие уж они идиоты, – проворчал Штенке.
– Именно что такие, – снова усмехнулся Франц.
Я знал, о чем он говорит: вчера я прочитал в «Фёлькишер Беобахтер» о том, что Эрнст Рём занемог и доктора настоятельно рекомендовали ему отправиться на больничный. Советам эскулапов глава СА внял и укатил на озеро в Бад-Висзее. Вместе с ним на курорт отправились и остальные командиры штурмовиков.
На улице мы с Францем продолжили разговор уже вдвоем.
– По всему выходит, ты не веришь в то, что штурмовики планируют вооруженный мятеж, но в то же время не отрицаешь необходимости удара по ним, – проговорил я.
В этот момент на улицу вышел Штенке. Мы стояли в тени, и он не заметил нас. Поправив ремень и осмотревшись, он двинулся в сторону бараков заключенных.
– Конечно. Пора расставить приоритеты и избавиться от того, что идет партии во вред. И сия изумительная провокация с «мятежом», – Франц выделил последнее слово и многозначительно посмотрел на меня, – весьма к месту и ко времени. Уж кто ее организовал, черт его знает, но вышло чисто и красиво.
Франц сделал последнюю затяжку и выкинул папиросу, прижав ее сапогом к земле. Я молча размышлял над тем, что он сказал. Вскоре вернулся Штенке, от него несло экскрементами, но выглядел он довольным.
Франц проводил его насмешливым взглядом.
– Как пить дать деньги уйдут Штенке. Не удивлюсь, если тот секретарь завтра же вздернется.
Казармы гудели.
– Слышали, что фон Папен заявил? Никаких уверток: «Требую прекращения нацистского террора». Террора! Так и сказал. То-то теперь будет.
– Весь Марбургский университет аплодировал ему стоя.
– Идиоты!
– Хуже: предатели. Это измена!
– Говорят, Геббельс запретил публиковать эту речь и даже отозвал весь тираж «Франкфуртер Цайтунг», которой хватило ума цитировать фон Папена.
– Слышали, что Гесс по радио сказал?
– Что там Гесс, вот Геринг все по делу отчеканил! Прямо сказал, кто за этим стоит.
– Ясное дело, без поддержки штурмовиков фон Папен не рискнул бы. Теперь оппозиция головы-то вздыбила.
– Кто еще не верит, что Рём планирует уничтожить фюрера? Штурмовики хотят захватить Берлин, чтобы совершить переворот и подчинить себе рейхсвер.
– Не потерпим такого от зарвавшегося гомика и его коричневого сброда!
Я направлялся в комендатуру со срочным пакетом для Эйке. Голова пухла от новостей. Я торопливо прошел мимо комнаты старшего секретаря прямо к кабинету коменданта, из-за двери которого раздавались недовольные раскаты знакомого голоса:
– Черт бы его побрал, не внушает он мне доверия, но придется с ним сотрудничать. Когда его «Лейбштандарт»[50] прибудет в Мюнхен, мы уже должны находиться там в полной боевой готовности! После вместе выдвигаемся в Бад-Висзее.
Не раздумывая, я постучал. Услышав ответ, вошел, щелкнул каблуками, руки вытянул по швам. Вместе с Эйке в комнате находились его адъютант Михаэль Липперт и шутцхафтлагерфюрер. Комендант распечатал пакет и нахмурился.
– Планы меняются. Колонны штурмовиков двигаются по Мюнхену, выкрикивая лозунги против фюрера. Чтобы весь личный состав лагеря был в полной боевой готовности через несколько минут!
В Мюнхен мы прибыли, когда окончательно стемнело. Город спал. Никаких митингов или толп штурмовиков мы не встретили. Сонную безмятежность баварской столицы нарушал только топот наших колонн. Разместившись в казармах мюнхенских частей СС, мы уже больше часа томились от безделья и неизвестности, когда наконец объявился взволнованный шутцхафтлагерфюрер. Нам было приказано окружить здание вокзала и взять его под свой контроль.
– Полная координация действий с сотрудниками политической полиции, – торопливо, но твердо выговаривал он, – задерживать всякого, на кого укажут. Действовать предельно решительно. Надеюсь, все понимают, что это не простая проверка документов!
Сердце у меня заколотилось. Я кинулся за остальными к выходу, но в этот момент меня остановил окрик шутцхафтлагерфюрера:
– Фон Тилл, Ромул, немедленно поступаете в специальную группу. На нее сегодня делается большая ставка.
И он внимательно посмотрел мне в глаза. Во рту у меня пересохло. Я понимал, что Франц был выбран в эту группу из-за феноменальных успехов, которые демонстрировал на лагерных стрельбищах. Я же… Мне хотелось тут же на месте поклясться, что я жизнь положу, но сделаю все, что нужно.
– Слушаюсь, штандартенфюрер.
Мы повернулись на пятках и вышли. За дверьми нас уже ждали. В полном молчании мы запрыгнули в грузовик, где уже сидело не меньше десяти человек. Я не видел, куда мы ехали, впрочем, если бы и выглянул, то не определил бы, где мы находимся, поскольку плохо знал Мюнхен. Вскоре грузовик остановился, последовал приказ выходить. Я выскочил вместе со всеми и огляделся. Это был жилой квартал. Случайных прохожих не было – ощущение безотчетной тревоги уже полностью завладело городом. Еще не понимая, что происходит, но чувствуя что-то неладное, люди попрятались по домам.
– Удостоверяемся, что это тот, кто нужен, и расстреливаем. Никто не должен уйти, ликвидация на месте. Всем ясно? – прозвучал металлический голос из темноты.
Я на секунду замер. Неужели прямо здесь? Одно дело расстреливать заключенных в Дахау, но здесь же не арестанты, а обыкновенные жители. Я не понимал, что происходит, но времени поразмыслить у меня не было, наш отряд уже вломился в дом. Навстречу выскочил полноватый старик с пышными седоватыми усами.
– Да как вы смеете?!
– Густав фон Кар?
– Вот именно! Вы хоть понимаете, кто я…
Я ничего не успел сообразить, как было вскинуто сразу несколько винтовок, и фон Кар грузно осел на пол собственной гостиной.
Один из эсэсовцев подошел к окну и резким движением сдернул тяжелую бархатную портьеру.
– Заверните его в это и бросьте в грузовик. – Он швырнул штору на труп.
Мы с Францем бросились исполнять приказ.
Через пять минут последовала очередная тряска по улицам Мюнхена. Очередная остановка. Очередной дом. Из-за двери на нас недоуменно посмотрел какой-то старик. Я не слышал имени, которое он от испуга произнес практически шепотом. Моя задача была найти что-то, во что можно было завернуть его тело.
Я никогда не думал, что выражение «по локоть в крови» может иметь фактическое значение, если, безусловно, не говорить о мясниках на скотобойне. Но я-то был не мясник и находился далеко от скотобоен, и тем не менее мои руки были не только по локоть, но и выше измазаны липкой, уже подсыхающей кровью. Я посмотрел на Франца, он устало отер лоб и вымазал лицо. Мы потеряли счет домам и квартирам, в которые заезжали. В грузовике у нас в ногах высилась гора трупов, завернутых в красивые портьеры всех возможных цветов и материалов. Сложно было поверить, что эти люди планировали сегодня захват власти. Они явно не допускали даже мысли о возможной угрозе, иначе бы не сидели в своих гостиных в домашних халатах с чашкой чая в руках и газетой под мышкой.
Вслух я подобные мысли, конечно же, не высказал.
Я закинул ноги на гору трупов, стараясь устроиться поудобнее, и откинулся на борт. Теперь нам предстояла дорога в Дахау. Я закрыл глаза, рассчитывая получить по приезде отдых, но в лагере нам не дали времени даже переодеться. Как только мы передали тела местному караулу, последовал приказ возвращаться обратно.
Мы устало побрели обратно в машину.
– Франц, а Франц, – тихо проговорил я, – половина из тех, кого мы сегодня… того… даже не имеет отношения к штурмовикам. Ты ведь тоже узнал их. Старик фон Кар был давно не у дел вовсе.
Франц обернулся, удостоверяясь, что за нами никто не идет.
– Он был одним из тех, кто когда-то задавил Пивной путч. Отличная возможность не только подчистить оппозицию, но и вернуть личный должок тем, кто когда-то имел неосторожность перейти дорогу партии. Считаешь, это ошибочно?
– Нет, Франц, нет, я… – Я тоже оглянулся, делая вид, будто переживаю, чтобы нас не подслушали. – Я… не мне толковать приказ. Просто говорю.
– Могу с головой уйти в критику, мысли по этому поводу есть, как у всякого, но вот надо ли, – пожал плечами Франц, – времена настали такие, что полумеры принесут больше вреда, нежели жесткие радикальные решения.
Он пошел вперед, но, сделав пару шагов, вновь остановился:
– Э, а черт его знает, без критики будет сплошной панегирик. И это тоже холера знатная.
Я ничего не сказал. Мы залезли в грузовик. Я с ужасом думал, что нас снова ожидает бесконечная гонка по домам, и боялся, что не выдержу и попросту рухну от усталости в чьей-то очередной гостиной. В машине, несмотря на жуткую тряску, я тут же уснул. Мне казалось, я отключился всего на минуту, но меня уже тормошил Франц:
– Вставай, приехали. Дороги развезло, мы потеряли кучу времени.
Я потянулся, пытаясь размять затекшую от неудобного положения спину. Франц уже выскочил на землю:
– Если не сожру хоть крошки, то следующий труп в этой машине будет мой. Пойдем найдем хоть что-то.
Я поморщился от шутки Франца, но, честно говоря, и сам умирал от голода. Мы вернулись в казармы. Здесь царило заметное оживление. Пока мы ели, узнали, что в казармах разместились еще две роты Йозефа Дитриха.
– Что-то они припозднились, – пробормотал Франц.
Не успели мы допить холодный кофе, как в помещение, использовавшееся под временную столовую, ввалился Штенке:
– Фон Тилл, Ромул, вас шутцхафтлагерфюрер вызывает.
Мы тут же вскочили. С трудом поспевая за нами, Штенке взахлеб рассказывал:
– Что творится! Мы очистили Королевскую площадь от прохожих за минуту, Коричневый дом оцепили – мышь не проскочит, а на вокзале что было! Взяли весь цвет штурмовиков, как миленьких повязали. Вначале фон Крауссера, потом фон Киллингер нарисовался, затем…
– Расстреляли?
Штенке налетел на резко остановившегося Франца и с удивлением посмотрел на него снизу вверх:
– Без суда таких шишек расстреливать?! Всех в Штадельхайм[51] отправили.
Мы с Францем переглянулись. Судя по всему, людей, которых перечислял Штенке, спасли не высокие должности, а многолюдный вокзал. Сидели бы в своих квартирах, уже были бы укутаны в портьеры.
Навстречу нам двигалась внушительная фигура. При слабом коридорном освещении я не сумел рассмотреть его знаки различия, но узнал его по тяжелой походке. Странно, как она мне запала в память, ведь я видел этого человека лишь раз в своей жизни. Мы вытянулись в струну, прижав руки по швам, и поприветствовали командира особого охранного отряда Йозефа, Зеппа, как его еще называли, Дитриха. Не обращая на нас внимания, он прошел мимо. Лицо его было мрачно и сосредоточенно.
Мы торопливо прошли к шутцхафтлагерфюреру, но на месте его не оказалось. Не успели мы решить, что делать дальше – ждать или искать, как примчался какой-то роттенфюрер, очень взволнованный.
– Шутцхафтлагерфюрер у бригадефюрера Эйке.
Сбиваясь на бег, мы кинулись туда. Там уже был и Дитрих.
– Остальных я прикончил в Дахау. Пришлось помотаться, – говорил Эйке.
– Кто-нибудь видел? – спросил Дитрих.
– Я всю свору заключенных согнал, пусть видят, как мы расправляемся с предателями. Чтоб неповадно было.
Нас заметил шутцхафтлагерфюрер.
– Фон Тилл? – Он недовольно нахмурился. – Я приказал явиться только Ромулу.
Я растерялся. Идиот Штенке, попадись он мне только в руки, совсем деградировал, скотина бесполезная. Вмешался Дитрих:
– А, вот я и вспомнил, где мы встречались. Берлин, кабинет профессора Хансена, не так ли? Вижу, профессор в вас не ошибся. Это тот, о котором вы говорили, бригадефюрер? – Дитрих посмотрел на Эйке.
– Нет, я имел в виду второго, Ромула.
Дитрих подошел к Францу и окинул его долгим оценивающим взглядом.
– Значит, вы лучший стрелок среди ребят Эйке. Ну что ж, это звание дорогого стоит. У вас минута. Машина уже во дворе.
Он уже собирался выйти, но в последний момент остановился и добавил:
– Фон Тилла я, пожалуй, тоже возьму, неизвестно, какая там каша заварится.
Когда он вышел, Эйке, тяжело ступая, подошел к Францу:
– Посрамишь – башку снесу.
Сказано было негромко, но внушительно. Франц, как всегда, был невозмутим. Мне Эйке ничего не сказал.
В грузовике находились пятеро эсэсовцев, я сразу понял, что они из «Лейбштандарта». Они хмуро уставились на нас, один из них спросил:
– Кто шестой?
Я молчал.
– Пожалуй, я, – нехотя ответил Франц.
Эсэсовцы Дитриха переглянулись.
– Что значит «пожалуй»? – вновь спросил самый разговорчивый.
– Куда мы направляемся? – Франц проигнорировал вопрос.
Первый хотел что-то сказать, но товарищ тронул его за плечо.
– Не болтай, если надо, на месте всё узнают.
– Да ладно, они такие же, как мы.
– Они люди Эйке.
– И что?
– Как знаешь.
Мы в полном молчании переводили взгляд с одного на другого. К счастью, первому хотелось поболтать:
– Нам тоже не всё сообщили. Группенфюрер вернулся из Коричневого дома и приказал выдвигаться.
– И вы не знаете, куда мы едем? – спросил Франц.
– Ясное дело, в Штадельхайм.
Это я уже и сам видел – машина въезжала в тюремный двор. Я ожидал увидеть неприветливый, холодный колодец, но лучи заходящего солнца щедро раскрасили старые каменные стены теплыми бликами, смягчив впечатление. Нам было приказано оставаться в машинах. Дитрих выпрыгнул из своей машины и широким шагом направился внутрь. Его адъютант с трудом поспевал за ним. Через пятнадцать минут они вернулись, Дитрих разъяренно потрясал какой-то бумагой.
– Чертов бюрократ, подпись ему подавай! Всыпать бы ему свинцом, а не подпись, чтобы знал, как мешать исполнению приказов фюрера!
Он залез в машину, которая тут же сорвалась с места. В полном молчании мы продолжали ждать. Еще через двадцать минут на дороге вновь показался автомобиль. Теперь из него выскочил высокий молодой человек в штатском, с ранними залысинами, в обычной ситуации, очевидно, не лишенный привлекательности, сейчас же его лицо было панически перекошено.
– Это черт знает что, бардак!
Он быстро нахлобучил шляпу и, придерживая ее, промчался мимо нас.
– Кажется, это Ганс Франк[52], – проговорил Франц.
Не успел Франк скрыться внутри, как во двор влетела еще одна машина, на сей раз Дитриха. Пока он выбирался, во дворе снова показался Ганс Франк.
– При всем уважении, но где это видано, чтобы без суда…
Дитриху, очевидно, было плевать на уважение.
– А это ты видел? – Он потряс бумагой перед лицом взволнованного Франка.
Рейхскомиссар министерства юстиции осторожно вытащил из рук Дитриха бумагу и начал читать.
– Как же… – все еще не веря, бормотал он.
Пока он читал, Дитрих нетерпеливо притопывал ногой.
– Все, пора кончать этот концерт. Извольте приказать, чтобы выводили по одному, – издевательски вежливо проговорил он в лицо побледневшему Франку.
Тот замотал головой.
– Мне необходимо сделать звонок.
– Что?! Резолюции министра внутренних дел уже недостаточно?
Разъяренный Дитрих начал напирать на Франка, но нужно было отдать тому должное: растерянный и бледный, он тем не менее был полон решимости настоять на своем и не сделал ни одного шага назад.
– Один звонок, – еще раз проговорил Франк и, развернувшись, пошел прочь.
– Черт бы его побрал, – проворчал группенфюрер и пошел за ним следом, но, словно что-то вспомнив, обернулся к нашей машине и крикнул: – Двое за мной!
В дальних углах двора становилось все темнее и темнее. Уходящее за горизонт солнце уносило с собой свет и ощущение первоначальной приветливости. Теплые закатные блики оставались лишь на кусочке одной стены. Когда во двор вывели первого заключенного, исчезли и они. Все мы как по команде вытянули шеи, пытаясь разглядеть, кого ведут. К машине подошли двое, которых Дитрих ранее забрал с собой:
– Основная команда, выходим. Приказ группенфюрера.
Пока остальные спрыгивали на землю, я раздумывал, что мне делать, и все-таки счел за благо остаться на месте – как бы то ни было, меня взяли «про запас».
Арестованного подвели к стене. Молчавший доселе, он неожиданно прокричал на весь двор:
– Да здравствует фюрер! Хайль Гитлер!
Словно не слышав его, Дитрих так же громко проговорил:
– Ганс Петер фон Хайдебрек, фюрер и рейхсканцлер приговорил вас к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение безотлагательно.
Звук выстрела оглушил меня. Я пораженно смотрел на лежащее на земле тело одного из командиров штурмовиков. Я часто слышал выстрелы, но никогда этот звук не был таким всеобъемлющим и полновесным, он словно заполнил собой весь тюремный колодец, заставив даже мощные стены раздвинуться от страшного эха.
Хайдебрека оттащили в темный угол и тут же вывели второго заключенного. Его я узнал без подсказки Дитриха. Это был начальник мюнхенских штурмовиков Август Шнайдхубер. Рубашка на нем была разорвана, он пытался вырвать руки у державших его конвоиров.
– Черт возьми, убери свои поганые клешни, свинья. Ты еще не знаешь, с кем… – Неожиданно он увидел Дитриха, наблюдавшего за этой сценой с каменным лицом. – Зепп! Зепп, приятель, какого черта здесь творится? Мы же ничего…
Увидев тело Хайдебрека, он резко замолчал и даже прекратил свои попытки вырваться. Его не торопили, словно давали возможность насладиться зрелищем, а на самом деле конвоиры просто не знали, что делать дальше: они уже поняли, что заключенный находился в приятельских отношениях с Дитрихом, и ждали от того дальнейших приказаний. Но и Дитрих не торопился. Наконец Шнайдхубер перевел озлобленный взгляд на друга, однако не вымолвил ни слова.
Глядя сквозь арестованного, Дитрих мрачно проговорил:
– Фюрер приговорил вас к смерти. Хайль Гитлер.
Последние слова вышли не так торжественно, как следовало, – наоборот, Дитрих произнес их скомканно.
– Не знаю, Зепп, что здесь происходит, но надеюсь, твои парни стреляют метко.
Снова оглушающий звук выстрела. Я уже был готов к этому и заранее зажал уши.
Август Шнайдхубер грузно свалился на землю.
– Продолжайте. – Дитрих развернулся на каблуках и, чеканя шаг, направился в здание тюрьмы.
После этого вывели еще четверых. Я узнал только одного, это был молодой граф фон Шпрети – адъютант Рёма, я видел его один раз в Берлине на одном из торжественных партийных мероприятий. Меня тогда поразила его необычайно женственная красота, он был ухоженный, нежный, с тонкими и правильными чертами лица, с изгибистыми, чуть вздернутыми губами, помню, тогда Хайнц сказал: «Ей-богу, хорош, как баба, в платье нарядить – не отличишь». Сейчас его тащили под руки. Он протяжно стонал и держался за лицо. Когда его поставили, он наконец отнял руки от лица. Я сглотнул. Красивое лицо было пересечено надвое. Широкая багровая кровоточащая полоса шла ото лба до самого подбородка. Испуганный, словно школьница, застигнутая врасплох, он смотрел на расстрельную команду огромными невинными глазами, в которых застыло недоверие. Мне стало жаль его.
– Я люблю Германию! – успел истерично прокричать он, прежде чем пуля застряла в его груди.
У меня начала кружиться голова, я почувствовал тупую боль в затылке и висках, мне стоило больших усилий продолжать фокусировать взгляд. Я хотел встать, но ноги не слушались. Я бессильно откинулся на борт грузовика и сжал голову руками.
Меня тормошили. Я с трудом разлепил глаза и тут же зажмурился от яркого утреннего солнца. Во рту был отвратительный привкус. Шея затекла и неимоверно болела. Под нос мне сунули холодный кусок мяса на хлебе.
– Поешь, это все, что удалось раздобыть, – проговорил Франц.
Я по-прежнему сидел в грузовике во дворе тюрьмы.
– А эти уехали? – проговорил я, вгрызаясь в несвежее мясо.
– Эти уехали, те приехали, ерунда какая-то, все носятся, порядка никакого. Нам приказано ждать здесь.
Я посмотрел в угол, тел уже не было. Земля в том месте была темной. Франц проследил за моим взглядом.
– В Берлине, говорят, было еще жарче.
Я перестал жевать и посмотрел на Франца:
– Неужели это творилось по всей Германии?
Франц пожал плечами. Я продолжил жевать, тупо глядя перед собой. Я не чувствовал вкуса, просто наполнял желудок, чтобы появились хоть какие-то силы.
– С удобствами здесь туго, но внутри можно раздобыть таз с холодной водой, – проговорил Франц, когда я покончил с мясом.
Я кивнул. На горячий душ и не рассчитывал. Я отправился на поиски воды, чтобы умыться и привести себя хотя бы в относительный порядок. В коридорах тюрьмы было прохладно и мрачно. Время от времени мне встречались охранники, не обращавшие на меня никакого внимания: очевидно, за последние сутки они осознали, что сейчас не имеют никакой реальной власти на территории тюрьмы. Все, что здесь творилось, окончательно вышло из-под их контроля.
Я никак не мог структурировать свои мысли. В голове был бардак, ко всему прочему она снова разболелась. Я остановился и помассировал виски, но легче не стало. Лишь когда плеснул в лицо ледяной водой, наступило некоторое облегчение. Я расстегнул воротник, еще раз намочил руки и протер грязную, потную шею, затем нагнулся и вылил остатки воды на голову. Отряхнув волосы, я вернулся во двор.
Вскоре мы покинули проклятый Штадельхайм.
В мюнхенских казармах царило оживление. Все праздновали «победу над Рёмом и свиньями», как торжественно провозгласил Кегель. По распоряжению Эйке всем был выдан дополнительный паек и по целой плитке шоколада. Шнапс парни достали сами, впрочем, старшие на это смотрели сквозь пальцы. Сегодня мы были героями, и бурное веселье не знало границ. С трудом переставляя ноги после выпитого, я вышел на улицу, и как раз вовремя: организм был не в силах более сдерживаться, и меня вывернуло наизнанку прямо перед казармой. Неподалеку, стоя на четвереньках, блевал кто-то из офицерского состава. Одной рукой он уже утопал в собственной рвоте, вторую нашел силы отодвинуть. Я отвернулся и вытер рот тыльной стороной. Необходимо было продышаться, но явно не здесь. Я поплелся прочь, опустив голову и старательно глядя себе под ноги, но все равно спотыкался. Так я и наткнулся на чью-то спину.
– Прошу прощ… а, это ты. Там тебя брат искал.
Хмурый Ульрих посмотрел на меня и, уже отвернувшись, проговорил:
– У тебя на щеке что-то размазано.
– Да?
Я усердно потер щеку ладонью, затем плюнул на нее и хотел потереть еще раз, но промазал, случайно шлепнув себя по шее. Бессильно посмотрел на свою руку, она двоилась. Я бросил это дело.
– А ты чего здесь?
– А где мне быть? – Он обернулся и впился в меня взглядом.
Я махнул рукой в сторону казарм.
– Там это…
– Что?
Я пожал плечами.
– Празднуют.
Ульрих покачал головой.
– Негоже праздновать, когда погибли люди.
Я растерянно уставился на него.
– Что ты такое…
Ульрих словно не слышал моего бормотания.
– Без суда, без малейшей возможности оправдаться. Мы не дали им сказать ни слова в свою защиту. Умных людей это не только насторожит, но откровенно напугает.
Пока я смятенно раздумывал, что ответить, из темноты неожиданно вынырнула белобрысая голова Карла.
– Был суд! И высший судья нашего народа вынес приговор! Мы действовали во благо Германии, и ты, и я, и Виланд – мы покарали изменников!
Ульрих внимательно посмотрел на брата, блеск глаз которого был заметен даже в темноте.
– Ты пьян, Карлхен.
Он подошел и заботливо приобнял Карла за плечи, но тот недовольно вырвался и отскочил на несколько шагов.
– Эти оголтелые отбросы в коричневых рубашках возомнили себя элитной армией, а на деле оказались уличной сворой, пригодной разве что для драк. Есть только одна элита, и имя ей – СС! Хайль Гитлер! – Карл попытался отсалютовать, но, опасно покачнувшись, передумал и опустил руку. И снова накинулся на брата: – Так что это еще за разговоры такие, Ульрих? Что я здесь слышал?
– Ничего ты не слышал, Карлхен, пойдем, ты пьян, тебе нужно проспаться.
Ульрих предпринял еще одну попытку усмирить брата. На сей раз тот поддался. Позабыв обо мне, они побрели в сторону казарм. Я смотрел им вслед, покачиваясь на месте. Не знаю, сколько так простоял. Над головой ярко, как возмущенные глаза Карла, сверкали звезды. Много звезд, целая россыпь. Я запрокинул голову и разглядывал их, не видя больше ничего вокруг.
Где-то сбоку послышался шорох, я скосил глаза, затем осторожно повернул голову, успев заметить только очертания женской фигуры и взметнувшееся платье.
– Эй, подождите, я вас не обижу! – Я кинулся за ней.
Она, глупая, наоборот, припустила еще быстрее. Я прибавил шаг, споткнулся и, не успев выставить перед собой даже руки, со всего маху растянулся на земле. В голове словно петарду запустили. Я с трудом перевалился на спину, чувствуя острую боль в носу. Перед глазами снова закружились звезды, впрочем, теперь я не был уверен, вижу ли их наяву, поскольку Большая Медведица явно начала отплясывать лендлер. Я почувствовал на губах привкус крови, текущей из носа, но вставать не торопился. Так и смотрел на звездную пляску. Но вдруг что-то заслонило от меня небесную красоту.
– С вами все в порядке? – Голос был взволнованным.
– А, вы вернулись. Я же говорил, что не обижу. Сейчас я способен нанести вред только самому себе.
– Давайте, я помогу вам встать. – Она наклонилась, судя по всему, действительно собираясь мне помочь.
Я с глупой улыбкой наблюдал за ее усилиями. В ней было росту метр шестьдесят, не больше. Конечно, я встал сам, она лишь придержала.
– Вам необходимо к врачу, у вас кровь носом идет. – Она достала платок и приложила к моему лицу.
Он приятно пах розовой водой. Я с удовольствием вдохнул этот аромат и тут же поперхнулся собственной кровью. Девушка испуганно охнула.
– Все в порядке, – заверил я, отхаркнув кровь из горла.
Она внимательно оглядывала мою форму и словно над чем-то раздумывала. Затем неожиданно произнесла:
– Ладно, пойдем, я недалеко живу.
Я с той же дурацкой улыбкой молча покорился. Наплевав на все приличия, она тащила меня за собой. На ходу я придерживал ее благоухающий платок у носа. Через четверть часа мы остановились возле старого двухэтажного каменного дома. На первом этаже в среднем окошке горел свет. Девушка чертыхнулась. Я удивленно посмотрел на нее. Она выдохнула и проговорила, словно извиняясь:
– Хозяйка еще не спит, старая ведьма. Всегда ей нужно посмотреть, с кем я. Давайте, очень тихо, – шепнула она мне.
Сама она передвигалась словно привидение. Я совершенно не слышал ее шагов на лестнице – заученными движениями она ступала так, что ни одна половица не скрипнула под ее маленькой ножкой. Я понял, что она не впервые пробиралась домой так поздно.
К моему удивлению, мы не остановились на втором этаже, а поднялись выше. Ее крохотная квартирка притаилась в мансарде под самой крышей. Моя спутница змейкой проскользнула внутрь, втащила меня за руку и закрыла дверь, только после этого с облегчением выдохнула. Когда она зажгла лампу, я наконец-то сумел разглядеть ее: у нее были правильные черты лица, нос с едва заметной горбинкой, совершенно незаметной, если смотреть прямо в ее большие серые глаза, аккуратные, правильной формы губы, две крохотные родинки на щеке – красота не жгучая, не сбивающая наповал, но спокойная, гармоничная, дававшая отдых взгляду. Волосы были убраны в тугую косу, уложенную на голове. Простое серое платье было чуть тесно ей и подчеркивало ярко выраженную талию, и в то же время она не была излишне худой, просто слишком фигуристая, что ли. Линии тела были очерчены плавно, красиво, так и хотелось провести по ним рукой.
– Как вас зовут? – спросил я.
– Дора. – Она нагнулась и начала сбивать пыль с подола платья. – Дора Бергер, – подняв голову, добавила она и снова вернулась к чистке.
Она не спросила моего имени, но я счел своим долгом представиться:
– Виланд фон Тилл.
Она кивнула.
– Пойду нагрею воды. Вам нужно умыться и промыть нос.
Дора скрылась за стенкой, отделявшей небольшую комнатку от того, что, по-видимому, служило здесь кухней. Я услышал, как звякнула посуда, зашипела горелка. Через некоторое время девушка вернулась с небольшим тазом теплой воды. Через плечо ее было перекинуто тонкое белое полотенце. Я по-прежнему стоял у двери, не решаясь пройти дальше.
– Что же вы, присаживайтесь. – Дора милостиво указала на кушетку, прикрытую потертым шерстяным пледом.
Судя по всему, на ней она и спала, так как кровати я не увидел. Было одно старое кресло, два табурета, небольшой, но добротный деревянный стол, заваленный красками и кистями, шкаф с перекошенной дверцей и огромный сундук. На полу под высокими окнами стояло несколько больших горшков с цветами. Стены были увешаны многочисленными акварелями.
Я присел на самый краешек кушетки. Дора поставила таз на пол и мягко вытащила у меня из рук свой окровавленный платок, затем намочила полотенце и начала вытирать мне лицо: вначале губы, затем щеки, потом особенно осторожно перешла к разбитому носу. Чтобы ей было легче, я запрокинул голову. В этот момент я вдруг почувствовал стыд – и за свое состояние, и за остатки рвоты на лице.
– Ты живешь здесь одна?
Кажется, я покраснел. С какой вообще стати я перешел на «ты»?
– Да, – коротко ответила она, не отвлекаясь от своего занятия.
Я вспомнил про акварели на стене и снова спросил:
– Рисуешь?
– Да. Приехала, чтобы стать художником.
– Думал, за этим едут в Париж.
Она опустила руки с полотенцем и устало посмотрела на меня.
– И первым делом идут и покупают себе берет и огромную палитру, чтобы рисовать с натуры башню Эйфеля.
Стыдно было признаваться, но на самом деле так я и думал.
– Слышал когда-нибудь о Мюнхенской академии изобразительных искусств? – спросила Дора.
Я покачал головой.
– Не доводилось.
– А между тем это одно из самых известных художественных учебных заведений в Европе, – горделиво проговорила девушка.
– Ты там учишься?
После моего вопроса на лицо Доры набежала легкая тень, она сосредоточенно закусила губу.
– Нет, но когда-нибудь обязательно буду. Пока хожу в частную школу. Но это временно, – быстро добавила она.
– Это ты нарисовала? – Я кивнул на стену с акварелями.
Дора кивнула, бросила полотенце в мутную воду и вновь скрылась за перегородкой. Через некоторое время она вернулась с подносом, на котором стояли две чашки чая. Пахло чем-то травяным.
– Это ромашка, – пояснила она.
Я был не любитель всех этих травяных настоев, но отказаться не посмел.
Она еще раз внимательно посмотрела на мою форму.
– Скажи, что происходит? – в лоб спросила Дора.
Я продолжал улыбаться. Сделав глоток, я произнес как можно более беспечно:
– Где?
– Везде. Эти аресты, преследования, волнения, все это неспроста. Отца моего приятеля вчера арестовали и отправили в Штадельхайм. Что с ним сталось?
Нужно было пожать плечами и сказать, что я понятия не имею. Но вместо этого, глядя прямо в большие серые глаза Доры, я спросил:
– Он штурмовик?
– Группенфюрер, – кивнула девушка.
– Скорее всего, его уже расстреляли.
Дора не выглядела испуганной, растерянной или расстроенной после моего признания. Она продолжала пить чай, задумчиво глядя перед собой.
– Одна голова гидры глодает другую, но трупное гниение убьет обеих.
Мои брови поползли вверх – не от беспечной глупости, которую проявляла эта девушка, ведя подобные рассуждения в присутствии эсэсовца, – меня поразили слова, которыми она продолжила излагать свои мысли.
– Фюрер желает выставить партию монолитной, но единства нет, она раздираема изнутри. Не оппозиции ей надо бояться, она сама себя уничтожит.
– Дора, я солдат СС, – мягко напомнил я, ставя чашку на поднос.
– И что, донесешь на меня? – спросила она без всякого лукавства.
Ответить я не успел. Она наклонилась и поцеловала меня. Ее губы были горячими от ромашкового чая, язык мягкий, проворный. Перед тем как отстраниться, она осторожно укусила меня за нижнюю губу. Я был ошеломлен. Смотрел на нее, не понимая, чем был вызван ее порыв, или я был все еще настолько пьян, что не мог отличить сон от яви?
Между тем Дора расстегивала длинный ряд крючков на платье. Через несколько мгновений она скинула его и осталась в одной белой сорочке. Я не был столь аккуратен и просто рванул свою рубашку. Пуговицы посыпались на пол.
Взял я ее быстро и, пожалуй, даже грубо. Мы не отвлекались на поцелуи, и когда я закончил, то решил исправить это упущение, наклонившись и поцеловав ее. Дора тяжело дышала. Глаза ее были закрыты. Мне хотелось откинуться рядом, но ширина кушетки не позволяла, и я продолжал давить на нее всей своей тяжестью. Наконец она открыла глаза, и мы сели. Дора прикрылась простыней. Уложенная коса ее растрепалась, я потянулся и вытащил шпильки из прядей и распустил длинные русые волосы. Дора благодарно улыбнулась. Мне хотелось сделать ей приятно, я повернул ее к себе спиной и начал массировать ей голову. С тихим наслаждением она выдохнула, полностью откинувшись на мою грудь. Ее волосы пахли розовой водой, как и платок. Я украдкой вдыхал их аромат, не прекращая массировать.
– Тебе, наверное, нужно возвращаться, – расслабленно проговорила она.
Я посмотрел в окно. Занимался рассвет. Она была права.
Одевался я молча. Дора с интересом наблюдала за мной.
– Ты очень красивый, Виланд.
Впервые она назвала меня по имени. Закутавшись в простыню, она подошла и провела рукой по моему животу, перебрав мышцы тут же напрягшегося пресса.
– Такие, как ты, изваяны из мрамора и стоят в античном зале. Я бы хотела тебя нарисовать, ты идеальный натурщик.
Я не сдержал улыбки. Она улыбнулась в ответ.
Нужно было что-то сказать на прощание. Дора, очевидно, почувствовала мое замешательство. Она поцеловала меня, затем проговорила чуть насмешливо:
– Береги себя и свой нос.
– Обязательно.
Я почувствовал облегчение.
В казарму я возвращался вприпрыжку. На душе впервые за долгое время было легко, я чувствовал небывалый прилив сил.
По официальным данным, с тридцатого июня до рассвета второго июля было уничтожено семьдесят четыре изменника. Шестьдесят один мятежник был приговорен к расстрелу, в том числе девятнадцать начальников СА, тринадцать человек было расстреляно непосредственно при аресте, оказав жестокое сопротивление, еще трое покончили с собой, не справившись с укорами совести. Так сказал всей Германии Адольф Гитлер, выступая в рейхстаге тринадцатого июля.
– Он так усиленно заверяет всех в своей невиновности, что теперь даже идиот поймет, что он испытывает чувство вины, – пробормотал Франц, слушая радиоприемник.
Иностранная пресса, составлявшая собственные списки, потрясала совершенно иными цифрами и вопрошала, кто же подписывал ордера на казнь без суда. Возбуждение за рубежом, судя по всему, нарастало.
– Да кого волнуют их списки! – кипятился Штенке.
– Это пойдет не на пользу престижу Германии, – качал головой Ульрих.
– Будто у них самих полный порядок! Пусть копаются в своем дерьме у себя дома. У них вонючих куч не меньше, но им почему-то интереснее рыть наш навоз.
– И то верно, – согласился Улле Шнейхардт, – если так посудить, все, что случилось, только к лучшему. Эти больные коричневорубашечники довели бы нас до гражданской войны. Вся их верхушка была нацелена на переворот.
– Но, думается мне, все должно было случиться не с таким пренебрежением к юридическим нормам, с каким их кончали, – усмехнулся Франц.
Ульрих кивнул:
– Рейхсвер не примет убийство Шлейхера[53]. Как пить дать, фон Рейхенау[54] инициирует тщательное расследование, и тогда полетят головы.
– Рейхсвер смирится. – Штенке сплюнул себе под ноги и добавил: – Будто у них есть выбор.
Я надеялся, что никто и никогда не спросит моего мнения по этому поводу, ибо только наша группа уничтожила более двадцати человек. А сколько было выпущено таких групп в ту ночь на охоту, я даже представить не мог. Если цифра убитых ограничилась одной тысячей – это еще ничего. Своими мыслями я ни с кем не делился, споры на эту тему нам были не нужны. Хватило драки, которую устроили братья Кох в ночь празднования, – утром, вернувшись в казарму, я узнал, что милый Карлхен отделал Ульриха так, что и родная мать не узнала бы. Никто не знал, что явилось причиной ссоры, сами братья молчали. Я тоже молчал.
Вскоре Эйке вспомнил о нашем с Францем участии в «делах Штадельхайма» и представил к повышению. Я с гордостью написал об этом тете Ильзе. «Мальчик мой, это только начало, – написала в ответ тетушка, приложив к письму солидную сумму на текущие расходы, – ты исключительно радуешь старую тетку. Тысячи приветов и поцелуев от меня, мой дорогой».
Деньги от тетушки были весьма кстати. В принципе жалованья мне хватало, да и трат особенных не было, но то было раньше. Теперь у меня была Дора. При первой же возможности я мчался в Мюнхен, чтобы увидеть ее, обнять, поцеловать, вкусить. Насытившись, мы гуляли по городу, обязательно заходили в кафе, где я покупал Доре ее любимое шоколадное пирожное с миндальной крошкой и большую чашку какао со сливками. Она оказалась той еще сладкоежкой. Иногда мы ходили в кино, где в темноте я стискивал ее мягкую ладонь, поглаживал ее колени и бедра, чувствуя, как внизу у меня занимается жар. Дора же в эти моменты продолжала невозмутимо смотреть на сверкающий экран, но ноги не сжимала, позволяя мне наслаждаться ее самым сокровенным. Я поражался ее выдержке и самообладанию. Она была умной, начитанной и весьма проницательной, и порой я чувствовал себя полным дураком, слушая ее рассуждения по какому-нибудь вопросу. Я дивился: с какой стати, благодаря какому такому чуду эта великолепная женщина обратила на меня внимание? Я дарил ей цветы, конфеты, иногда мелочи из одежды: шляпку, чулки, перчатки, зонтик. Что-то дороже она не принимала. Но самое главное – она никогда не брала у меня денег, хотя я видел, что они ей необходимы. Она давала частные уроки рисования для детей и все заработанные деньги тратила на свою школу, а оставшиеся жалкие крохи уходили за жилье. Впрочем, крохи были настолько жалкие, что у нее скопился внушительный долг. Однажды я пришел раньше назначенного часа и услышал за дверью квартирки Доры неприятный хриплый голос.
– Когда будешь платить, дорогуша? – надсадно скрипел он.
– Фрау Штопик, я же вам говорила.
– Ты мне это и в прошлый раз говорила, дорогуша, и в позапрошлый. А денег как не было, так и нет. Хватит твоих отговорок, собирай-ка ты вещички, рисовальщица.
– Фрау Штопик… – В голосе Доры слышалась скорее досада, нежели отчаяние.
Я больше не желал это слушать. Кашлянув достаточно отчетливо, я громко постучал. Дора открыла дверь и впустила меня. Посреди комнатушки стояла невысокая старуха. Шея у нее отсутствовала, и голова в грязном безобразном чепце буквально утопала в оплывших плечах. Руки ее были уперты в такие же бесформенные бока. Сквозь узкие щелочки глаз она осмотрела меня с ног до головы, но спорить в моем присутствии не решилась. Еще раз глянув на Дору, она многозначительно приподняла брови и молча протиснулась мимо меня.
– Ты ведь все слышал? – спросила Дора.
– Не нарочно. Вы довольно громко разговаривали. Почему ты не сказала, что тебе нужны деньги?
– Не вздумай!
Она жестко оборвала меня. Ее брови сошлись практически в одну линию. Я не ожидал такого резкого отпора.
Этим же вечером, проводив Дору домой после прогулки, я зашел в квартиру фрау Штопик на первом этаже. Узнав меня, она заулыбалась, сразу поняв, зачем я пришел. Я отсчитал необходимое количество купюр и, прежде чем передать их в трясущиеся от нетерпения руки фрау Штопик, проговорил:
– Надеюсь, я могу рассчитывать, что это останется между нами?
– Конечно-конечно, – торопливо закивала толстуха, не отрывая взгляда от денег, – фройляйн Бергер никак не будет скомпрометирована. И что ж тут такого, если герр пожелал помочь своей невесте?
Эта идея про невесту мне очень даже понравилась, и я чуть было не улыбнулся старухе, но вовремя одернул себя.
– В первую очередь сама фройляйн Бергер ничего не должна знать.
Фрау Штопик оторвала взгляд от денег и впервые заинтересованно посмотрела на меня. Через секунду она кивнула. Я передал ей деньги и тут же вышел.
По пути в Дахау я размышлял о женитьбе. Почему бы и нет? Мне уже шел двадцать третий год, самое время завести семью, тем более я встретил достойную девушку, с которой мог бы прожить всю жизнь: Дора была умна, красива, сексуально раскованна, последнее особенно воодушевляло. К тому же указ Гиммлера призывал вступать в брак как можно раньше – чтобы познать со своей женой семейное счастье во всей его полноте. Опять же, женатым офицерам полагалось отдельное жилье… Уже в постели я размышлял, стоит ли написать тете Ильзе о том, что собираюсь жениться. Наверное, все же необходимо было это сделать, ведь свадьба – дело хлопотное и затратное, нужны большие деньги, так что без тетушки не обойтись. Странно, что я даже не подумал о родителях. А впрочем, что они могли? Деньгами они меня никогда не снабжали, даже когда я учился в Берлине, мой карьерный выбор был им противен, и они меня никоим образом не поддерживали. Так зачем им писать? Чтобы лишний раз наткнуться на упреки? Я решил, что сообщу им как-нибудь по случаю.
– Франц, эй, Франц, ты спишь? – вытянув шею, прошептал я.
Ответа не последовало. Я свесился со своей кровати, протянул руку, нащупал в темноте плечо Франца и осторожно потормошил его.
– Франц, спишь?
– Уже нет, – сонно пробормотал он, – чего тебе?
– Франц, я женюсь! – счастливо прошептал я уже громче.
Франц шумно зевнул, сел и подложил под спину подушку.
– Поздравляю, и кто счастливица?
– Я тебе рассказывал о ней, девушка, которую я встретил в ту ночь после Штадельхайма. Ее зовут Дора, Дора Бергер.
– Дора – красивое имя. А сама-то она как?
– Красавица, – с гордостью зашептал я, – умная, добрая, хорошая.
– Тебя послушать, так просто ангел, – хмыкнул Франц.
– Так и есть, – твердо произнес я, – все, спи.
Франц усмехнулся и съехал по подушке на кровать. Судя по всему, он тут же уснул, а я еще долго пялился в потолок, размышляя о том, как объяснюсь с Дорой Бергер.
Объясниться я смог не скоро.
В последнее время Эйке часто отсутствовал, все его мысли были заняты новым детищем – Инспекцией концентрационных лагерей, главой которой он был назначен. Отныне он отвечал не только за Дахау, но и за все остальные лагеря и сейчас объезжал свои новые владения: Заксенбург, Эстервеген, Хонштайн, Ораниенбург. В перерывах между этими поездками он хлопотал по поводу помещения для инспекции в Берлине и проводил бо́льшую часть времени там. «Папаше не до нас сейчас», – с облегчением начали болтать охранники в Дахау, ожидая получить небольшой передых в подготовке, но все обернулось иначе. Тренировки стали еще изнурительнее.
– Три километра за двадцать минут в полной амуниции! Вперед-вперед! Кто верит в Бога – четыре километра! Кто в этом месяце ходил в церковь – пять и всеобщее презрение! – надрывался Кегель.
Второго августа Германию потрясло известие о кончине президента Гинденбурга. Отныне функции канцлера и президента концентрировались в одних руках – Адольфа Гитлера. Он становился единым главой государства. По этому случаю была объявлена массовая амнистия, и в большинстве лагерей количество заключенных, подвергнутых превентивному аресту, начало стремительно сокращаться, что породило слухи об их скором закрытии. В большинстве, но не в Дахау. Чувствуя твердую поддержку Гиммлера, Эйке осмелел настолько, что послал к черту имперского главу Баварии фон Эппа, требовавшего освободить большинство заключенных и из нашего лагеря. Для сравнения: в том же Заксенбурге оставалось меньше двухсот заключенных, в Эстервегене – около ста пятидесяти, в Лихтенбурге – сотни три, у нас же в Дахау покорным строем продолжали ходить одна тысяча семьсот сорок пять голов. Мне начинало казаться, что Дахау – это государство в государстве, которое уже давно жило в своем отдельном, особом мире, который для него заботливо воссоздал из своих фантазий папаша Эйке.
Однажды утром перед очередной сменой всех охранников собрали возле штаба коменданта.
– Вы знаете, что это такое?
Багровый шутцхафтлагерфюрер потрясал какой-то книжонкой. Видно было, что она прошла не одни руки, обложка была изрядно потрепана. Охранники молчали, непонимающе взирая на шутцхафтлагерфюрера. С трудом сдерживая отвращение, он прочитал отпечатанное на обложке:
– «Узники Дахау говорят» – название этого паскудного пасквиля! Уже изъято больше десяти экземпляров в одном только Мюнхене, и неизвестно, сколько еще ходит по рукам. Город кипит от грязных слухов, зарубежные газеты как с цепи сорвались и перепечатывают это поганое коммунистическое вранье о зверствах и пытках в нашем лагере. Всю эту чертовщину о якобы нацистском терроре нелегально распространяет подполье красных убийц. Уже установили, что это накропал один из наших бывших заключенных – некий Грюневидль, художник-коммунист, которого в свое время выпустили, поверив в его исправление. Вот их благодарность! Теперь понимаете, что любое сострадание в отношении этих свиней нам дорого обойдется? Мольбами и жалостью они выстилают путь к достижению своих подлых целей. Отныне никакой веры им, это наша слабость, за которую мы платим слишком высокую цену. Пришло время ужесточения режима! – Шутцхафтлагерфюрер перевел дыхание и продолжил: – Грюневидля уже ищут, будьте покойны на сей счет, его непременно найдут, несмотря на то что красные свиньи хорошо спрятали этого писаку. Но наша задача – воспрепятствовать подобному безобразию в будущем. Нужно сделать так, чтобы ни одна собака даже помыслить не могла, чтобы рассказать или написать о заключении в Дахау. Вам все ясно? Если до этого мы недостаточно хорошо внушали им, что необходимо держать язык за зубами, то теперь приказываю делать это с удвоенной… с утроенной силой! И знайте: здесь нет насилия, здесь есть перевоспитание предателей, убийц и врагов рейха.
Внезапные ночные рейды по баракам участились, охранники врывались без какого-либо предупреждения и избивали заключенных дубинками до полусмерти. Особенно досталось восьмому бараку, в котором когда-то жил злосчастный Грюневидль, хотя здесь уже никто не помнил его, а многие и вовсе не застали. Наказания на «лугу» участились, не проходило и дня, чтобы на козлике не отделали трех-четырех арестантов. Наказывали отныне за любую провинность, даже самую малую, а чтобы наказание было действеннее, за проступок одного ответственность нес весь барак. Раз в неделю один из них лишался пайка, обитатели другого выгонялись на «луг» и стояли по несколько часов с поднятыми руками, пока не начинали валиться наземь без сознания. Тычков, пинков, пощечин, ударов хлыстом и сапогом, мимоходом раздаваемых охранниками направо и налево, было не счесть. Теперь доставалось и ремесленникам. На пощаду отныне рассчитывать не мог никто.
Но вскоре это утомило даже нас. Устав от однообразия наказаний, я сбавил обороты. Тем более что на учениях мы по-прежнему не знали поблажек. Несколько раз они проходили совместно с батальоном полка «Германия», состоявшим из одних австрийцев. Их разместили в огромном неуютном железобетонном пакгаузе, служившем раньше складом боеприпасов. Батальон их не был частью внутренней охраны лагеря, и в пределах колючей проволоки они не появлялись. Нас они то ли презрительно, то ли с опаской называли «мертвоголовыми» и держались особняком. Тем не менее один из них влился в нашу компанию, с ходу заявив, что учился в Линце в одной школе с самим Гитлером: «Фюрер ходил туда же всего на год раньше!» Это был прилежный унтершарфюрер, старше нас лет на пять, но едва ли это было заметно: худой, сутулый, лопоухий, он выглядел много младше своих лет. Его звали Адольф. Он сразу привлек внимание своей внешностью – сними с него форму и переодень в арестантскую робу, он бы гармонично слился с толпой, носящей желтые треугольники. Проще говоря, внешность его была типично еврейской, он никак не тянул на представителя главенствующей расы. «Его нос – ни дать ни взять ключ от синагоги, он доставит ему еще немало проблем», – заметил как-то Франц.
– Так ты не видал фюрера лично… – разочарованно протянул Карл.
Я ожидал, что Адольф начнет выдумывать, но он и не собирался отрицать, а лишь согласно кивнул, отчего его широко оттопыренные уши затряслись.
– Как ты оказался здесь? – спросил я, старательно пряча усмешку.
– Я служил в Лехфельде, ничего интересного, только и делали, что целыми днями маршировали по дюжине в шеренге. Потом меня перевели в Пассау, в местный штаб связи рейхсфюрера. Я думал, будет веселее, но и там была скука знатная: переправляли пропагандистские материалы в Австрию да строчили об этом отчеты в Мюнхен.
– Вот уж полезное заведение, – усмехнулся Франц.
И снова Адольф и не думал отрицать:
– Твоя правда. Пользы от штаба не было никакой, лишняя статья расходов. В Мюнхене это быстро смекнули и прикрыли нас, а затем отправили сюда на военную подготовку.
Он вдруг с задумчивым недовольством огляделся, будто только сейчас тут оказался и оценил место:
– Да, впрочем, и здесь – какие перспективы? Для меня, естественно, – тут же добавил он. – В лагере силы нужны, а мои все здесь.
И он многозначительно постучал указательным пальцем себе по лбу.
Крепким телосложением и выносливостью Адольф действительно не отличался, но его выделяла невероятная педантичность: он молниеносно и с огромной точностью исполнял любое распоряжение начальства. Мне думалось, что такая исполнительность вкупе с болезненным рвением и колоссальным запасом нерастраченной энергии должна была принести свои плоды даже ему. Потому я не удивился, когда Адольф вдруг получил приказ явиться в штаб рейхсфюрера и был откомандирован в его службу безопасности в Берлин. Позже я узнал, что во время отпуска он буквально атаковал управление своими анкетами и прошениями о переводе.
– Откомандирован, немедленно! Командировочное предписание в Берлин. В Берлин! – с трудом скрывая восторг, еще раз повторил он, чтобы мы прочувствовали всю значимость момента.
Он достал номер «Мюнхнер Иллюстрирте» и торопливо нашел страницу с изображением Генриха Гиммлера в сопровождении личной охраны.
– Вот куда еду. – И он ткнул в фигуру одного из охранников. – Только представьте, сегодня здесь, завтра уже в другом месте. Путешествуешь по стране, лично сопровождаешь рейхсфюрера, всегда в гуще событий, все видишь собственными глазами, а не узнаёшь отсюда. – Он еще раз потряс газетой.
В этот момент что-то сродни зависти кольнуло меня, и я впервые задумался о собственных перспективах службы в лагере. Позволит ли лагерь мне достичь тех высот, о которых мечталось с юности? Я не был в этом уверен.
В сентябре Адольф Эйхман покинул Дахау.
Весной меня вслед за Францем настигло очередное повышение. После этого времени стало еще меньше. Теперь мы занимались обучением молодняка, прибывавшего в Дахау целыми толпами, – усилиями Эйке СС объявили дополнительный набор в лагерь. Франц занимался на стрельбище, мне было поручено вести теоретические занятия, в которых я и сам в свое время преуспел. Очень быстро я понял, почему Эйке настоятельно требовал, чтобы присылали рекрутов не старше восемнадцати лет, а еще лучше шестнадцатилетних: они были словно теплый, размягченный пластилин, из которого можно было лепить что хочешь. Я начинал ощущать ответственность, глядя, как они впервые ступали на территорию лагеря, с интересом и в предвкушении поглядывая вокруг, но пока еще держась ближе друг к другу. На своем двадцать четвертом году я ощущал себя годящимся им в отцы, многоопытным, повидавшим всякое.
К своей досаде, в такой круговерти я не мог выбить себе отпуск и спокойно поговорить с Дорой о женитьбе. Мы встречались урывками, иногда у нас было несколько часов, иногда целая ночь, иногда один день, но я по-прежнему медлил с объяснением. Я считал, что скомканный, на ходу разговор будет проявлением неуважения, Дора заслуживала большего. В моих планах было вырваться на несколько дней и увезти ее на отдых в горы, может, снять коттедж где-нибудь у озера, а может, отправиться в теткин дом в Бад-Хомбурге. Мне тем более не терпелось осуществить это, поскольку мы с Францем уже покинули общие казармы и жили в комфортабельных офицерских домах, построенных заключенными. Я полагал, что Дора с большим удовольствием согласилась бы жить здесь со мной, несмотря на удаленность от города. В лагере служило много семейных, и их жены не роптали, а были необычайно довольны: где еще им прислуживала бы дармовая прислуга, исполнявшая любое желание и делавшая всю грязную работу по дому? Доре потребуется только пальчиком щелкнуть…
– Виланд, ты слышал? – В мои мысли грубо вторгся сияющий Карл.
Я окинул его рассеянным взглядом:
– Чего тебе?
Он потрясал потрепанной, скомканной газетой.
– Позорные версальские оковы сброшены! Великая германская честь восстановлена! Адольф Гитлер в очередной раз сотворил то, что не под силу ни одному правительству.
– Да говори уже! – Я нетерпеливо прервал поток его велеречивостей, пытаясь одновременно вырвать газету из его рук.
Но Карл держал ее цепко, очевидно, желая сообщить лично.
– Издан закон о всеобщей воинской повинности! Почти сорок дивизий, полмиллиона человек, и это только начало! Ты понимаешь, что это значит, Виланд? Создается армия!
Я вытаращил глаза. Осознание постепенно начало озарять меня: это было грубейшее нарушение Версальского договора – хоть и унизительного для каждого истинного немца, но за ним стояла сила победивших держав. Что теперь предпримут французы и англичане? Не может быть, чтобы они промолчали, неужели быть новой войне?..
– Виланд, ты что, не слышишь? Конец позорным ограничениям, германская армия возрождается!
Я неопределенно улыбнулся, чувствуя, как внутри горячо затрепетало. Ощущения нарастали и наконец мощно ударили в голову.
– Да, Карл, я слышу, великая Германия встает с колен, и руку ей подавший – Адольф Гитлер! – с тихим восторгом выдохнул я.
Грандиозная новость была объявлена накануне Дня памяти героев, погибших в мировой войне. Лучшего подарка своему народу рейхсканцлер и выдумать не мог.
– Так почтить память бравых вояк под силу только фюреру! За Гитлера!
– За Гитлера!
Казармы с молчаливого одобрения вышестоящего начальства гудели несколько дней.
– Горите в аду, версальские статейки!
– Не на тех напали!
Мы были неподдельно счастливы, с дерзким вызовом и затаенной опаской ожидая ответных шагов Англии и Франции, но… их не последовало. Судя по слухам и сплетням в городе, все уверовали, что причиной тому стала речь Гитлера в рейхстаге: он заверил европейские державы, что «Германия уважает и признает нынешние границы Франции и дает клятвенное обещание их соблюдать». Мы внимательно слушали радио, продолжавшее вещать высоким страстным фальцетом: «Мы отказываемся от наших притязаний на Эльзас и Лотарингию – территорий, ставших причиной кровопролитных войн между нашими великими государствами… Также, позабыв прошлое, Германия заключила пакт о ненападении с Польшей, который мы обязуемся неукоснительно соблюдать… Кроме того, считаем своим долгом заверить, что Германия не имеет намерений вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или присоединять ее…»
Речь встретили с горячим одобрением. Идея очередной войны была не просто непопулярна – народ страшился ее как черт ладана. Судя по всему, возможная война претила и самому фюреру.
– Фюрер желает мира, но мира, основанного на принципах равенства и справедливости! – с сентенциозным запалом выкрикивал мальчишка-газетчик.
В начале лета тридцать пятого года у меня неожиданно выдались три выходных дня подряд, и я решил, что пора объясниться с Дорой, тем более что я уже не представлял своей жизни без нее. За этот год она стала мне самым близким человеком на свете, которому я мог довериться абсолютно во всем. Постепенно и она оттаяла и начала принимать у меня некоторые суммы на жизнь, чему я был несказанно рад. Мне было спокойнее засыпать по ночам, зная, что моя будущая жена не нуждается. Однажды я даже попытался завести разговор о том, чтобы нанять ей просторную, светлую комнату, в которую она могла бы переехать из своей крохотной конуры под крышей, но в этом Дора оставалась непреклонной, в очередной раз поразив меня своей скромностью. Впрочем, я не настаивал, уверенный, что в любом случае скоро заберу ее в Дахау.
По пути я зашел в цветочную лавку и попросил красиво упаковать белые кустовые розочки, которые очень нравились Доре. Затем зашел в кондитерскую, где мне аккуратно уложили в коробку несколько свежих пирожных с миндальной крошкой и перевязали лентой. Настроение у меня было отличное, под стать ярко светившему солнцу и дорогой броши в кармане, которая, как утверждал ювелир, «способна удовлетворить самый взыскательный вкус». Еще бы, двести марок как-никак.
Я быстро дошел до знакомого дома и взлетел на самый верх. Дверь была открыта, Дора стояла у окна и разглядывала плотный лист, который держала в руках. Обернувшись, она подняла его и спросила вместо приветствия:
– Ну, как тебе?
– Блеск! – Я едва скользнул взглядом по очередной акварели.
Дора отложила ее, подошла и прильнула к моим губам. Мне очень хотелось обнять ее, но в руках по-прежнему были цветы и коробка с пирожными. Я отстранился и вручил все это любимой. Не открывая коробку, Дора поднесла ее к лицу и вдохнула запах.
– Самые свежие, – заверил я.
Она поставила цветы в вазу, предварительно обрезав концы стеблей, и пошла за чайником. Я с улыбкой наблюдал, как она открыла коробку и, не удержавшись, откусила кусочек пирожного. Я понял, что пора.
– Сокровище мое. – Я подошел и взял ее за подбородок.
На губах у нее осталась сладкая крошка; нагнувшись, я провел по ним языком, проглотив ее. Дора улыбнулась.
– Дора…
Я начал волноваться, и она это сразу заметила. Нахмурившись, она отстранилась. Я быстро продолжил:
– Я люблю тебя, Дора. И полагаю, что хочу… нет, я уверен, что хочу провести с тобой…
– Виланд. – Она торопливо положила свою руку на мою, заставив замолчать.
Я непонимающе уставился на нее.
– Не нужно, – мягко проговорила она.
– Что не нужно? – опешил я.
Я был уверен, что она не поняла моего намерения.
– Предлагать выйти за тебя замуж.
Поняла. Но теперь уже не понимал я. Разве не об этом мечтает каждая… Я тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями.
– Мы же любим друг друга, разве не так?
Даже мне мое потерянное бормотание казалось жалким.
Дора продолжала смотреть на меня с грустной нежностью.
– Я люблю тебя, Виланд, это правда, и именно поэтому я не выйду за тебя. Я не хочу портить тебе жизнь. Я не самая удачная партия для будущего видного деятеля национал-социалистического движения. А ты им непременно станешь, я уверена.
Она улыбнулась и потянулась ко мне, чтобы поцеловать, но я довольно грубо отстранил ее.
– Что ты такое говоришь, Дора? Вздор!
– Нет, не вздор, Виланд. – Она вмиг посерьезнела и отвернулась.
Я не знал, что сказать. День, который должен был стать одним из самых счастливых в моей жизни, вмиг потерял свою прелесть. Мне показалось, что даже за окном стало пасмурнее. Я уставился в окошко в крыше – действительно, собирался дождь.
В нерешительности я подошел к ней и заставил обернуться.
– Дора, – как можно мягче произнес я, – разве ты не хочешь семью, детей?
Она пожала плечами.
– Нет, Виланд, нет. Не со мной. – Подумав, она добавила еще тише: – Я не создана для уютного домашнего очага, это не для меня.
Она обхватила себя руками, полностью отстранившись от меня. Я смотрел на нее со смесью обиды, злости и все-таки любви. Вдруг она вскинула голову и твердо встретила мой взгляд. Не сговариваясь, мы кинулись друг на друга. Мы целовались жестко, жадно, болезненно, причиняя боль и оставляя красные влажные следы на щеках друг друга, шее, груди… Я буквально сдирал с нее одежду, царапая вместе с тем нежную кожу. Кинув Дору на потертый диванчик, я грубо вдавил ее тело в жесткую обивку. Все произошло быстро и ошеломительно.
Одевались мы в полном молчании. Чай я так и не попил. Выйдя на улицу, я поднял ворот рубашки: все-таки пошел дождь.
Я немного побродил по городу, но без Доры мне было нечего тут делать, и я вернулся в Дахау, так и не поняв, почему она была решительно настроена против брака. Мне казалось, мы были счастливы вместе. Настроение у меня окончательно испортилось.
Поздно вечером, улучив минуту, я пристал к Францу. Мне казалось, что он-то в таких делах специалист. Выслушав, он некоторое время непонимающе разглядывал меня.
– Что мне делать? – наконец не выдержал я.
И Франц расхохотался. Я редко видел его в состоянии истинного веселья, но сейчас мне самому было не до смеха, и потому эмоциональная реакция Франца вызвала лишь раздражение.
– Что смешного? – довольно грубо спросил я.
– Что смешного? – удивленно переспросил он. – У тебя есть прекрасная возлюбленная, по твоим же словам, ангел во плоти. Она готова ублажать тебя в любое время, ничего не требуя взамен. Никаких обязательств! Да ты счастливчик, фон Тилл.
И Франц хлопнул меня по плечу. Я не знал, что на это ответить. Счастливчик, который чувствует себя несчастным. Я развернулся и зашагал прочь.
– Виланд, подожди! – крикнул Франц.
Но я и не думал останавливаться. Теперь мне хотелось побыть одному.
С Францем я больше не заговаривал на эту тему. Он сам, видя мое состояние, попытался вернуться к ней, но я его резко обрубил, буркнув, что не желаю обсуждать свою личную жизнь.
– Не хочешь, не надо. Но в выходные мы отправимся в Мюнхен, – пожал плечами Франц.
– С чего бы это? – спросил я.
– С того, что тебе нужно развеяться, – произнес непонятно откуда вынырнувший Карл, – на этой неделе даже Ульрих был болтливее и живее, чем ты.
Ульрих был тут же и молча кивнул.
– Мне не до этого, – категорично отрезал я.
Они смотрели на меня решительно и… насмешливо. Это еще больше разозлило меня.
– Не поеду никуда, – твердо ответил я и пошел прочь.
Когда я очнулся, было уже светло. В голове нещадно шумело, а во рту был самый отвратительный привкус, который только можно было себе представить. Я не понимал, где нахожусь. С трудом приподняв тяжелую голову, я осмотрелся. Судя по всему, это была какая-то дешевая меблированная комнатушка в доходном пансионе. Я скосил взгляд в сторону и с облегчением увидел на стуле свою сваленную в беспорядке одежду. Я только потянулся к ней, как почувствовал какое-то шевеление сбоку. Я испуганно обернулся и чертыхнулся. Это была женщина. Возможно, когда-то она была недурна собой, но не сейчас: измятое лицо с остатками краски, всклокоченные волосы, сбившиеся на затылке, вдобавок пахло от нее не лучшим образом. Хотя и от меня сейчас несло не парфюмерной водой. Я приподнял простыню – женщина была голой. Еще и толстуха, безрадостно констатировал я, глядя на пухлые, складчатые бедра, раскинутые на кровати.
Превозмогая тяжесть в голове, я начал выбираться из клубка спутанного постельного белья. К счастью, мне это удалось сделать тихо: кит под простыней даже не пошевелился. И лишь когда я оделся и двинулся к двери, допустил промашку: под моей ногой протяжно скрипнула старая половица.
– Передавай Франци привет.
Я обернулся. Создание с сонной игривостью смотрело на меня, томно откинувшись на подушку. Я молча кивнул и вышел. Я готов был убить «Франци», как только встречу его, но для начала нужно было добраться до лагеря. Пришлось брать такси до вокзала. Брести пешком не было сил.
По пути я вспоминал какие-то обрывки вчерашнего вечера. Я вспомнил, как мы подошли к пивной, из которой раздавались задорная музыка, пьяные выкрики и смех. Едва мы вошли, как нас поглотила типичная атмосфера честного баварского веселья. Франц сделал знак, и перед нами тут же оказались четыре кружки «Августинера». Первый масс[55] прошел незаметно, после второго я почувствовал тяжесть в ногах и небывалую легкость в голове. Я уже тогда понял, что по знаку Франца в пиво добавили кое-чего покрепче, но не злился. Карл хлопал меня по плечу и что-то громко говорил. Я рассмеялся, даже не поняв, что он несет. Мне вдруг стало весело и легко. Ноги липли к полу, а разум застилал карамельный хмельной аромат. Все слилось в яркий, шумный водоворот, закрутивший и заставивший позабыть все невзгоды. Не знаю как, но Франц чутко уловил момент и вытащил меня из него вовремя на свежий воздух. Если бы он не держал меня, я бы свалился в собственную рвоту. В голове вдруг промелькнуло, что я уже где-то видел подобную омерзительную картину, и меня стошнило еще раз.
– Ты как? – сквозь туман до моего сознания пробился голос Франца.
Выпрямившись, я оттолкнул его и ворвался обратно в пивную. Я что-то кричал, заказывал всем пиво, за что был обласкан посетителями, поднимал кружку, декларируя какие-то лозунги. Мне было весело. Я взобрался на скамью, чтобы произнести очередной тост, уже видел пробивавшегося ко мне недовольного кельнера и в этот момент поскользнулся на пиве, которое сам же и пролил пару секунд назад. Головой я приложился отменно.
Франца я не убил. Более того, в следующий выходной попойка повторилась. Ромом и коньяком я отвлекал себя от дурных мыслей, но стоило мне вынырнуть из пьяного угара, как меня вновь накрывала тоска по Доре, а к тоске примешивалось и уязвленное самолюбие. Оно мучило меня, скребло и не давало покоя, я отчаянно жаждал понять, почему она меня оттолкнула.
Я решил еще раз увидеться с ней. Такая возможность появилась только спустя три недели… и с помощью двух больших глотков рома. Бутылку я тут же отбросил и вошел в до боли знакомый подъезд. Постояв несколько минут в полумраке, я дождался, пока сердце перестанет противно трепыхаться и успокоится. Сколько раз я взбегал по этим ступенькам, полный радостного предвкушения, прекраснее которого ничего не было. И не было ничего противнее ожидания, в котором я находился сейчас.
Я поднялся, еще раз оправил форму и постучал.
Дора словно ждала меня. Она ничуть не удивилась тому, что я так внезапно объявился. Она кинулась ко мне с объятиями, словно ничего и не произошло. Будто не было той нелепой и постыдной сцены с моей попыткой сделать ей предложение.
– Виланд, я так рада тебя видеть!
Я готов был поклясться, что Дора говорила искренне. Похоже, она действительно скучала. Я не двигался, продолжая внимательно разглядывать ее и выискивать хоть какие-то признаки лжи, но их не было. Я был готов ко всему, к скандалу, к обиде, к нежеланию разговаривать со мной, но не к теплой встрече влюбленных.
Дора, пользуясь моей растерянностью, продолжала целовать мои руки. Наконец я опомнился и тут же отнял их.
– Я не понимаю. – Я покачал головой.
Дора улыбнулась и погладила меня по щеке. Неожиданно мне вспомнилось, сколько женских рук касались моего лица за последние недели, и я вновь отстранился.
– Я был с другой женщиной. – Я смотрел, ожидая, что она сейчас оскорбится и отпрянет, но этого не случилось.
Дора не изменилась в лице, в ее взгляде не было ни капли осуждения, улыбка оставалась все такой же нежной.
– Что ж, ты свободный мужчина, и у тебя есть свои потребности.
– Но, Дора…
Я прислонился к стене. Она молчала, давая мне возможность подобрать слова.
– Я не желал этого… Ты… ты меня толкнула на эту грязь. Все, чего я хотел, – быть верным тебе до конца жизни.
Дора покачала головой.
– Виланд, я ни в чем тебя не виню. Тебе нет нужды оправдываться.
Я с горечью усмехнулся.
В тот день я решил больше никогда не встречаться с Дорой. Судя по ее лицу в момент нашего прощания, она это понимала.
– Кто такой еврей? – в лоб спросил меня Франц, оторвавшись от газеты.
Я растерялся. В последние дни моя голова была занята исключительно мыслями о Доре, а между тем в офицерской столовой только и разговоров было, что о новом законе «О защите германской крови и чистоты». На съезде партии в Нюрнберге было объявлено, что отныне гражданином рейха мог считаться лишь тот, в чьих жилах текла германская или родственная ей кровь. И осквернение той крови сожительством с евреем не просто стало нежелательным, но теперь преследовалось по закону.
– Немцы давно имели право защитить свою честь и вычистить всю заразу. Теперь-то уж попляшут, – потирал руки Карл, будто речь шла о личном враге его семьи, обесчестившем его сестру или обокравшем его отца. – В конце концов, они должны быть довольны, закон лишь позволил евреям снова быть евреями.
– Так кто такой еврей? – повторил свой вопрос Франц, обращаясь уже к Карлу.
Карл замолчал и озадаченно посмотрел на брата, словно нерадивый школьник, рассчитывавший на подсказку.
– В законе нет точного определения, – пожал плечами Ульрих.
– Вот именно, – кивнул Франц, – так кто будет плясать?
Очевидно, этим вопросом озадачились по всей Германии, так как спорные аресты случались повсеместно, и вскоре последовали срочные поправки к закону. Отныне евреем считался тот, у кого трое из родителей его родителей были чистокровными евреями.
– Но как определить чистокровность бабок и дедов? – с усмешкой спросил Франц.
– Всякий, кто записан в еврейскую общину и исповедует иудаизм. – На сей раз Карл ответил уверенно.
Франц вновь усмехнулся.
– А все ли евреи в Германии записаны в общину и исповедуют иудаизм?
Карл снова чертыхнулся.
Все должны были предоставить свою родословную до тысяча восьмисотого года. Тех, кто не мог похвастаться идеальной чистотой, называли «мишлинге» – полукровки, или расовые грязнули. Их грязь была возведена в разную степень: мишлинге первой степени имели двух дедов или бабок, исповедовавших иудаизм, у мишлинге второй степени лишь один дед или бабка принадлежали к еврейской общине.
– Слышали про новые поправки? Выходит, если у тебя две бабки еврейки, а сам ты не ходишь в еврейскую общину и жена твоя не ходит, то это еще допустимо, а если при двух еврейских бабках и жену твою заметили в еврейской общине, то еврей ты как есть, в чистом виде.
– Ерунда выходит, при одинаковых раскладах в родословной один считается евреем, а другой нет.
Я вспомнил наши университетские споры, когда конфликты из-за выяснений степени еврейства случались повсеместно. Но тогда ошибка в определении значила смятый «билет в Палестину в один конец», нарисованный от руки и засунутый за шиворот, да пару тумаков, сейчас – лагерь. Я предпочитал не вмешиваться в эти споры, ибо, откровенно говоря, попросту не мог разобраться, кого все-таки считать чистокровным евреем, а кого нет, и решил руководствоваться лишь сопроводительными документами.
После принятия закона по всей стране прокатилась волна увольнений еврейских рабочих. Таблички «Евреям вход нежелателен» появились на всех витринах и кафе. Теперь вместо обычных паспортов им выдавали книжечки с большой буквой «J»[56] на обложке, чтобы полицейский мог сразу понять, кто перед ним.
В Дахау начали все чаще прибывать обладатели таких паспортов. Именно они вызывали у охранников чувство особой ненависти. Достаточно было одной искры, чтобы вся эта ненависть прорвалась наружу. И узники это чувствовали. Они беспрекословно выполняли всякое распоряжение охраны, чтобы не вызывать ее недовольство или гнев, тем не менее «случайных» смертей и расстрелов «при попытке к бегству» становилось все больше. Но отныне мюнхенская прокуратура не упорствовала в выяснении всех обстоятельств. Никому не было дела до того, что творилось за высоким забором Дахау.
Свое обещание я, конечно же, нарушил – спустя месяц, сумев в очередной раз вырваться в Мюнхен, я сразу же направился к Доре, по которой чертовски скучал. Я решил для себя, что больше не буду делать никаких попыток объясниться с ней, просто хотелось провести время с этой женщиной. Мне не составляло труда найти кого-то в Мюнхене, кто мог бы удовлетворить мои потребности, но меня уже тошнило от связей с потаскухами. Хотелось отмыться от этой грязи. Мне хотелось быть верным Доре. Я весь зудел от желания вновь почувствовать под собой свою чистую и благородную художницу, потрогать, поцеловать, сжать, испытывая чувства, а не бессознательно и рефлекторно проникать в очередное нутро, в которое был вхож всякий, имевший несколько лишних марок.
Дверь в квартиру на первом этаже была приоткрыта. Я в нерешительности остановился, мне хотелось проскользнуть незаметно. Стараясь ступать как можно тише, я двинулся к лестнице.
– Это за ближайшую неделю, в понедельник я заплачу вам за следующую.
– Премного благодарна, – подобострастно проскрипела фрау Штопик, – вашей невесте повезло с таким заботливым суженым.
– Я бы хотел, чтобы фройляйн Бергер не знала об этом. Пусть это останется между нами, фрау Штопик.
– Как вам будет угодно.
Я стремглав выскочил на улицу и отошел от подъезда. Следом за мной вышел высокий рыжеволосый мужчина. Он был полноват, но полноту эту удачно скрывала ладно скроенная одежда. Одет он был со вкусом, сразу видно, при деньгах. Он не обратил на меня никакого внимания и быстро прошел мимо.
Я взлетел наверх. Сердце колотилось. Горячая волна ненависти затмила разум. Омерзение и ярость раздирали меня. Я с трудом сдержался, чтобы не вынести дверь ударом ноги. Едва я постучал, как Дора тут же открыла. Легкая улыбка в мгновение съехала с ее лица. Я молчал, она пристально смотрела на меня, в глазах ее затаился испуг. Я знал, о чем она думает: столкнулся ли я с ее любовником, или же мы все-таки разминулись?
– Я его видел.
Дора едва заметно вздрогнула и молча кивнула, она и не думала отпираться.
– И сколько таких олухов платят за твое жилье? – с ядовитой презрительностью процедил я.
Она пожала плечами.
– Пятеро, может быть, шестеро.
Неожиданно ее лицо стало безразличным, испуг исчез так же быстро, как и появился, она устало смотрела сквозь меня, словно размышляла о чем-то давно терзавшем ее разум. В этот момент будто бы закончилась пьеса, главной героиней которой она была, и теперь Дора могла отдохнуть от лицедейства, отнимавшего много ее сил. Теперь она могла быть собой: усталой, безразличной и отстраненной.
Мне показалось, что у меня резко взлетела температура, жар внутри спалил последние остатки самообладания. Я закрыл глаза, пытаясь справиться с болезненной яростью, но она продолжала клокотать внутри, отчаянно ища выход. Кажется, я отшвырнул Дору к противоположной стене. Вот она стояла передо мной, и вот она уже лежит на полу. Я надеялся, что ей хватит ума не двигаться, но она вскинула голову и вызывающе посмотрела на меня. Я сделал несколько шагов вперед и опустил кулак на хрупкое лицо. Затем еще и еще, я бил ее по голове, по спине, по груди. Бил отчаянно, словно от этого зависела моя жизнь. Стена, окно, пол – все было забрызгано кровью, мои руки, рубашка, форма были в красных пятнах. Дора уже не шевелилась. Ее тело дергалось лишь от наносимых ударов.
Наконец я устало отступил назад и медленно осел на пол. Мне стало трудно дышать. Передо мной было кровавое месиво, которое вдруг заскулило по-собачьи. Ее душераздирающий скулеж сводил меня с ума. Я схватился за голову, пытаясь заглушить этот вой, но вместо этого взвыл сам. Задыхаясь, я рванул ворот рубашки. Нужно было выйти на воздух, нужно было сделать глубокий вдох, иначе это конец. Цепляясь за стену и оставляя на ней кровавые следы, я добрел до двери. Ступени казались мне непреодолимым препятствием, кажется, я упал, но затем встал и продолжил спускаться. На первом этаже я постучал в дверь. Ее быстро открыли. Судя по ужасу, который отразился на лице фрау Штопик, она увидела самого дьявола.
– Дора Бергер умерла, вызовите полицию.
Зажав пухлой рукой рот, женщина испуганно смотрела на меня и не двигалась. Развернувшись, я пошел прочь из этого дома.
Возле кондитерской, где я обычно покупал Доре пирожные, было какое-то сборище. Из толпы выкрикивали: «Немцы, защищайтесь! Не покупайте у евреев!»
Я отрешенно прошел мимо.
В Дахау я встретил Ульриха. Он оторопело уставился на меня.
– Виланд?
Я посмотрел на него так, словно видел впервые.
– А? – пробормотал я.
– Что с тобой?
Я рассеянно смотрел на него, не понимая, чего он хочет. Я мучительно пытался понять суть его вопроса, но три простых слова разбегались в моей голове, еще больше усугубляя хаос, который там царил.
– В чем ты? – продолжал Ульрих.
Я посмотрел на свои руки. В сумерках пятна крови были темными. Бурые разводы были везде, и на коже, и на одежде. Я вспомнил, что по пути несколько раз утирал лицо, очевидно, сейчас оно тоже было измазанным. Я потрогал волосы, даже они слиплись от крови. Удивительно, что меня ни разу не остановили для проверки документов.
Я ничего не ответил. Ульрих испуганно огляделся.
– Тебе нельзя в таком виде в лагерь! Сиди здесь.
Он оттолкнул меня в тень тополей. Я не сопротивлялся и сел на землю. Через минуту Ульрих скрылся из виду. Я не знал, сколько прошло времени, но был уверен, что мюнхенская полиция уже ищет меня. Впрочем, задача у них несложная. Я часто приходил к Доре в форме, да и она, скорее всего, не скрывала от старухи Штопик, с которой была в сговоре, кем является ее очередной любовник. Меня вновь затрясло при мысли о том, как они, наверное, потешались над очередным незадачливым «женихом», решившим связать свою жизнь с бедной, но честной художницей.
Я чувствовал, как засыхающая кровь стягивает кожу на лице. Плюнув на манжету, я попытался оттереть хотя бы подбородок.
– Черт подери, что с ним произошло?! – изумленно вскричал Франц.
– Не знаю, он ничего не сказал, брел от станции как чумной, – торопливо проговорил Ульрих.
Я не поднимал голову. Франц присел на корточки и ощутимо ударил меня по щеке. От жгучей затрещины в голове немного прояснилось.
– Смотри на меня, – прорычал Франц, – говори, что произошло, на тебя напали?
Я покачал головой.
– Это не моя кровь. Я убил ее, Франц.
Ульрих выпрямился и опасливо посмотрел по сторонам, будто кто-то мог подслушать нас на пустой дороге.
– Кого ты убил? – Франц продолжал крепко держать мою голову.
– Шлюху Дору Бергер.
Я тряхнул головой, пытаясь скинуть руки Франца.
– Кто-нибудь видел вас? – уже спокойнее спросил он.
Мне показалось, что он не расслышал моих слов. Я посмотрел ему прямо в глаза.
– Ты слышал, что я сказал? Я убил ее, Франц. Убил человека! – Понимание вдруг озарило меня, прежде я до конца не осознавал, сколь страшную вещь сотворил. – Что я наделал…
Перед глазами возник кровавый ужас, который прежде был красивым лицом Доры. Мощная тошнотворная волна подкатила к горлу. Я едва успел отклониться в сторону, чтобы меня не вырвало прямо на Франца.
– Живо мчись за Карлом, раздобудьте чистую одежду и мокрое полотенце. И чтоб ни одна живая душа, слышал?
Ульриху не нужно было повторять дважды. Через секунду его и след простыл. Я сидел на земле, обхватив голову руками, и медленно раскачивался. Я уже не мог поверить в то, что сделал это. Я готов был сам убить любого, кто обидит Дору. Как такое могло произойти…
Франц шумно выдохнул:
– Где ты оставил тело?
Я вздрогнул. «Тело». Теперь Дора была лишь телом. Это было немыслимо, чудовищно. Еще утром она дышала, говорила, смеялась, а сейчас – «тело». Я не мог уложить это в своей голове. Непостижимо. Мне казалось, что все происходящее – дурной сон. Я медленно поднял голову и потрясенно взглянул на друга.
– В ее квартире.
– Кто-нибудь видел тебя?
Вопрос показался мне глупым. Я и не думал скрываться, напротив, кажется, я даже кому-то что-то сказал, когда уходил из того проклятого дома.
Я кивнул, все еще глядя на Франца. Он грубо выругался.
Вскоре появились братья. Кох-младший испуганно рассматривал меня, пока его брат сдирал с меня окровавленную одежду. Франц вырвал из рук застывшего Карла мокрую тряпку и принялся вытирать мне лицо. Я покорно позволял им делать со мной все, что им было угодно. Но даже в своем заторможенном состоянии я понимал, что их усилия напрасны. За мной в любом случае скоро придут, и какая разница, заберут ли меня в этой одежде или чистой, – я все равно не буду отпираться.
Я убил человека. Я убил Дору Бергер.
6 ноября 1993. Свидание № 1
– Меня зовут Лидия, Лидия Левиш. Я вас буду защищать.
– Лидия, – повторила женщина, затем еще раз: – Лидия, – словно пробовала имя на языке, старательно перекатывая его от неба к кончику.
Затем покачала головой:
– Не подходит.
Рука Лидии, тянувшаяся к портфелю с документами, замерла. Она внимательно посмотрела на женщину, сидевшую перед ней, бледную, с глубокими тенями под глазами, стремительно постаревшую за последние несколько месяцев, напрочь смятую обстоятельствами, но вдруг вздумавшую демонстрировать свои капризы.
– Вы хотите другого адвоката? – стараясь говорить отстраненно и по-деловому, уточнила Лидия.
Но женщина покачала головой.
– Имя тебе не подходит. Лидия – мягкая, раскрытая, томная, даже произносить приятно: Ли-ди-я. А ты колючка, сухая, будто кусок хлеба зачерствевшего, злая, наверное. Должно быть, хороший адвокат.
Лидия растерянно молчала, но свою растерянность прятала внутри, выказав вместо нее строгую сосредоточенность.
– Ты на меня так пытливо не гляди, я не хотела тебя обидеть. Сказала как есть. Ты ж правды от меня во всем хочешь, так получай ее и в самом малом. А в большом – да, я убила старика. Его же подушкой его и задушила.
Она замолчала, продолжая неотрывно смотреть на Лидию, потом вдруг отвернулась, уставив взгляд в свежевыкрашенную тюремную стену.
– Почему при задержании вы не сообщили, кто он? – спросила Лидия, устроившись напротив женщины.
Не отводя взгляда от стены, Валентина пожала плечами.
– Так ведь и сами узнают. Если я узнала, то и они быстро узнают, с их-то возможностями. – Она все-таки оторвалась от созерцания ровной серой поверхности и посмотрела на Лидию.
Глаза были уставшие, покрасневшие, но явно не от слез. Аллергия? Добиваться улучшения условий в связи с состоянием здоровья? Лидия сделала пометку в своем блокноте: «Запрос на медобследование, жалобы на состояние здоровья».
– Я не жалуюсь, условия здесь – дай бог каждому.
Лидия подняла глаза, скрыть удивление ей не удалось. Как Валентина смогла прочесть про медобследование? Почерк у Лидии был мелкий, убористый, плохо разборчивый, да и освещение в помещении оставляло желать лучшего.
– Это от матери, она до старости очки не носила, зорко видела.
– У вас глаза покраснели, – пояснила Лидия, закрывая блокнот.
– Ерунда, – отмахнулась Валентина, – это ерунда. Покраснели, что ж, то не страшно. Страшно, когда еда, вода, сон… еда, вода, сон… А тут, слава богу, и книги дают почитать, и поговорить есть с кем и о чем. А глаза – это ерунда, – повторила она и кивнула, будто сама с собой соглашалась.
Лидия озадаченно смотрела на утомленную женщину.
– Хорошо, продолжим. В течение следующей недели полиция продолжала оставаться в неведении, но вы все равно молчали о своем открытии. Почему? Вы же понимали, что это представляет ваше дело совершенно в ином свете.
Валентина снова отвернулась к стене и пожала плечами, словно речь шла не о ее судьбе, а о чем-то будничном вроде разговоров о строительстве новой парковки неподалеку от ее дома.
– В каком ином свете? Разве у убийства, совершенного в здравом уме, может быть иной свет? Убийство – оно и есть убийство. – И она повернулась и посмотрела Лидии прямо в глаза: – Понимаете, Лида?
– Лидия, – машинально поправила та.
Лидия не понимала. У нее складывалось стойкое убеждение, что сидящая перед ней женщина намеренно делала все, чтобы быть осужденной пожизненно за убийство старика, к которому была нанята сиделкой.
– Можете корить меня, если есть такое желание. Я действительно виновата… виновна. И получу за это свое наказание. Суд ведь, так что…
– Но то будет приговор системы. А что насчет вашей совести? Она дает вам спать спокойно, вы чувствуете раскаяние? – Лидия отчаянно пыталась нащупать хоть что-то.
Женщина молчала.
– Валентина, – мягко позвала Лидия.
– Я не буду отвечать на этот вопрос, он не по существу.
– Вы хотите когда-нибудь выйти отсюда? – в лоб спросила Лидия.
Женщина неожиданно улыбнулась.
– А что, не старуха ведь, еще и пожить хочется по-человечески, так что, надеюсь, когда-нибудь выйду. Если скоро, то хорошо.
– Тогда почему вы делаете все, чтобы исход дела был прямо противоположный?
– Исход был у израильтян из Египта. А у нас так, возня мышиная.
И она вновь отвернулась и уставилась в стену тягучим, пустым взглядом психически нездорового человека. Но она-то была здорова. Лидия уже успела внимательно ознакомиться со всеми деталями дела, и с результатами психологической экспертизы в том числе. Дело было громким. Очень громким. Поначалу ничего не предвещало: загнулся старый астматик в доме престарелых – такое сплошь и рядом. Вскрытие скорее для проформы. А вышло, что удушили деда. Кому понадобилось убивать дрожащего, прозрачного, вонючего (не в обиду будет сказано, а для сохранения истины) старика? Когда подозрения пали на сиделку, она не особенно и отпиралась. Устало, даже лениво пыталась протестовать, кидая полувопросительные взгляды на пришедших, мол, верят или нет, хотя как они могли поверить, если она и сама не верила в свою убедительность? И как-то облегченно в итоге согласилась: «Да, я убила». Местная пресса ограничилась скудными заметками в криминальной хронике. А потом произошел взрыв: один из репортеров, заинтересовавшись личностью погибшего, решил копнуть глубже и выяснил, что убитый стоял на учете как бывший сотрудник концлагеря, а у сиделки – эмигрантки из России – тетка где-то там за проволокой сгинула. Тут уж загорело-запылало. И немецкая пресса закрутила свои маховики, и российские СМИ дали отмашку своим спецкорам. Дело приобрело международный резонанс.
– Вы должны понимать, что мы будем пытаться использовать этот факт в нашу пользу, – без нажима, но твердо произнесла Лидия, – и я должна понимать, было ли это действительным вашим мотивом: вы убили его, потому что он нацист, которому удалось избежать наказания?
•••
За мной не пришли. Ни в день, когда я убил Дору Бергер, ни на следующий, ни через неделю. Я не понимал, почему никто меня не ищет, тем более что я и не думал скрываться.
– Может, дело дошло до папаши Эйке и он замял его? – предположил Карл, когда мы обедали.
– Не говори ерунды, – тихо ответил Франц, – даже ему такое не под силу.
Я потерянно ковырял вилкой остатки отбивной. Изуродованное лицо Доры больше не мерещилось ежесекундно, но теперь меня мучила неизвестность.
– Я поеду, – так же тихо проговорил я.
– Плохая идея.
Я отбросил вилку резче, чем следовало, и она со звоном упала на пол. Ульрих тут же поднял ее и положил рядом с моей тарелкой.
– Больше не могу, – прошипел я, наклонившись к самому лицу Франца, – я должен знать.
– Что ты должен знать? – Франц как ни в чем не бывало пожал плечами. – Очевидно, решили, что это обычное ограбление. Поэтому сиди и не высовывайся.
– Чушь! Старуха видела меня.
Стараясь не привлекать внимания, Франц будто бы невзначай опустил руку мне на плечо и сжал так, что я поморщился от боли. Он не отпускал, и через минуту я не мог пошевелить онемевшей рукой.
– Сиди и не высовывайся, – еще раз повторил он, затем взглянул на Ульриха, – мы сами съездим, как появится возможность.
В Мюнхен они отправились через неделю. Я был уверен, что полиция сядет им на хвост. Хотя, откровенно говоря, мысли эти были глупыми. Если бы меня искали, то давно бы нашли и без Франца с Ульрихом. Когда они вернулись, я уже места себе не находил от волнения.
– Она жива, – сразу же огорошил меня Франц.
Я замер, не в силах даже вздохнуть. Не мигая, я внимательно смотрел в серьезное лицо Франца и не мог поверить в то, что он говорит. Дора жива. Глупая бессознательная улыбка разъехалась по моему лицу.
– Отделал ты ее знатно, – тут же добавил Франц, – но она жива.
Я не знал, что сказать, а главное, не понимал, что мне теперь делать.
– И даже не думай ехать к своей бедной художнице. Теперь вы квиты, и она это понимает, раз не сдала тебя полиции. Забудь о ней.
Я медленно выдохнул и почувствовал вдруг небывалое облегчение: наконец-то я не ощущал у себя за спиной дыхание полицейских ищеек.
Прошло больше двух месяцев, и мысли о Доре начали меня отпускать. Я стал придумывать, как выбраться в Мюнхен, но не из-за нее, – через свою приятельницу тетя Ильза передала мне посылку, и я ждал в ней определенную сумму, которая сейчас бы очень пригодилась, учитывая скорые холода. Еще хотелось прикупить нормальный крем для бритья и хорошую туалетную воду. Та дрянь, которую можно было достать в Дахау, уже порядком опротивела. И вскоре выдалась возможность: необходимо было передать пакет с документами по указанному адресу в Мюнхене. Для этого мне даже выделялся грузовик.
– Поторопитесь, он выезжает через несколько минут. Водитель высадит где нужно и поедет дальше, куда ему велено. Обратно доберетесь сами.
Я попытался забрать пакет, но, прежде чем разжать пальцы, лагерфюрер добавил:
– Лично в руки. Это важно.
С поручением я справился быстро. Пакет у меня забрали без лишних слов. Не теряя времени, я направился в кондитерскую, чтобы купить пирожных для приятельницы тети Ильзы в благодарность за помощь с посылкой.
Едва войдя в кафе, я увидел Дору. Она стояла ко мне вполоборота и указывала пальчиком на свой любимый десерт. Рядом с ней стоял мужчина средних лет. На лице его играла молодцеватая улыбка. Сделав заказ, они прошли к столику. Спутник Доры опирался на трость, но делал это скорее для импозантности, поскольку двигался проворно. Как только они сели, он принялся что-то рассказывать ей. Она слушала с интересом, чуть подавшись вперед. Она всегда так делала, когда хотела дать понять, что мои россказни ей действительно любопытны… Я сжал руки, пытаясь унять растущую ярость. Несмотря на октябрьскую прохладу, я снова почувствовал жар на лице. Я не мог оторвать от нее взгляда. Дора выглядела похудевшей. Она была немного бледна, и, наверное, только из-за этой бледности я и сумел разглядеть розовый шрам на ее лбу. Удивительное существо, однако, человек – способен выбраться отовсюду, даже из состояния смерти. Ведь именно в таком состоянии я оставил ее тогда. А сейчас она сидела здесь, поедала пирожное, слушала, дышала, жила – да стала еще прекраснее благодаря своей болезненной хрупкости.
Звякнул колокольчик на двери, и кто-то тут же наткнулся на мою спину.
– Прошу прощения, – проговорила какая-то женщина, крепко державшая за руку ребенка.
Ее слова вырвали меня из оцепенения.
– Это вы меня простите.
Я неловко развернулся и торопливо вышел из кондитерской. Я не знал, как поступить, мысли опять путались. Если бы рядом был Франц, уверен, он посоветовал бы немедленно уйти и позабыть обо всем. Но спокойного и разумного голоса Франца я не слышал. Я слышал горячие удары в груди, отдававшиеся безумным набатом в голове. Я чувствовал, что вновь возвращаюсь в то страшное состояние бешеного исступления. Через широкое окно я видел, как Дора взяла мужчину за руку. Я не знал его, он не сделал мне ничего дурного, но я истово ненавидел его. Она заставляла меня ненавидеть его, эта проклятая женщина.
Я перешел на другую сторону и зашел в какую-то лавку. Услышав звон дверного колокольчика, ко мне тут же вышел какой-то старик. Он поглядел на меня поверх очков и услужливо спросил:
– Что желаете?
Я осмотрелся. На плече старика висел широкий отрез темной драповой ткани, в руках он держал кусочек мела. Судя по всему, это было ателье по пошиву одежды.
– Я смотрю, – выдавил из себя я.
Старика озадачил подобный ответ. Он продолжил вопросительно разглядывать меня, рассчитывая, что я еще что-нибудь добавлю, но мне уже было плевать, что он подумает. Я отвернулся. К счастью, выпроводить меня он не решился, но и не оставлял одного. Я видел его хмурый взгляд в отражении стекла, но теперь не обращал на него внимания. Единственное, что меня интересовало, – до боли знакомый профиль в окне напротив. Я мысленно очерчивал эти плавные линии, ничуть не испорченные моими кулаками, и внутри меня все клокотало. Ничего не замечая, Дора продолжала мило болтать со своим спутником. Когда она покончила с десертом, они вышли на улицу. Я подождал, пока они отойдут на некоторое расстояние, и тоже вышел. Мне нужно было пойти в противоположную сторону, мой разум взывал к этому, но что-то горячее и темное заволокло голову и манило за Дорой. Я медленно следовал за ними на безопасном расстоянии, стараясь не терять их из виду, но, впрочем, я уже понял, куда они шли, – в конце улицы, по которой мы двигались, был двухэтажный дом с проклятой каморкой под крышей. Я боялся, что не совладаю с собой, если увижу, как этот мужчина поднимается в ту каморку, но, на мое счастье, они распрощались у дома. Дора одарила его легким поцелуем и тут же скрылась в темноте подъезда. Незнакомец пошел прочь. Я выждал еще несколько минут и пошел вслед за Дорой. Я понимал, что у меня еще есть возможность одуматься, какие-то неподавленные стоны разума продолжали отчаянно взывать к этому, и – вот так неожиданность – с каждым шагом эти стоны становились все громче и тверже. Они все увереннее пробивали дорогу к моему сознанию, и когда я наконец добрался до нужного этажа, то остановился возле двери уже с явным сомнением. Я вдруг отчетливо осознал, что совершаю ошибку. Франц был прав – мы с ней квиты.
Я развернулся и уже сделал шаг в сторону лестницы, но вдруг услышал скрип открывающейся двери за спиной. Я застыл, не оборачиваясь. В этот момент я понял, что был совершенно не готов к этой встрече.
– Я заметила тебя еще в кондитерской.
Я медленно развернулся. Лицо Доры было серьезным. Только сейчас я увидел, что на память ей осталось больше отметин о том страшном дне, чем я разглядел в кафе: тонкий нос был едва заметно искривлен, небольшой шрам был и на подбородке, над левой бровью были заметны следы от швов, которые сняли, судя по всему, совсем недавно. Она посторонилась, давая понять, что я могу войти. Я принял ее молчаливое приглашение. Дора закрыла за мной дверь и ушла за ширму, оттуда она вернулась с сигаретой. А ведь я даже не знал, что она курила. Я много чего о ней не знал.
– Чего ты хочешь? Зачем преследуешь меня? – спросила она, нервно теребя дымящуюся сигарету.
Она стояла вполоборота, нарочито глядя мимо меня. Я сделал шаг вперед и довольно грубо повернул ее, заставив посмотреть мне в глаза. Она не отвела взгляда. Шрам на ее лбу вдруг бросился в глаза, и я непроизвольно потянулся к нему рукой. Дора резко отшатнулась.
– Не трогай меня.
Я тут же убрал от нее руки и вскинул их, чтобы она видела. Дора сделала несколько шагов назад.
– Я не трону тебя, обещаю. Ты можешь не бояться меня.
Внезапно она расхохоталась. Я опешил от такой резкой смены ее настроения.
– Думаешь, я боюсь, что ты снова изобьешь меня?! – Она медленно покачала головой, словно была разочарована моими мыслями. – Нет, – протяжно произнесла она, – ошибаешься. Мне не нужна твоя жалость! Лучше уж бей, но не нужно с таким взглядом трогать мои раны.
Я молчал. Дора вновь отвернулась. Я смотрел на ее худенькую фигурку, на ее руки, которыми она крепко обхватила себя, на зажатый между пальцами окурок, который вот-вот должен был опалить ее, и осознавал, что моя злость улетучивалась. В этот момент я вдруг понял, что ей от всего этого много хуже, нежели мне.
– Но зачем? – совсем тихо спросил я.
Она обернулась.
– Хочешь поговорить об этом? – Ее усмешка была холодной и болезненной.
– Ты ведь знаешь, что я мог устроить тебя в любое приличное место.
Дора снова усмехнулась. Я же не видел ничего смешного в том, что сказал.
– Увы, милый Виланд, твоих связей не хватит, чтобы перечеркнуть мое прошлое. А оно имеет свойство настигать в самый неподходящий момент. Как бы ты ни замалчивал его, как бы ты ни бежал от него, оно настигнет и раздавит. И я не хочу, чтобы когда-нибудь вместе со мной раздавило и тебя.
Я не хотел спрашивать Дору о ее прошлом. Но прежде чем я успел одернуть сам себя, слова уже вырвались. Мой вопрос получился нескладным и грубым:
– Как все вышло?
Я тут же захотел, чтобы она не поняла, о чем я, или увильнула от ответа, одернула меня, перевела тему, – что угодно, но Дора все поняла верно.
– Ангел с душой дьявола, – задумчиво произнесла она, – знаешь, что это значит? Ты тянешься к нему всем своим существом, чтобы получить хоть каплю ласки, ты видишь его прекрасное лицо, самые добрые в мире глаза, смотрящие на тебя с такой любовью, на которую способны только ангелы. И ты терпишь. Ради этих огромных блестящих глаз можно стерпеть что угодно, только бы он не отводил их, только бы продолжал смотреть на тебя с нежностью, только бы продолжал смотреть на тебя. Пусть терзает, уничтожает, кабалит… продает тебя, – почти шепотом исступленно продолжала она, – но только бы был рядом и позволял чувствовать себя. Это необъяснимо. – Дора вдруг замолчала, повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. – Я встретила его, когда была совсем юной.
Ее брови сошлись, словно она чего-то не понимала и оттого злилась на саму себя. Я боялся влезть в ее мысли-воспоминания и молчал. Она пожала плечами:
– В толпе ты не выделишь его среди остальных, у него было поразительное умение сливаться с ней, становиться частью серой массы, коей он ни в коем случае не являлся. Но ты понимаешь это не сразу. Ты можешь не замечать его годами, пока не останешься с ним наедине, и тогда он, если захочет, откроется и явит себя во всей бесстыжей красоте и мудрости, которая напрочь поразит тебя и заставит смотреть совершенно иным взглядом. И ты возблагодаришь Бога, что этот человек выбрал именно тебя.
Она вновь отвернулась и уставилась в окно. Но не умолкла.
– Я до сих пор не могу забыть его взгляд. Взгляд человека унижающего, подчиняющего. Он грубо сминает твою гордость, но дает понять, что все это делается с любовью, для тебя, о, это особый взгляд! Перед ним ты бессильна, ты не способна протестовать, а только повиноваться и завороженно следовать за ним сквозь унижения и издевательства. Любовь ли это? Ну, конечно, я считала, что то была любовь – всеобъемлющая, истинная, жертвенная… Но это было наваждение – больное, изъедающее, губительное. А ведь он это понимал. – И Дора посмотрела на меня так, будто только что открыла для себя давно искомую истину.
Я и сейчас не решился ответить, я даже не шевелился, боясь хоть как-то выразить свое отношение к тому, что она говорила.
– Ему нужны были деньги, он играл – часто и не очень успешно. А я любила… нет, была отравлена им до беспамятства. Обычная, в общем-то, история, понимаешь?
Я понимал, я хорошо понимал, что какой-то ублюдок отправил Дору на улицу зарабатывать деньги проституцией, чтобы он мог просаживать их за игорным столом в кабаке.
– И ради него я стала вместилищем, куда стекалась вся баварская похоть, вся эта слюнявая грязь, потная… монетная… любовь. И я покорно это принимала, покорно. Но, даже опустившись на самое дно, я была счастлива! Да, счастлива… Ведь он по доброй воле продолжал брать меня в той грязи, заставляя напрочь позабыть, что сам же и окунул в нее. И я продолжала считать его за ангела, я ловила каждое его слово, разве что в рот не заглядывала. Он стал для меня и властелином, и божеством, и телесной радостью. Это как болезнь, мучительно. Не принадлежишь себе.
Я ощущал, как окаменел каждый нерв в моем теле. Я не моргал и едва дышал, молча окунаясь в зловонный поток, который лился с языка Доры. Он топил меня и нес дальше против моей воли и желания. Дора безжалостно продолжала:
– Всегда в словах его и в тоне чувствовалось возвышение надо мной. Но влюбленная девушка разве заметит это? Влюбленная еще выше поможет ему взобраться, подставив свои же спину и плечи. Так вот и я.
И она умолкла. Медленно подошла к столу, затушила сигарету о блюдце и снова обхватила себя руками. Продолжила она так же внезапно, как и замолчала:
– А потом пелена резко спала. Увидела однажды, как он передергивает в карты да трусливо просит не бить, когда поймали его за этим делом, так в тот момент разом и ушло наваждение. Вру, конечно. Разом не бывает, но постепенно, видать, прозревала, а в тот момент окончательно отпустило. И обидно мне стало – не за себя, а за него, что ошиблась я в нем. Обычный неудачник был, поверхностный человечишка, трусливый и лживый. И глупый, что ужаснее всего.
Последние слова Дора произнесла с едкой усмешкой. Такой же едкой, как и та боль, которая скрывалась за ней.
– Ты ушла от него?
Дора кивнула.
– Ушла, но это уже было неважно. Раз оказавшись на том дне, ты снова и снова будешь опускаться туда. Обнажить тело стало легче, чем душу.
Я с горечью смотрел, как Дора бессознательно разглядывала что-то в окне. Плечи ее опустились, вся тоненькая фигурка поникла, будто придавленная чем-то тяжелым. Я всегда восхищался ее умом и проницательностью и никак не мог уложить в своей голове, как эта гордая и сильная женщина могла позволить так искалечить свою жизнь. Словно что-то почувствовав, Дора обернулась.
– Видишь ли, я встретила его в самый неподходящий момент. Тогда всякий мог взять меня и творить что душе угодно, не говоря уже о таком виртуозе, как он. С самого детства у меня не было ощущения дома. Крыша над головой была, но я никогда не была под ней счастлива, ни единого мгновения. Даже будучи ребенком, я всеми силами оттягивала возвращение в то место, которое называлось домом. Потому что там была моя… – Дора вдруг на секунду умолкла, – мать.
Я изумленно уставился на нее, но Дора лишь отмахнулась:
– Она меня не била, не подумай. Просто жила своей жизнью, своими мужчинами, иногда прикрикивала на меня, иногда запугивала. Но всякий день она делала так, чтобы я ощущала свою вину за себя и благодарность к ней за то, что она позволила мне появиться на свет, а не избавилась, едва узнав, что я появилась у нее под сердцем. Я же не ощущала никакой благодарности, одно отвращение – и к ней, и к тому, что мы называем семьей. Я стала считать, что отсутствие отца – это обыкновенное дело, разбитая семья – не страшно, множество мужчин – норма для взрослой женщины, отсутствие тепла и проявлений любви к своему ребенку, равно как и всякого интереса к его жизни, – рядовое явление, и нет в нем ничего страшного. Со всем можно жить, Виланд, но только тогда вырастает то, что ты видишь сейчас перед собой. Окончательно лицо человеческое моя мать потеряла, когда пристрастилась к выпивке. Если до этого от нее веяло лишь холодностью, отстраненностью и лицемерием, то потом все это пропиталось спиртными парами. Ты знаешь, как спит пьяная женщина, Виланд? Нет омерзительнее зрелища. Раскинулась по мятым грязным простыням, вонючая рубашка сбилась на поясе, а под ней нет белья – она уже в такой стадии, что забывает о нем. Почесывается во сне, с угла рта стекает слюна, лицо красное, опухшее, отекшее, волосы спутанные, сбившиеся на один бок, она храпит, а вокруг нее омерзительная вонь выдыхаемых паров шнапса или водки. И никакое раскрытое окно не поможет. Еще омерзительнее, когда рядом с этим телом лежит незнакомый мужчина. Но самое отвратительное – когда на это спокойно смотрит ребенок, девочка, смотрит на это как на данность. И в голове формируется картина нормальности происходящего. Она не защитила меня от того, от чего мать обязана защитить свое дитя. Я все сожрала сполна, всю мерзость, которой могла избежать, будь она матерью в полном смысле этого слова, а не дрянным и изломанным существом. Которое понятия не имеет, что такое материнство, и не желает этому учиться, но лишь ищет оправдание своему дрянному отношению. И вот ведь парадокс – оправдание такое она легко находит, а потому живет в ладу с собой. Не с миром, но с собой. Мать ли такая женщина?
Дора посмотрела на меня, но ответа не ждала. Однако, отрицательно качая головой, она, к моему изумлению, сама же и ответила утвердительно:
– Да, даже при всем при этом она мать, давшая мне жизнь и подкармливавшая на протяжении каких-то лет. Она зла, глупа, лжива и жадна, и тем не менее она моя мать. Кстати, она меня любит, да, безусловно, любит, это даже не подлежит сомнению. Однажды мы поговорили, это вышло случайно, не знаю, что на меня вдруг нашло, но я высказала ей все, что было на душе, всю свою боль от того, что так и не испытала ни крохи материнской любви. Она очень удивилась моему негодованию, заметив, что иначе и быть не может, ведь она пережила все то же самое со своей матерью, а затем вдруг… разрыдалась. И я поняла, что она была так же искалечена в свое время. Но разве моя была в том вина, Виланд? И значит ли это, что я должна превратить и свою дочь в ничтожество? С точки зрения больной логики моей матери, так и есть: если она не получала любви, то с какой стати она ее должна проявлять? И тогда я поверила, что это действительно сложно преодолеть. Но теперь она требует любви и заботы о ней, потому что она мать, а я дочь, а потому обязана. Что ж, наверное, так это и происходит. Я чувствую, что обязана, а в противном случае испытываю вину. Вот такая вот поломка, Виланд. А мою мать ты знаешь, – заметила она, нахмурившись, но совершенно спокойным, однако, тоном.
В этот момент я понял, почему глаза чертовой старухи Штопик казались мне знакомыми. На меня вдруг напала сильнейшая апатия. Я сел на диван, на котором столько раз брал Дору. Он знакомо скрипнул. Дора присела рядом.
– Я дорога ей в некотором смысле, ближе меня у нее никого нет, и она это осознает. И да, в то же время она не гнушается торговать мной. В принципе ее извращенную логику даже можно понять. В любом случае я была бы с мужчиной, с тем или иным, так почему не быть с тем, который сделает мою и ее жизнь проще и сытнее? И почему таких мужчин не может быть несколько? Что касаемо матушки, я ее ненавижу за глупость, ограниченность, лживость, которой она научила меня и до сих пор учит. Но при этом я, пожалуй, и люблю ее, когда она трезва, потому что мать, потому что семья, потому что должна. Вот такой вот замкнутый круг, и мне жаль, что тебя в него закрутило, Виланд.
Удивительно, но сейчас, когда я должен был ненавидеть ее, я вдруг снова восхитился ею. Она уничтожила меня, обманула, раздавила, но вместо того, чтобы презирать ее, я сижу рядом, слушаю, жалею, восторгаюсь и вновь… вожделею эту женщину.
Дора склонила голову и закрыла лицо руками. Когда она вновь посмотрела на меня, на лице том не было ни единой мысли, глаза были совершенно пустые, будто самое себя забыла, и где находилась, и кто есть, и что происходит вокруг нее. Я понял, что она чертовски устала. Не знаю, сколько мы так просидели, секунду, минуту, час, – ощущение времени совершенно пропало. Я и сам чувствовал сильную разбитость, хотелось на свежий воздух, я молча встал и ушел.
Посылку у тетушкиной приятельницы я так и не забрал. Забыл.
В Мюнхен мы стали выбираться, едва выдавалась возможность. Попойки шли нескончаемой чередой. Миловидные создания (а теперь я был внимателен на сей счет) слились в один сплошной ряд. Изабелла, Маргарита, Штефания, Анке, Гретхен – кто ты? Я даже не спрашивал. Мне было все равно, как их зовут, откуда они, чего хотят, к чему стремятся, какие у них проблемы, они стали лишь средством удовлетворения похоти. Средством без лица и имени в моей памяти. Я не заботился об их наслаждении, наоборот, начал получать удовольствие от того, что делал им больно. Мне доставляло наслаждение видеть, как искажается очередное лицо, когда я кусал, терзал, мял, бил, а потом отбрасывал, словно ненужный кусок мяса, который уже протух и непригоден даже на корм собакам. Имея каждую, я сквозь пьяный чад видел только одну – шлюху Дору Бергер. Ее взгляд продирался сквозь возню и сопение и заставлял меня еще больше ненавидеть и себя, и женщину, которая в этот момент была подо мной. И тогда я сильнее впивался в кусок, ерзающий подо мной, чтобы наказать за это. Я понимал, что, приложи чуть больше усилий, это вполне могло закончиться увечьем, но в то же время я знал, что не понесу за это никакой ответственности, главное – не убить. Наш статус стремительно менялся.
В июне тридцать шестого Гиммлер был назначен главой германской полиции, став единоличным вершителем судеб тех, кто попадал в превентивное заключение, то есть к нам. Количество арестов вновь начало расти, и о возможном закрытии лагерей уже никто не помышлял. Тысячи коммунистических функционеров, которых совсем недавно выпустили на свободу, вновь оказались за колючей проволокой с целью профилактики. К ним прибавились бродяги, нищие, святоши, гомосексуалисты и прочий сброд, который соскребли с улиц, чтобы очистить их к Олимпийским играм. Общество жаждало избавления от мусора, отравлявшего его, и потребность породила предложение: новые лагеря возникали повсеместно. Бад-Зульца, Колумбия-хаус, Фульсбюттель, Заксенхаузен… Аппарат множился и крепчал, лагерное «хозяйство» росло как на дрожжах.
Уже в августе Инспекция концлагерей, возглавляемая Эйке, перебралась из Берлина в Ораниенбург, недалеко от Заксенхаузена. Со стороны могло показаться, что Эйке потерял насиженное местечко в столице, но я-то знал, что это была его личная инициатива. В берлинском доме по Фридрихштрассе он занимал лишь несколько кабинетов, в то время как в Ораниенбурге он получил в свое полное распоряжение огромное здание. Ему нужен был единовластный контроль без чьего-либо вмешательства, и претворить это в жизнь было проще всего, находясь на расстоянии от эпицентра власти. Этот необузданный, вспыльчивый и порочный человек, ежечасно подстегиваемый своими болезненными амбициями, оказался хитрым и дальновидным тактиком. Вслед за этим пришла новость, что охранные подразделения лагерей выводят из подчинения общих СС. Отныне мы были совершенно независимы и повиновались только рейхсфюреру.
Эйке добился своего. Система концлагерей окончательно стала самостоятельной и неподконтрольной тем, кто не в полной мере разделял ее философию и принципы.
А между тем Германию лихорадило. Немецкие войска вошли в демилитаризованную Рейнскую область. Фактически это значило окончательный разрыв Локарнских соглашений[57]. Немцы с затаенной опаской ожидали реакции Франции, но, если газеты не врали, французы даже мобилизацию не объявили.
В Мюнхене во всех пивных и кофейнях была только одна тема для разговоров.
– Что взять с лягушатников, они никогда не шли на конфликт во имя идеи. Все их военные потуги случались после того, как их вынудили к войне, либо они видели, что соотношение сил определенно в их пользу.
– Считаю нашу политику единственно верной. А что они ожидали, после того как Франция заключила пакт с Советами, – что мы это спокойно проглотим? Нет уж, дураку понятно, что после такого демарша Локарнский договор яйца выеденного не стоит.
– Боюсь, это фактически объявление войны.
– Чушь! Все наши меры превентивные. Мы лишь показываем, что не пойдем в атаку, но за обороной не постоим.
– А я так скажу, давно пора. Они сами вынуждают.
– Так-то оно может быть, да ведь, в отличие от Версальского, Локарнский договор мы подписывали добровольно. Фюрер не раз публично клялся уважать его, а теперь выходит…
– Франция первая нарушила условия!
Речь фюрера появилась во всех утренних газетах. «После французско-российского договора Германия больше не считает себя связанной соглашениями Локарно. Лишь в интересах естественных прав немцев на безопасность своих границ и обеспечения защиты страны правительство рейха приняло решение восстановить свой полный и неограниченный суверенитет в Рейнской области».
– Не думал, что вермахту уже по зубам противостоять регулярной армии, а оно вот как, – восхищенно проговорил я, отрываясь от газеты.
– Ты мыслил в верном направлении, – усмехнулся Франц, – и, боюсь, стоило бы французам оказать хоть какое-то сопротивление, ты бы в этом убедился. Невозможно нарастить военную мощь за столько короткое время, наш фюрер предпринял весьма рискованный шаг. Впрочем, кто не рискует…
Германия пила шампанское.
9 ноября 1993. Свидание № 2
– Как вы узнали о его прошлом?
– Я уже рассказывала.
Лидия была терпелива:
– Я хочу, чтобы вы рассказали и мне. В отличие от тех, кому вы это уже рассказывали, я пытаюсь вам помочь, – мягко напомнила она.
– Я нашла его дневники в шкафу, когда искала чистую рубашку.
– Это были тетради, блокноты, альбомы, обычные блоки?
Наконец хоть что-то вызвало эмоции на отстраненном и усталом лице Валентины. Она искренне удивилась:
– Да какое ж это имеет значение?
– В суде все будет иметь значение, поверьте, вас заставят вспомнить каждую деталь, и я хочу, чтобы мы были готовы. Поэтому, прошу, отвечайте на все мои вопросы, даже на те, которые кажутся вам глупыми и несущественными.
Валентина кивнула, словно соглашалась с тем, что вопросы ее адвоката действительно глупые и несущественные, но все же ответила:
– Это были тетради в хорошем, плотном переплете, черном, штук пять, кажется. Они лежали в коробке из-под обуви, прикрытые папиросной бумагой, тоже обувной. Достаточно деталей? – В голосе не было сарказма.
– Но вы точно не помните количество тетрадей? – Лидия проигнорировала последний вопрос.
– Пять, – твердо ответила Валентина и посмотрела на свои руки, словно там, как у хитрой школьницы, была написана подсказка.
– Ваш подопечный знал, что вы нашли его записи?
Валентина покачала головой.
– Как скоро вы ознакомились с этими дневниками?
Валентина снова посмотрела на свои руки, задумалась на несколько секунд, затем подняла глаза на Лидию:
– Они и правда так подробно меня не расспрашивали.
– Как я уже сказала, в отличие от них, я хочу вам помочь, поэтому мне важна каждая деталь.
Валентина откинулась на спинку стула и протяжно выдохнула.
– Почему? – вдруг спросила она, даже не набирая в легкие воздуха, отчего вопрос прозвучал глухо. – Я ведь тебе даже не плачу́. Тебя назначили. А назначили, наверное, потому, что хорошо русский язык знаешь.
– В том числе, – ответила Лидия, надеясь, что Валентина не станет повторять свой вопрос.
– Так почему?
Лидия с трудом сдержалась, чтобы не опустить глаза и тоже не посмотреть на свои руки.
– Это моя работа, – лаконично ответила она, прекрасно понимая, что Валентину не удовлетворит этот ответ.
– Работа – защищать убийц… – задумчиво протянула Валентина. – И что примиряет тебя с этим? – спросила она после некоторого раздумья.
– Существуют разные обстоятельства, нужно учитывать все детали. Иногда все не так, как кажется на первый взгляд, и в действительности все бывает несколько сложнее…
– Ерунда, – неожиданно грубо перебила Валентина, – в любой ситуации зло остается злом, а добро – добром. Я убила старика, прикованного к постели. Я не защищалась, не защищала, да и было бы от кого защищаться, он уже и себе-то вреда не способен был нанести. Я кормила его с ложечки, подставив под спину подушку, чтоб ему было удобнее, подтирала салфеткой его подбородок, разговаривала с ним, кажется, даже шутки шутила. А потом взбила ту самую подушку, накрыла ему лицо и придавила. Лицо того, за кем мне было доверено ухаживать. А когда все закончилось, прикрыла пледом, убрала подушку на место. И ушла. И за что ты здесь зацепишься? Какие детали помогут тебе защитить меня?
Валентина смотрела на Лидию с любопытством и с неким вызовом одновременно.
– Вернемся к моему вопросу, – терпеливо произнесла Лидия, – сколько времени у вас заняло знакомство с дневниками?
Валентина усмехнулась, но ответила:
– Много там написано было, тетради толстые, почерк иногда сбивался, становился неразборчивым. Наверное, неделю.
– Что вы чувствовали, когда читали эти записи?
Лидия понимала, что задала сегодня первый сложный вопрос. Все предыдущие были фактическими, требующими не размышлений, но хорошей памяти. Здесь же женщине, сидящей перед ней, необходимо было копаться в себе и своих чувствах, чего она еще ни разу не делала. Но Лидии отчаянно нужны были ее эмоции, те эмоции, которые могли повлиять на общественное мнение и склонить суд в ее пользу. Да и самой Лидии нужны были эмоции, чтобы хоть как-то проникнуться к этой женщине, которая, казалось, делала все, чтобы настроить окружающих против себя.
– Отвращение? – произнесла Валентина.
Лидия устало выдохнула.
– Вы меня спрашиваете, а мне нужен ваш ответ, – произнесла она, утомленно качая головой.
Свидание № 2. После перерыва
– Так что вы чувствовали, читая эти дневники? – упорствовала Лидия.
– Там были отвратительные вещи, мерзкие, страшные.
По-прежнему в ответе сохранялась полувопросительная интонация, едва заметное уточнение, словно Валентина пыталась угадать, какого ответа от нее ждут, и удовлетворить этим ответом вопрошавшую. Лидия откровенно устала от этих словесных пикировок.
– Вы по этой причине сожгли их? – спросила она.
Валентина кивнула. Лидия ждала, что Валентина еще что-нибудь добавит, но та молчала.
– Вы ведь понимаете, как это усложняет нашу задачу? Если бы вы их сохранили, это могло нам очень помочь. Подобные вещи очень впечатляют присяжных, тем более с яркими подробностями от первого лица. Возможно, хоть одну тетрадь, несколько страниц? – Лидия старалась говорить мягко, без нажима. – Вы могли просто забыть, в такой ситуации это вполне объяснимо. Это не повлечет никаких дополнительных проблем, заверяю вас.
Валентина покачала головой.
– Я уложила эти тетради в пакет для мусора, вышла на задний двор и сожгла их дотла.
«Что и подтверждают остатки пепла с частицами оплавленного полиэтилена, найденные в металлическом баке для воды», – безрадостно констатировала про себя Лидия.
– Давно вы в Германии? – Она неожиданно переменила тему.
Вопрос был задан словно невзначай, рассеянно, пока она просматривала папку со своими записями. Валентину не удивила резкая смена темы.
– Лет пять-шесть… да, летом будет ровно шесть, – уперев взгляд в потолок, задумчиво произнесла она.
– Насколько я поняла, проблем с документами у вас не было. Все было без нарушений закона?
– Муж помог все оформить.
– Где вы познакомились? – Снова невзначай, будто для поддержания разговора, пока мысли сосредоточивались на главном.
– По объявлению. Есть такие газеты для знакомств с иностранцами.
– Я знаю, – кивнула Лидия.
– Мы некоторое время переписывались, потом он предложил приехать. Все сложилось неплохо, я осталась.
– Он был старше? – спросила Лидия.
– Он был старше, – ответила Валентина.
– Это муж помог вам найти место сиделки?
– Да, после развода мы сохранили дружеские отношения. В этом плане вы, немцы, молодцы. Вновь быстро становитесь людьми.
Лидия пристально посмотрела на Валентину. Ее не обижали подобные замечания, а скорее удивляли своей недальновидностью. Оставалось надеяться, что у Валентины хватит ума не позволять себе подобных высказываний в суде.
– Как он узнал об этой работе?
– Его дочь рассказала, что у подруги по соседству живет семья, которая ищет сиделку для своего старика. Клара сказала, что я могла бы попробовать. Клара – хорошая девушка, у нас с ней всегда были замечательные отношения, даже после развода с ее отцом.
Валентина улыбнулась, вспомнив о приятном ей человеке. Затем вновь посерьезнела:
– Вы уже разговаривали с Кларой? Она злится на меня?
•••
Новости о возможном присоединении Австрии к Германии будоражили многих, но Франц в их число не входил. К моему удивлению, он назвал эти события вполне предсказуемыми.
– Я имею в виду попытку фюрера провернуть это, – пояснил он, – а вот чем это закончится, другой вопрос. А впрочем, отныне Австрия сама за себя.
Несмотря на собственные заверения, Лондон по-прежнему не реагировал на передвижение наших войск, Париж пытался справиться с собственным политическим кризисом, Муссолини также дал понять, что не против немецкого вступления в Австрию, а большего фюреру, судя по всему, и не надо было. Одиннадцатого марта рано утром войска вермахта, в составе которых были служащие охранных частей Дахау, всеми правдами и неправдами пропихнутые туда Эйке, вошли на территорию Австрии. Местная армия капитулировала, не оказав никакого сопротивления, что было весьма кстати: вернувшиеся солдаты со смехом рассказывали, что все было настолько стремительно и скомканно, что их даже не успели обеспечить горючим и картами местности. Многие танки были заправлены лишь наполовину, а движение войсковых частей осуществлялось по… туристическому справочнику Бедекера! Благо его достоверность была на высоте. В итоге часть бронетехники просто встала в пути, ожидая подвоза горючего, те же, кому удалось добраться до Австрии, жадно присосались к местным бензоколонкам.
– Закончилось бы знатным позором, если бы местные не помогли с грузовым транспортом, – смеялись охранники, которым довелось побывать там, – толпы ревели от восторга, завидев нас.
По их словам, местные полицейские заранее раздобыли повязки со свастикой и к появлению наших солдат разгуливали уже в них.
– Да что там, монашки флагами со свастикой махали!
– Давно меня так знатно не встречали, цветами осыпали! Девчонки местные рыдали от счастья, на шею кидались с поцелуями, клянусь! Хотел бы я еще разок туда вернуться.
Судя по всему, как фюрер и заявлял в своих выступлениях, обычные австрийцы давно мечтали о воссоединении. Поговаривали, что до прихода вермахта Вену трясло от недовольств и беспорядков, – стрельба и грабежи средь бела дня были там делом обычным. Теперь-то наши солдаты наведут порядок.
Позже по радио передали первую речь Гитлера из Вены, объявившего, что немцы пришли в Австрию не как завоеватели, но как освободители. В его голосе слышалось ликование. Я вспомнил его описание жизни в Вене: она пережевала и выплюнула его, бесславно и безжалостно, в голод и холод. Ходили слухи, что ему даже приходилось ночевать в приюте для бездомных. И вот он с триумфом вернулся в город, который когда-то не оценил его и обрек на нищенствование. Вернулся без жажды мести, но с благородной целью, как было до́лжно истинно великому правителю, – восстановить историческую справедливость.
Тема аншлюса смаковалась целыми днями – без единого выстрела фюрер увеличил население рейха на семь миллионов.
– А главное, ни Англия, ни Франция даже не пикнули! – с удовольствием заметил долговязый Улле.
– Думаю, в этом и состояла главная цель аншлюса – проверить реакцию, – сказал Франц, – уверен, теперь мы обратим взгляд в сторону Судет.
– А почему бы и нет, – подал голос Карл, – фюреру под силу исправить все ошибки истории и стать во главе германских народов старой доброй Священной Римской империи. И кто скажет, что цель эта не благая? Таких нет, народ ликует.
– Народ ликует, пока завоевания даются бескровно, – заметил Франц.
– С кровью, бескровно, – вмешался Штенке, – в Чехословакии живут больше трех миллионов немцев. Они имеют право на самоопределение, и рейх обязан защитить их, ведь они не виноваты, что оказались по ту сторону границы в результате преступления восемнадцатого года.
– Правильно Штенке говорит, – поддержал его Карл, – речь идет всего лишь об исторической справедливости. Мы освободили Австрию, и что же? Забыть про остальных? Уверен, немцам в Судетах тоже не сладко живется. В газетах пишут, что чехи их притесняют, местное отделение партии зажимают, это дурно пахнет.
– Газы пускают обе стороны, – усмехнулся Франц, – даже сквозь скрупулезно выверенные и гладко причесанные заметки нашего министра пропаганды ощущается ядреная вонь. Как с Австрией, уже не получится, нам нужен конфликт в Судетах, чтобы оправдать вступление войск в Чехословакию. Помяни мое слово, Карл, совсем скоро он возникнет.
Воцарилось молчание. Все смотрели на Франца. Мы с Ульрихом незаметно переглянулись, оба готовые в любую секунду кинуться разнимать Франца со Штенке, а если понадобится, то и с остальными.
– Я не понял, Ромул, – медленно и с нажимом произнес Штенке, – ты обвиняешь фюрера в намеренной провокации?
– Я всего лишь предсказываю, как будут развиваться события в той области. Для этого не нужно много ума, Штенке. Интереснее другое, этот выпад Англия тоже проглотит?
Как и предсказывал Франц, ситуация с Судетами развивалась стремительно. Сообщения о столкновениях наполнили газеты: каждый день появлялись тревожные статьи о жестоких издевательствах чехов над немецким меньшинством. Заголовок «Чешские звери избили беременную немку» накалил ситуацию до предела.
– Будто одного избиения мало, они еще и надругательство приплели, – вздохнув, произнес Франц и передал мне газету.
Я возблагодарил небо, что на сей раз мы были одни. Я устал быть в постоянном напряжении из-за опасных мыслей Франца, высказанных вслух в присутствии других, но мои увещевания следить за языком на него не действовали. Он был человеком с четкими и непоколебимыми взглядами, понять которые мне до сих пор до конца не удалось. Он всегда бил в точку, делая это спокойно и лаконично, используя аргументацию и выводы, крыть которые было нечем, разве что кулаками. Его блестящее образование позволяло ему одинаково легко как говорить о немецкой литературе, так и обсуждать физику или баллистику. При этом Франц часто бывал беспечен, давя оппонента аргументами, которые могли вызвать последствия. Иметь такого в своем окружении было крайне неудобно, называть такого лучшим другом – неудобно вдвойне.
– Думаешь, выдумка? – Я еще раз пробежался глазами по газетным строчкам, сообщавшим мельчайшие подробности во всей своей мерзости.
– Уверен.
– А если и так, – я пожал плечами, – неважно, какими методами, главное – итог. Эйке всегда говорил, что справедливая цель оправдывает любые средства.
– Конечно, Виланд, – неожиданно легко согласился Франц, – я ни в коей мере не осуждаю происходящее, мне лишь нравится его констатировать.
Я внимательно посмотрел в его смешливые глаза, он улыбался.
– Твое «нравится» стоит нам с Ульрихом много нервов, – серьезно произнес я.
– Оставь, – отмахнулся Франц, – кого ты тут испугался? Свою силу они могут демонстрировать лишь им. – И он кивнул в сторону бараков, возле которых виднелись разрозненные группы заключенных. – В действительности на себя подобных у них не хватит смелости. По крайней мере, у таких, как Штенке. Беда в том, что Штенке и ему подобные мыслят о себе лучше, чем есть на то основания.
– Так зачем это надо? – Я кивнул на газету, переводя тему.
– Бедственное положение немецкого меньшинства в Судетах – отличное оправдание для вступления наших войск в Чехословакию. Тем более сейчас, когда чехи объявили мобилизацию. Нужно отдать им должное, в отличие от Австрии, они не собираются сдаваться без боя.
– Без военной мощи Англии и Франции эти потуги ничего не стоят, и все это прекрасно понимают.
– А томми[58] боятся возможной войны как огня, – задумчиво протянул Франц, – и вряд ли полезут в заваруху. Потому и здесь фокус может получиться.
Он по-прежнему смотрел в сторону бараков, внимательно следя за мелкими понурыми фигурами арестантов.
– Но, боюсь, лично для нас последствия захвата новых территорий будут не самыми веселыми, – наконец произнес он.
– Что ты имеешь в виду?
– Лагерь, – коротко ответил он, – новые территории – новые узники. А мы и со старыми-то с трудом управляемся.
Стоило признать, что тут Франц был прав без всяких оговорок. Во время летних рейдов криминальной полиции в лагеря хлынули тысячи асоциальных элементов. Бараки трещали от поганых попрошаек, нищих, бродяг и алкоголиков, отлынивавших от работы и даже не желавших искать ее, но лишь сосущих трудовые пособия. Некоторые из них, чертовы вольные художники, умудрялись всю жизнь избегать работы и нигде не числиться. Предполагалось, что их примет Бухенвальд, но там попросту не справились с таким валом, а потому часть этого сброда получили мы и Заксенхаузен. Бараки, перегруженные в пять, а то и в шесть раз, мигом стали рассадником заразы. Снабжение не справлялось: не хватало питания, воды, медикаментов, старую норму делили на всех. На исходе были также обувь и шляпы. В конце концов их попросту перестали выдавать, и заключенные возвращались с дневных работ на разбитых, окровавленных ногах и с горячими раздутыми головами. Вместе с поваленными деревьями валились и они, и впору было хоронить их там же, в вырытых ими траншеях для труб или в каналах, но вместо этого приходилось заставлять других заключенных тащить этих полумертвых доходяг обратно в лагерь. В бараках их раны воспалялись и загнивали. Эпидемии бушевали одна за другой, и естественная убыль резко пошла вверх. За последний год количество смертей увеличилось до невообразимых цифр: согласно последним отчетам – почти четыре сотни заключенных, что на фоне трех десятков за предыдущие полтора года выглядело ужасающе. И это только в Дахау. Я боялся представить, какими цифры были в неподготовленном Маутхаузене или Бухенвальде. И это был не конец: по слухам, полиция собиралась провести новые рейды против цыган, которых в Германии проживало больше двадцати пяти тысяч.
Тем временем газеты продолжали нагнетать истерию по поводу происходящего в Судетах, что, впрочем, совершенно не вязалось с тем, что Франц услышал по английской радиостанции: якобы в сентябре президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял в Градчанах лидеров судетских немцев и удовлетворил все их требования.
– Думаю, это поставило фюрера в тупик, – ухмылялся Франц, – и как теперь оправдать наши притязания на Судеты?
– Мне не нравится, что ты находишь это смешным, – честно признался я, – судетские немцы всего лишь жаждут вернуться в лоно рейха.
– Что значит «вернуться»? Они проживали на территории бывшей Австро-Венгрии, которая никогда не входила в состав Германии.
– Это условности. Ты знаешь, что я имею в виду.
– В одном ты прав, им доведется вернуться. Не пройдет и года. Англия не станет рисковать ни единым солдатом, чтобы предотвратить это. Даже не знаю, что это – признание высшей ценности человеческой жизни или трусость? – И он подмигнул.
Франц ошибся только в одном – в сроках. В конце сентября в результате соглашения, подписанного в Мюнхене[59], почти восемнадцать тысяч квадратных чехословацких километров стали германскими и почти три миллиона проживавших там граждан стали немцами. Вновь не произведя ни одного выстрела, Германия получила огромные запасы полезных ископаемых, сырья для химической и текстильной промышленности, а также богатые запасы древесины. Престиж фюрера и любовь к нему взлетели до небес.
Больше всего на свете мне хотелось увидеть в этот момент глупое лицо своего отца. Как и все трусы, он боялся войны, – так получи же завоевания без крови! Ни с одной немецкой головы не упал ни единый волос. Только истинный гений был способен на это. Всего за четыре года фюрер возродил из пепла сильнейшее государство Европы. Это была победа не только над чехами, но, что важнее, над англичанами и французами. Это был разгром Запада новой формации. Дахау трясло от восторга.
– Спеклись островные обезьяны. Чемберлен[60] – наш парень!
– Говорят, во время переговоров он боялся сказать фюреру даже слово поперек.
– Неправда, заикнулся о компенсации чехам, да фюрер быстро заткнул ему рот.
– Какой еще компенсации?
– Чехи, которые хотят покинуть Судетскую область, не имеют права забирать с собой ни скотину, ни какую-либо собственность. Весь их скарб и ценности должны остаться в Судетах. Так они завопили, что без компенсации уйдут нищими.
– Раньше надо было думать. Пусть теперь благодарят собственное правительство.
– Некого благодарить. Бенеш уже подал в отставку и улепетнул в Англию.
– А что ему еще делать! – хохотали в казармах.
– Говорят, Бенеш бежал, потому что боится за свою жизнь.
– За языком надо было следить. Вспомни, что он нес по радио: «Сегодня чехи, завтра придет очередь других», – противным голосом передразнил Карл. – Фюрер ясно дал понять, что Судеты – наше последнее притязание в Европе.
– Ты невнимательно изучал священное писание, Карлхен, – иронично заметил Франц.
Карл вопросительно уставился на него.
– Какое еще писание?
– Единственно истинное в нашем рейхе, в наших жизнях и наших головах. В своей «Борьбе»[61] фюрер ясно описал планы, которым пока он следует неукоснительно.
Уже поздно ночью я достал из-под матраса потертый красный томик и начал читать при скудном освещении ночной лампы, беззвучно шевеля губами над текстом, знакомым до боли, который когда-то выделил карандашом. Вскоре я опустил книгу и посмотрел в темноту перед собой. Только безыдейные и слабоумные люди могли полагать, что государственные границы на этой земле являются чем-то навеки незыблемым и не подлежащим изменениям. Все они временны. И лишь ждут очередной борьбы за свою переделку, поскольку завоевание территорий одним народом вовсе не обязывает другие народы к тому, чтобы навсегда признать этот факт. Это лишь демонстрирует, что завоеватель в данный момент был достаточно силен для этого завоевания, а остальные были достаточно слабы, чтобы это допустить. А потому восстать против нынешних границ – наше законное право, дарованное самой природой и законами человеческого бытия. И, пожалуй, не только право, но и долг великого народа перед своими потомками.
Я внимательно разглядывал темноту. Таков наш путь. Путь великого народа.
– Слышали про Эйхмана? Видать, носатик-то не такой и дурак, а?
Мы торопливо поглощали обед, когда к нам подсел Штенке. Наши вопросительные взгляды говорили о том, что мы не слышали про «носатика». Штенке просиял, радуясь возможности сообщить новость первым.
– Встретил в Мюнхене своего приятеля Эрвина, он только вернулся из Вены. Говорит, нашего носатика сам Гейдрих заприметил и поставил его во главе какой-то особо важной комиссии, заведующей еврейской эмиграцией. Теперь только через унтерштурмфюрера Адольфа Эйхмана… унтерштурмфюрера! – Штенке поднял указательный палец, выделяя последнее слово. – Только через него эти собаки могут получить разрешение на выезд из Австрии. Оставив свои денежки, конечно! – Штенке подмигнул и расхохотался.
Последнее обстоятельство показалось ему особенно забавным.
– Наш Адольф зорко следит, чтобы еврейские шкуры ничего с собой не увезли, и себя, безусловно, не обижает. Эрвин говорит, денег у него куры не клюют, живет с шиком в настоящем дворце, которым раньше владел богатенький еврей. А я что думаю, все правильно делает наш Адольф, тут бы любой брал, еврея не грех обобрать, наоборот, там зачтется. – Штенке ткнул пальцем в небо и снова хохотнул.
– И что, многие уже обратились в эту комиссию за разрешением на выезд? – поинтересовался Франц.
– Эрвин говорит, берут штурмом. Сколько их там в Вене? Почти двести тысяч было, так, считай, половина уже смылась.
– И все оставляют свои капиталы? – Если честно, я был удивлен. – Это ж сколько получается…
Штенке даже по столу ударил, довольный произведенным впечатлением:
– А я о чем! Говорю же, наш носатик оказался не таким уж и дураком. Только подумай, сколько от этих капиталов прилипло к его ручонкам! Под ним ведь теперь весь отдел еврейской эмиграции в Австрии! Эх, и зря я донимал его за огромный нос.
Радости в его голосе поубавилось. Он отковырнул вилкой кусочек мяса, но отправить в рот не успел.
– Ни за что не поверю, что еврей по доброй воле расстанется со своими капиталами. – Карл отрицательно покачал головой.
Штенке опустил вилку и пожал плечами:
– Их там заставляют ползать по улицам на четвереньках и драить голыми руками мостовые да общественные сортиры. Эрвин говорит, повальная эпидемия самоубийств, по пять евреев в день вешаются, а некоторые так и вовсе публично. Может, потому и соглашаются…
– Нам бы нечто подобное здесь провернуть, – усмехнулся Карл, – с польскими, о которых сейчас только и говорят. Слышали, их, оказывается, в Германии больше пятидесяти тысяч засело?
– Большинство из них родились в Германии и всю жизнь здесь прожили, – с сомнением проговорил Ульрих, – они ведь даже польского не знают.
– Родители этих выродков в свое время приползли к нам, – тут же грубо оборвал брата Карл, – они живут на нашей земле, едят нашу еду, носят нашу одежду, зарабатывают наши деньги, при этом паспорта сохранили свои польские, чтобы не платить лишних налогов. Типично еврейское поведение. Для них нет понятия родины, для них есть только понятие выгоды.
Штенке закивал, соглашаясь с Карлом.
– А теперь чертов сейм смекнул, что под шумок можно от них окончательно избавиться, и протащил свой декрет, – проворчал Штенке.
Это был тот случай, когда спорить со Штенке было глупо. Даже Франц промолчал. Польское правительство внезапно издало новый закон, согласно которому все поляки, проживающие за границей больше пяти лет, лишались гражданства. Все прекрасно понимали, кто эти «поляки, проживающие за границей» и чем это грозит Германии: через несколько дней они официально перестанут быть гражданами Польши, и обратно их не депортировать.
– Можно только поаплодировать пшекам: так нарядно избавиться от пятидесяти тысяч евреев одним махом, – безрадостно подытожил Штенке.
Я считал, что Польшу следовало поставить на место за такую свинью с евреями, подложенную Германии.
Вскоре, как и предсказывал Франц, в лагерь начал прибывать транспорт с наших новых территорий: весной – с политическими арестантами из Австрии, среди которых попадалась и крупная рыба уровня бургомистров, затем осенью – из Судетской области. А посему в Дахау затеялась масштабная перестройка. Начался снос старых фабричных зданий, вполне добротных и способных простоять еще не один год, но с одним значительным минусом – плохой вместительностью. На их месте планировалось возвести тридцать пять новых просторных одноэтажных сборно-щитовых бараков, каждый около сорока метров в длину.
– Весь сектор впишем в прямоугольник двести на сто метров, – объяснял специально приехавший из Берлина архитектор, водя указкой по большой схеме, висевшей на доске, – его мы обнесем рвом. Вот здесь будет возведено бетонное укрепление высотой не менее трех метров. В этих точках, как и ранее, будут размещаться наблюдательные вышки с пулеметчиками, однако мы добавим еще одну здесь и одну вот здесь. Впрочем, эта точка еще на утверждении у коменданта, но, думаю, он утвердит. Конечно же, по этой границе пройдет колючая проволока с током высокого напряжения. Как видите, побег из этого места категорически исключается. Попросту невозможно.
И он победоносно глянул на нас поверх крохотных очков-половинок.
– А с нашей зоной что? – спросил один из охранников.
– По желанию заказчика зона СС реконструируется лишь частично. Добавим складские помещения и, конечно же, новые здания для проживания. По нашему проекту жилой фонд будет расширен для проживания как минимум трех тысяч охранников.
Штенке присвистнул.
– Знатно расширяемся, – одобрительно кивнул он.
– Что-то будет, – шепнул мне Франц.
Очередная волна арестов прокатилась неожиданно. И волной этой накрыло почти двадцать тысяч тех самых польских евреев. Поначалу, пока их польские паспорта еще были действительны, Германия пыталась спешно депортировать их – переполненные вагоны и грузовики следовали на границу с Польшей один за другим, – но столкнулась с неожиданным противодействием другой стороны, которая не жаждала раскрывать объятия своим блудным, но пока еще сынам. Придираясь к самым незначительным мелочам в документах, польские пограничники в большинстве случаев отказывали в пересечении границы. Те, кому все же удавалось перейти границу, оказывались без средств, поскольку депортированным разрешалось вывезти из Германии не более десяти марок на человека. В Польше они селились в сараях, школах, больницах, библиотеках, на вокзалах и даже на конюшнях. В конце концов, испугавшись сумасшедшего наплыва, поляки окончательно объявили о закрытии границы в районе Збоншина, где на тот момент скопилось почти десять тысяч человек.
– Слышал, нашим пришлось гнать это упрямое стадо через границу хлыстами.
– Кой толк в этих усилиях? Когда они дошли до польской границы, оттуда выскочили поляки и погнали эту толпу обратно штыками. Говорят, так и метались до вечера между границами. Еще умоляли наших парней о сострадании и просили пустить обратно.
– Пусть пеняют на польское правительство, которое довело до этого.
– Умолять они умеют, конечно, их жалость к себе доходит до экстаза, – со злостью проговорил Карл, – презренный народ, трактует закон исключительно в свою пользу и выворачивает на свое благо. Еврей всякое действие будет воспринимать как террор и вопить о беззаконии и насилии на каждом углу, если это хоть как-то его заденет. Германия всего лишь пытается очиститься в порядке самосохранения, а они давай орать: «Царство террора!» Но когда они сами проворачивали свои позорные махинации, оставляя немцев без работы, без дома, без земли, без денег, без надежды на достойное будущее, – они бессовестно прикрывались правовыми нормами! И заявляли, что все их действия в рамках закона. И такая же бесстыжая свора юристов была на их стороне, потому что большинство из них вышло из этого же племени, а кто не их племени, так те давно и с потрохами куплены и сами уже ничуть не лучше евреев. Пришло время положить этому конец.
Ульрих исподлобья смотрел на брата.
– Да что ты с ними не поделил? – проворчал он тихо, надеясь, что младший брат не услышит его.
Но услышал Франц, читавший рядом газету.
– Избранность, – так же тихо ответил он и с усмешкой вновь уткнулся в газету.
Депортированные польские евреи зависли между двумя государствами. Теперь тем, кто не успел просочиться в Польшу, была одна дорога – в концлагерь.
11 ноября 1993. Клара
Лидия разглядывала старый четырехэтажный дом из серого кирпича. Она пыталась найти взглядом нужные окна – судя по номеру квартиры, два крайних окна слева. Оба были плотно зашторены. Она нажала кнопку домофона и представилась. Консьерж открыл. Лидия поднялась на третий этаж – так и есть, крайняя квартира. Она позвонила, но, не услышав звонка, постучала. Дверь открыли достаточно быстро.
– Звонок есть, просто тихий, – вместо приветствия проговорила хозяйка.
На вид ей было лет двадцать пять, не больше. Коротко стриженные волосы топорщились. Лицо округлое, приятное. От природы большие глаза были дополнительно густо подведены черным карандашом, отчего казались удивленно расширившимися. На ней была безразмерная майка, свисавшая чуть ли не до колен, и свободные спортивные брюки. Судя по ее виду, сегодня она не выбиралась из дома, а макияж, кое-где размазавшийся, был вчерашний.
– Я вам звонила, меня зовут Лидия Левиш, – на всякий случай представилась Лидия.
– Я поняла, больше никого не жду.
– Спасибо, что согласились поговорить со мной, Клара.
Девушка пожала плечами.
– Все равно придется. Нам всем придется, и мне, и папе, и Ангелике, которая на свою голову рассказала про того старика-соседа, верно?
Лидия кивнула.
– И все же спасибо, что согласились встретиться так быстро и без формальностей.
Клара прошла в полутемную комнату. Там девушка залезла на диван, поджала ноги под себя и натянула плед до самой шеи.
– Извините, я приболела. – Она кивнула на столик, на котором стояла чашка с чаем и сироп от кашля, рядом на глянцевой столешнице лежала грязная мерная ложечка.
– Я хочу задать несколько вопросов о Валентине.
Лидия вытащила свой кожаный блокнот, стянула тугую резинку и раскрыла его.
– Как вы можете охарактеризовать ее?
Клара пожала плечами:
– Нормальная. Ну, знаете, эти русские невесты… Когда отец сказал, что познакомился с одной из них через объявление, я отнеслась скептически, даже больше, я была против, отговаривала его, – призналась девушка, – но когда она приехала и мы познакомились, все как-то сложилось. Она мне даже понравилась. Душевная. Не меркантильная. К отцу относилась очень даже, ну, знаете, не так, как те особы, которым нужны только документы, чтобы их не выпроводили из страны. Порядок у него в доме навела, уютно стало, даже захотелось приезжать к ним. Готовит она вкусно. Когда я уезжала от них, она всегда мне с собой еды накладывала, ну, знаете, в такие пластиковые пищевые контейнеры, специально купила их для меня. И еще так, знаете, если горячее, то в полотенце все обернет, чтоб подольше теплым оставалось. А деньги у папы только поначалу брала, а когда все документы были готовы, то сразу начала подработки искать, чтобы не жить за его счет. С первой зарплаты купила нам подарки: ему какую-то бутылку дорогого коньяка, а мне… не помню, ну, что-то тоже неплохое.
Лидия держала в руках карандаш, но ничего не записывала, лишь внимательно слушала. Когда Клара замолчала, она вновь спросила:
– Валентина никогда не вела себя странно? Вы никогда не замечали у нее склонности к неоправданному насилию?
Клара даже не задумывалась. Тут же отрицательно замотала головой.
– Говорю же, нормальная она была. С ней всегда интересно было. Она, кстати, очень хорошо знает русскую литературу. Она ведь там, у себя, на преподавателя училась. Помню, мы долго смеялись над ее впечатлением о «Войне и мире» на немецком. Некоторые фразы из книги она с таким непередаваемым выражением повторяла, говорила, что это издевательство над Львом Николаевичем – воспроизводить так грубо его текст, но воспроизводила. Как-то по весне к ним в дом повадился уличный кот, Валентина его подкармливала и обращалась к нему исключительно «герр Болконский». Ну, знаете, выглядывала в окно и так смешно и торжественно объявляла: «Герр Болконский пришли, пора кормить». Вспомнилось почему-то.
Клара усмехнулась и потянулась за чашкой. Сделав большой глоток, она плотнее укуталась в плед.
– Почему они расстались?
Клара снова пожала плечами.
– Это не мое дело, вам лучше спросить у отца, могу только сказать, что расстались они спокойно, без скандалов. Достойно, в общем.
– Валентина когда-нибудь рассказывала о своих родственниках?
Клара задумалась. Вновь потянулась к чаю, сделала глоток и как-то неопределенно покачала головой.
– Я не спрашивала, а сама она не особо распространялась. Мать, кажется, у нее еще жива. Про отца ничего не знаю. А, – вдруг вспомнила Клара, – бывший муж имеется, про это она сразу отцу сказала, еще во время переписки. Ну, знаете, такие вещи сразу оговариваются умными людьми, чтобы потом сюрпризов не было. А Валентина неглупый человек. Она, знаете, в этом плане оказалась для меня полнейшей неожиданностью. Поначалу я увидела простую, тихую и забитую женщину. Типичная замученная деревенская в поисках лучшей жизни. Но потом я поразилась, сколько в ней скрыто. Мне редко доводилось встречать такого начитанного и умного человека. Глубина ее мыслей… Знаете, я ведь и сама не дура, но не всегда могла дойти до того, что она говорила. И понимала не всегда с первого раза. А она терпеливо объясняла, подталкивала к зерну, понимаете? Потом казалось, вроде и просто всё. Но без того ее толчка… Не знаю, как объяснить.
Но Лидия хорошо понимала, что имела в виду Клара, потому что уже и сама начала замечать, что Валентина не так проста, как показалось ей в первую встречу.
Лидия немного подалась вперед:
– А про тетку она ничего не говорила?
Клара озадаченно посмотрела на нее, но тут же сообразила:
– Вы про ту, о которой в газетах писали? Нет, – Клара вновь отрицательно покачала головой, – про нее Валентина ни разу не упоминала. Я только из газет-то и узнала, что у нее кто-то из семьи пропал в концлагере. Хотя странно, это не принято скрывать, наоборот, сейчас чтут память, опять же, могла рассчитывать на какие-то выплаты, правда ведь? Я слышала, если восстановить документы через архив, то можно, ну, знаете…
•••
Я молча наблюдал за сумасшедшей давкой во время раздачи завтрака. Спотыкаясь и толкая друг друга, сине-белые полосатые робы елозили вокруг раздатчика, пытаясь урвать свою пайку хлеба, поскорее впихнуть ее в свой коротко остриженный череп и залить холодным чаем, разбавленным настолько, что вода была едва потемневшей от заварки. Десятью минутами ранее они так же толпились в уборной, пытаясь отхватить пригоршню холодной воды, чтобы плеснуть в свои вытянутые серые лица. Их заострившиеся физиономии по форме стали напоминать винкели[62] на их же груди, только в тех кусках ткани было больше цвета. Винкель очерчивал не только контуры их лица – его цвет определял их личность, их исходное «я». Красное «я» – политические, прежде всего коммунисты, социал-демократы и прочая накипь людская, попадавшая под определение «враги государства», раньше самая многочисленная группа, но позже передавшая пальму первенства другому цвету, черному. Черное «я» – асоциальные, арестованные в ходе уличных облав. Фиолетовое «я» – иеговисты, проклятые небесные шуты, истово верившие в свои мифы и здесь, а на деле обычные трусы, отказавшиеся служить на благо своей родины. Каким-то невероятным образом они умудрялись даже здесь распространять ненавистную вонь ладана и обращать в веру других заключенных. Многие из этих смиренных райских птичек оказались здесь, потому что не желали вскидывать свои немощные руки в партийном приветствии или потому что отказывались пускать свое такое же слаборукое потомство в гитлерюгенд. Зеленое «я» – уголовники: взломщики, грабители, карманники, скупщики краденого, профессиональная преступная прослойка, заполонившая лагеря после летних рейдов прошлого года, свиньи, невосприимчивые ни к каким наказаниям и думающие исключительно о побеге. Розовое «я» – арестованные за гомосексуализм, падаль, которую презирали даже другие заключенные. В отличие от Штенке, нередко избивавшему их по самому чувствительному, мне даже прикасаться к ним было противно. Желтое[63] «я» – евреи, медленно, но верно теснящие всех остальных… Лагерь должен был перевоспитать все их «я» и сделать одного цвета, единственно верного, – цвета нацизма.
Покорно опустив свои глазастые треугольники к земле, они утекали на «луг» для переклички.
– Наш приятель Эйхман издевается, – покачал головой Карл, глядя на очередную партию, которую гнали от главных ворот, – под его евреев уже впору целый лагерь выделять. Только за этот месяц три транспорта – полторы тысячи голов.
Охранники подгоняли вновь прибывших винтовками.
– Пшли! Радуйтесь, свинины вам здесь не предложат, хоть тут будете честны перед своим Богом! – раздавались крики из охранного сопровождения.
Арестанты испуганно жались друг к другу, друг о друга же спотыкались, падали, тут же получали удар сапогом или прикладом, вскакивали и неслись дальше, даже не думая подбирать уроненную шляпу, очки, сумку или шарф. Все это предстояло убирать рабочей команде.
– Это не предел. Парни из сопровождения слышали, как Эйхман грозился отправить нам почти пять тысяч венских евреев, – сказал Ульрих, – понятия не имею, где мы будем их размещать.
– Он же наладил процесс отправки их в другие страны! Так какого черта они здесь? Или их скаредной еврейской душонке легче загреметь в концентрационный лагерь, нежели оставить хоть что-то материальное по доброй воле?! – возмутился Карл. – А я ведь говорил вам. От них требовалось только одно – оставить свою собственность и проваливать из Германии куда душе угодно.
– Ходят слухи, – проговорил Франц, – что с лавочкой Эйхмана не все так просто. Говорят, распоряжение придержать их, – он кивнул на еврейских заключенных, – идет от самого рейхсфюрера.
Я покачал головой:
– Ульрих прав, один Дахау не справится с таким валом, как ни расширяйся. Придется и другим распахнуть свои ворота для этой желтой нечисти.
Чтобы прояснить ситуацию, я написал Эйхману, особенно, впрочем, не рассчитывая на ответ, но, к моему удивлению, он ответил весьма пространно.
«…Ну что ты, какой дворец? Картина сильно приукрашена, мой друг. Обычный особняк, который принадлежал одной из ветвей семьи Ротшильд. Здесь мне выделили одну небольшую комнату, да и в той был один лишь письменный стол, по поводу стула пришлось хлопотать дополнительно, но я не жалуюсь. В кои-то веки мне по душе то, что я делаю. Хотя, признаюсь тебе честно, Виланд, начиналось все не так радужно. Когда я приехал в Берлин, меня ожидало жестокое разочарование. Представь, я мечтал служить в охранном отряде рейхсфюрера, ездить с ним по торжественным мероприятиям и митингам, а вместо этого меня отвели в огромный темный зал, где велели привести в порядок картотеку каких-то вольных каменщиков, о которых я тогда никакого понятия не имел вовсе. Мой непосредственный руководитель сидел в том же зале – полуглухой профессор, служивший еще при царе в Киеве. Веришь или нет, этот богомол с клиновидной бородкой имел звание штурмбаннфюрера исключительно за какой-то опубликованный труд по истории масонства. Я думал, что хуже этого назначения уже и быть не может, но глубоко ошибался, мой друг. Через некоторое время меня перевели из картотеки в музей, собственно, тоже посвященный масонам, будь они неладны. В него свозили масонский хлам со всей Германии: какие-то кожаные фартуки, печати, кубки, медали, письма, книги, картины. Я занимался описью и регистрацией этого мусора и уже смирился с мыслью, что буду окончательно похоронен под этой рухлядью, как вдруг в наш музей неведомо каким ветром занесло унтерштурмфюрера Мильденштайна. Он прохаживался между стендами, а я подробно рассказывал ему про экспонаты, до того и сам не подозревая, как много масонской чепухи отложилось в моей голове к тому времени. После нашей экскурсии Мильденштайн сказал, что в главном управлении СД[64] он организовал новый отдел – "евреи", и неожиданно спросил, не хочу ли я перейти к нему. Думаешь, я размышлял? Да я готов был сию же секунду уйти вместе с ним из того чертова музея куда угодно, лишь бы подальше от этих кубков и фартуков. И знаешь, какое первое задание я получил? Оно тебя удивит. Мильденштайн поручил мне изучить "Еврейское государство" Теодора Герцля, того самого, возмущенного приговором Дрейфусу[65]. Дело-то яйца выеденного не стоило, любому было понятно, что шпион из Дрейфуса – как из меня кухарка, однако пользу оно нам оказало неоценимую. Да вот хотя бы тем, что натолкнуло Герцля на правильные мысли. Никогда не думал, что скажу подобное, но истина в том, что сионизм и национал-социализм имеют много общего, а именно единые цели. Тебя это удивляет, я поясню. Этот народец жаждет наконец получить свою землю, осесть на ней, жить спокойно, процветать и плодиться, и если так посудить, то это совпадает с программой национал-социализма. Они хотят уйти на свою землю, мы хотим от них избавиться. Все просто. И тогда меня осенило, Виланд, именно в этом и кроется причина того, что еврею, в отличие от немца, который трудится для процветания своей страны, не присуще чувство любви к родине. Ее у еврея попросту нет! Еврей – существо интернациональное, потому и действует исключительно в интересах личного обогащения. Эти мысли я структурировал в виде небольшого конспекта, и, веришь ли, его издали как служебный циркуляр! Им теперь пользуются в СД. Не чета масонской возне, как видишь. Все это настолько занимательно, что я по доброй воле с головой окунулся в изучение международного современного сионизма и ортодоксального иудаизма. Даже приобрел учебник древнееврейского Самуэля Калеко, чтобы когда-нибудь читать "Хайнт"[66] без перевода. Первым делом я наладил связь с СД на местах и с полицейскими службами: любая мало-мальски интересная новость, касавшаяся еврейских дел, стала попадать ко мне на стол. И тогда мне наконец-то открылось все противоречие сложившейся ситуации: кругом кричали: "Евреи, прочь!", но ничего для этого не делалось, более того, когда я копнул глубже, оказалось, что, наоборот, все делается для того, чтобы воспрепятствовать их эмиграции. Еврей, желающий уехать, получает одно свидетельство, потом обивает пороги за другим, затем торопится за третьей справкой, но, когда она у него на руках, оказывается, что первая бумажка уже не действует, срок годности у нее вышел, а таких бумажек ему нужно получить целую кипу. Вот и выходило, что евреи вроде бы и не против отчалить, но чиновничье отродье, которое везде одинаково, совало им палки в колеса самыми тошнотворными бюрократическими уловками: "Вот здесь у вас запятой нет, а вот здесь название неправильно написано, увы, не можем принять, отказ, следующий…"
Но теперь у меня развязаны руки. Здесь, в Вене, я сразу же наладил дело по одному простому принципу – все, что на пользу эмиграции евреев, то разрешено. Тут, конечно, тоже пришлось преодолеть множество препон, в первую очередь – самодурство руководителей общин. Я, видишь ли, наладил работу не только с местными властями, но и с представителями крупных еврейских общин, которых убедил спонсировать депортацию, а именно: богатые евреи должны субсидировать отъезд бедных. Но они окончательно спятили, устанавливая собственный курс валют! Даже в такой ситуации они пытаются и, что немаловажно, умудряются наживаться – и на своих, которые пытаются уехать, и на нас, которые этому способствуют. И мне, представь себе, приходится с этим мириться! А иначе мы никак не избавимся от этого сброда. Сейчас у меня в разработке потрясающая идея. Уверен, в Берлине ее примут с радостью (или я просто откажусь работать в этих условиях, когда исполнение зависит от факторов, на которые я элементарно не могу влиять). Эта идея в тысячу раз упростит процесс эмиграции. Я собираюсь отправить запрос во все необходимые ведомства: гестапо, валютный отдел, налоговый департамент, министерство финансов и иностранных дел, полицайпрезидиум и прочие, чтобы они прислали по одному представителю в наше управление по эмиграции. Этого будет достаточно, каждый станет винтиком одного механизма – эмиграционного конвейера. Только представь, все в одном здании, все движимые единой целью, все безотказные. Пришел еврей, обошел все кабинеты, везде быстро получил свои справки со всеми необходимыми печатями, а к вечеру уже может паковать чемоданы вместе со всем своим семейством, и adiós. Вот что значит слаженная работа всех служб! И я налажу ее, будь уверен. Налажу, несмотря на то что мне все мешают. Тот же штрейхеровский "Дер Штюрмер"[67] буквально топит меня, призывая, чтобы все европейские страны закрыли свои границы и не впускали евреев даже при наличии денег, которые я с таким трудом выбиваю для их депортации. И куда мне их девать, согласно логике этого писаки?! Мне передали, что в Дахау уже недовольны тем, что я отправляю столько партий, но, поверь, это лишь малая горстка того, что вы могли бы от меня получить. Берлин требует результата, уж простите…»
– Он сам ведет себя как типичный еврей, постоянно жалуется на свое существование, при этом отлично себя чувствуя. – Франц быстро пробежался глазами по письму. – Друг Штенке говорил, что Эйхман лично отправляет венских евреев за границу, чтобы они выбивали деньги для его так называемых эмиграционных фондов. Те привозят валюту, а она даже не подлежит сдаче в валютное управление! Ушастый и на это выбил разрешение. Кто-то говорил, что один американский комитет помощи выделил почти сто тысяч долларов на организацию депортаций. Одному черту известно, какие там суммы крутятся и сколько из этого прилипло к ручонкам Эйхмана. Он пишет, что вынужден прогнуться под курс валют еврейской общины, а я слышал, что евреи продают эту валюту по тому курсу, по которому указывает наш Адольф, и курс, говорят, грабительский: за тысячу фунтов, которые в банке стоят двенадцать тысяч марок, евреи должны платить тридцать, а то и все сорок тысяч. И они будут платить, поскольку ни одна страна не пустит к себе нищих евреев[68]. Так что не вижу, чем Эйхман отличается от остального «чиновничьего отродья», как вот он тут пишет, и от тех же евреев в лучшие для них времена.
Тоскливое понимание озарило меня.
– При таких раскладах эмигрировать сумеют немногие.
Я уставился на строящиеся невдалеке бараки.
Буквально за лето число евреев в лагерях выросло ровно в десять раз. Теперь эту массу обвиняли в незаконном пребывании в стране, следом подтянулись статьи за бродяжничество, сопротивление власти, хищения и укрывательство капиталов. Хотя, по мне, для сокращения бумажной волокиты я бы объединил это все в одну статью – еврейство. Везли еврейских врачей, которые, невзирая на новые правила, продолжали лечить арийцев, еврейских коммивояжеров, пытавшихся продать что-то арийцам, евреев, давших подписку о том, что покинут Германию, но оставшихся в рейхе, евреев с немецкими именами, которые отказывались использовать дополнительное имя (Израиль или Сара) для идентификации. Последние, целиком ассимилировавшиеся, не отличавшиеся от рядового немца ни одеждой, ни традициями, особенно злили охранников, так как без желтой звезды невозможно было определить их национальную принадлежность.
Выходных у нас не было уже давно, смены шли сверхурочно. Из-за огромного наплыва заключенных процедуру приемки сократили, и о соблюдении положенных мер никто уже не заботился: побыстрее бы принять, обработать, сдать и отправиться спать. Но нам, по крайней мере, еще было где размещать арестантов. Другие лагеря оказались менее готовы к такому валу. В одном Бухенвальде, где излишки приходилось размещать в сараях для скота прямо на соломе, за лето скосило почти сотню евреев, – правда, стоит отметить, что если своих заключенных мы отправляли прохлаждаться на торфяниках и постройках дорог, то бухенвальдские работали в каменоломнях, – в итоге Эйке даже распорядился о строительстве крематория прямо на территории Бухенвальда, чтобы охранникам не приходилось постоянно возить трупы в Веймар.
…Я промок до нитки, но времени на то, чтобы сменить одежду, не было – прибыла очередная группа. Свое раздражение мы срывали на арестантах, ведь это из-за них нам приходилось торчать сейчас под дождем и возиться с ними уже затемно.
– С этим что?
– Украл документы умершего немца и по ним получил разрешение на работу, – сверившись с сопровождением, произнес Штенке, – старая еврейская свинья!
И он отвесил пожилому еврею звонкую оплеуху. Пошатнувшись, тот съежился и не нашел ничего лучше, как попытаться оправдаться:
– Я не крал. Я их честно купил, я заплатил все деньги, что у меня оставались, – охрипшим голосом пояснил он и посмотрел на Штенке с надеждой на понимание.
Я чувствовал, как мое раздражение перетекает в откровенную злость от подобной глупости и наглости.
– Ничего святого для вас нет! – И Штенке еще раз изо всей силы ударил еврея по лицу.
На сей раз тот не устоял и завалился на бок, очки его отлетели в сторону. Пока он пытался нащупать их на земле, Штенке подошел и торжествующе раздавил их сапогом, подгадав так, чтобы под твердый каблук попали и пальцы арестанта. Тот взвыл от боли и попытался выдернуть руку, сделав себе только хуже.
Штенке нагнулся и прорычал:
– Радуйся, здесь все легко и просто. Отныне ты не в ответе за свое никчемное существование. Мы за тебя решаем, свинья, что тебе носить, что тебе жрать, что тебе делать, что тебе думать, когда умирать. Тебе просто надо исполнять.
Все еще стоя на четвереньках, арестант вымученно смотрел на Штенке подслеповатыми глазами.
– Но я… я не крал, – совсем тихо прошептал он. – Я просто хотел работать и кормить свою семью, – бормотал он, но на него уже не обращали внимания.
– Следующий, с этим что?
– Превентивный арест.
– Этот?
– Подделка паспорта.
– Этот?
– Арест в назидание, вернулся из эмиграции обратно в Германию.
– Моя жена так и не сумела получить разрешение…
Торопливая попытка объясниться была тут же прервана звонкой пощечиной Штенке.
– Могу я оставить хотя бы паспорт? Как же я удостоверю свою личность без него? – вздумал вопрошать один из арестантов.
– Кто сказал, что ты личность, грязная свинья? – Штенке со злостью посмотрел на него.
Я с трудом подавил зевок. Неожиданно раздался приказ открыть ворота – прибыл еще один грузовик с заключенными. Я измученно чертыхнулся. От усталости я едва стоял на ногах, да и остальные парни были не в лучшем состоянии. К счастью, приближалось девятое ноября – очередная годовщина Пивного путча. В этом году дата была знаковая – пятнадцать лет, шумные торжества были запланированы по всей Германии, а значит, нам все-таки светил долгожданный выходной. И, едва дождавшись его, я тут же направился в Мюнхен, чтобы первым делом навестить Лину.
Лина Фольк была девчонка что надо. Она привлекла мое внимание во время одного из праздничных парадов, которые были устроены по всему рейху в честь приезда Муссолини. Утонувший в восторженных ощущениях от масштабного нацистского шествия, я не сразу заметил пару смешливых глаз. Их обладательница откровенно насмехалась над моими эмоциями. Впрочем, проучил я ее довольно быстро. Уже через час она постанывала то ли от боли, то ли от желания в дешевой гостинице. Покончив с делом, я встал и тут же принялся натягивать форму. Лина с улыбкой поглядывала на меня. В тот момент я понял, что смешливость в ее глазах, которая поначалу разозлила меня, была для нее привычной. Ее глаза постоянно смеялись, даже когда ей было грустно или больно, порой это было так странно и нелогично, что у меня закрадывалась мысль о каком-то психологическом расстройстве Лины.
После эпизода в гостинице я, конечно, больше не планировал с ней встречаться, но неожиданно столкнулся с ней вновь у кинотеатра, куда мы выбрались с Францем и Ульрихом. Она была с подругами. Вечер мы провели все вместе. Я не собирался заводить постоянные отношения, но вдруг почувствовал, что после череды беспорядочных совокуплений мне хочется какого-то относительного спокойствия и постоянства. Лина идеально подходила для этой роли. Правда, судьба, словно издеваясь надо мной, наградила Лину сумасшедшей страстью к живописи. Своей болтовней о картинах она напоминала мне Дору. Счастье, что сама она не занималась этой пачкотней.
Вечером мы отправились гулять по городу.
– Теперь в местных музеях ты не найдешь настоящего искусства, Виланд, ни Гоген, ни Матисс, ни Пикассо, ни Сезанн, ни Кокошка – никто не угодил ему. Пропали почти все полотна, – рассказывала Лина, – ты должен сам все увидеть.
И она потянула меня в новое здание песочно-коричневого цвета, мимо которого мы как раз проходили.
Это был Дом немецкого искусства. От меня не укрылось легкое презрение, сквозившее в глазах Лины, пока мы рассматривали картины. Она водила меня из одного зала в другой, рассказывая о работах, висевших на стенах.
– Теперь в почете Грютцнер[69] со своими ожиревшими монахами в винных погребах. Подражателей не счесть. Посмотри на эти картины, идеальное изображение жизни степенных бюргеров, добропорядочные пейзажи, филистеры. И он, Виланд, – самый главный мещанин нашего времени, с невероятно дурным обывательским вкусом.
Я мягко сжал ее горячую ладонь, призывая понизить голос, но Лина уже была захвачена своими эмоциями:
– Эти работы ничего не несут, они пусты. То, что было здесь раньше, теперь лежит в подвале, отбракованное. Это касается не только художников, Виланд. В школах сейчас заставляют изучать литературные творения Карла Мая[70] вместо Гёте и Шиллера. Читать нечего, в библиотеках и магазинах не допросишься ничего сто́ящего. Теперь все тексты проходят через министерство пропаганды и выходят оттуда выхолощенными, пустыми, безжизненными, блеклыми, как суп, который забыли посолить, поперчить, а заодно закинуть туда картофель, морковь и мясо. Ты слышал, говорят, Томас Манн[71] тоже эмигрировал? Ничуть не осуждаю. Он говорил, что задача писателя – быть судьей народа, а немецкий народ ныне судить запрещено. Указывать ему на огрехи – тем более. За всякую неприглядную истину, сказанную публично, ославят сумасшедшим или врагом и тогда отправят к вам за колючую проволоку. Народ разрешено только любить безоглядно, гордиться им и превозносить его над остальными. Но разве это верный путь, когда можно только панегирик петь или молчать, коль не согласен? Молчать, когда видишь, что наша чистая, прекрасная литературная речь вырождается, потому как чистая, прекрасная литература ныне под запретом. Остается слушать музыку. Слава богам, понять, что несут в себе голые звуки, не подкрепленные словами, скудоумным сотрудникам аппарата Геббельса не по зубам. Они могут изъять из книжных хоть все биографии Оффенбаха[72], Мейербера[73] и Мийо[74], но отличить их произведения от разрешенных в силу своего невежества совершенно не способны.
– Это евреи?
– Композиторы, – громко произнесла Лина, перечеркивая этой фразой мой вопрос.
– А чем Май плох? – только и сумел выдавить я, оглядываясь, чтобы убедиться, что рядом никого не было.
Лина с едкой горечью усмехнулась:
– Не Май плох, а Гёте и Шиллер слишком грандиозны. Прочувствуй это. Я не хочу принизить другого, я лишь хочу сказать, сколь велико то, что мы теряем… позволяем отбирать у себя.
Она еще раз окинула грустным взглядом стену, увешанную полотнами Грютцнера, и потащила меня прочь. Я был уверен, что мы наконец идем ужинать, но вместо кафе оказались в какой-то полутемной галерее на окраине города. К моему удивлению, посетителей здесь было гораздо больше, чем в Доме немецкого искусства. Возле некоторых работ так и вовсе было сложно протолкнуться. Глаза Лины загорелись.
– Только здесь осталась неплохая коллекция современной живописи. Посмотри, тут и экспрессионисты, и импрессионисты. Это Шагал, – восторженно, чуть ли не с придыханием проговорила Лина, остановившись около одного из полотен.
Я не знал, что сказать. Мне не хотелось расстраивать Лину, но простые пейзажи, увиденные мною в предыдущем заведении, понравились мне больше. Им не требовалось целого ряда пояснений, чтобы я мог понять их смысл. Зато то, что я видел сейчас, казалось мне плодом больного воображения неврастеника, которому нужна была помощь специалиста. Фигуры на этих полотнах были деформированы и уродливы. Лина словно читала мои мысли:
– Для того чтобы понять сложное, нужен разум. – Она внимательно посмотрела на меня. – Потому они называют это «вырожденческим искусством» и стремятся избавиться от него. Подобное искусство заставляет мыслить и развиваться, а им не нужны проницательные и думающие люди, такими сложно управлять. Поэтому они кормят нас этим убожеством в виде жрущих и пьющих монахов, взгляд на которых не заставит шевельнуться в мозгу ни единую извилину. Мир должен заботиться о художниках, которые способны на что-то великое, ведь они как дети. А что же мы? Мы попускаем, Виланд.
Я молчал. Она еще раз посмотрела на работу некоего Шагала, вызывавшую у нее восторг, и тихо добавила:
– Эту выставку скоро закроют.
Выйдя из галереи, мы направились в ресторан. Я быстро позабыл про картинные залы и предвкушал ночь, которую планировал провести с Линой. Она что-то говорила про нападки Геббельса на экспрессионистов, я рассеянно кивал, не отводя взгляда от ее перемазанных соусом губ, и вспоминал, какая она становится нетерпеливая и жаркая внутри, когда ее накрывает возбуждение. Она была чудо как хороша в своем легком и, откровенно говоря, довольно тесном голубом платьице.
– Но знаешь, что заводит фюрера более, нежели живопись? Архитектура. Он просто помешан на своих макетах, которые прячет в Академии искусств. Моя берлинская знакомая Анника спит с одним из инженеров бюро Шпеера[75], такой архитектор, слышал? Этот инженер ей рассказал, что там сконструировали макет целой парадной улицы во всех деталях, которую фюрер планирует воссоздать в будущем. Он изо дня в день любуется макетом со всех ракурсов, не позволяя никому ни глядеть, ни дышать на него без его ведома. Уверена, в своем воображении он уже торжественно вышагивает по той улице. Впрочем, они там теперь все помешаны на градостроительных фантазмах. Тот парень рассказал Аннике о проекте, который они разрабатывают сейчас для Геринга. Представляешь, здание размером с небольшой город, и в нем огромная парадная лестница… – Лина сделала паузу, смешливо глядя на меня, – по которой никто не будет ходить, потому как все будут ездить на лифтах! Лестница нужна, чтобы он… как бы это сказать, стоял на ней, смотрел вниз и плавился в собственной грандиозности, понимаешь? – И Лина громко рассмеялась, не стесняясь других посетителей. – Шпеера уже за глаза называют архитектором-парадником и главным декоратором цирка. На крыше этого шапито он должен устроить настоящий парк с бассейном, спортивными площадками, беседками, кафе и фонтанами. Отдельно Геринг заказал еще и площадку для фейерверков. Фанфарон. И после этого наш славный министр пропаганды старается уверить народ в скромности и простоте руководства партии. А впрочем, кто хочет – верит.
Каждый раз, когда Лина возмущенно всплескивала руками, ее грудь вздымалась под тонким платьем. Я даже не пытался скрыть голодного взгляда, которым буквально пожирал ее изгибы. Думал: еще мгновение, и я возьму ее на этом же столе на глазах у изумленного зала.
– Я слышал про это, – проговорил я все же, подавляя в себе желание, – мы занимаемся поставками материалов для этих «градостроительных фантазмов», как ты их назвала. Шпеер с Гиммлером уже договорились, что все необходимое будут добывать заключенные, в конце концов, не зря же им дармовой хлеб жрать.
Мне вдруг захотелось поразить Лину масштабами системы, в которой я работал. Чуть подавшись вперед, я продолжил:
– Рядом с карьерами специально открывают лагеря, два из них, Флоссенбюрг и Маутхаузен, уже работают. Мы командировали туда часть наших охранников, я лично занимался подготовкой, – добавил я как бы невзначай, но, к моей досаде, горделивые нотки все же проскользнули, – а в Ораниенбурге строится огромнейший кирпичный завод. Он станет самым большим в мире! Только представь, почти сто пятьдесят миллионов кирпичей в год на нашей рабочей силе, в десятки раз больше, чем на самых передовых предприятиях мира. Уже сейчас там при деле почти две тысячи заключенных. Даже новую железнодорожную ветку подвели. Это станет грандиозным проектом, Эйке теперь безвылазно там.
Лина задумчиво смотрела на меня:
– СС все делают с размахом.
Я снова подался вперед и тихо произнес:
– Пора бы тебе уже понять: за что бы мы ни брались, мы сделаем это так, что весь мир застынет…
– От ужаса?
Неудачная шутка Лины разозлила меня.
– От восхищения, – сухо завершил я. – Для СС открываются неплохие возможности в новой области, и это хорошо, так что я не вижу ничего из ряда вон в этих архитектурных преобразованиях. Германия преображается, заключенные при деле, СС имеет прибыль.
– Но эта прибыль строится на эксплуатации заключенных, ведь так? Вы распоряжаетесь ими целиком и полностью по своему усмотрению?
Я не мог понять ни по ее лицу, ни по ее тону, говорила ли она с осуждением, или ею руководило одно лишь любопытство.
– Не совсем, лагерные предприятия платят в казну до тридцати пфеннигов в день за каждого работающего заключенного, – осторожно проговорил я.
Лина ничего не ответила. Я вздохнул и наклонился еще ближе:
– Лина, это профессиональные преступники, убийцы, грабители, насильники и враги государства, сброд, которому самое место на каменоломнях. Да, там тяжелые условия труда, они долбят камни кирками до кровавых мозолей, таскают огромные блоки гранита до треска в спине, задыхаются от меловой пыли, при этом не имея позволения остановиться даже на секунду, чтобы перевести дух. Да, Лина, это тяжело, но иного эти звери не заслужили, ибо они – внутренний враг, а внутренний враг во сто крат хуже внешнего, так как трусливо бьет в спину и разоряет родное гнездо изнутри.
Я смотрел ей прямо в лицо. Она не отводила взгляда, не моргала, не хмурилась, не сжимала губы, на ее лице не отразилось никаких эмоций. Она просто слушала.
– Они ленивы, Лина, многие из них на воле понятия не имели, что такое честный труд. Это гноящаяся опухоль на теле общества рейха, которую необходимо либо вылечить, либо иссечь.
Лина откинулась на высокую спинку стула. Она не стала со мной спорить, лишь проговорила:
– Однажды я видела, как их гнали через город. Тощие, изнуренные, затравленные…
– Они умеют очень хорошо притворяться, – прервал я.
– Говорят, они гибнут десятками в лагерях.
Я чуть было не поправил ее, сказав «сотнями», но вовремя прикусил язык.
– У них остается возможность выжить, и она вполне реальная.
На сей раз Лина дала волю эмоциям:
– Возможность выжить? Вполне реальная? – переспросила она.
Произнесенное озадаченным, растерянным голосом, это действительно звучало не так, как должно было.
– Но разве выживаемость должна быть случаем или шансом, а не правом? – Она вновь непонимающе уставилась на меня.
– Давай сменим тему.
Когда мы вышли из зала, мои руки уже подрагивали от нетерпения. Я с трудом дождался, пока мы пройдем все фонарные столбы, и дал им волю, сильно сжав ягодицу Лины. Она даже не вскрикнула, лишь бросила на меня мимолетный взгляд и заторопилась вперед. До самого дома я не убирал руку с ее талии, теперь уже просто поглаживая ее. Лина открыла дверь, и мы проскользнули в ее квартирку. Она не стала зажигать свет, встала на цыпочки и поцеловала меня в шею, затем торопливо скинула плащ и начала расстегивать свое голубое платьице. Легкая судорога пробежала по моему телу, которое давно не имело женщины. Через несколько секунд Лина была уже раздета. Я смотрел на нее с приятным удивлением. Хотелось немедленно потрогать ее, стиснуть, погладить, понюхать, укусить, лизнуть, поглотить, все сразу, но неожиданно для себя я замер. Стоял и любовался очертаниями ее фигурки в тусклом свете уличных фонарей. Наконец я поднял руку и провел двумя пальцами по груди Лины. Она прикрыла глаза. Я сжал затвердевший сосок, затем проделал то же самое с другим. Лина чуть слышно вздохнула, но глаза не открывала. Я погладил ее грудь, затем нагнулся и несколько раз провел языком по соску, аккуратно очертил его, поцеловал, потом легонько вдавил его языком внутрь. Наконец-то тихий стон сорвался с губ Лины, и она открыла глаза. Взгляд ее был уже с поволокой. Теперь можно было. Я подхватил ее на руки и положил на кровать. Опустил руку вниз, не отводя взгляда от лица, и попробовал ее внизу двумя пальцами. Они легко скользнули внутрь. Я облизнул горячие мокрые пальцы, их запах ударил мне в голову. Больше я не мог сдерживаться. Я погрузился в Лину.
15 ноября 1993. Свидание № 3
– Клара злится на меня?
Стоя в углу комнаты, Валентина озабоченно поглядывала на Лидию. Она прижала руки к груди, крепко обхватив одну, сложенную в кулак, другой.
Поставив портфель у стола, Лидия опустилась на стул, на ходу подтянув узкую юбку выше.
– Мне так не показалось, – честно ответила она, – скорее озадачена.
«Впрочем, как и я», – мелькнуло в голове у Лидии, вслух она добавила:
– Клара до сих пор не может поверить, что вы способны на убийство. Вы ей нравились.
Валентина внимательно слушала. Подойдя к столу, она села напротив, уперлась локтями в металлическую поверхность и уткнулась лицом в ладони. Лидия не мешала, ей показалось, что Валентина плачет, но уже через секунду женщина отняла руки от лица – глаза ее были совершенно сухи. Она глубоко вздохнула и усиленно потерла лицо, словно только что пробудилась ото сна.
– Ужасно все вышло, – покачала она головой.
– Вам неловко перед Кларой, но вы не испытываете никаких угрызений совести перед семьей человека, которого удушили?
Сегодня Лидия решила быть жесткой.
Валентина удивленно посмотрела на своего адвоката и задумчиво приложила два пальца к губам, затеребив ими нижнюю. Она раздумывала над сказанным.
– Нет, пожалуй, что нет, не испытываю.
– Поясните, – Лидия пристально рассматривала Валентину, цепко держа ее взгляд.
Женщина, сидящая перед ней, не отвела глаза, она сама была заинтересована.
– Разве в них есть хоть капля правды, хоть грамм истины? В нем и то этого было больше… Его дети и внуки не знали о его прошлом, но и без прошлого он был для них обузой. Немощный старик, срущий под себя. А знаешь, что самое интересное? Срал он им назло. Он ведь еще нормальный был, вполне себе: и встать мог, и до туалета дойти, недержания не было, мог и потерпеть, если требовалось, но все равно отчаянно срал под себя, тужился до красноты и срал прямо в кальсоны, стягивал их и размазывал затем жопой прямо по простыням. Потом лежал, ждал, когда учуют, придут, сморщат нос, с отвращением начнут подмывать, тихо ненавидеть, проклинать его старость, немощность. Всё ждал.
– Чего ждал?
Лидия вдруг почувствовала, что напряжена, как струна.
– Вдруг повезет и кто-то из них сорвется.
•••
Где-то вдалеке проехала машина, судя по звуку мотора, это был грузовик. В сладком бессилии я лежал на боку, все еще пытаясь восстановить дыхание. Лина задумчиво смотрела в потолок. Вдруг прямо под окном раздались мальчишечьи крики:
– Сегодня Герберт – еврей! Бей Герберта, ату его, ату!
От неожиданности Лина вздрогнула. После каждого крика раздавался взрыв хохота. Постепенно звуки становились тише. Мальчишки умчались за «евреем». Я успокаивающе погладил ее грудь, окрашенную бликами уличного света.
– Всего лишь дети резвятся, – тихо прошептал я.
– Я видела, как некоторые, – также тихо прошептала Лина, – палками били других детей… еврейских. По-настоящему, не как сейчас. Их этому учат в гитлерюгенде?
Я вздохнул.
– Уверен, эти случаи единичны. Подумай о другом: гитлерюгенд объединил немецких детей всех сословий и вероисповеданий, они наконец-то узнали, что такое равенство. Ты знаешь, что творилось до этого в школах? В некоторых были даже туалеты, разделенные по религиозному признаку, – сюда могут сра… ходить дети католического вероисповедания, а сюда евангелического, здесь за обедом сидят богатые, а здесь бедные. А если богатый католик и бедный евангелист? Эти вообще были из разных миров. Раскол в нацию вносили уже на раннем этапе воспитания, в то время как наша сила в единении, Лина, и гитлерюгенд стал спасением в этом смысле. Он объединил и рабочих, и интеллигентов, нет теперь никаких различий, и никто не спрашивает этих детей, чем занимается отец или какого вероисповедания мать. Бок о бок пыхтят сын банкира и сын сапожника, разве такое равенство плохо? Теперь выделиться может всякий, ибо все они арийцы, и это главная, определяющая характеристика, которой достаточно для старта, далее все в их руках. В этом смысл гитлерюгенда – дав одинаковый шанс всем, выявить тех, в ком проявляются зачатки лидера от природы, а не по происхождению или по протекции родителя.
– А остальные? – заинтересовавшись, Лина приподнялась и оперлась на локоть.
– Остальные? В любом случае нужны и исполнители. Умеющие следовать приказу без лишних вопросов, безусловно, грамотные и физически развитые. Это ли не основной пласт силы любого государства? Будь уверена, в гитлерюгенде уделяют большое внимание спорту и военным играм. В итоге мы имеем целую толпу активных, сметливых и физически развитых подростков. На таком фундаменте можно заложить сильнейшую нацию в мире, Лина.
– Ты говоришь про равенство, – пробормотала она, – но они бьют еврейских детей, так как считают себя выше их.
Я снова протяжно вздохнул, меня начало утомлять, что Лина не понимала очевидных вещей.
– Я говорю тебе о внутреннем равенстве. Но нельзя спорить с тем, что доказано наукой. Мы действительно стоим качественно выше, чем другие расы. Если угодно, это научно обосновано и не вызывает сомнений. Мне жаль, Лина, что ты упорствуешь в своих ошибочных суждениях. Пойми, та жизнь, к которой мы движемся, станет возможна, только если мы исключим из нее тех, кто по природе своей не может стоять с нами на одной ступени. Другое племя, которое внедрилось в нашу жизнь, пожирая все лучшее, сотворенное нами, всегда будет подталкивать нас к расслоению, поскольку только в разделенном обществе они смогут паразитировать и извлекать выгоду. Когда-то несколько сотен еврейских банкиров отравило и извратило существование многомиллионного германского народа. Тебе этого мало? Ты хочешь повторения?
Лина снова откинулась на спину и уставилась в потолок. Я потянулся к ней и долго целовал, чтобы она, чего доброго, не вздумала задать очередной вопрос.
Проснулся я от шума на улице. Это были не крики, не машинные сигналы и не пьяные брожения, это был странный гудящий треск, идущий издалека и постепенно нараставший. Звук казался мне смутно знакомым. Стараясь не разбудить Лину, я выбрался из кровати и прошел в другую комнату, окна которой выходили на Рудольфштрассе. Здесь звук был громче. Я прикрыл за собой дверь и подошел к окну. И понял, почему шум казался мне знакомым. Ровно пять лет назад я уже слышал его. Тогда я точно так же стоял и завороженно смотрел, как горит Рейхстаг… Звук масштабного пожара – это нечто особенное. Это не треск и шипение костра, это особый стон гибнущего в пламени здания, которое слезно гудит, трубно завывая под аккомпанемент горячих всполохов. Это тяжелое, предсмертное дыхание дерева и камня, пузырящейся, неодушевленной боли металла. Когда светло, как в раю, и страшно, как в аду. В конце площади горела синагога.
Темное ноябрьское небо стало горячим от коптившего его пламени. Огромное круглое окно на фасаде, раскалившееся до предела, внезапно взорвалось, и тысячи осколков брызнули на мостовую. Синагога взвыла от огненного мучения, но никто не торопился унять ее боль. Пожарные были в полной готовности, но ничего не делали. Они стояли рядом и так же, как я, зачарованно смотрели на нее из-под блестящих касок, пребывая в каком-то выжидающем трансе. Я вдруг понял, что они лишь следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. С громким треском внутри синагоги рухнуло какое-то перекрытие, и высокий столп искр взметнулся из-под разрушенной крыши. Но здание выстояло.
Я посмотрел вдаль. Огненные всполохи виднелись повсюду. Сквозь треск слышны были крики людей и звон бьющегося стекла. Где-то заверещала сирена.
Я быстро оделся и выскочил на улицу. Навстречу мне из-за угла неслась группа парней с топорами и дубинками, они промчалась в сторону торговых рядов. Я побежал за ними. Дышать было трудно из-за едкого дыма и копоти, ветром разносимых по улицам. Под ногами трещало стекло. Пробегая мимо магазина с разбитой витриной, я успел заметить, что внутри кто-то копошился. Из следующей витрины выпрыгнули два юнца, оба держали тюки награбленного, настолько огромные, что они закрывали им обзор. Я споткнулся об обломок какого-то шкафа на пути. Повсюду валялись сломанная мебель, посуда, белье, части сломанных манекенов, разбитых товаров, разорванные пачки круп, обрывки газет, документов… Улицы Мюнхена превратились в разоренный ад. Меня глушили крики, визги, завывания, рыдания, но, что самое нелогичное, – смех. Во всей этой страшной какофонии звуков узнавался самый обычный человеческий смех. В этот момент я осознал, что не понимаю, куда и зачем бегу. Я резко остановился, и на меня тут же кто-то налетел.
– Эй, чего встал?!
Я обернулся и зло посмотрел на полного запыхавшегося мужчину. Разглядев мою форму, он ничего не добавил и, обойдя, помчался дальше. Я смотрел на его трясущуюся фигуру, которую вскоре заволокло дымом, и пытался понять, что происходит. Где-то совсем близко горел магазин; не выдержав накала, витрина лопнула, и ее осколки с треском вылетели на тротуар, я едва успел отскочить. Дышать стало невозможно. Увидев раскрытую дверь, я тут же нырнул в какое-то темное здание, пытаясь отдышаться. Из глубины дома раздались голоса.
– …Старую Ноэли выволокли на улицу и избили. Бросили во дворе и снова пошли в дом. А она за ними поползла.
– Зачем?
– В доме лежал ее больной сын, видать, хотела прикрыть инвалида собой.
– У нас в доме все разнесли. Все в щепки. Ни единой целой вещи. Все вдребезги.
– А мне еще трубы водопроводные зачем-то выломали, все затопило. Вода так и хлестала. Пока ползал перекрывал, хоть рожу от крови отмыло…
– Где обоснование этому? Справедливость, в конце концов. Ведь закон…
– Забудь о законе! Он умер в этой стране и похоронен вместе со здравым смыслом.
– Разве так можно, хоть какая-то законность должна…
– Замолчи, сказал!
– Замолчать? Но если будем молчать, к чему это приведет? Станет еще хуже.
– Куда уж хуже? Уже катастрофа. Смирись да отойди.
– И так отошли на самую обочину жизни.
– Отойди, говорю, я занавеси сниму. Обоссали, черти, все осквернили.
– Не понимаю, ведь они люди, руки, ноги, голова, дышат, видят, мыслят, в одежде ходят, приборами пользуются, не животные…
– А ты выйди на улицу да попроси, чтоб пояснили. Мигом в лагерь отправишься. Говорю тебе, молчи, а то проблем не оберемся.
– Но ведь неправильно не реагировать на это, Хаим. Как здравомыслящие…
– Ты совсем дурак? Смерти нашей хочешь?
Хлопнула дверь, голоса стихли. Я продолжал стоять, рассматривая темноту, поглотившую меня. Голова вдруг отяжелела, и затылок охватила тупая пульсирующая боль. Звуки словно расслоились, уличный шум был где-то далеко, звучал глухо, но какие-то страшные всхлипы буквально оглушали, усиливая боль в голове. Хотелось заткнуть уши, но я был уверен, что это уже не поможет. Я буду слышать эти хрипящие всхлипы, даже если оглохну. Я поднял руку и приоткрыл дверь слева от себя. Всхлипы стали слышны, как удары набата. Плакал старик кантор, распластанный по полу. Перед ним валялись изорванные свитки Торы, измазанные фекалиями.
Я развернулся и пошел прочь из чумного дома. Лучше задохнуться на улицах, охваченных пожарами, чем видеть того старика. И его слезы.
Поганые еврейские слезы, застрявшие в морщинах того, кто думал, что его не видят.
Когда я наконец добрался до Дахау, там творилось нечто невообразимое.
– Слышал? Об убийстве фом Рата[76] Гитлеру объявили прямо во время торжественного ужина в ратуше!
– Дожили, еврей убил немца!
– Говорят, фюрер тут же вместе с Геббельсом уехал на квартиру для секретного разговора.
– Не говори ерунды! Геббельс остался и лично призывал громить эту грязную еврейскую свору!
– Чушь! Ни к чему он не призывал! Геббельс заявил, что партия не унизится и не будет марать о них руки! То был народный гнев!
– Но полиция и пальцем не пошевелила, чтобы защитить их, а пожарные не тушили синагоги.
– Ну и что ж, по-твоему, надо было?
– Одних только окон и витрин побили почти на пять миллионов марок…
– Да, непорядок. Лучше бы давили самих евреев, чем портили ценное имущество!
– Они, безусловно, заслуживают наказания. Но громить витрины и гнать голых побитых евреек по улице… Привязывать к столбам и увечить их… Подобные действия… боюсь, это равняет нас с бандитами.
– Чушь! С собаками по-собачьи!
– Говорят, они уже требуют страховые выплаты за понесенный ущерб.
– Но ведь по закону страховые компании действительно обязаны покрыть его.
– Да эти компании попросту разорятся, если пойдут на это!
– Но по закону…
– Фюрер – закон! Будет так, как он скажет.
– Какие еще страховые выплаты?! Это евреи должны собрать миллиард марок искупительного взноса, что, никто еще не слышал?
– Может, теперь они наконец поймут, что им здесь не место.
– Нужно полностью отделить этот проклятый народ от нас. Пусть знают, что за кровь немца будет отвечать не только тот, кто поднял свою руку, но все их чертово племя. Теперь мы в своем праве.
Экстренный выпуск «Фёлькишер Беобахтер», посвященный убийству фом Рата, переходил из рук в руки. Карл в столовой громко зачитывал выдержки из речи Геббельса. Закончив, он опустил газету и проговорил:
– Этому идиоту следовало стрелять в польских дипломатов, ведь это Польша отказалась принимать его драгоценную семейку обратно.
– Верно, весь этот бардак в Збоншине полностью на совести Польши. Они вознамерились единым махом избавиться от своих же евреев, сохранив при этом лицо, – сказал Штенке, – а теперь евреи возмущены, поляки возмущены, весь мир возмущен. А почему никто не возмущался, когда изгоняли наших из Восточной Пруссии после Версальского договора?! Почему мы должны были это принять и проглотить, не вопя о несправедливости?
– Это все так, но куда им теперь податься? – неуверенно проговорил Ульрих. – Никто их не принимает, все страны закрыли свои границы для них.
– Вот именно! – всплеснул руками Карл. – Весь мир добрый, толерантный, кричать о притеснениях горазд, но принять их у себя – вот уж нет! Ни одна страна не торопится дать этим «гонимым и несчастным» пристанище. Все чураются их, как чумы. Так почему мы должны держать этот сброд у себя? Кормить их? Позволять обогащаться за наш счет? Еще чего! Немецкий народ сделал правильные выводы.
– Так куда им податься? Всех в лагере не поместим.
Карл недовольно посмотрел на брата.
– Это не наша забота. Пусть валят на Мадагаскар. Да только туда они не хотят, им цивилизацию и комфорт подавай.
– Мадагаскар – чушь собачья, – проговорил я, – у нас нет столько судов, чтобы переправить туда всех евреев, да и сомневаюсь, что остров настолько велик, чтобы вместить…
– Пожалуйста, есть Палестина, – перебил меня Карл.
– Пока Палестина под англичанами, ничего не выйдет, – я снова покачал головой, – их квот для эмиграции кот наплакал.
Чертовы томми согласны были пустить всего пятьдесят тысяч евреев в год, да с условием, чтобы каждый прихватил с собой тысячу фунтов.
– О чем и речь, – усмехнулся Карл, – они ставят преграды, а дурно выглядим мы.
– Уверен, что Лондон и эту цифру пересмотрит в скором времени, – вмешался Франц, – даже если в порядке сумасшествия предположить, что мы позволим пятидесяти тысячам евреев прихватить с собой свои капиталы, то и в этом случае британцы будут до последнего отбиваться от них. Там теперь котел знатный, томми едва оправились от арабского восстания, которое, считай, сами же и спровоцировали. В мировой войне они наобещали всякого арабам за их помощь в борьбе с турками, дали три мешка гарантий независимости. При этом и евреям за их помощь Бальфур[77] наобещал манну небесную в Палестине.
Я согласно кивнул:
– Теперь евреи прут туда ради хорошей жизни, как им было обещано британцами, а арабы недовольны и восстают, тоже в соответствии с британскими обещаниями.
– Вот увидите, – усмехнулся Франц, – при первой же возможности томми попытаются избавиться от этого мандата на Палестину и всучить его обратно Лиге Наций со всеми проблемами, которые сами же там и натворили.
– Как хотите, а я считаю, что британцы ответственны и за эту свару между арабами и евреями, – категорично заявил Штенке, – и тем более за наши проблемы, потому как из-за их дурной политики мы теперь не можем избавиться от своих евреев.
– Как бы это парадоксально ни звучало, – задумчиво протянул я, – но если глядеть с этой стороны, то тут мы с этим шелудивым сбродом союзники. И нам, и евреям выгодно избавиться от англичан в Палестине. Как только томми свалят оттуда со своими квотами и ограничениями, можно разом отправить туда всех евреев и выдохнуть спокойно, пусть создают там свое гнездо.
– Заваруха у них с арабами будет знатная, – заметил Ульрих.
Карл сплюнул себе под ноги и посмотрел на брата:
– А нам какое дело? Все вопросы к британцам, которые заварили эту кашу. Да и черт бы с ней, постреляют, уймутся и поделят через пару месяцев. Было бы за что воевать – высохшие плеши посреди пустынь, без пастбищ, без рек, полей и лесов. Чертова земля, ни капли топлива, ни другого ресурса.
– Чертова не чертова, а нужна и арабам, и евреям. И пока томми будут активно ублажать арабов ограничениями на въезд евреев, как бы мусульманский мир не повернулся к ним спиной или, того хуже, с оружием. Оно хоть и примитивное, но в руках у непредсказуемых. – И губы Франца разъехались в многозначительной улыбке.
– Тут их можно понять, – серьезным тоном проговорил Карл, – если неминуемо кому-то надо дать пощечину, то лучше евреям, чем арабам.
Франц медленно кивнул и проговорил:
– Евреям полезно задаться вопросом, почему выбор всегда не в их пользу.
И снова Франц как в воду глядел. Вскоре английские эсминцы перехватили у берегов Палестины несколько кораблей с нелегальными иммигрантами, и колониальные власти со скрытым облегчением тут же отменили все квоты.
Международная ситуация накалялась. Мы пристально следили за каждой новостью, связанной с решением по евреям, ибо каждое непосредственно отражалось на треске швов наших переполненных бараков. Утренняя «Фёлькишер Беобахтер» разразилась подробным отчетом о встрече во французском Эвиане тридцати двух представителей государств, собранных по инициативе Рузвельта для обсуждения судьбы еврейских переселенцев из Германии, Австрии и Чехословакии. Десять дней, насыщенных жаркими дебатами и торжественными обедами, завершились вполне ожидаемо – принимать их никто не желал. Участники конференции щедро раздавали интервью, в которых критиковали Германию за жестокость по отношению к евреям, но никто из них не готов был демонстрировать всеблагое гостеприимство и принять этих обездоленных у себя. Более того, чем громче были возмущения и митинги в поддержку гонимых евреев, тем жестче становились меры, препятствующие им просочиться в «возмущенные» страны. Люксембург и Бельгия согнали весь охранный состав на границу, Голландия вдруг перестала признавать их австрийские паспорта, Швейцария ввела ограничения на выдачу им виз, Америка усложнила иммиграционные правила. Казалось, мы делали все, чтобы избавиться от них, а остальной мир делал все, чтобы заставить их остаться в Германии, толкая нас тем самым на крайние меры.
Мы с Францем шли из лагеря домой.
– Карл прав, – проговорил Франц, прикуривая, – ни одно европейское государство не распахнет для них свои объятия, ибо все нации мира прекрасно осознают, что антисемитизм – самое здоровое явление, какое только может быть. Но говорить об этом вслух – сегодня дурной тон. Добрый британский МИД не стесняясь заявил, что приток иммигрантов с их «особой»… – он многозначительно усмехнулся, – культурой внесет существенный диссонанс в их высокоразвитый рай, мол, это спровоцирует безработицу и волнения на национальной почве. Как тебе такое?
– Будто Германии все это надо, – проворчал я.
По пути мы зашли в казарму, где все еще обитали Кохи. Внутри стоял невообразимый шум.
– Подумать только, эти собаки еще смеют жаловаться, что им не на что жить в чужой стране!
– А как хотели? Зарабатывать деньги в Германии, а тратить там?! Если рассудить, то все еврейские капиталы – немецкие, французские, английские, какие угодно, но они не еврейские! Они просто осели в их бездонных карманах.
– Вообще-то – между нами – в еврейских правящих кругах даже приветствуют нашу радикальную политику. Благодаря нам еврейское население Палестины здорово выросло, и если так пойдет и дальше, то евреи дадут арабам жару.
– Томми уже прикрыли лавочку.
– Ничего, обходные пути всегда найдутся.
– Эх, – вздохнул Штенке, – был бы у меня ныне хоть малый капиталец, какие выгодные дела можно было бы провернуть. В Мюнхене и Берлине еврейские шкуры сейчас продают за бесценок всю свою собственность: и дома, и лавки, и фабрики. Вот уж правда, время делать деньги, да чтобы сделать деньги большие, нужны хотя бы малые. А их нет. Незадача. – Он задумчиво потер подбородок.
Я незаметно кивнул Францу, Карлу и Ульриху, и мы вышли на улицу.
– А что пишет ушастый по поводу всего этого? – вдруг вспомнил Франц.
Накануне пришло очередное письмо от Эйхмана. Я пожал плечами:
– Ничего определенного, жалуется, что Эвианская конференция закрыла ему все пути отхода. Если до этого евреев еще можно было худо-бедно распихивать по европейским углам, то теперь баста, дураков нет, все держат свои границы на замке.
– Какая ирония, – усмехнулся Франц, – событие международного масштаба проходит под вывеской всеблагой помощи евреям, а в итоге становится их очередной бедой. Идеальная иллюстрация для сущности любого политика во все времена: придите ко мне все страждущие, и я ничего не сделаю.
Мы посмеялись.
Впрочем, нужно было отдать Эйхману должное. За полгода ему удалось прогнать через свой эмиграционный конвейер почти сорок пять тысяч евреев. За тот же срок со всей Германии удалось выпихнуть в два раза меньше.
Во время Хрустальной ночи, как охочая до громких названий пресса окрестила события девятого ноября, было уничтожено двести шестьдесят семь синагог – бо́льшая часть была сожжена, остальные просто разгромлены. Почти восемь сотен еврейских предприятий были разграблены. Точное число раненых и убитых евреев никто не знал. По официальным донесениям, тридцать шесть человек убитыми. Прибывавшие в лагерь арестованные перешептывались о двух тысячах уничтоженных собратьев. Несмотря на заверения газет, что беспорядки были стихийными и вызваны были исключительно народным гневом, Франц был уверен, что процесс этот был подготовлен заранее. К счастью, ему хватило ума поделиться своими мыслями лишь со мной и Ульрихом.
– Ты же не будешь отрицать, что в Дахау заранее, – он намеренно выделил это слово, снисходительно глядя на меня, – поступило распоряжение подготовиться к большой партии евреев, не австрийских, не чехословацких, а немецких!
Всего было арестовано больше тридцати тысяч евреев. На наше счастье, после тщательной проверки во временных центрах сбора отпустили женщин, совсем дряхлых стариков и ветеранов мировой войны. Но и после этого их оставалось много. Глядя на эту массу, распиравшую Дахау, я вдруг понял, что у них не было ничего общего между собой. Здесь были и ортодоксальные, и совершенно неверующие, и сионисты чистой воды, и ассимилировавшиеся, и тощие, побитые жизнью, и упитанные фабриканты и лавочники, и высокообразованные, и читающие по слогам. Не загони мы их сюда, думаю, на воле они бы даже не поздоровались. Что ж, отныне время различий для них прошло, теперь было лишь одно определение их существования – еврей. Охрана не успевала их регистрировать, и всех часами заставляли ждать на «лугу» под проливными ноябрьскими дождями, прежде чем появлялась возможность провести хоть какое-то подобие переклички. От усталости мне хотелось выть, я буквально зверел от этих нескончаемых строк с именами. Мы забивали бараки до предела, они уже и повернуться-то во сне не всегда могли, но места все равно уже не хватало. Пришлось даже поставить временный шатер на «лугу», куда мы согнали весь излишек. Часть одеял и матрасов отобрали у барачных – у тех хотя бы были нары – и передали палаточным, поскольку те размещались на голой земле. К перебоям с пищевым снабжением мы уже привыкли, но теперь ко всему прочему прибавились и проблемы с водой: ее едва хватало, чтобы они не протянули ноги от обезвоживания, речи о том, чтобы нормально помыться, уже не шло. Они ходили грязные, вонючие, в стоящей колом, засаленной одежде, от которой после хорошего ливня отваливались комья грязи. Охранники с трудом пересиливали себя, чтобы зайти с проверкой в бараки, зловоние там стало попросту невыносимым: дерьмо, моча, гной, грибок, миазмы из ран – все это слилось в совершенно непередаваемую какофонию омерзительных запахов. В конце концов внутренний барачный распорядок был полностью отдан на откуп заключенным «на должностях». Особо туго приходилось «сортирным» командам: после ручной уборки барачных сортиров они не имели возможности даже вымыть руки. Но игнорировать эту уборку, даже на время отсутствия воды, было нельзя: вспышки массовой диареи возникали одна за другой, сортиры были переполнены. Вскоре двое «сортирных» не выдержали и кинулись на проволоку под высоким напряжением.
Очередная партия покорно втекала в ворота. Один из узников шел, опустив голову и держа впереди себя какой-то плакат. Я кивнул на него Францу, и мы подошли ближе.
– Эй, ты! – Я сделал заключенному знак остановиться.
Он тут же замер, но головы не поднял, наоборот, еще сильнее втянул ее в плечи. Я разглядел надпись на плакате: «Великий исход евреев».
– Это еще что? – хмуро спросил я.
– Когда нас вели по улицам Регенсбурга, охранники заставили взять это в руки и нести над головой, чтобы все видели, что идет… – Он запнулся на полуслове, но, едва слышно сглотнув, продолжил таким же тихим, однако твердым голосом: – …Чистка славной Германии от проклятых еврейских крыс-капиталистов, долго сосавших кровь честного народа.
Судя по кровоподтекам на его бледном лице, эту фразу ему несколько раз вдолбили прикладом.
– А сюда ты зачем это припер? – спросил Франц.
– Охранники сказали, если я не продолжу держать плакат над головой, то они вырежут эту фразу ножом у меня на лбу.
Рядом захохотал Карл.
– Славно придумано! Ну, так и держи над головой, раз велено! Нечего руки опускать.
И он замахнулся прикладом, но бить не стал. Этого было достаточно, чтобы узник тут же вскинул руки с плакатом и покорно побрел дальше.
Не успели мы отойти в сторону, как неожиданно один из заключенных отделился от общего потока и, испуганно озираясь, подошел к зевающему Штенке.
– Вы производите впечатление здравомыслящего человека, – доверительно проговорил небольшой круглый человечек в драповом пальто. – Хочу сообщить, что я арестован без какого-либо юридического основания. Это абсолютное своеволие, я даже не понимаю, по какому обвинению, ведь это явная ошибка, я доктор, будет вам известно. Мне необходимо связаться с…
Я вздохнул. Видно, правду говорят, что они тупы как козы. Как только ему могла прийти в голову идея подойти именно к Штенке? Лицо самого «здравомыслящего» перекосило от ярости, щеки и лоб мгновенно стали темно-бордовыми от прилившей крови. Штенке в мгновение ока опустил приклад своего оружия на доверчивое круглое лицо, украшенное крохотным пенсне. Через секунду он уже топтал это пенсне в грязи, а окровавленного доктора от греха подальше утащили обратно в поток арестантов.
– Нет, вы это видели? – Штенке повернулся к нам с таким видом, будто мы могли не заметить происходящего.
Я обернулся к Францу, но вдруг понял, что он действительно мог этого не увидеть. Тот внимательно вглядывался в ворота, за которыми скрывался хвост толпы. Там явно произошла какая-то заминка. Чертыхнувшись, мы заторопились туда.
– Что у вас? – спросил я у Ульриха.
Рядом с ним стоял Улле Шнейхардт. Прямо перед ними на земле сидел сгорбившийся заключенный. Замерший как истукан или, скорее, как пень, ибо было в нем что-то трухлявое, уже изъеденное, он смотрел безучастным взглядом в грязь перед собой.
– Этот еврей утверждает, что его жену изнасиловали несколько немцев. А потом задушили. У него на глазах, – монотонно проговорил Ульрих. – Потом то же самое проделали с его дочерью.
В отличие от Ульриха, Шнейхардт буквально дрожал от возмущения. Он посмотрел на меня и Франца:
– Его самого нужно придушить! Ни один немец не притронется к поганой еврейке! Ты слышал, свинья? – И он пнул сидевшего перед ним еврея, от чего тот резко дернулся вперед, но даже не глянул на Шнейхардта. – Никакой немец не будет трахать еврейку! Или ты не знаешь закона? Так я тебе расскажу про расовою гигиену!
Я забрал у Улле папку и пробежался по сопроводительной информации.
– Эй, – окликнул я сидевшего на земле, – тут сказано, что твоей дочери всего тринадцать лет. Так что твоя грязная ложь…
Он все-таки поднял голову и посмотрел на меня. Он смотрел, не отводя взгляда, словно забыл, где находится и что должен бояться меня. Он еще не успел пересечь ворота концлагеря, не отработал ни одного дня, не получил ни одного наказания, не успел оголодать и пройти сквозь болезни, но уже был частью той неизвестности, которая ожидала за чертой, отделявшей жизнь от лагерного существования. Он сидел здесь на земле, смотрел на меня, еще дышал свежим воздухом, но уже был сопричастен тьме, которая поглощала их всех в тех бараках. В его глазах была пустота и полная безучастность ко всему происходящему вокруг, ко всяким проявлениям самой жизни, да и хоть какая-то воля к этой жизни в нем уже не ощущалась. Его больше не волновало ни хорошее, ни плохое. Я видел это. Я видел, что скоро он умрет, потому как такие отлетали быстрее всего: они даже не пытались делать попытки уцепиться и наладить тут свое жалкое существование, наоборот, они жаждали прекратить его, видя в том единственно возможное избавление.
– Уведите его, – проговорил Франц, забирая у меня папку.
Я безвольно разжал пальцы, глядя в спину узника, которого Шнейхардт грубо толкал прикладом.
– Накипь людская, – ругался он.
Евреев привозили со всех окрестных тюрем, чтобы в кратчайшие сроки освободить там место для следующих: аресты не прекращались. К Рождеству мы приняли почти одиннадцать тысяч. Совсем недавно евреи были самой малочисленной группой и вдруг в мгновение ока оказались лагерным большинством. Но самое ужасное, что начальство понятия не имело, что делать с этой прорвой, арестованной после девятого ноября. Если в том же Заксенхаузене они хотя бы получили дозволение работать на кирпичном заводе, то у нас эти евреи сидели без дела, зря выжирая дармовой хлеб, которого и так отчаянно не хватало. Распоряжений о том, что с ними делать, все не приходило и не приходило. Поэтому целыми днями они валялись в своих темных вонючих бараках, деградируя на глазах.
Чтобы хоть как-то развлечься, охранники заставили заключенных играть и петь перед столовой. Так выяснилось, что среди них скрываются неплохие певцы и музыканты, и веселый марш на «лугу» стал нормой.
– Веселей! – приказывал Штенке, притоптывая в такт ногой. – С улыбкой! Радуйтесь, вас здесь спрятали от народного гнева для вашей же защиты! Вашу безопасность блюдем!
Арестанты улыбались и попадали в ноты, и вроде бы все было как надо, но, черт побери, пробивалось что-то странное в этих веселых и бравурных маршах, неприятное, печальное.
Особым развлечением стали арии во время наказаний. Если певцы своим пением не заглушали крики наказываемых, то потом занимали их место. Во время ударов палкой одуревшие от ужаса хористы брали особенно высокие ноты, чтобы перекрыть визг боли. В такие моменты фальшивили они знатно, но была в том пении какая-то изюминка. Ни до, ни после мне не доводилось слышать столь страстных и эмоциональных арий.
Спустя некоторое время наконец и Дахау получил разрешение формировать рабочие команды из евреев. И тогда Карл предложил гениальную идею – совместить их концерты с работами. Особенно впечатляюще это выглядело в командах, которые таскали телеги с цементом. Заключенные впрягались в хомуты и оглобли, сделанные из веревок и балок, и тащили телегу, на которой была навалена огромная гора мешков с цементом, – и пели…
– Расцепили зубы! Веселее! – не унимался Штенке. – Я помогу, чтобы наряднее шло.
И подошва его сапога тут же отпечаталась на робе одного из арестантов в первом ряду. Нога у того подломилась, и вся конструкция опасно покачнулась.
– Держать, собаки! – выплюнул слова Штенке.
Однажды ночью я шел мимо бараков и услышал знакомые звуки пения. Стараясь ступать тише, я подошел ближе. Они пели без приказа. Поначалу один голос, потом к нему присоединился второй, до ужаса чистый и невинный. Голоса постепенно сплелись в нечто единое и наполнили собою весь барак. Это было подлинное оперное звучание. Я чувствовал, как меня продирает до самого нутра. Боясь сглотнуть, чтобы не выдать своего присутствия, я вслушивался, не понимая ни слова. Кто знает, возможно, в этой песне они поносили нас на чем свет стоит. Я был изумлен: когда они, измученные и обессиленные, возвращались после работ и разбредались по своим барачным отсекам, чтобы проглотить жидкий суп и отвалиться до рассвета, казалось, им не то что петь, а дышать тяжело. Но вот поди ж ты, поют, и как! Будто не им в четыре часа утра снова вставать на перекличку и отправляться на работы.
Черт бы побрал их.
Я развернулся и так же тихо ушел.
Через несколько месяцев «ноябрьских» евреев, которые дали подписку о том, что немедля покинут Германию, оставив все свое имущество рейху, освободили. А в апреле в честь юбилея фюрера по амнистии вышли еще и тысячи политических и асоциальных.
Дышать в лагере вновь стало легче.
Тем временем поляки продолжали показывать свое истинное лицо. Речь шла уже не только о евреях, которых они не желали забирать обратно, но и об их упорном нежелании решить по справедливости ситуацию с Данцигом[78]. Германия претендовала даже не на всю Познань и Силезию, а всего лишь на то, чтобы наладить нормальное сообщение с вольным городом: «Все, что просит германский народ, – это проложить нормальную дорогу вдоль Польского коридора к городу. Всего лишь шоссе, по которому дети Данцига смогут приезжать на свою великую Родину!» – сообщали газеты о скромных требованиях фюрера. Но поляки не желали идти даже на такую жалкую уступку, грозя вооруженным сопротивлением.
– Это похоже на уговоры, – Карл возмущенно потряс газетой, – почему фюрер с ними сюсюкается?
Ульрих посмотрел на брата словно на маленького ребенка:
– Британцы твердо дали понять, что помогут Польше, если мы решим вернуть Данциг военным путем.
– Не думаю, что стоит так уж оглядываться на томми и лягушатников, – вмешался я, – они проглотили и нашу мобилизацию, и вступление в Рейн, и аншлюс, и Судеты, и протекторат. Чемберлен сам сделал все, чтобы помочь нам с Судетами. Сейчас-то чего? Сейчас их возмущение будет выглядеть попросту смехотворно, думаю, они и сами это понимают.
– Не забывайте, Рузвельт тоже зашевелился. – Ульрих многозначительно посмотрел на меня.
– С янки и так все ясно, – махнул рукой Карл, – они там все под влиянием еврейских клик, которыми руководят типы вроде Моргана и Рокфеллера. У этих на уме нет ничего, кроме ветхозаветного накопительства. Любой военный конфликт несет им только выгоду, поэтому они будут раздувать его всеми силами, и неважно, скольким это будет стоить жизни.
– Говорят, американцы, которых фюрер лично принимал во время Олимпиады, утащили с собой все его серебряные ложки, ножи и вилки, – с презрением усмехнулся Штенке, как всегда крутившийся неподалеку от нас. – Даже щетки и гребни с его монограммой растащили на сувениры. Вот их натура – в хорошие времена брать все, что можно взять, а в плохие – хаять тех, у кого взяли. Кох дело говорит: типичная нация, за любым решением которой стоит Вечный жид.
– Американцы, которые ратуют за уважительное отношение к малым странам, – продолжил я с нажимом, – видимо, не заметили, что в той же Сирии сейчас никаких свобод и прав, а только тотальный лягушачий контроль. Или все та же Палестина теперь под контролем не немецких, а английских военных сил, и стреляют там англичане чаще, чем немцы в Европе. Рузвельт лицемерно тактичен по отношению к островным обезьянам[79] и закрывает глаза на то, что их действия в колониях в сути своей ничуть не отличаются от наших. Но фюрер из другого теста, лицемерие ему незнакомо. Он это ясно дал понять.
Франц, молчавший и внимательно слушавший, теперь вздохнул и нехотя покачал головой:
– Стоит признать, что, несмотря на все усилия нашего министра пропаганды, война нынче непопулярна в народе. Печатать в газете письмо французского посла, в котором он предлагает решить все мирным путем, было большой ошибкой. Геббельс рассчитывал продемонстрировать трусость Франции, но вместо этого вызвал симпатии по отношению к лягушатникам. Да и введение продовольственных карточек и нормирование продуктов – весь Мюнхен бурлит недовольством, сами видели. Боюсь, что теперь рядовые немцы склонны согласиться с французами, которые уговаривают Гитлера проявить благоразумие и воздержаться от военных действий с Польшей.
Я не выдержал:
– Ты помнишь, что ответил фюрер Рузвельту?[80] А я помню наизусть, у меня это здесь. – Я ударил себя в грудь, неотрывно глядя на Франца. – Если не за таким человеком должна пойти нация, то за кем тогда? Не думаю, что в ближайшую тысячу лет на немецком горизонте появится еще один хоть отчасти подобный фюреру. Никто не сможет завоевать и половины того народного доверия, которое завоевал он.
– В одном ты прав, любовь к фюреру мы возвели в правовое понятие, – совершенно спокойно произнес Франц.
– Поэтому за нелюбовь к нему можно предавать суду, – совсем тихо проворчал Ульрих.
Карл закатил глаза.
Газеты продолжали без умолку трещать о распоясавшихся польских солдатах, которые учинили стрельбу на германской территории, позже появились сообщения о поджогах домов немцев в Данциге: «Немецкие семьи вынуждены спасать свои жизни бегством!» Я с яростью отбросил газету. Просто уму непостижимо, ведь в тех домах были женщины и дети.
– Что там? – Франц заинтересованно нагнулся за газетой.
– Судя по всему, эти польские свиньи объявили полную мобилизацию, они перебрасывают войска к нашим границам, почти полмиллиона уже там.
Франц пробежался глазами по статье.
– Откуда у них набралось столько солдатских сапог и действующих ружей? – недоверчиво усмехнулся он. – Слишком уж беспечный народец. А впрочем, разве наша пресса может преувеличивать?
Я был настолько взвинчен, что не обратил внимания на его сарказм. Но тут дверь в столовую, распахнувшись, с грохотом ударилась о стенку.
– Нет, вы это читали?
На пороге стоял возмущенный Карл, потрясая тем же номером.
– Вы только послушайте, эти звери надругались над беременной немецкой женщиной, а потом избили…
Франц тут же перевернул страницу и, глянув на статью, возмутившую Карла, громогласно расхохотался. Я уже догадывался, в чем было дело.
– Разница лишь в том, что чехи насиловали Анке, а поляки Грету, – ухмыльнулся Франц. – Браво, министр!
Карл удивленно переводил взгляд с меня на Франца.
– О чем вы? – проговорил он.
– Об истине, – усмехнулся Франц, – судя по всему, ее убивают и насилуют еще до начала войны.
– Фюрер проявляет чудеса терпения, – снова заговорил Карл, – он все еще призывает вернуть Данциг без кровопролития. Но неблагодарные свиньи лезут на рожон! Данциг по праву наш!
– Данциг – вольный город, – напомнил Франц.
– Но сейчас все равно что их, – не согласился я, – господствуют там поляки. У Германии к нему ни троп, ни дорог.
– Откровенно говоря, это злит больше, чем Судеты или Рейн, ибо это наше самое законное притязание. Данциг по праву истории и крови наш! – продолжал кипятиться Карл.
– Друг Карлхен, – вкрадчиво начал Франц, – как я погляжу, ты не любишь копать глубоко. Или ты забыл, что все эти территории, которые мы вынуждены были отдать им по версальской кабале, мы сами захватили лишь в конце восемнадцатого века? Уверен, тот раздел между Прусским королевством, Российской империей и австрийской монархией поляки тоже считали грабительским, ведь они жили на этих землях более тысячи лет до раздела. И Версальский договор стал для них всего лишь торжеством справедливости. Видишь ли, у каждого своя правда, и всякий истинно уверен, что ошибается другой, а на деле все одно: чума, война, голод, смерть. И так по кругу.
– Франц дело говорит, за Данциг они будут стоять до последнего, потому как свято верят в законность своих притязаний, – заметил Ульрих, – да и выход к морю так просто не отдадут.
– И все равно, они чертовы лицемеры! – стоял на своем Карл. – Сейчас верещат, что им требуется помощь Запада против «незаконных германских притязаний», – передразнил он, – а когда полосовали Чехословакию, то ничего не сказали против и даже не пустили через свою территорию русских, которые собирались помочь чехам. А все потому, что у них был свой шкурный интерес. Как падальщики, отщипнули под шумок Тешинский кусок от Чехословакии, на который давно облизывались. А теперь, как их коснулось, они, видите ли, о справедливости вспомнили.
И тут, к моему удивлению, Франц не стал спорить, но неожиданно согласно кивнул:
– Глупость, жадность и недальновидность – страшные пороки и должны быть наказуемы. И в этом случае Германия стала всего лишь справедливым уравнителем.
18 ноября 1993. Свидание № 4
– Почему вы развелись с Карлом?
Сегодня Лидия была рассеянна. Войдя, она едва заметно кивнула Валентине, затем что-то долго искала в портфеле, роясь в своих бумагах. Валентина не отвечала, а с интересом наблюдала за адвокатом. Наконец Лидия заметила, что в комнате по-прежнему стоит тишина, и подняла голову.
– Неудачный день? – как ни в чем не бывало спросила Валентина.
Лидия нахмурилась.
– С чего вы взяли?
– Такие вещи сразу бросаются в глаза. Что случилось?
– Вас это не касается, – покачала головой Лидия и тут же добавила уже мягче: – Я имею в виду, эти проблемы не имеют отношения к вашему делу. Так почему вы развелись с Карлом?
– Мне кажется, полезнее будет обсудить твои проблемы, – совершенно серьезно произнесла Валентина, – ты замужем, Лидия?
Лидия на секунду замерла, рука с зажатыми в ней бумагами осталась в портфеле.
– Да… вернее, в процессе, летом, – сбивчиво пояснила она и наконец достала документы.
– Этого может не случиться, если так много времени будешь посвящать работе, – невозмутимо сказала Валентина, – думаю, в последнее время ты уделяешь мне больше внимания, чем своему жениху.
Лидия вновь застыла, в упор глядя на женщину, улыбавшуюся ей.
– Думаю, нечто подобное он сказал тебе вчера, – кивнула Валентина.
– Если он не понимает, что у меня сейчас важное дело, то я не собираюсь…
Так и не закончив фразу, Лидия сжала губы, не понимая, какого черта они вдруг начали обсуждать ее личную жизнь. Она уже открыла рот, но Валентина опередила ее:
– Я знаю: «Почему мы развелись с Карлом?» Спорили много, а это, знаешь ли, выматывает сильно. Как в каком-то дурацком анекдоте: встретились русский и немец… на кухне в нашем случае. Каждый раз начиналось как-то безобидно, а потом доходило до того, что сковородой хотелось дать ему по лбу.
– О чем вы спорили?
– О политике, об истории, о чем еще спорят на кухне? Всё больше о том, что не имело никакого отношения к нашей с ним жизни. И ничего бы в той нашей жизни не поменялось, если б не было тех споров. Вот это и самое обидное, Лидия. Сейчас понимаю, дурость, конечно, – за жаркой котлет по косточкам разбирать судьбу мира, когда и понятия не имеешь, как оно там все происходит по правде. Самое глупое – с близким человеком из-за всего этого ругаться до крика.
Лидия кивнула, будто соглашалась с тем, что сказала Валентина. На самом деле – подталкивала ее продолжать.
– Замечала, как людей до одури злит, когда с ними спорят о том, о чем они уже составили свое мнение? И считают свое мнение единственно верным. До страшного может дойти. К счастью, у нас дошло только до развода… Я была уперта в своем желании доказывать истину. Или то, что принимала за истину. А Карл из тех, кто не мог даже подумать, чтобы поменять свое мнение, хоть бы и были для того разумные аргументы.
– Насколько я поняла, ваш бывший муж был человеком образованным, он, пожалуй, способен отличить, где правда, а где ложное.
– Это уж без сомнения. Умных, видишь, много теперь, сплошь начитанные, интеллигентные, образованные, не чета темноте прошловековой. Но вот ведь странность – все продолжается.
– Что «все»?
– Все то, за что мы осуждаем других, Лидия. А если по-простому, то не всегда твоя правда будет истиной во благо другому.
– Во всякой ситуации я знаю, что такое хорошо и что такое плохо, – твердо произнесла адвокат.
– Для каждого ли человека? – спросила Валентина. – Или только для тебя самой?
Лидия молчала. Валентина кивнула, будто получила ответ.
– В жизни всё несколько сложнее… Не всегда то, что видится хорошим, есть хорошее на самом деле, – вот как мы всё перековеркали, Лидия. Не видим и того, что порождает зло, а что – благо. Да и как разглядеть это в том разноголосье, в котором живем теперь? Трудно. Разум крепкий нужен. Так что все повториться может.
Лидия вопросительно глянула на Валентину. Та пояснила:
– Когда-то один народ решил, что его истинное благо в том, чтобы истреблять другой народ. Да… Затем другие народы решили, что их благо в том, чтобы наказать тот народ, первый, который ошибся. И те и другие верили в истинность того, что делают. А во что теперь верим мы? Не в то ли, что тоже может быть осмеяно и осуждено когда-нибудь нашими детьми, внуками, правнуками? Посмотреть вокруг: мы пытаемся познать космос, политику, экономику, будущее, прошлое… А самое главное так и не познаём – себя. Ведь всякая вещь и всякое действие в этом мире возникают из чего? Только из нашего намерения. Когда себя до конца позна́ем, то всё увидим таким, какое оно есть на самом деле. Да… И вот опять я заговариваюсь, как тогда на кухне…
Свидание № 4. После перерыва
– Почему ты защищаешь меня?
Лидии не нравились подобные вопросы, она молчала. Валентина продолжила:
– Ты принципиальная, не отрицай. Ты по натуре своей хороший человек, возможно добрый, что скорее мешает тебе в профессии. И тем не менее ты защищаешь меня, точно зная, что я убийца. Я убила немощного старика.
– Ты убила убийцу.
– К тому времени он забыл об этом.
– Забвение не снимает вины.
– К тому времени обстоятельства изменились.
– Но не изменился он.
– Обстоятельства влияют на человека.
– При любых обстоятельствах мы остаемся самими собой.
Валентина едва заметно улыбнулась, прищурилась и, чуть подавшись вперед, произнесла:
– Это не так.
По истечении некоторого времени, проведенного в молчании, Валентина добавила:
– А я убила, да. И душа моя порочна. Душа, убитая грехом.
•••
В июле я получил письмо от отца. Он сообщал, что мать тяжело больна и долго не протянет, а потому мне следовало немедля приехать в отчий дом. Откровенно говоря, настоящим домом для меня уже давно была квартира тети Ильзы в Берлине, куда я приезжал во время отпусков, и, если бы не письмо отца, неизвестно, когда я решил бы наведаться в Розенхайм.
Болезнь матери была уважительной причиной, и увольнительную мне дали незамедлительно. Уже через пару дней я оказался в городе, в котором родился. Встретил он меня невеселой пасмурной гримасой, обильно умытой дождем. Утопая в чавкающей под сапогами грязи, я доплелся до дома и остановился. Несмотря на крупные капли, хлеставшие по лицу, я не торопился входить и внимательно рассматривал двухэтажное побеленное строение, казавшееся мне некогда целым миром, в котором можно провести всю жизнь. В окне на втором этаже я заметил какое-то шевеление – кто-то наблюдал за мной. Я громко постучал в дверь. Отец открыл слишком быстро, значит, это не он смотрел из окна на втором этаже. Ну что ж, мать может передвигаться по комнате сама, значит, не все так плохо, как он пытался выставить в своем письме.
Мой старик ничуть не изменился. Худеть ему было некуда – вернувшись после войны, он и так был худ как жердь, теперь разве что глаза запали глубже. Все в нем было по-прежнему, даже рубаха на нем была хорошо мне знакомая, заношенная до заплат на локтях.
– Спасибо, что приехал так скоро, – проговорил он.
Я ждал, обнимет он меня или нет. Очевидно, он ждал того же. Никто из нас не решался сделать это первым. Мы неловко застыли друг перед другом. Наконец я просто кивнул и прошел в дом. Он посторонился. Стараясь растянуть время, я наклонился и скинул рюкзак. Он топтался позади.
– Если нужно, вещи можешь на кухне обсушить.
Я кивнул.
– Как мать?
Он взглянул в потолок, словно мог разглядеть через перекрытие, как она там у себя в спальне.
– Сегодня ничего, получше. Даже вставала, хотя доктор запретил ей это делать.
– Это хорошо.
Я видел, как он лихорадочно соображал, что спросить, и вдруг понял, что после столь долгой разлуки нам совершенно нечего было сказать друг другу.
– Как служба? – выдавил он.
Я знал, что ему меньше всего хотелось расспрашивать о моей службе, поэтому не стал его мучить.
– Идет, – неопределенно пожал я плечами.
Он кивнул и пошел наверх сообщить матери о том, что она узнала раньше него, – сын приехал.
Ужин готовил отец. Стоило отдать ему должное, мясо вышло отменным, отличный соус, мягкая капуста. Судя по всему, он уже продолжительное время хозяйничал на кухне. Значит, мать слегла давно. К ужину он помог ей спуститься. Она с трудом переставляла ноги и явно не добралась бы до стола без его помощи. Она стала похожа на воробья, тоненького, серенького, хрупкого и невзрачного. Ее птичья кожа просвечивала, позволяя в подробностях разглядеть все вены и прожилки, по которым уже слабо струилась жизнь. Даже сквозь шерстяную накидку было видно, как выпирали кости. Подойдя, она остановилась. Одной рукой держась за спинку стула, другой опираясь на отца, она стала внимательно разглядывать меня, по щекам ее покатились слезы.
– Сынок, – тихо проговорила.
Я вздрогнул. Насколько она подурнела внешне, настолько прекрасным оставался ее голос, ничуть не тронутый болезнью. Нежный, мягкий, бархатистый, голос той красивой и полной жизни мамы из детства. Я подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал пергаментный лоб, почувствовав под губами сухую и горячую кожу, затем помог отцу усадить ее. Он тут же поправил съехавшую накидку и подоткнул ее под сложенными руками матери. Она даже не обратила на это внимания, полностью сосредоточившись на мне.
– Я так рада, что ты приехал. Думала, что уже не увижу тебя.
– Почему вы не сообщили раньше?
Мать переглянулась с отцом. Он тут же отвернулся к шкафу и начал доставать тарелки.
– Мы не хотели тебя волновать. Ильза писала, что ты много работаешь и у тебя почти нет свободного времени.
– Стоило сообщить, – произнес я.
Ужинали мы молча, лишь изредка мать поглядывала на меня. Она практически ничего не съела: поковырялась в капусте, смочила пару кусочков хлебного мякиша в соусе и с трудом пережевала. К мясу она не притронулась, несмотря на то что отец положил ей совсем небольшой кусок, предварительно нарезав и его.
– Ильза писала, что ты на хорошем счету у руководства, сынок, – собравшись с силами, проговорила мать, когда отец убрал ее тарелку.
– Все… все хорошо, служба идет своим чередом, – ответил я.
– И у отца все пошло на лад, его повысили. – Она с гордостью посмотрела на мужа.
Я удивленно перевел на него взгляд, но он отрицательно покачал головой.
– Герти, старушка, сколько раз я тебе говорил, это не повышение в должности. Меня просто направили в Союз[81] для повышения квалификации.
Я удивился еще больше.
– Ты ведь избегал подобных организаций.
К моему разочарованию, отец не стал этого отрицать.
– Меня обязали, иначе потерял бы работу. Я, конечно, многого там не понимаю, да помалкиваю. Я много чего перестал понимать. Нынче предметы в школе называются «немецкая математика», «немецкая биология», «немецкая физика», но разве два плюс два не во всех странах будет равняться четырем? – Он усмехнулся. – Нам пришла новая брошюра «Немецкие изобретатели, поэты и музыканты», все верно там написано, ни в чем не погрешили, есть такие изобретатели, поэты и музыканты… как и сотни других в разных странах, о которых теперь не велено рассказывать детям. Нас заставляют говорить, что вся европейская наука зиждется на арийской мысли и исключительно на германских исследованиях и открытиях. – Он развел руками. – Ученики охотно верят. Легко принять тот факт, что ты лучше других, а детям внушить это и вовсе не составляет труда. В младших классах совсем еще малыши, а уже упиваются ощущением того, что стоят над остальными по праву рождения. Вот так вот, сынок.
Я молчал, не желая отвечать ему. Он продолжал, посчитав, что мне интересны его мысли на сей счет:
– Да, впрочем, отныне в приоритете не занятия в классе, а физическое и военное обучение в спортивных залах. Пропуск этих уроков сурово карается – в отличие от пропуска математики или литературы. Фюрер объявил, что молодой немец обязан быть ловким и резвым, как борзая, и твердым, как крупповская[82] сталь. Вот это обязательство они охотно исполняют: носятся весело с винтовками наперевес по полям и лесам с настоящими армейскими ранцами за спиной, да только война – это не игра, а этого им не говорят. Теперь, сынок, сомнения еще больше гложут меня: упадок в просвещении никогда не был предзнаменованием чего-то великого или истинного. Достаточно взглянуть на наши учебные программы, чтобы понять – мы движемся по неверному пути.
Долее я не мог молчать.
– Необходимо формировать здоровое и сильное тело. Только такие тела способны принести триумф своей родине. – Я посмотрел на него в упор. – Невероятная глупость – заставлять детей в школах зубрить все эти правила, теоремы и задачи. Спроси любого из них, самого блестящего отличника, спустя несколько лет после школы: что он помнит? Ничего! Все выветривается из черепушки, потому что бо́льшая часть этих знаний совершенно неприменима в реальной жизни. Так не разумнее ли грузить его в школе тем, что действительно пригодится в жизни: здоровье, сила, выносливость, ловкость, а? Таких не уложат на лопатки никакие враги.
– Они не мыслят в полную силу своих природных возможностей, – покачал головой отец, – а сосуд без наполнения, каким бы крепким он ни был, для чего он, Вилли? Лишь наполнившись, он начинает исполнять функцию сосуда, ради которой и был создан. А так тело закончится, а дело свое не исполнит. – И он замолчал, снова уткнувшись в свою тарелку.
Перед тем как отец увел мать наверх, я еще раз поцеловал ее в лоб.
– Сколько ей осталось? – спросил я, когда он вернулся.
– Врач сказал, месяц, может быть, два.
Он начал убирать тарелки со стола, я встал, чтобы помочь ему. Отец мыл посуду, я вытирал и расставлял ее в шкафу. Закончив, он вытер полотенцем руки и присел на стул. Достал из кармана старый потертый портсигар и раскрыл его, предложив мне сигарету. Я молча взял. Мы закурили.
– Кстати, сын Готфрида Пиорковски недавно вернулся, – проговорил он.
Я помнил сына соседей, живших через четыре дома от нас. Ганс Пиорковски был старше меня года на три.
– Откуда?
– Из Дахау.
Я удивленно посмотрел на отца:
– Не слышал, чтобы у нас кто-то из Розенхайма служил.
– По амнистии вернулся, – проговорил отец, словно не слыша меня, и, затянувшись, выпустил плотный клуб дыма. – Ты, верно, думаешь, почему сын примерного немца-фронтовика оказался в лагере? Я тебе поясню. Я еще в школе приметил, что Ганс не всегда думал так, как говорил и что доказывал. С самого детства в нем жило страшное желание спорить и отстаивать точку зрения, отличную от его собеседника. Стоило кому-то заметить «черное», он тут же кидался переубеждать – «белое», горячее на самом деле холодное, книга в действительности дрянь, а постановка вполне себе. А начав спорить, он уже не мог остановиться и должен был всякий раз оставлять последнее слово за собой, такая уж натура. И когда ему указали на евреев как на виновников всех бед, он по привычке принялся доказывать противоположное. В общем, так он и оказался в лагере, как политически неблагонадежный. А в действительности всего лишь характер у парня дрянь. Я знал, что мальчик когда-нибудь еще хлебнет за это. Так и вышло.
Отец повернул голову и долго смотрел мне прямо в глаза.
– Впрочем, если разобраться, то всем нам место у вас за проволокой: антисемитами мы стали не по воле сердца и не по тщательном размышлении, а потому, что теперь так безопаснее. Многие, как и я, даже не разбираются в политике – просто обыкновенное желание жить спокойно, сынок. Не было у народа ни злобы, ни фанатичного чувства превосходства, и уж тем более не было мести. Все это было взращено на потребу дня.
Я медленно затушил сигарету о блюдце и растер ее. Отец продолжил:
– Впрочем, Ганс ныне изменился, очень. Уже не спорит. Ты его, наверное, не узнал, а он тебя сразу приметил. Все делал, только бы лишний раз не попадаться на твои добрососедские глаза. Да друзей твоих, Коха и Штенке.
Отец сделал паузу, и мне показалось, будто он раздумывал над тем, говорить ли следующую фразу или промолчать.
Он выбрал первое:
– Мать знает о твоих успехах исключительно от тети Ильзы, я знаю о твоих «успехах» от Ганса Пиорковски. – Он намеренно выделил слово «успехи» во второй раз.
Мы уставились друг на друга, не мигая и не отводя взгляды.
– Ты презираешь нас, – неожиданно нарушил он молчание.
Грустное понимание озарило его лицо, очевидно, прежде он даже не задумывался об этом.
– Это так, – так же неожиданно согласился я, – ты отказываешься столкнуться с новой правдой, прячешься за своими старыми порядками, которые принесли нам одни лишь разочарования. Посмотри на себя, трусливый замшелый богомол, ты тормозишь нашу жизнь.
– А ты сильно торопишься жить, Вилли? Оно, может, конечно, и торможу, а может, и нет. Всегда есть две точки зрения. Вот у тебя есть благодарственное письмо, о котором ты хвастался тете Ильзе, ты считаешь, что оно за храбрую службу, а я считаю, что оно за трусливое измывательство над безоружными людьми. Одна бумажка, а какая противоречивая, сынок. В том, в чем ты видишь высший порядок, другие видят обыкновенное порабощение. Вы наивно полагаете, что теперь являетесь хозяевами всего, но вы даже собой не вольны распоряжаться. Думаю, вы и сами боитесь теперь своих злодеяний, и чем больше боитесь, тем больше звереете.
– Это не злодеяния, это воспитание тех, кто несет вред нашему народу, – стараясь говорить как можно спокойнее, заметил я. – Все происходящее естественно и закономерно, отец. Во все времена более сильный утверждал свою волю. Сама природа устроила все так, что лишь с помощью жестокой борьбы живое существо способно вырваться наверх. И глупо жалеть тех, кто остался внизу или был уничтожен в этой давке, – самой средой им было уготовано отсеяться, ведь природа не знает той глупости, которую мы выдумали и назвали состраданием. Если ты силен настолько, что способен что-то отобрать у другого, значит, ты заслуживаешь этого, а не он. Так что мы действуем по самому естественному из законов.
Отец кивнул, словно соглашался:
– Все с полным соответствием животному миру, твоя правда, вот только мы не животные.
– А разве это не самое естественное развитие? Нужно уважать законы природы. – Я криво усмехнулся. – Только там правда.
– Значит, сильные будут ставить на место слабых? Да ты, очевидно, забыл, кто кого поставил на место в мировой войне, – с горечью произнес отец. – Ты запомни, сынок, тропа наверх, к человеку разумному, была долгой да извилистой, а вниз скатиться можно быстро: глазом не успеешь моргнуть, как снова окажешься у истоков, в темной пещере.
Я бессильно покачал головой. Упертый старик не желал даже попытаться понять меня, считая свое мнение единственно верным.
– Вот об этом и речь, отец, теперь нам необходимо исправить ошибки вашего поколения. Поколения, проигравшего войну, напомню. Те, кто предал тогда интересы Германии, должны замолчать сейчас, а некоторые так и вовсе ответить перед судом.
– Я там был, сынок. В окопах со мной евреев было предостаточно. Были они точно таким же пушечным мясом, с такой же красной горячей кровью и так же громко орали от боли, скошенные пулей или подорвавшись на мине. Немало среди них с Железным крестом за храбрость и преданность родине, немало погибших за нее. Как с ними быть, а?
Я впился в него взглядом и процедил:
– Евреи писали Веймарскую конституцию, евреи отправились в Версаль и покорно проглотили все требования союзников. Когда мы терпели крах, наверху были одни евреи.
– Для партийной газетенки такое, может, и сойдет, а для тех, кто умеет думать, нет. Еврейский юрист участвовал в составлении конституции, верно, да только он же и протестовал против ее итоговых ключевых положений, за что ему и заткнули рот. Министр юстиции Ландсберг слушал требования союзников в Версале, тоже верно, да только подал в отставку, чтоб не подписывать их. Ваша партийная интерпретация фактов весьма своеобразна – игнорируете то, что невыгодно, преувеличиваете то, что выгодно, – главный принцип отлаженной работы нашего министра Геббельса. Все у него припоминается по мере надобности. Да ведь народ не глупый.
Я смотрел на отца, ощущая нарастающую злость.
– Я хочу строить будущее, а не прошлое ворошить, – твердо оборвал я. И хотел на этом закончить разговор, понимая, что ни к чему хорошему это не приведет, но, к своей досаде, сам же не сумел умолчать, гнев во мне вскипал все сильнее:
– И в конце концов, ты же не можешь отрицать, что Германия переживает подъем? Сколько безработных слонялось по улицам в тридцать третьем? Я тебе напомню: шесть миллионов! Шесть миллионов, которые хотели накормить свою семью честным трудом, но Республика украла у них эту возможность. Весь мир воевал, а ответила за это только Германия, – вот что попустила ваша проклятая Республика! Это ли не преступление? Я был ребенком, но я все помню, отец. В один миг немцы стали отверженными, потерявшими территории, колонии, деньги, чувство собственного достоинства и какую-либо уверенность в будущем. Или ты забыл это инфляционное безумие, когда за четыре месяца цены выросли в восемьсот тысяч раз?! Ты помнишь доллар стоимостью четыре триллиона марок? А как наше правительство в отчаянии штамповало новые и новые купюры? Хоть одному из лягушатников или томми доведется держать когда-нибудь в руках банкноту в сотню триллионов их франков или фунтов? А нам довелось, отец. А как мать разжигала мелкими купюрами печь, поскольку они ничего не стоили?! Это помнишь? Вот куда нас загнала Республика! Но когда к власти пришел фюрер, за три года число голодных безработных ртов сократилось до миллиона. Ровно в шесть раз, не переживай, я помню математику, хоть ты и хаешь теперь наше образование. Посмотри, по каким дорогам мы сейчас ездим. Наши автострады – зависть всей Европы! Где фюрер погрешил против своих обещаний? Гитлер разорвал версальские путы, которые связывали всю нашу экономику, он покончил с безработицей, вернул стране великую армию, создал сильную авиацию, наращивает мощь флота, бескровно восстанавливает границы государства. Промышленность и торговля расцвели как никогда, появились порядок и уверенность в завтрашнем дне. Но главное, – я повысил голос, – фюрер заставил нас вспомнить, что мы есть величайший народ!
К моему удивлению, отец снова кивнул. Он не злился на меня, как в школьные годы, он выглядел совершенно спокойным. И я вдруг осознал: он не соглашался, но лишь каждым кивком подтверждал, что слышал то, что и ожидал услышать.
– Будущее строить – это хорошо, – пробормотал он, – тем более что не все теперь могут позволить себе такую роскошь, не у всех оно есть: Ганс Пиорковски, к примеру, никогда не станет отцом, он теперь инвалид. Но не только физически – он лишен даже самой простой свободы, данной человеку природой, – иметь личное отношение к происходящему. Даже сейчас, сидя дома, он боится и помыслить о том, что все произошедшее с ним было неправильным. Он думает так, как вы заставили его думать, и собственные мысли, идущие вразрез с этим, пугают его до ужаса. Вот что вы построили, Вилли, – систему, которая уничтожает всякую неугодную мысль в человеке. Идеальная система для того строя, который задумал великий фюрер. О, ему переживать не стоит, держаться она будет крепко на спинах таких, как ты, как твои друзья Штенке и Кох.
Я со злостью хотел бросить ему в лицо, что Штенке мне вовсе не друг, но передумал: какая разница, если мы с ним действительно делаем одно дело.
– Там у вас, за проволокой, Ганс сделал одно любопытное наблюдение. Ваши охранники сетуют на задержки жалованья, дороговизну продуктов, неуютные казармы и недоумевают, за что им такие сложности. Недоумевают те самые, что истязают до смерти палками невиновных. Бессознательность человека порой доходит до абсурда.
Я внимательно слушал отца, наблюдая за его рукой, катающей хлебный шарик по клеенчатой скатерти. Он по-прежнему был совершенно спокоен, по крайней мере голос его не выдавал. Я пожал плечами и проговорил:
– Охранник концлагеря, который «истязает заключенных», как ты изволишь считать, в городе поможет донести до дома покупки старой даме. Это один и тот же человек, для арестанта он чудовище, для дамы – добрый малый. Где же его больше, отец? В каком поступке? Наше поведение целиком и полностью зависит от момента. И сейчас мы живем в том моменте, когда надо наступить на горло всем сентиментальностям ради общего блага и будущего Германии.
Отец вздохнул и сказал с таким видом, будто это действительно что-то важное, а не очередная глупость:
– Ты прав, сынок, выбирать между тем, что истинно, и тем, что легко или надобно, – всегда непросто. Вся наша жизнь – череда этих выборов. И всякий наш выбор раскрывает нашу личину поболее, нежели качества да способности, которыми-то мы всегда хороши. Так ты мне скажи, какой у вас график: с какого и до какого часа вы выбираете растаптывать личность человека? А когда наступает перерыв и вы становитесь теми добрыми малыми? Что ж, выходит, моему сыну свойственны нормы морали только во внерабочее время.
И он смотрел на меня, покачивая головой и не обращая никакого внимания на все растущее во мне раздражение.
– Как же так вышло, что сотни достойных сынов из добрых семейств сделали профессией истязание себе подобных? – продолжал он. – Но в одном ты прав, сынок, человек – существо, Богом не обделенное. Разом может совмещать в себе как высшее сострадание, так и самую низость. Утром у него одно, а вечером другое. Как тут судить…
Я зло усмехнулся.
– Непростая работенка предстоит Богу, если только он есть.
– Отсутствие веры весьма опасно, Вилли, – отец оторвался от созерцания хлебного шарика, который продолжал катать, и глянул на меня. – Нет веры – нет страха. А разве не страх – главное условие существования вашего порядка? Люди, которые ни во что не верят, тяжело поддаются контролю. Разве нужны вам такие?
– Вера не иссякла, напротив, она обрела новую силу. Тебе нужно принять, что мы получили нового бога, и имя ему – фюрер! Он явился нам в момент наивысшей потребности, когда немецкий народ погибал, когда уничтожалась немецкая душа и попиралась немецкая мысль. На страхе базируются все учения вашей всеблагой церкви, которая грозит геенной огненной за всякий неверный шаг и подчиняет нас какой-то абстрактной божественной милости. Так чем же хуже то, что дал народу фюрер? Милость его хотя бы вполне реальная.
– Божественная милость зависит от поступков. Ты их вправе совершать или не совершать, Вилли. А ваше самопровозглашенное божество не дает выбора. Теперь это роскошь, на которую не у всякого есть…
– Смелость? Ты это хотел сказать? – Я презрительно усмехнулся. – Твоя правда, отец, смелости вашему замшелому поколению не хватает. Именно поэтому вы и поставили на колени Германию.
– Кроме божественной милости, есть еще божественное милосердие. Есть ли оно у вашего божества?
– Милосердие? Чушь! Ты так и не понял, что я тебе говорил. Все великие достижения народов явились результатом кровавых войн, революций и бунтов. Мир во всем мире – это миф, несбыточность. Человек всегда кричал о том, что жаждет его, но разве все его действия и помыслы не были направлены на противоположное? Потому что идеальный порядок не построишь на милосердии, история это доказала. Вера и верность фюреру, а значит, Германии – сейчас превыше всего, и всякий немец обязан отречься от тех, кто не принимает этого, будь то друг, брат, жена или… отец. – На последнем слове я перевел взгляд за окно, но не умолк. – Ибо те, кто остался в стороне от нового германского выбора и пути, такие же предатели, как и те, кого мы держим в лагерях.
Я заставил себя повернуться и уткнулся в его испытующий взгляд, прожигавший мое лицо насквозь.
– Значит, отречься, – медленно проговорил он и умолк.
– Милосердие, утешение, – продолжил я, не имея сил терпеть с ним в одной кухне тишину, – это слабости, которым церковь с удовольствием потакает, чтобы держать вас в своей религиозной узде. К тому же всегда все можно свалить на божественное провидение и покориться ему, а не бороться ни с чем, ни за что, ни против чего. Вы с аппетитом жрете свою веру только потому, что она дает вам возможность переложить ответственность за свои несчастья на какое-то мифическое существо, которое никто из здоровых людей даже ни разу в жизни не видел!
– Но разве не то же самое сделала и ваша вера, переложив всякую ответственность за все наши беды на какого-то мифического жида? Во всем ведь виноваты евреи, так, сынок?
Мы замолчали и снова уперлись друг в друга колючими взглядами совершенно чужих друг другу людей.
– Утешение нужно каждому. И тебе оно, сынок, понадобится. Боюсь, как бы не больше, чем нам, поколению, измученному той страшной войной. А найдете ли вы его в том же, в чем ищете оправдание? За оправдание-то не переживаю, оно найдется всему, Вилли, даже самому страшному. Таков уж человек.
Я медленно выдохнул, пытаясь унять что-то тяжелое, клокотавшее в груди. Чувство собственного бессилия в разговоре с отцом, не умевшим и не желавшим понимать меня, доводило до звериного бешенства. Будь передо мной любой другой, он бы уже был на пути в лагерь. В эту минуту я ненавидел его так же сильно, как любого заключенного, возможно, даже больше. Да, определенно больше. На тех мне было наплевать. А это тот, с кем я обязан был считаться волею природы. Ошибался тот, кто сказал, что нет ничего крепче кровных уз. Правда в том, что нет большей обузы, чем кровные узы.
Отец едва слышно добавил:
– Разве так мать тебя воспитывала, Вилли…
– Мать воспитала меня достойно, – огрызнулся я, – честь ей и хвала. Но мой ежедневный выбор определяется не ее воспитанием, а местом, в котором я нахожусь. Ты думаешь, ты себя знаешь? Черта с два. Ты не был в лагере. И пока ты там не побываешь… а впрочем… – Я усмехнулся, вдруг вспомнив: – Ты был на фронте, ты убивал, ты стрелял в себе подобных из плоти и крови. И это тоже ситуация, скажу я тебе. Но чем она отличается от моей? Ты убивал врагов, я перевоспитываю врагов. Война и концлагерь – это ситуации, которые все объясняют: наше поведение, выбор, мотивы – все подконтрольно лишь условиям, в которые жизни угодно было нас загнать.
Я видел, как отец вздрогнул, едва я помянул его участие в войне, лицо его едва заметно побледнело, но он и не думал перебивать меня.
– Это не жестокость сама по себе, а жесткость, необходимая на службе. Мы только выполняем приказы, отец. Настоящий эсэсовец обязан подчинить свою волю высшим требованиям, – закончил я уже спокойнее.
– Я гляжу, – с горечью проговорил он, – все сделано для того, чтобы избавить вас от чувства личной ответственности. В этом и беда, сынок, что вы судите о целом, но не свои частные поступки. А на фоне целого ваше частное выглядит не таким ужасным, по крайней мере для вас самих. Ваш лидер, возомнивший себя выше законов человеческих, заставил вас уверовать…
– Ты ошибаешься, – перебил я его, и улыбка медленно разъехалась по моему лицу, – он не ставит себя выше закона, он и есть закон. Ничто не должно стоять на пути лидера, ведущего за собой великий народ к цели. На таком пути бывают жертвы, они неизбежны, но никого не должно это сбить. Когда речь идет о благополучии целого народа и его будущего, ложная мораль неуместна.
– Ты считаешь великим тот народ, что покорился человеку без всяких моральных принципов?
Я чувствовал, что снова начинаю заводиться.
– Арийцы – элита белой расы, мыслители, творцы, воины, высшие создания природы. В этом убеждении нет ничего, кроме возврата к естественному, божественному, уж если тебе так угодно, порядку. Когда судьба народа меняется так кардинально в столь короткий срок, это ли не проявление божественного решения?
Отец не торопился отвечать. Я видел, что он размышляет над моими словами, снова уставившись замершим взглядом на раскатанный мякиш в своих руках. Наконец он заговорил:
– Осознание того, что ценность личности определяется лишь правом рождения, весьма заманчиво, не спорю. Он обратился к самому простому человеческому тщеславию. Отныне всякому хочется верить, что мы нация, стоящая надо всеми, потому как это помогает преодолеть страшное ощущение нереализованности. Оно и так живет в каждом человеке, а уж в нас – в поколении мировой войны – и подавно. Теперь толпа и рада, что не нужно прикладывать усилий, все уже дано по факту крови.
Отец замолчал, затем усмехнулся и снова поднял на меня глаза:
– Но один народ уже объявлял себя избранным. Вы повторяетесь.
Он покачал головой и снова уставился на свои огрубевшие руки, которые сложил перед собой на столе. Я и сам не мог отвести от них взгляда – крупные, заскорузлые, грязные, с мелкими затянувшимися порезами от кухонного ножа.
– Это все фантом. Вы живете иллюзиями, Вилли.
– А даже если и так, то что ж? Счастье человека не только в реальности. Толпе нужна та самая иллюзия. Мечта и великая надежда на ее исполнение. Подари людям великую химеру, и ты будешь повелевать, они пойдут за тобой во имя той химеры и будут делать что скажешь, если ты продолжишь обещать им ту химеру. А обещать можно сколь угодно, им все равно привычнее ждать, чем проживать момент. Оглядись вокруг, бо́льшая часть живет своими мелкими мещанскими планами, которым так никогда и не суждено сбыться, так пусть наслаждаются величием наших планов и нашей борьбы. Фюрер вытащил нас из дьявольских пут версальской кабалы, не получив в ответ ни единой санкции, наше производство только растет…
– Это перевооружение, сынок. Все наше производство нацелено на войну.
– И пусть. – Я пожал плечами. – Всякий, кто носит форму, сейчас ликует, ибо отныне эта форма отстирана от позорных пятен, поставленных в ноябре восемнадцатого. Кто жаждет творить историю, не должен бояться проливать кровь, а плохую кровь и вовсе обязан пролить. А те, кто рассуждает по-другому, – обыкновенные паразиты. Готов спорить, что и твой Пиорковски из разряда таких дармоедов. В лагере таким самое место. Миллионы немцев поддерживают эту политику партии. Недовольных нет.
– Недовольство ныне запрещено в рейхе, оно карается тем же концлагерем, тебе ли не знать.
– А пусть бы и так, – снова не спорил я, – только в условиях жесткой дисциплины и строгого повиновения порядку возможно укрепление нации…
Отец перебил меня, подаваясь вперед:
– Это уже принуждение, Вилли, а значит, подавление личности. Добиваться нужно не подчинения, а доверия. Все тогда будет.
– Что все?
– Все как должно.
Я расхохотался:
– Вся жизнь в обществе – это постоянный отказ от индивидуализма! И что в этом плохого? Уже через пару поколений сложно будет представить себе более сплоченное народное общество, чем наше, и в этом монолите будет заключена такая сила, о которой не мечтал ни единый народ в Европе. И ты, и я, и чертов Ганс Пиорковски – все обязаны помочь фюреру в этом. Это заставит каждого немца почувствовать свою причастность к происходящему. Германская молодежь станет безоговорочно преданной не только рейху, но и друг другу, поскольку поймет, что они все и есть рейх. Осознай, как сильно будет общество, живущее по таким принципам.
Но отец и не думал разделять мой порыв. Он смотрел на меня растерянно и с тревогой одновременно.
– Ты говоришь о покорной армии детей, лишенных какой-либо инициативности.
– Я говорю о единении нации, черт бы тебя побрал! – громко вырвалось у меня.
Мы оба тут же уткнулись в потолок, будто могли через него увидеть мать, и прислушались. Наверху стояла тишина.
– Это лишение нации индивидуальности, лишение права говорить что думаешь, – опустив голову, сказал отец.
– Если для тебя индивидуальность – это расчленение Германии на мелкие куски, – уже тише проговорил я, – тогда да, я говорю о лишении индивидуальности. Если индивидуальность – это разобщение и интриги против германского единства, то будь она проклята, ваша индивидуальность, ибо это то, что всегда делало нас слабыми на радость остальному миру.
На это отец ничего не ответил. Он встал и подошел к шкафу за чайником, набрал воды, аккуратно обтер жестяные бока от капель. Я бессознательно следил за его худыми руками, движения его были спокойными и размеренными. Он поставил чайник на плиту, зажег огонь, сложил тряпку пополам, медленно положил ее на стол. Но обернулся резко:
– Так что ж, Виланд, значит, ждать войны, так? Несмотря на все былые заверения нашего миролюбивого фюрера…
– Почему ты так в этом уверен? – осторожно поинтересовался я.
– Так и не нужно быть излишне проницательным, сынок, народ все видит, что ж мы, дураки, что ли? Продовольственные карточки уже ввели: у нас тут теперь чуть больше полкило мяса в неделю и триста грамм сахара на человека, а на норму мыла и срам не вымоешь. Подготавливают нас, видать, разве не так, Вилли? А впрочем, могло ли быть иначе: Австрия, Рейн, Судеты, Чехия[83]. Польшу нам уже не попустят.
– Австрия? Да австрийцы ликовали, когда мы вошли, и кидались на шею нашим солдатам. Пойми ты, Европа согласна с нами. Ради чего им воевать? Чтобы не дать немцам присоединиться к немцам? Сам Чемберлен был за передачу Судетской области Германии! Мы отстояли свои права бескровно, дав судетским немцам возможность наконец-то дышать свободно. Когда наши солдаты вошли в Прагу, их встречали там с почестями. Чехи жаждали независимости, и фюрер…
– Дал им независимость? Не смеши, сынок. Это уже не возвращение блудных в родное лоно…
– А если и так? – резко перебил я. – Неужели ты не понимаешь, что это была величайшая победа и над Францией, и над Великобританией? Мы получили жирный кусок, богатый промышленным сырьем, без капли крови! Я повторю тебе, сущность всего живого заключена в борьбе. Ты должен испытывать гордость за свою страну, которая укрепляет свою мощь.
– Гордость-то оно, может, и хорошо испытывать, да только за что? Разве февральский указ «О защите народа» не отменил всякую свободу того самого народа, разве мы не лишились свободы слова, печати, собраний, союзов, неприкосновенности всего частного?!
Впервые я видел его в таком состоянии. Лицо его стало совершенно бледно, а руки едва заметно подрагивали. Он сжал их в кулаки, пытаясь унять волнение, но ему это не удавалось.
– Разве драконовское постановление о чрезвычайных судах и немедленных смертных приговорах для каждого недовольного нынешним режимом – это правильно? Разве само по себе такое явление в двадцатом веке, как концентрационный лагерь, – это естественно?
Мне уже было плевать, услышит ли мать наш спор. Вскочив, я прокричал ему:
– Не мы придумали лагеря! За эту идею спасибо англичанам, надоумили! Или все уже забыли зверства английского режима в Южной Африке, о которых кричала вся Европа? Забыли, что томми творили с местным населением из-за золотых месторождений? Забыли, как высококультурный Букингемский дворец кроил судьбы тех людей? Те же лагеря, тот же голод, те же эпидемии, те же… – На слове «смерти» я запнулся, но тут же яростно выдохнул: – Где громкие упреки? Расскажи о том нынешним радетелям за справедливость, пусть узнают, на что готовы были англичане ради золота[84]. А кто сидит в наших лагерях? Грабители, убийцы, насильники, тунеядцы, политические, пытающиеся уничтожить Германию, евреи, разлагавшие ее и пившие ее кровь, те, кто действительно рушит наше общество. Благодаря тому, что мы закрыли их, в Германии сейчас самый низкий уровень преступности за последние годы. Наши лагеря ради будущего твоей же страны.
– Что стоит будущее, построенное на таком настоящем, сын? Разве не преступно будет им наслаждаться?
– Преступник здесь ты! Меня бросает в дрожь от того, что я слышу это от собственного отца. Если об этом кто-либо узнает…
– Будь покоен, Вилли, я не буду губить тебе жизнь. Ты с этим и без меня справишься. Да только помни, всякая война – зло, даже победоносная[85]. Когда она где-то там, на чужой земле, для тебя она – не война, даже если твоя страна ведет ее. Одурманенный патриотическими лозунгами, жарким увещеванием, насильно связанный присягой и даже честью, ты будешь поддерживать эту войну, искренне веруя, что война та справедливая, оборонительная, предупреждающая, освободительная, завоевательная, за идею, за расу, против недочеловеков или мирового еврейства – выбирай, что уж тебе больше по нутру, Вилли. Но когда с оружием придут к нам в Розенхайм и бомбы будут лететь в твой дом, где в кровати лежит твоя старая больная мать, – вот тогда война начнется и для тебя, сынок. И когда будешь с оторванной ногой ползти в укрытие, когда твоему ребенку, если успеешь зачать его, кишки разворотит, тогда уж ни спорные территории, ни города вольные, ни счастье других немцев, всё жаждущих куда-то присоединиться, ни независимость – чья бы то ни было, да даже побитие Вечного жида тебе не нужны будут. Все патриотические надежды на великую Германию разом схлынут, только мать из-под завалов звать будешь и спрашивать: «За что?» И поймешь, что все у тебя есть сейчас для счастья, сынок, и земли-то тебе той не надо – ни чужой, ни спорной. Твоего старика когда-то свято убедили, что война не придет в Германию, но не прошло и нескольких лет, а наши прекрасные немецкие города были утоплены в крови и разворочены до мяса. Но самое поразительное, что даже тогда большинство из нас продолжали верить в справедливость войны. Таков уж морок качественного увещевания с трибун, сынок. Потому включать ныне надо не радио, а разум.
– Где твоя честь? – в отчаянии прошептал я.
– За честь идти? От победы в войне твоя честь зависит? Так это ошибка, сынок, я проверял. Без чести всякий убийца остается, победивший ли, проигравший. Иного еще ни разу не было. Разъеден будешь тем грехом до самого нутра. Или ты боишься, что тебя нарекут трусом или предателем, если откажешься убивать и развешивать людские гирлянды на фонарях и деревьях? Повод достойный, сынок, твоя правда, иди, пускай кровь живым людям, как я когда-то. Разница в том, что я пошел на войну не потому, что хотел убивать, а потому, что готов был сам умереть за свою родину. Да и то великая дурость была, потому как сегодня твои воспоминания не забегают далее дня вчерашнего, Вилли, а через десятилетия ты не выберешься из своего прошлого и будешь жить в нем, и страшно будет, если в том прошлом руки твои по локоть в кровь окунались.
И он снова уставился на свои безвольные руки. В бессилии я опустился на стул, отчаянно желая, чтобы он умолк, но он продолжал издеваться надо мной:
– Твоя честь может выразиться уже в одном том, чтоб ты хотя бы честно мыслил. Но, прячась за мыслью, что так надо, мы теряем самую последнюю крупицу чести, оставленную нам природой там, куда не добраться соглядатаям с оружием, – в нашем разуме, сынок. Страшно и то, что убиваешь, и то, что мыслишь, как будто в этом правда.
Как же я ненавидел его в этот момент. Мне хотелось задушить его тут же, в этой кухне, где прошло мое детство. Я сжал кулаки, пытаясь унять клокотавшую внутри ненависть. Отец тяжело выдохнул, я видел, что на него тоже навалилось нечто необоримое, придавившее и заставившее безвольно опустить голову еще ниже. Его тощие плечи совсем обвисли, будто внутри были не кости, а веревки.
Не знаю, сколько мы так просидели. Шорох сверху заставил нас обоих вздрогнуть. Мы напряглись, прислушиваясь, но из родительской спальни больше не раздалось ни звука.
– Ты говоришь, мы получили Судеты, не пролив ни капли крови? А знаешь почему, сынок? Потому что никто не хочет войны. Все сыты ею по горло. Потому пока позволяется герру Гитлеру многое. Однако ему не стоит забываться, всему есть предел.
Я зло глянул на отца исподлобья:
– Верно говоришь, всему есть предел. Сколько мы терпели, пока издевались над немецким меньшинством в Чехословакии? Наших там за людей не считали, или ты не читал газеты? Они отрезали нашим женщинам груди и вырывали их сердца, выбивали глаза и потрошили, как свиней! Никому до того не было дела! Европа гуляла, швейцарские курорты были полны английской и французской знатью, их праздничные вечеринки и балы гремели, ничуть не омраченные скорбью. А теперь то же самое творится и в Польше! Наших там калечат и уничтожают, забивают, словно скот! Варшава угрожает бомбардировками Данцигу!
Отец смотрел на меня с явным изумлением.
– Не думал, что ты настолько глуп, Виланд. – Он покачал головой.
Задумавшись, он снова начал буравить застывшим взглядом какую-то точку перед собой. Я понимал, что он собирался с мыслями, которые вот-вот непременно озвучит, у меня же не оставалось никаких сил, чтобы отбиваться от них. Нужно было пожелать ему доброй ночи и удалиться, но я ощущал, что меня также все сильнее прибивало к засаленному стулу, стоящему посреди нашей небольшой кухни.
– У войны всегда есть причины, сынок, сложные, глубокие, так же как есть и повод. Без него не начинают, так уж повелось. И нужно уметь отличать одно от другого. Так я учил своих учеников. Свято был уверен, что и тебя этому научил, да, видно, провалился я и как учитель, и, что еще горше, как отец. «Вынужденно» – самое сладкое слово для любого, кто идет с оружием в иные земли. Самая страшная война всегда начинается с идеи ложного правосудия. Во имя нее и убивают. Сейчас еще есть возможность не ввязываться в конфликт с Польшей, сохранив лицо.
Я уронил голову, уткнувшись в ладони. И это был мой отец, одна плоть и кровь. Сколь невероятные и омерзительные финты выкидывала порой природа. Отняв руки, я вдруг расхохотался, глядя ему в глаза.
– Отступить?! – в исступлении проорал я. – От того, что нам принадлежит по праву? Что ж ты за человек такой? Тот, кто безвольно отдает свое же, совершает больший грех, чем тот, кто забирает! Нет, мы не отступим! И если это будет означать войну, то так тому и быть, но не Германия будет виновата в ее развязывании, а те, кто вынудил ее к этому. И тогда пусть пеняют на себя, тогда мы не только вернем свое, но и возьмем их!
Отец смотрел на меня с горечью и понимающе кивал, чем выводил меня из себя еще больше. Я видел, что он всеми силами демонстрировал снисходительность к тому, что считал неверным, а то и глупым, и за это мне вновь и вновь хотелось крепко сжать руками его тощую шею. Горячие волны накатывали одна за другой, пока он говорил:
– Мы в четырнадцатом тоже рвались в бой, били копытом и раздували ноздри, мечтали совершить великий подвиг во имя Германии, а Германия ликовала и ждала этого подвига. Но только в окопах поняли, что в убийстве других, тоже совершающих подвиг во имя своей всегда чего-то требующей родины, нет ничего благородного. И мы, и они лишь грешили, продолжая идти с оружием друг на друга. Пойми и ты наконец, Вилли, худой мир лучше любой войны. Она страшна, но страшна не только бряцанием оружия, а своим одурачиванием всякого участвующего в ней да втягиванием любого, кто мимо проходил. Он и не понимает еще даже, против чего он теперь воюет, но уже готов бороться до последнего непонятно за что… За то, что еще десятки раз переменится.
Я наконец тоже кивнул с понимающим видом.
– Вижу, в свое время коммунисты изрядно прочистили тебе мозги, – с презрением произнес я, – уж они прикладывали все усилия, чтобы убить всякий солдатский дух в таких, как ты. Хитро, хитро, нужно отдать им должное: позволить слабакам быть слабыми, трусам – трусливыми и выставлять это за благо. Будь проклято это красное отребье со своим слюнявым гуманизмом! Немощные выродки. – Мне хотелось сплюнуть, но я удержался. – Данциг немецкий! Наш! И не вернуть его – предательство.
Отец уставился на меня так, будто видел впервые. Он недоверчиво качал головой, словно сокрушающийся китайский болванчик. Теперь мне стало смешно.
– Немцы не хотят войны. – Взгляд у отца стал отстраненный, он уже не смотрел на меня, хотя его глаза были по-прежнему устремлены на мое лицо. – Стиг хочет отправиться с семьей в поход в горы, а Улле – сплавиться с младшим братом на байдарке по реке, Ганс собирается крышу перестелить, Штефан думает дом расширить, Зелда – ты с ней учился – на сносях теперь, хочет здоровую девочку родить… Вот каковы их нынешние желания. Самые простые, приземленные. Мещанские, как ты говоришь, сынок. Оно, может, и так… да только не стыдно за такое мещанство.
Засыпая в своей детской кровати, которая давно стала мне тесной, я старался не думать о том, что говорил отец, но его слова не шли из моей головы. Раз за разом я прокручивал их у себя внутри, чувствуя, что ярость, которая было утихла, просыпалась вновь. Уснул я только под утро, измученный и мыслями, и неудобной постелью.
Разбудила меня возня на кухне, вначале я услышал какой-то скрип, затем тихий, сдавленный вздох-окрик. Я быстро вскочил и спустился вниз. Мать сидела на стуле, тяжело опираясь локтем на стол, она была бледна, глаза закрыты, на лбу выступила крупная испарина. Перед ней на коленях стоял отец и всматривался в ее лицо. В отражении зеркала я видел его тревожно сведенные брови и негодование в глазах. Очевидно, он не слышал, как я вошел. Он взял ее руку в свою, другой бережно вытер с ее лба пот.
– Герти, – чуть слышно позвал он. – Герти, старушка, не стоило тебе этого делать. Ты меня слышишь?
Она чуть заметно кивнула, затем открыла глаза и посмотрела на отца… Я поразился, осознав силу чувства, которое обычный человек способен испытывать к другому, и то, как он умеет выразить это в одном лишь взгляде… Она долго смотрела на него, не отводя старых больных глаз, пока вдруг не заметила меня поверх его головы.
– Сынок… – Мать вымученно улыбнулась.
Отец быстро обернулся.
– Что случилось? – спросил я у него.
– Хотела сама приготовить тебе завтрак и спустилась, пока меня не было. Нашел ее возле стола.
Я подошел к двери, возле которой валялся бумажный пакет с хлебом и овощами. Подхватил вывалившийся помидор и запихнул его обратно. Поставив сумку на стол, я подошел к матери и встал на колени точно так же, как отец несколькими мгновениями ранее.
– Не стоило, мам. Ты же знаешь, что тебе нельзя утруждаться, ты должна лежать в кровати.
Она виновато посмотрела на меня.
– Ну как же, – рассеянно пробормотала она, пытаясь погладить меня по голове, – я все время думала, когда ты приедешь, я приготовлю тебе завтрак, сынок, как в детстве. Так хотела… омлет… или пожарить… те самые… полить медом… ты так любил…
Она говорила все тише и тише, пока я окончательно не перестал различать ее бормотание. Я хотел встать, но она продолжала гладить меня по голове. Наконец отец нежно перехватил ее руку и убрал с моей головы.
– Пойдем, Герти, тебе нужно отдохнуть, я уложу тебя.
Он взял ее на руки и понес в спальню. Когда он вернулся, то спросил прямо:
– Сколько ты сможешь пробыть дома? Ей недолго осталось.
Я смотрел в окно на дождливую улицу. Там было пустынно, взгляду не за что было зацепиться, но я продолжал упорно смотреть туда. Я слышал, как за спиной, не дождавшись ответа, отец начал суетиться и готовить завтрак.
– Я не могу… – Я обернулся и в упор посмотрел на него. – Я не могу остаться до… до конца.
Он молча кивнул, не отрывая взгляда от доски, на которой резал хлеб. Я подошел и встал рядом.
– Я не могу, мне нужно ехать. Я должен.
Он снова кивнул. Черт бы побрал его спокойствие!
– Она поймет. – На секунду он оторвался от доски и посмотрел мне в глаза, затем снова опустил голову и продолжил резать хлеб.
Я уехал через три дня. Все это время, превозмогая боль и слабость, мать спускалась и обедала вместе с нами, через силу улыбалась, о чем-то спрашивала, тут же забывала об этом и переспрашивала снова через несколько минут. Мне было тягостно с ними. Я ненавидел себя за то, что в эти минуты больше всего на свете желал сбежать оттуда, сбежать от своей умирающей матери как можно дальше, чтобы не видеть ее вымученной улыбки, трясущихся рук, бледного, истощенного лица, изуродованного болезнью, сухих глаз, из которых поминутно пропадала всякая осознанность; чтобы не видеть спокойного, сосредоточенного отца, присутствие рядом которого буквально высасывало из меня всю энергию.
В Дахау я наконец смог вздохнуть спокойно, и это несмотря на то, что арестанты вновь повалили беспрерывной толпой. На следующий день после моего возвращения пришла очередная партия, причем пришла в прямом смысле – ее привели пешим маршем.
– Чертовы транспортники, не могут договориться между собой. Пришлось гнать их от самого Маутхаузена, – зло сплюнул уставший охранник из сопровождения.
Партия выглядела жалко. Как рассказал все тот же охранник, их не обеспечили путевым продовольствием, пришлось выкручиваться самим.
– Делали остановки в полях, чтобы хоть подножный корм пожрали. Ей-богу, свиньи – они и есть свиньи, землю рылом рыли, картошку искали, да так сырую и грызли. Глядишь, вроде и человек с виду, а приглядишься – форменная скотина. Не зря их сюда отправили, сразу видно, дрянная порода. Настоящий немец до такого не опустится, – качал он головой.
Я посмотрел на измазанные качающиеся штакетники, которые по документам еще числились живыми людьми, и пошел по своим делам.
Что ж, в ближайшее время мы сможем выполнить все медицинские запросы: Институт Коха в Берлине требовал черепа, а для студентов-медиков в Мюнхене нужны были тела.
22 ноября 1993. Свидание № 5
Дождь за окном нарастал. Перестук крупных капель по стеклу смешивался со спокойным и размеренным голосом Валентины.
– Редкий человек не страдает ложным представлением касательно зла, – говорила она. – Когда нам рассказывают о других, которые творят злодейство, мы уверены: это потому, что они плохие, самые настоящие злодеи. Но стоит нам самим сделать то же, мы сетуем на обстоятельства, которые нас вынудили. А ты подумай: что, если и тот, «плохой», тоже попал в определенные «обстоятельства»?
И она посмотрела на своего адвоката. И тут же покачала головой.
– Нет, тому, другому, мы спуску не дадим, он злодей, и точка! Вот так думает человек о других и о себе. А на деле все готовы подчиняться злу. Покорность, Лидия, самая обыкновенная покорность наша не знает границ. А покорность злу – так и вовсе. Это доказано научным путем, если хочешь знать. После войны многие гадали: как так сталось, что горстка повелевала свободным разумом миллионов? Вот один из таких гадателей, американец польского происхождения по имени Соломон…[86] Да, Соломон, не поверишь, в этом сочетании все прекрасно, правда? Вот он провел самый простой, но наглядный эксперимент: посадил в комнату людей, раздал им карточки с линиями… И эти люди должны были по очереди отвечать, какая из трех линий на карточке соответствует линии на другой карточке. А между линиями очень большая разница, это специально так сделали, чтоб невозможно было ошибиться. Все отвечали быстро и правильно. И вдруг на десятой карточке все начинали отвечать неправильно. Вся группа уверенно дала свой ответ, ни секунды не раздумывая, как будто это было совершенно очевидно. Ты, Лидия, смотришь и ясно видишь собственными глазами, что это ошибка. Теперь все они смотрят на тебя и ждут, что ты ответишь, твоя очередь. А на самом деле все они ассистенты профессора и только ты одна в этой комнате – подопытная. Что ты ответишь? В общем, таких опытных групп было много, в каждой – все подсадные, только один настоящий испытуемый. Как думаешь, сколько человек тогда поверили здравому смыслу и своим глазам? Сколько попытались отстоять правильный ответ, когда все остальные сказали иначе? Из ста двадцати трех тридцать оказались на это способны. Тридцать. Остальные покорно согласились с группой. Потому что у них не укладывалось в голове, что большинство может так ошибаться. И вот теперь думаю… Даже если мы свято уверены, что что-нибудь – это зло, но все вокруг в один голос скажут, что это добро, то продолжим ли мы так же свято верить, во что верили?
Слушая Валентину, Лидия бессознательно водила карандашом по мелко исписанному листу своего блокнота. Она знала, что они тратили драгоценное время свидания, но не прерывала Валентину – размышляла.
– Очень мне запомнился этот эксперимент. И я узнала про его продолжение. Один из ассистентов профессора решил пойти дальше. Он стал исследовать не только соглашательство, но и вредительство. Он собрал добровольцев: рабочие, бизнесмены, продавцы, клерки, парикмахеры, врачи, телефонисты. В общем, самая середка любого общества. Он им сказал, что это обычный эксперимент по исследованию памяти. Четыре доллара в час он им платил. И вот, значит… В одной комнате ты, Лидия, в другой – еще один подопытный. Он должен отвечать на твои вопросы. Отвечает правильно – ты его хвалишь. А если отвечает неправильно, то у тебя под рукой аппарат, который бьет его током. На аппарате тридцать делений, и с каждым новым неправильным ответом тебе сказали увеличивать силу тока. Сначала все хорошо, человек отвечает правильно, но вот он начинает ошибаться, ты бьешь его током, как договорено, – едва ощутимо, всего пятнадцать вольт. Но он продолжает ошибаться, тебе приходится увеличивать. И вот уже удары болезненные, интенсивные, он жалуется, ему больно, он просит прекратить эксперимент, он отказывается от денег, он кричит, что у него больное сердце. Но это научный эксперимент, вы оба подписались и уже получили деньги, а потому тебе нужно продолжать бить током за неправильный ответ. А там уже, Лидия, три сотни вольт, это уже опасно для жизни. Он бьется в истерике, ты слышишь крики, ты не понимаешь: как это все так вышло? В какой момент безобидный студенческий эксперимент по исследованию памяти превратился в пытки другого человека? И вот в соседней комнате вдруг наступает тишина. Никаких криков о помощи, ничего. Жив ли тот страдалец с больным сердцем? В сознании ли он? – Валентина умолкла и посмотрела на Лидию, будто та в самом деле знала, как обстояли дела с тем человеком.
– Никто не станет ничего этого делать, – категорично проговорила Лидия.
Валентина улыбнулась:
– Вот и сорок врачей-психиатров так сказали, когда этот экспериментатор их собрал. Результатов они пока не знали, но заранее в один голос сказали: нет, мол, быть того не может, наверняка будет не больше одного процента, которые продолжат бить током человека, раз ему больно. И те должны быть кончеными садистами и маньяками.
– И?
– До самого высокого уровня в четыреста пятьдесят вольт дошло больше половины. Шестьдесят пять процентов участников. – Валентина, безотрывно смотрела на Лидию. – Четыреста пятьдесят вольт, даже школьник знает, что это смертельно. А знаешь, почему они не останавливались? Рядом стоял ассистент профессора, который одобрительно кивал и велел продолжать. Уверял, что вся ответственность ложится на университет, а с них никто никогда не спросит. Приказ и отсутствие ответственности, Лидия. Они продолжали бить током, зная, что в соседней комнате ни в чем не повинный человек испытывает сильные муки и все происходящее уже против его воли. Рабочие, бизнесмены, продавцы, клерки, парикмахеры, врачи, телефонисты… продолжали бить, и сильнее, сильнее.
И Валентина улыбнулась.
– Тот психолог[87] провел много таких экспериментов. И каждый раз одно и то же: мы готовы подчиняться злу по собственной воле, если это зло узаконенное. Человек перестает слышать голос собственного разума. Еще легче заставить подчиняться, когда это зло наращивается постепенно, давая свыкнуться: вначале пятьдесят вольт, затем сто, двести, а где двести, там и двести двадцать терпимо, – шаг за шагом до смертельных четырехсот пятидесяти вольт. И ты как та лабораторная лягушка… Лягушку опустили в воду и стали воду постепенно подогревать, так она не выскакивает, именно потому что постепенно. В конце концов она заживо сваривается в кипятке, так и не осознавая, что с ней происходит. Но если закинуть ее сразу в горячую воду, она выскочит, ошпаренная и возмущенная, желая спасти свое земноводное существование. Так и мы, Лидия, опущенные в холодное дерьмо, медленно варимся в нем, не замечая, что оно нагрелось уже до той температуры, которая совершенно нетерпима для всякого нормального человека, но мы отчаянно пытаемся адаптироваться под растущий градус.
– При чем здесь все это? – не выдержала Лидия.
– А ты думаешь, можно найти какую-нибудь прослойку населения среди нас, которая устоит при таких условиях? Возьмем студентов – молодые ребята, прогрессивные, образованные, здравомыслящие. Да? Был, значит, университет на Гавайях. На курсе по психологии преподавал один профессор. Он дал анкету своим студентам – их было тысячи полторы или даже больше. И в этой анкете они с полной серьезностью выбирали варианты: какой самый безболезненный и гуманный метод умерщвления людей с физическими и психическими изъянами на случай перенаселения[88]. Студенты-психологи, Лидия, будущая интеллигенция, гордость своей страны. Вот говорят, что больше всего крови в истории проливалось из-за всяческих бунтов. Но нет. Повиновение. Все от него. Покорность откровенному злу, которое мы не замечаем, потому что ему дано другое название. Уничтожили миллионы людей, а назвали это – «окончательное решение». Мучителя, экзекутора назвали – «ассистент профессора». Потому сначала мы думаем: нет, мы-то на такое не способны. А потом все-таки делаем это. Становимся частью того зла. И продолжаем им быть, не задумываясь: где же наше повиновение перешло границы и мы начали причинять боль другим людям? Когда уверовали, что все это необходимо во имя общего блага? Когда по доброй воле расстались со своим правом сказать «нет»? Нам невдомек, где начинается великое зло. Потому как оно итог самых простых и обыденных человеческих измышлений, которые перетекают от одного к другому, от малого к большому. Это самый страшный вид злодея, Лидия, – когда те, кто совершают зло, сами не ведают, что они его творят, но думают, что ведут самую обычную жизнь. Система, которая таких людей создает, несет погибель для всех. А те говорят: «я всего лишь исполняю, что велено», «я ничего не решаю», «я человек маленький», «не я придумал эти правила». У поборников такой системы свободы никогда не было. Да она им и не нужна.
Лидия долго смотрела на Валентину. Затем, отодвинув блокнот и карандаш, она резко подалась вперед.
– Ты ведь оправдала его для себя, – негромко и с какой-то надсадой проговорила она, – ты не из ненависти его убила. Ты считаешь, что он такой же калека той системы. Тогда за что ты его убила?
Валентина ответила не сразу, какое-то время она внимательно смотрела на своего адвоката, затем губы ее снова разъехались в улыбке:
– А кто, по-твоему, больше злодей, Лидия, – тот, кто убивает нацистов, или тот, кто их оправдывает?
•••
«Только что Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении. Представители двух сторон нашли общую точку зрения на международную политику и сошлись в единой позиции. Рейхсминистр иностранных дел фон Риббентроп отправится в Москву в среду, двадцать третьего августа, для завершения переговоров. Новое сотрудничество будет основываться на длительной дружбе, которая непременно станет залогом новых традиций и обеспечит твердую основу взаимопонимания двух стран…»
Радиоприемник, списанный из комендатуры из-за поломки, но успешно починенный каким-то еврейским заключенным, снова зашипел, и далекий голос диктора, прорвавшийся было в казарму, опять умолк.
Мы оторопело смотрели друг на друга. Мне казалось, что это глупая шутка.
Первым нарушил молчание Франц. Он просто громко расхохотался, а потом пробормотал:
– Гениально…
– «Длительная дружба» с большевиками? С красными, что ли? – непонимающе сказал Карл, все еще глядя на приемник и словно ожидая, что диктор ответит ему лично.
Сосредоточенный Штенке вновь покрутил круглую ребристую ручку, но на сей раз поймал какую-то симфонию, также прерываемую шипением. Тогда Карл посмотрел на нас.
– Мы заключили пакт с Сатаной, – сказал напряженный Штенке.
– Великолепно! Вряд ли французы и англичане ожидали, что у Гитлера найдется такой козырь. С этим пактом в рукаве он может плюнуть в лица их послов и послать куда подальше с их компромиссами по поводу Данцига. Кто бы мог подумать, заклятые враги теперь друзья!
Давно я не видел такого искреннего восхищения на лице Франца.
– А я так скажу, – неожиданно произнес Ульрих, – это было предсказуемо.
Все с удивлением воззрились на него.
– Англичане боятся русских сильнее, чем черт ладана, – продолжил он, – все знают, что Советский Союз несколько раз пытался предложить островным обезьянам взаимовыгодную дружбу, но Лондон воротил нос. А русские – они такие: если закрыта одна дверь, они идут напролом в другую, но не забывают напоследок обоссать первую.
Взрыв хохота сотряс казарму.
Слухи разлетались со скоростью света. Чуть слышный шепоток за плотными дверьми комендатуры был подхвачен ветром и разнесен по всему лагерю: идет полная мобилизация.
– Призывают даже резервистов, – доверительно сообщил Штенке, который умудрялся узнавать все самым первым, – осенняя подготовка и учебные маневры.
– Затевается что-то серьезное. – Карл в волнении потирал руки.
Штенке продолжил:
– Войне быть, это как пить дать, да не по нашей вине. Фюрер предложил более чем справедливые и легковыполнимые условия. Но поляки, свиньи неблагодарные, артачатся. Чувствуют поддержку томми! Да только не понимаю я островных обезьян, чего ради им проливать кровь за польское мясо?
– Уверен, они и сами уже пожалели, что ввязались, – заявил Карл, – их же собственные обязательства теперь встали им поперек горла, это ясно.
– И тем не менее второго Мюнхена не будет. – Я покачал головой. – Как с Австрией и Чехословакией, уже не выйдет.
– Говорю же, – снова влез Штенке, – быть войне.
– А самое поразительное, если по Судетам или Австрии у них еще могли быть вопросы, то сейчас мы действительно в своем праве: Данциг наш! Но, промолчав тогда, они вдруг кинулись вопить о несправедливости сейчас. Паноптикум, черт подери!
– А обвинять в развязывании войны будут нас! – взвился Карл. – В то время как фюрер – за мир!
– Фюрер за мир, но на немецких условиях, – произнес Франц, – которые для многих равносильны объявлению войны. На сей раз не уступит никто, ни фюрер, ни поляки, ни англичане с французами. В глазах всего мира мы выглядим ненасытной собакой, которой кидают кость за костью, и каждая новая жирнее и мясистее, но собака никак не может насытиться. И теперь они осознали, что собаку проще пристрелить, чем прокормить.
– Ромул, ты бы лучше следил за языком!
– Я задел твои чувства, Штенке? – Франц усмехнулся.
Я заметил, как сжались кулаки Штенке. Глаза у него сузились до едва различимых щелок. Поняв, что ситуация накаляется, Ульрих поспешил встать между ними.
– Еще чего не хватало – немцам сцепиться из-за польских свиней, – покачал головой Карл, глядя, как брат оттесняет Штенке. – А ты заканчивай уже слушать вражескую пропаганду, – негромко проговорил он Францу, – когда тебя поймают, не поздоровится всем. Здесь, – и он кивнул в сторону бараков, – не один и не два оказались за то, что настроили свои приемники на Лондон.
Франц ничего не ответил, он стоял на месте с привычной, чуть насмешливой улыбкой. Все прекрасно понимали, что его, в отличие от Штенке, сдерживать не нужно. Он никогда не отстаивал свою точку зрения кулаками, ему было достаточно его острого языка и такой же острой проницательности, способной кого угодно вывести из себя.
Война!
Первого сентября Германия была вынуждена вторгнуться в Польшу. Подлое нападение поляков на немецкую радиостанцию в Гляйвице[89] стало последней каплей.
Все понимали, что если бы не постоянные польские атаки на наши границы, то фюрер не допустил бы подобного развития событий. «Польша не намерена с уважением относиться к границам рейха. Великое государство, коим является Германия, не потерпит такого гнусного отношения! И чтобы прекратить это безумие, у меня нет другого выхода, кроме как силе противопоставить силу, они вынудили нас к контрнаступлению, – вещал Гитлер по радио, – с настоящего момента я – первый солдат Германского рейха. Я снова надел форму, которая была для меня дорога и священна, и не сниму ее до тех пор, пока не будет одержана победа, ибо поражение для меня равносильно смерти».
Я ожидал привычных эмоциональных интонаций, но ничего подобного в этот раз не было, никаких глухих ударов по столу, никаких резких выкриков, он говорил сдержанно, но твердо, медленно, но внушительно, завораживая спокойствием, которое никак не вязалось со смыслом сказанных слов. Он словно наставлял на путь, терпеливо объясняя что-то очень личное.
– Всё! Польше крышка! Теперь, когда Россия с нами, им не на что рассчитывать, – уверенно заявил Карл.
– При условии, что Англия и Франция тоже не рискнут вмешиваться, – напомнил Франц.
– Это уж наверняка! Нужно быть полными идиотами, чтобы лезть на рожон за польских свиней, зная, что теперь Советы пляшут под нашу дудку.
Франц иронично изогнул брови:
– Карлхен, под нашу дудку плясать может кто угодно, но не русские. Боюсь, с Восточного фронта нам еще стоит ждать сюрприза.
Карл хотел что-то ответить, но Франц лишь отмахнулся от него. Он сделал мне знак, и мы вышли на улицу.
– Смотри. – Он протянул мне газету.
На первой странице была большая статья о нападении на радиостанцию в Гляйвице. Я взял у него газету и пробежался глазами по тексту, но ничего нового для себя не обнаружил. Уже все газеты в подробностях расписали, как поляки бесстыже захватили нашу станцию и вышли в эфир, призвав своих к восстанию. Я поднял голову и вопросительно уставился на Франца. Тот насмешливо покачал головой.
– Посмотри на фотографии.
Я уставился на изображения с места трагедии в Гляйвице, по-прежнему не понимая, чего от меня хотел Франц.
– Не видишь? – В его голосе прозвучало откровенное разочарование. – Посмотри на трупы.
Я уставился на черно-белые тела на переднем плане. Лица у всех были изуродованы, у некоторых вместо головы было сплошное кровавое месиво, словно над ними поработали молотками. Но я все же увидел то, что вызвало такой неподдельный интерес у Франца. Лоб у меня медленно покрылся испариной, во рту неожиданно стало сухо. Несколько недель назад мы получили приказ подготовить дюжину заключенных для отправки в неизвестном направлении. Обычный приказ, который должен был затеряться среди сотен подобных. Я запомнил его лишь потому, что в комендатуре прямо при мне уничтожили сопроводительные документы этих арестантов. Когда их загоняли в грузовик, я наблюдал за ними буквально пару минут, Франц же и вовсе видел их мельком, когда заключенных выгоняли из барака.
Я поднял глаза и хмуро уставился на него. Франц улыбался.
– Даже если все наши притязания будут удовлетворены, войне все равно быть. Ей быть, даже если мы получим больше, чем просим, – подумав, с усмешкой добавил он.
– У тебя хорошая память на детали, – тихо проговорил я, – не скажу, что рад этому. Лучше бы ты промолчал.
– Но ведь это же гениально, – вновь улыбнулся он без каких-либо осуждающих ноток в голосе. – Геббельс – сущий черт в своем искусстве! Он познал одну простую и действенную истину: чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. В такое неспокойное и накаленное время очевидный обман легко пожирается массами, особенно когда подается прямо в лоб. Нужен был повод, и он был трудолюбиво создан. Что ж, Гляйвиц так Гляйвиц.
Тела невозможно было опознать, но труп на первом плане не оставлял сомнений: это была та самая группа, которую нам было велено подготовить несколько недель назад в Дахау, – под разорванным воротом был виден неровно выбитый орел со вскинутыми под самое горло крыльями. Теперь они были на фотографии в газете, в польской военной форме, расстрелянные «при попытке захватить немецкую радиостанцию».
– Готов поклясться, они даже польского не знали. – Франц откровенно потешался.
– Значит, так надо, – зло проговорил я и впихнул ему обратно газету.
Франц перестал улыбаться и серьезно глянул на меня.
– Ты думаешь, я считаю это ошибочным? Отнюдь, – и он торопливо покачал головой, – как говорит папаша Эйке, путь к истинно верной цели оправдывает любые средства. Сегодня переодели немцев в польскую форму, завтра поляки раскрасят свой танк в наши цвета – вариантов бесконечное множество было и будет. В конце концов, немецкий народ не первый, кто был облапошен собственным правительством во имя высших целей, и, думаю, не последний.
Я развернулся и пошел обратно в комендатуру, надеясь найти себе дело, которое отвлекло бы от тягостных мыслей.
Еврейские арестанты вздохнули с облегчением: теперь вся ненависть охранников обратилась против польских заключенных, которых становилось все больше и больше. Их встречали дубинками и отборной руганью сразу же, едва они оказывались на территории лагеря. Их хватали отовсюду, волею судьбы оказавшихся на территории Германии не в то время.
Вместе с тем ни британцы, ни французы ничего не предпринимали. Мы наступали уже несколько дней, но Лондон и Париж продолжали хранить молчание. Каждый вечер мы собирались в столовой, чтобы послушать радио, но ничего нового, кроме сводки с Востока, не было. Становилось все очевиднее, что при таких раскладах польская заварушка не продлится долго.
…Я не стал дослушивать сводку и вышел на улицу. Был теплый сентябрьский вечер. Подул легкий ветер, я вдохнул полной грудью, и мне вдруг пришло в голову, что неплохо было бы выбраться с Линой на озеро поплавать на лодке или сходить на пикник в парк, тем более что на следующий день предполагался выходной. Утром я отправился в Мюнхен. Перед тем как идти к Лине, я решил заскочить в лавку и пополнить запасы мыла и одеколона. Я шел по щедро залитой солнцем центральной площади, как вдруг послышался голос диктора, с торжественным сожалением сообщавший, что Англия официально объявила Германии войну. Я почувствовал, как что-то посыпалось мне на сапоги. Это были шоколадные драже, купленные для Лины, они сыпались из кулька, зажатого в моей безвольно опущенной руке. Я оглянулся, вокруг стояли такие же потрясенные люди. Они все еще продолжали смотреть на замолчавший громкоговоритель, будто ждали, что он сейчас оживет и пояснит, как такое могло произойти. Никто не возмутился, не вскрикнул, не зароптал. Тишина. Она оглушала. Я тоже смотрел на громкоговоритель и хмурился. Как англичане могли пойти на это?
– Чертовы томми, – тихо пробормотал кто-то сзади.
Я оглянулся – полный мужчина средних лет качал головой.
– А что томми, – так же подавленно проговорил его спутник, такой же тучный и хмурый, – это они еще долго терпели не скажу чьи выкрутасы.
– Тише ты, – зашипел его приятель.
Они тут же поспешили убраться. Я сделал вид, что не расслышал их. Уличный гомон резко стал нарастать. Встав на колени, я начал собирать конфеты, а вместе с ними и свои мысли в порядок. Подойдя к урне, я с остервенением бросил в нее бумажный кулек. К Лине я не пошел.
События развивались стремительно. Буквально через несколько дней был захвачен Краков, но обещанной реакции со стороны англичан и французов – вторые также объявили нам войну спустя несколько часов после томми – снова не наступило. Это вселяло некоторый оптимизм по поводу их благоразумия. Постепенно напряжение начало отступать, все мы решили, что это был лишь акт сохранения лица, за которым не последует решительных действий.
– Наши уже в тридцати километрах от Варшавы! – Карл потрясал очередным выпуском «Фёлькишер Беобахтер». – Польское правительство смылось в Люблин. И недели не прошло, а мы уже фактически разгромили поляков! Пишут, что весь мир под впечатлением от той скорости, с которой немецкая армия смяла Польшу.
– Хе-хе, неудивительно, – усмехнулся Штенке, – в газетах пишут, что на многих польских орудиях стоит клеймо четырнадцатого года! Эти недоумки вздумали выставить против нас технику прошлой войны! Еще бы на лошадях попрыгали против танков, идиоты!
И Штенке разразился громким хохотом.
– Считаю, как закончим с поляками, нужно предлагать Западу мир. – Карл довольно потер руки, словно в предвкушении чего-то грандиозного.
Я был согласен с ним, полагая, что подобный расклад всех бы устроил.
– И все стороны сохранят лицо, – согласился и Ульрих.
– Кроме Польши, – скептически усмехнулся молчавший до этого Франц, – боюсь, к тому времени ее лицо будет обезображено до неузнаваемости.
– Главное, чтобы на Западном фронте было по-прежнему тихо. – Я пожал плечами.
Погода продолжала радовать, дни были по-летнему погожими, и я все-таки решил выбраться с Линой на лодочную прогулку. Таких желающих оказалось немало, и мне пришлось надавить на начальника лодочной станции, чтобы получить лодку без очереди. Впрочем, «надавить» – громко сказано: черная форма СС и без слов имела какое-то магическое воздействие на людей.
Лина оперлась о борт и опустила руку в воду. Легко перебирая пальчиками, она смотрела, как капли струились по ее ладони, блестя в мягком солнечном свете. Работая веслами, я любовался ее расслабленной позой, красивым лицом, слегка укрытым тенью от шляпки, мягкими округлыми руками, чуть полноватыми молочными ногами, которые она игриво оголила под солнцем. С дальнего берега подул легкий ветер, вскинул мягкие поля ее шляпки и заиграл завитками темных кудрей, удерживаемых шпильками. Лина отвлеклась от созерцания воды и наконец посмотрела на меня.
– Странно, правда?
– Что именно? – Я чуть скосил взгляд, чтобы разойтись с другой лодкой и не задеть ее своим веслом.
– Идет война, где-то умирают люди, а мы катаемся на лодке и наслаждаемся отдыхом.
Я нахмурился.
– Я не прячусь от войны, Лина, если потребуется…
– Да нет же, я не об этом, – тут же перебила она, – речь не о тебе, посмотри вокруг, ничего не поменялось: немцы, как и прежде, выбираются за город на прогулки и пикники, в театрах новые сезоны, рестораны и кафе по вечерам полны посетителей. Опера, кино, соревнования… Ничего не изменилось.
Мы достигли середины озера, и я закрепил весла. Закатав рукава рубашки, я тоже откинулся на борт и подставил лицо солнцу.
– Почему не изменилось, а как же продовольственные нормы, а акцизы на пиво? Да и тот декрет о заморозке зарплат – это ли не явное влияние войны? – проговорил я, лениво жмурясь на свет.
– Если это самое сложное, что нам предстоит испытать, что ж, тогда война не так страшна, как я себе представляла.
И Лина вновь перевела взгляд на воду.
Среди охранников нарастало напряжение – из канцелярии рейхсфюрера пришел тайный приказ, согласно которому все казни, о которых распорядился штаб Гиммлера, исполнялись в ближайшем концлагере. Я видел, что многие охранники были ошеломлены этим приказом. Никто не решался роптать открыто, но по озабоченным и растерянным лицам было понятно, что не у всех достанет твердой решимости исполнить его. Очевидно, слухи об этом достигли ушей самого Эйке, поскольку папаша неожиданно собрал весь персонал перед комендатурой. Заговорил он совершенно спокойно, но внушительно:
– Теперь не то, что вчера, ныне вступили в действие законы войны. Отныне каждый приказ – святыня, и никаких промедлений в его исполнении быть не должно. Враг должен знать, что за каждым словом последует решительное действие. И лишь смертная казнь имеет самый продуктивный эффект. Лучшего способа еще не придумали. Сейчас безопасность рейха превыше всяких норм, а потому всякий, надевший форму СС и ступивший на территорию лагеря, должен забыть о них. Вы такие же солдаты, как те, что на передовой, и вы так же обязаны идти в наш внутренний бой без страха и оглядки.
Через несколько дней я встретил потерянного Готлиба. Я знал, что сегодня он участвовал в двух казнях. Одного узника ему пришлось расстрелять уже после того, как тот упал, потеряв сознание. Готлиб брел к казармам, время от времени отклоняясь от прямой, по которой шел. Подойдя ближе, я убедился, что он был не пьян. Готлиб скользнул по мне отстраненным взглядом и снова уставился перед собой. Я продолжал идти рядом. Он сам заговорил:
– Я не могу. – Он затряс головой.
Это был тот же Готлиб, который устроил для нас показательное избиение заключенных, когда мы только прибыли в лагерь. Я устало вздохнул:
– Ты мог издеваться над ними, бить, уничтожать морально, опускать до уровня животных ради обыкновенной забавы или пари, но ты не в силах спустить курок, когда это действительно требуется во имя справедливости и безопасности твоего народа. Готлиб, ты, может, больше них заслуживаешь находиться в этих бараках.
Я знал, что замерший Готлиб пораженно уставился мне в спину, но не обернулся, чтобы хоть как-то ободрить его.
Двадцать восьмого сентября Варшава капитулировала.
Но вместо того чтобы вместе возрадоваться победе, все кинулись яростно отстаивать свое мнение касательно будущих действий Германии: казармы и офицерские столовые вновь превратились в клубы отчаянных диспутов.
– Польша на коленях! Так не самое ли время поставить в такую же позу и лягушатников? – вопрошал Штенке.
– Глупо считать, что французы тоже выставят против нас мотыги времен мировой войны, – качал головой Франц, – у этих танки не деревянные и ружья не картонные. То, что сгодилось с Польшей, не сгодится против сильной современной армии. Поддаваться эйфории – великая глупость.
– Великая глупость – пораженческие настроения, Ромул! Теперь весь мир увидел нашу силу.
– Мы всего лишь поиграли мускулами перед запуганным первоклашкой, за которого обещали вступиться старшие товарищи, но так и не вступились.
Я не вмешивался, но был склонен согласиться с Францем. Странная война на Западном фронте мало походила на реальное исполнение союзнических обязательств Англии и Франции. К тому же по лагерю ходили слухи, будто даже генералы в вермахте считали, что наступление на Западе приведет Германию к катастрофе. Кто-то шепотом передал, что в Генеральном штабе это назвали «аферой», не имеющей шансов на успех, а Гальдер[90] и вовсе окрестил план безумным.
– Пока единственные выстрелы, – настойчиво продолжал Франц, – которые прозвучали на том фронте, были сделаны по куропаткам каким-то пьяным капралом, который и напился-то со скуки. Ни те ни другие не хотят воевать, сейчас они в весьма дружеской атмосфере возводят оборонительные укрепления, чтобы предъявить миру хоть какие-то действия, но, боюсь, еще немного – и «противники» начнут из вежливости помогать друг другу перетаскивать тяжелые мешки для этих укреплений. Боли и крови тот фронт еще не увидел.
Ульрих поочередно смотрел то на Франца, то на Штенке, наконец и он решил высказать свое мнение:
– Ромул верно говорит, пора кончать. Польше уже каюк, мы получили что хотели и даже больше, если посудить. Фюрер сам заявлял, что на Западе у нас притязаний нет, так зачем же губить сотни солдат и добра на миллионы?
– Не знаю, как французы, а англичане на это теперь не пойдут, – все-таки вмешался и я, – их новый бульдог Черчилль не из того же теста, что Чемберлен. Этот попрет до конца, он еще во время Судет гавкал в нашу сторону.
Штенке тут же взвился:
– Так я и говорю, нужно гнуть лягушатников сейчас, пока томми не очухались. Необходимо быстро перекидывать силы на Запад и делать лягушачье рагу! Тем более пока русские продолжают придерживаться соглашения. Рано или поздно они нарушат его, это ясно как день, у этого пакта нет никакой цены, уж вы мне верьте. Меня эти их заверения в крепкой дружбе не обманут. Иваны спят и видят, как придушить нас. Повторяю, сейчас надо идти на лягушатников, пока Сталин с нами.
– Не понимаю, – проворчал Карл, – почему фюрер делает так много уступок Советам? В этой войне с Польшей победили мы, но в большем выигрыше оказались русские! Пришли на готовый раздел пирога и сейчас получают самые лакомые куски: Борислав, Дрогобыч, а ведь там, говорят, нефть! Им отошел даже Львов, который уже был занят нашими войсками! – горячился он. – Просто забирают себе то, что теперь по праву принадлежит нам, и это притом, что всему миру заявили, будто пришли в Польшу защитить своих украинских и белорусских собратьев, которых притесняет польское панство. Смердит лицемерием, не находите?
– Ты прав, друг Карлхен, бесстыдный плагиат нашего чехословацкого финта, – улыбнулся Франц.
Я покачал головой.
– То было другое, идиот! – Карл даже вскочил. – Наших там действительно уничтожали, и мы, в отличие от русских, имели все законные права и на Судеты, и на Данциг.
– Но получили много больше, – улыбнулся Франц.
– Я не понял, Ромул, тебе не нравится, что Германия наконец в том положении, которое заслужила по праву? – Штенке встал рядом с Карлом.
– Возвращаясь к вопросу нашего Карлхена, хочу сказать, что пока, очевидно, фюрер пошел бы и на бо́льшие уступки русским, только бы удержать их от сношений с англичанами и французами. Эта случка может перевернуть все наши планы. А кроме того, дележка добычи делит и ответственность, – многозначительно добавил Франц, – никогда не знаешь, чем все обернется.
– Ерунда! Польская компания всему миру показала, с кем теперь нужно считаться, – твердо проговорил Штенке.
– И мы вновь возвращаемся на исходную, – терпеливо проговорил Франц, – мы поиграли бицепсами, но пустить их в дело не довелось.
Началась чистка территорий, которые отныне принадлежали рейху. Потрепанный транспорт, ехавший издалека, выплевывал в лагерях весьма пестрое содержимое: тут были и солдаты Сопротивления, и пособники, и интеллигенция, и священники, и польские евреи. Вскоре эта польская масса превысила по численности немецких заключенных, и это несмотря на то, что полиция продолжала без устали чистить и сам рейх.
Я лениво наблюдал, как неутомимый Штенке учил охранное пополнение лагерным порядкам, охаживая группу узников дубинками. Новички наблюдали расширившимися от ужаса глазами, в которых застыло недоверие. Очевидно, так же выглядел и я, когда впервые оказался в Дахау, а сейчас мне просто хотелось спать. Рядом зевал Карл.
– Знаешь, что больше всего сводит с ума этих упитанных? – Так Карл называл бывших представителей среднего класса, оказавшихся в лагере. – Обращение на «ты». Попрание их статуса напрочь ломает их, вот что я тут заметил. Уголовник воспринимает это как должное, он и не ждет иного, а вот благополучный середнячок ломается от тыканья. Попробуй как-нибудь подойти к упитанному бонзе в очках, которого только-только привезли, и рявкнуть ему: «Эй, ты!», вот уж умора. Разве что за сердце не хватаются.
– Ты психиатром решил заделаться?
Он пожал плечами.
– А если б и так, что в этом такого? Я врачом в детстве хотел стать, а теперь вот тут… – Он растерянно оборвал фразу, будто сам еще не решил, как закончить ее. – Может, в будущем, кто знает. Не вечно же лагеря будут существовать. Как справимся с заразой, останется, может, парочка для острастки. Как думаешь, Виланд, выйдет из меня врач?
– Конечно, Карл, почему нет?
Мимо нас по направлению к основным воротам проследовала рабочая команда. Я скользнул по ней взглядом и отвернулся, но что-то заставило меня вновь оглянуться. Усталые заключенные толкали тачку с инструментом, за ними плелись остальные рабочие пятерки, их сопровождали охранники. Я присмотрелся к одному из них. Высокий, худой, блестящие прямые волосы, старательно зачесанные назад. Словно что-то почувствовав, он стремительно обернулся, я не успел отвести взгляд. Мы смотрели друг на друга, но я не узнавал его – лицо ничем не примечательное, хмурый. Он отвернулся.
– Знаешь его? – Я кивнул на удалявшуюся спину охранника.
Карл присмотрелся.
– Это Роб Хуббер, он из новеньких, кажется, из Берлина. Толковый парень. Да ты и сам можешь его знать, он говорил, что жег книги на глазах у самого Геббельса. Ты же тоже…
Я покачал головой.
– Нет, не помню, чтобы мы пересекались.
Мог ли я запомнить все потные, разгоряченные, раскрасневшиеся лица студентов, бросавших в ту ночь книги в огромный костер на Опернплац? Я был так взбудоражен, что не запомнил бы и лицо самого черта, явись он передо мной в тот момент.
– Теперь-то полегче будет, – продолжил Карл, – объявят перемирие, вздохнем.
Я пожал плечами. Газеты действительно надрывались в заверениях, что перемирие – дело фактически решенное. Воевать в зиму никому не хотелось, да и было бы за что. В самом деле, если англичане и французы не предприняли ничего кардинального за прошедший месяц, так за что ж теперь-то проливать кровь, когда мы окончательно расправились с поляками и этот вопрос закрыт?
– Не думаю, что будет легче, – проговорил Ульрих, возникший рядом, как всегда, тихо и незаметно, – говорят, с аннексированных территорий выселяют втрое больше поляков, нежели туда заселяют фольксдойче[91].
– И куда эти польско-еврейские стада перегоняют? – Карл вопросительно посмотрел на брата. – Они же не растворятся в воздухе просто так.
– Вот именно, куда их, по-твоему, перегоняют? – Ульрих кинул многозначительный взгляд на бараки с заключенными.
– Почему бы им не начать строить лагеря на местах, – задумчиво протянул Карл, – это избавило бы нас от многих проблем.
– К этому все и идет, – проговорил я, – в комендатуре поговаривают, даже нашли подходящее место где-то под Краковом, в каком-то Аушвице. Правда, по слухам, местечко совсем гиблое: болота, трясины и несколько мелких фабрик.
После очередного удара Штенке заключенный упал на четвереньки и замер, не осмеливаясь даже втянуть голову в плечи. По его подбородку сочилась кровь и капала на пыльную землю. Я отстраненно смотрел на эти капли, не замечая ни арестанта, с которого они капали, ни Штенке, который бил его, – я продолжал думать о перемирии. Накануне Лина показала мне бумажку, одну из тех, которые теперь вкладывали в каждое меню в кафе, ресторанах и пивных. Это была подробная инструкция, как добраться до ближайшего бомбоубежища в случае авианалета. Я никак не мог понять: если предполагается мир, зачем гражданских учат, как себя вести во время воздушной тревоги? Откровенно говоря, у меня совершенно не укладывалось в голове, что англичане могли начать нас бомбить. Не те теперь времена, чтобы сбрасывать бомбы на мирное население. Даже для островных обезьян это перебор. Очевидно, это были меры предосторожности, только и всего.
Через несколько дней во время выступления в рейхстаге Гитлер открыто предложил Западу пожать друг другу руки на международной конференции где-нибудь на нейтральной территории. Условие было одно, простое и справедливое, – оставить нам то, что мы взяли на Востоке: «Глупо губить миллионы людей и уничтожать имущества на миллионы же для того, чтобы возродить из пепелища государство, которое с самого своего сотворения было признано мертворожденным всеми, кто не поляк по происхождению. Для великих держав будет глупостью продолжать нынешнее противостояние во имя Польши, этого непослушного обреченного дитяти. Продолжив, мы развеем национальное благосостояние Европы снарядами пушек и артиллерии и истощим на полях сражений силы каждого народа. А потому пусть нации, которые придерживаются того же мнения, дадут сегодня свой ответ. Те же, кто считает войну лучшим средством разрешения проблем, пусть оставят без внимания мою протянутую руку».
Газеты были полны оптимизма: «Фюрер продемонстрировал волю Германии к миру: сотрудничество с великими державами Европы», «Никакой военной агрессии против Англии и Франции!», «Никакого пересмотра требований, за исключением колоний!», «Сокращение вооружения!», «Сроки мирной конференции вот-вот будут объявлены». Германия целиком и полностью поддерживала мирную инициативу.
Повсюду царила атмосфера эйфории и облегчения.
– Миру быть, французы ухватятся за эту возможность и на англичан поднажмут, у тех попросту не останется выбора. Никто не хочет войны.
– Я слышал из самых надежных источников, – передавалось из уст в уста, – что английское правительство уже готово к мирным переговорам.
Слух этот моментально облетел весь Мюнхен. В некоторых пивных по такому случаю даже бесплатно наливали пиво. Пропустить такую знатную попойку мы не могли и выбрались отметить отличные новости.
– Фюрер ясно дал понять, что считает Англию ровней. Мир велик, что же, в нем не найдется места для двух великих держав? – После каждого заявления Карл ударял кулаком по столу и делал большой глоток пива. – Германия стремится к миру, вот в чем правда. И вообще вся эта заваруха – дело рук парламентских олухов, которых за ниточки дергали евреи. Умные англичане уже давно поняли, кто настоящие виновники этой войны на Западе. Наступит перемирие, и фюрер сделает все, чтобы очистить Англию от евреев, ей же во благо. У томми много колоний, есть куда сплавить этот сброд.
В какой-то момент язык его начал заплетаться, а вскоре он и вовсе надрался так, что просто рухнул на стол рядом с недопитой кружкой. Ульрих со вздохом сгреб младшего брата со стола и поволок его на улицу. Пьяный Карлхен попытался вяло сопротивляться, но уже у самой двери просто уронил голову и полностью обмяк на брате. Придерживая одной рукой Карла, другой Ульрих попытался раскрыть дверь, но в этот момент она сама распахнулась. Влетевший посетитель осмотрелся по сторонам и быстро подскочил к нашему столу. Ничего не говоря, он схватил недопитую кружку Карла и одним махом опрокинул ее в себя, затем вытер губы размашистым движением руки и громко отрыгнул:
– Извиняйте, бежал от самой Бриннерштрассе.
Затем он крикнул на весь зал:
– Мира не будет! Англичане и французы отвергли предложение фюрера. Только что Риббентроп объявил, что война будет продолжаться до победного конца!
Конец его фразы потонул в возмущенных криках. Застучали кружки, задвигались стулья, вокруг незнакомца, все еще пытавшегося отдышаться, тут же сгрудилась загомонившая толпа.
– Чертовы томми, чтоб вы передохли все, – прорычал какой-то работяга с грязными закатанными рукавами.
– Помоги нам Господь выбраться из этой передряги.
– Не неси чушь, наша авиация их в бараний рог свернет! Геринг по радио заверил…
– Верно! Чертовы англичане попляшут, как поляки под градом наших мессершмиттов.
Я оторопело посмотрел на Франца. В тусклом освещении сложно было разглядеть выражение его лица, но я готов был руку дать на отсечение, что на его губах поигрывает улыбка.
– Черт тебя дери, Франц!
Ответить он не успел, в этот момент вернулись Кохи. От Карла несло рвотной кислятиной, но выглядел он лучше. Он огляделся в поисках своей кружки и, стукнув кулаком по столу, требовательно произнес:
– Где мое пиво? Пьем за мир!
Я чертыхнулся и отвернулся от него.
Уже на следующий день было объявлено о введении норм на покупку одежды и обуви. Все шло на нужды фронта, гражданскому населению оставалось довольствоваться тем, что у него уже было. Люди по улицам ходили хмурые: словно в наказание за теплую и солнечную первую половину осени, вторая была особенно дождливой и промозглой, а купить теплые ботинки или резиновые калоши могли только государственные служащие, да и то лишь те, чья работа была непосредственно связана с улицей: газетчики, строители да уборщики мусора. Еще сложнее было достать теплое зимнее пальто – его приравняли к двум сотням купонов, а по карточкам было положено всего сто пятьдесят купонов на человека. Угрюмыми ходили и наши охранники: несмотря на все старания отдела снабжения, персоналу не хватало ни постельного белья, ни мыла, ни крема для бритья, ни исподнего, ни формы, ни сапог. Охранники жаловались на страшную тесноту, вместимость казарм уже давно была превышена раза в два, а где-то и в три. Радовало, что хотя бы паек лагерному персоналу не урезали. Заключенные же и вовсе начали откровенно голодать. Все комендатуры получили официальное распоряжение о сокращении рациона. Нелепость предписания заключалась в том, что арестантам уже давно выдавалось гораздо меньше тех норм, которые были в нем прописаны. Что было в обеденных чанах, одному богу известно, – даже раздатчики зажимали носы, не в силах выносить ту вонь, – но и за это среди заключенных повсеместно возникали стычки. Забыв обо всем на свете, они вырывали друг у друга объедки и миски, которые еще можно было вылизать. От голода многие доходили до отчаяния. Один раз я наблюдал, как раздатчик лупил огромной медной ложкой по тощим пальцам заключенного, но тот, не замечая боли и проклятий, пытался загрести сломанными, окровавленными пальцами хоть что-то густое в водянистой баланде. Ситуацию усугубили ранние морозы. Не во всех бараках были печки, а там, где были, не хватало дров. Как клопы, заключенные облепливали эти остывшие печи, будто пытались согреться ощущением того, что когда-то они были теплыми. Дизентерия, тиф, туберкулез, чесотка, вши, голодный понос, уже не удерживаемый ослабевшими телами и текущий по ночам прямо на тех, кто спал на нижних нарах, стали обыденностью лагеря. По утрам охрана все чаще находила в холодных сортирах скрючившиеся замерзшие трупы. Очень быстро мы поняли, что это были больные, неспособные держать дерьмо в себе, которых другие заключенные выталкивали ночью из бараков, чтобы не терпеть разносимый ими смрад.
Под Рождество я получил письмо от отца. Он писал, что внимательно прослушал праздничную речь фюрера, который заверил немцев, что страна и экономически, и в военном отношении готова к войне.
«А между тем у нас пайка по карточкам позволяет разве что не помереть с голоду. Или он имел в виду, что к Рождеству нам дополнительно позволено получить четверть фунта масла и целых четыре яйца вместо одного? Витрины ломятся от красивых вещей и вкусностей, но купить, Виланд, ничего нельзя. Директор Штайнхофф проболтался, что все выставлено по приказу свыше, чтобы создать впечатление сытости и благополучия. Но перед кем? Перед теми, кто сейчас недоедает? Пишут, что эти нормы полностью соответствуют обычным потребностям здорового человека, пытаются нам доказать, что в этом есть плюсы, мол, оздоровление для переедающего народа. Национальная диета, сынок. Что ж, и от войны была бы польза, кабы все было так, да только шатаются люди от такого "оздоровления". Нас убеждают, что мы обойдемся недорогой войной, а тем временем, уж не знаю, слышал ты или нет, пару недель назад ввели продовольственные карточки и для домашней скотины. Придется Готфриду Шульцу отправить под нож его Марту, ибо с таким пайком молоко от нее будет негодное. Вот она, первая жертва войны в тылу, – корова Марта. Я уговариваю Готфрида повременить: свежее молоко очень нужно твоей матери. Готфрид пока согласен, потому как верит, что все должно быстро завершиться, – он читает в газетах, что, мол, Геринг заверяет: стоит нам захотеть, и мы сотрем англичан с лица земли одним мощным авианалетом, у нас есть на то и средства, и мощности, фюреру нужно сказать только слово. Но, видимо, велик наш фюрер в своем человеколюбии и к врагам в том числе. Молчит. Видать, не хочет использовать знаменитое превосходство. В доме сейчас совсем холодно, сынок, градусов семь. Угля нет, и достать его негде. Из-за этого закрыли главную библиотеку и большинство школ, а это первый признак военного ужаса, который нам еще только предстоит испытать, – у детей забирают возможность стать грамотными. Сами они пока еще не понимают, что уже приносят великую жертву. Дети войны – это страшно, сынок. Я таких видел, они безграмотные, но мудры голодом и животными инстинктами. Страшные люди впоследствии. Дай бог, все действительно быстро закончится и не успеют появиться такие новые люди. Немцы терпят, надеясь только на скорый и окончательный мир. Если их надежды на тот мир пойдут прахом, таким же прахом явится и их доверие правительству. Народ не дурак, понимает, на чьи плечи реально возлагаются все тяготы войны, и это уж точно не те плечи, которые заседают в министерствах и ставках… Ах да, моемся мы теперь раз в неделю, объединяемся с семьей Пиорковски: греем воду, разводим в ней мыло и купаемся по очереди, согласно жребию. Бедному Гансу уже второй раз не повезло, две субботы подряд ему выпало мыться последним. Да мы все понимаем, стараемся не соскабливать с себя всю грязь до последнего, да вода все равно к концу черная. Жаль Ганса, но что поделаешь, жребий на то и есть, а мы люди честные, как наш фюрер…»
Я с остервенением смял письмо, не дочитав. Мировая война, которую он прошел, должна была закалить и ожесточить его, но вместо того сделала из него бесхребетного капитулянта. Только и может, что ныть. И он, и все остальные, на которых я то и дело натыкался в Мюнхене. Как будто у Германии был выбор – Англия и Франция отвергли мир, который им великодушно предлагался.
Открылась дверь, и в помещение ввалился краснощекий Карл. Он судорожно хлопал себя по бокам.
– Холодно, градусов шесть-семь минуса, – произнес он.
– Грейся, – ворчливо проговорил я, – угля у нас навалом.
Это была чистейшая правда, казармы в Дахау отапливались хорошо.
Несмотря ни на что, Рождество мы встречали весело. В честь праздника Гиммлер разрешил питейным заведениям работать всю ночь. «Мы вступаем в новый период германской истории, – трескуче вещало радио с ярко выраженным австрийским акцентом, – страна сплотилась как никогда, в высшей степени мы сильны в военном отношении, и наступающий год станет решающим. Победа будет за великой Германией!»
– Хоть союз с Союзом – самое неестественное, что можно было придумать, но за него стоит выпить. – Штенке был уже изрядно навеселе и покачивался, рискуя выплеснуть на меня свое пиво. – Впервые за долгое время Германии не надо драть жопу на два фронта, теперь спокойно прижмем лягушатников и томми.
– В воздухе, возможно, мы и правим бал, но на воде нам с англичанами сложно тягаться. Мировая война дала понять, что без выхода в Северную Атлантику нам придется туго. Если мы не заполучим базы на норвежском побережье, то нечего и думать, чтобы бодаться с островными обезьянами на воде. Нужно двигаться через Норвегию и Данию, – проговорил Франц.
– Через Бельгию и Голландию напрямую! Навстречу томми без трусливых петляний! – парировал Штенке заплетающимся языком. – На кой черт нам делать крюк через Норвегию? За Германию!
– За великую Германию! – раздались громогласные крики, и мы разом осушили свои кружки.
Быстро захмелев, я сел в углу и зачем-то снова полез в карман, там я нащупал тоненький конверт. Это было очередное письмо от отца, в нем он коротко сообщал о кончине матери.
После зимнего затишья наступила беспокойная весна. В Дахау вновь пошли транспорты с арестантами. В основном евреи. Следом за этим пришло распоряжение от Гиммлера, запрещающее освобождать их из лагерей. Лишь те из них, кто имел визу и мог покинуть Германию до конца апреля, могли рассчитывать на свободу, но таких было ничтожно мало, да и они не всегда могли доказать подлинность своих разрешений на выезд.
А между тем предсказания Франца сбылись – немецкие войска вошли в Данию и Норвегию. Судя по сообщениям в газетах, томми собирались первыми оккупировать Скандинавию и подмять под себя базы на местном побережье, а мы лишь сработали на опережение, чтобы превентивно защитить скандинавские порты: «В отсутствие какой-либо альтернативы великому германскому народу осталось принять вызов и защищать не только себя, но и тех, кто сам не способен противостоять угрозе с Запада. Англичане бесстыдно идут по трупам скандинавских народов к своей цели. У датчан и норвежцев осталась лишь одна надежда, и имя ей – Германия! Немцы защитят малые народы от английских преступников. Немецкое военное руководство выражает надежду, что Норвегия и Дания поймут всю необходимость наших действий, и в первую очередь пользу этих действий для самих же норвежцев и датчан. Мы вступаем в эти страны исключительно для обеспечения их же свободы и независимости…» Далее в газетном сообщении от правительства сообщалось, что датчанам и норвежцам уже направлен меморандум, в котором им предлагалось принять защиту. И если датчане оказались благоразумными, приняв меморандум в тот же день, то норвежцы сопротивлялись до июня.
Мы торжествовали.
– Нашим бомбардировщикам даже не пришлось вступать в игру. Один их рев заставил датчан согласиться.
– Да что там бомбардировщики! Король[92] приказал своей армии сложить оружие через пару часов после того, как наш первый солдат пересек их границу. У старика сохранился здравый смысл.
– Еще бы его брат мог этим похвастаться.
Король Норвегии Хокон VII – брат короля Дании Кристиана X – ответил немецким посланникам презрительным и безрассудным отказом. Позже стало известно, что все норвежское правительство во главе с королем бежало на север и скрылось в горах, что, впрочем, было неудивительно, учитывая, что норвежская армия даже не была мобилизована. Поведение норвежского монарха вызвало у нас откровенное недоумение, поскольку фюрер ясно дал понять, что притязаний на полномочия королевского семейства у него нет, он лишь хочет уберечь это семейство и всех его подданных от захвата англичанами. Но Хокон VII, в отличие от своего здравомыслящего брата, предпочел изгнание – после того как мы с ходу взяли крупнейшие порты: Нарвик, Тронхейм, Берген, Кристиансанн, Осло, а также аэродром Сола близ Ставангера, англичане погрузили короля Норвегии и его несчастное правительство на свой крейсер и вывезли в Лондон. Как бы то ни было, даже в такой ситуации Германия была намерена защищать истинный нейтралитет Дании и Норвегии от возможной англо-французской оккупации, чего бы ей это ни стоило. Вместе с тем переход Дании и Норвегии под контроль Германии дал нам долгожданный прорыв в Северную Атлантику и обеспечил морскими базами, которыми теперь мог распоряжаться наш флот, а кроме того, он обезопасил важные поставки руды из Швеции. Теперь наши авиационные базы были на сотни миль ближе к томми.
Чуть ранее, десятого мая, немецкие дивизии вошли в Бельгию и Нидерланды. Как анекдот передавали историю о нашем после в Брюсселе, который должен был предъявить бельгийцам официальные бумаги с ультиматумом, но замешкался в пути и прибыл, когда наши самолеты уже вовсю расчерчивали бельгийское небо и даже успели сбросить парочку бомб на ближайшие аэродромы.
– Когда этот увалень наконец добрался, чтобы сообщить о вступлении немецких войск для их защиты от англичан, Спаак[93] с каменным лицом кивнул на окно, за которым ревели наши бомбардировщики: «Я вижу, уже защищают», – передразнил хохотавший Штенке.
– По мне, так не смешно, – пожал плечами Ульрих, – это пятнает нашу честь. Германия не раз давала этим странам гарантию соблюдать нейтралитет. Фюрер еще несколько недель назад заверял и бельгийцев, и голландцев, что никогда не пересечет их границы с оружием.
– Ульрих, ты порой меня жестко разочаровываешь, – тут же вскинулся Карл, – мы-то как раз и защищаем их чертов нейтралитет от англо-французской чумы, она ведь на подходе к их границам! Будто тебе неизвестно, что Франция сама со дня на день собиралась ввести свои войска в Бельгию! По-твоему, лучше было дождаться этого? И если бельгийцы воротят нос и не видят своих же интересов, то теперь это их проблемы. Теперь всякая ответственность за возможное кровопролитие на их совести. Это война, полумер и уговоров быть не может.
– Мы для них захватчики, – упрямо проговорил Ульрих.
– Чушь! – уже закричал Карл. – Мы предупреждаем вторжение с той стороны, идиот!
– Они не читают наших газет, брат, потому не знают этого, – угрюмо проворчал Ульрих. – Никто уже не верит в это, все прекрасно понимают, что голландские аэродромы нужны нам для проведения воздушных операций против томми. Так почему бы не выступить открыто? Это пятнает нашу честь.
– Я сейчас покажу тебе, что пятнает нашу честь, – прошипел Карл.
Не успели мы и глазом моргнуть, как он налетел на старшего брата. Мы с Францем кинулись их разнимать, хотя держать нужно было только Коха-младшего. Ульрих по привычке лишь прикрывал голову от братских тумаков, даже не думая давать сдачи.
– Захватили Роттердам! – разнеслось по всему Дахау спустя несколько дней. – Взяли их одной танковой дивизией!
– А наши бомбардировщики! Говорят, они отлично подрихтовали город.
– Вот это, я понимаю, скорость и размах наступления, – восхищался Штенке.
– Сам Черчилль не скрывает, что ошеломлен.
– Томми боятся наших мессершмиттов как огня, наша авиация жалит знатно! Им с нами не тягаться!
Вскоре жалкие остатки правительства Нидерландов капитулировали и тем самым уберегли от бомбардировок Амстердам и Гаагу. Через некоторое время то же самое сделала и Бельгия[94].
Вскоре были захвачены практически все важнейшие города на побережье, танки Гудериана[95] с легкостью подмяли под себя Булонь и Кале, французы и англичане оказались полностью изолированы друг от друга. Обе армии были сдавлены со всех сторон на крохотных пятачках. В последующие дни мы стремительно захватывали побережье Ла-Манша. Англичане отчаянно пытались спасти жалкие остатки своей разгромленной армии, переправляя солдат малыми группами на боевые суда в крохотном осажденном Дюнкерке, но наша авиация легко прерывала эти потуги. Их истребители не способны были прикрыть даже эти мелкие переброски. В прессе красочно живописались барахтавшиеся в воде томми, которые пытались догрести на мелких лодках и плотах до своих боевых кораблей. Каждый день в газетах давался подробный перечень подбитых и потопленных британских судов и количество их сбитых истребителей.
– Сорок пять английских пташек отправились на дно морское, – Штенке потрясал новой газетой, – подбиты пять крейсеров, семь эсминцев и четыре торпедных катера. В завтрашней газете обещают сообщить информацию по транспортным судам. Дождались островные обезьяны! Думали, в водах им нет равных, а вот получайте! Они еще долго будут помнить Дюнкерк, помяните мое слово![96]
Я перехватил газету у Штенке, пока она не разошлась по рукам, и внимательно просмотрел ее – данных о немецких потерях не было. Судя по всему, разгром англичан на побережье был полнейшим.
Пока я просматривал газету, парни продолжали обсуждать:
– Дюнкерк теперь будет костью в горле у Черчилля стоять. Пусть помнит, как отклонил мир Германии.
– Ничего, ему там сейчас весело, королева Вильгельмина[97] вместе со своим правительством пожаловала в гости.
– Они там с Хоконом создадут кружок по интересам.
– Томми нужно как можно скорее избрать себе человека с трезвым и объективным взглядом на происходящее и всецело предаться его воле. Иначе после войны придется платить по всем счетам, отвертеться не удастся.
– Я знаю только одного томми, который мог все сделать по уму. Герцог Виндзорский[98] всегда шел нам навстречу.
– Именно поэтому они и заткнули ему рот и выслали к чертям из Англии. Я уверен, будь он у власти, мы бы уже давно достигли соглашения с англичанами.
– Рано праздновать окончательную победу, – неожиданно встрял Франц.
Его пессимизм уже действовал всем на нервы.
– И что нам помешает? – насмешливо посмотрел на него Штенке. – Их армия приказала долго жить. Они уже небось тысячу раз пожалели, что не приняли предложение фюрера. Сейчас бы мирно жевали свою овсяную кашку и не знали забот. У них был шанс, но томми его бездарно упустили.
Франц согласно кивнул, будто и не думал протестовать. Тихим, но твердым, однако, голосом он напомнил:
– Мы почти дожали в семнадцатом, но почему-то не мы в итоге праздновали победу.
– Тогда чертовы америкашки…
– Вот именно. На ровном месте они поставили под ружье больше двух с половиной миллионов солдат и каждый месяц отправляли на фронт без малого двести тысяч. Так что помешает им сделать еще раз то же самое? Вряд ли Рузвельт оставит англичан в беде, он не дурак, сам понимает, чем это грозит ему самому.
Штенке лишь передернул плечами, не посчитав нужным отвечать Францу.
Прекрасные новости с фронта были омрачены очередным письмом моего отца.
«С польской кампании вернулся Георг, сын Норберта Штрассе, нашего учителя литературы. Смурной, нелюдимый, запил. Норберт пожаловался на него, попросил поговорить с ним, считает, у меня есть подход к таким. Я даже растерялся, Вилли. К каким "таким"? Я нашел Георга в пивной возле их дома… И напился вместе с ним, потому что не мог уйти трезвым после того, что он мне рассказал. Георг, верно, сошел с ума, раз выдумывает подобные небылицы: он служил в особом формировании, что-то вроде военной полиции, они заходили на территорию врага вслед за армейскими частями. Говорит, им приказывали брать в плен даже мирных поляков – мужчин, женщин, детей, стариков, – всех группами отводили на военно-полевой суд, после которого никто этих людей не видел. Однажды ночью там, в Польше, их вдруг заставили поджечь сарай одного фольксдойче. Но огонь вдруг перекинулся и на сам дом этого фольксдойче, в считаные минуты спалив его дотла, – никто из этой семьи не сумел спастись, ни отец, ни жена его, ни старики-родители, ни две маленькие дочки. "Так даже лучше", – сказало им начальство. На следующий день за "жестокое убийство" семьи фольксдойче было арестовано шестьдесят пять поляков, весь цвет городка: врачи, учителя, профессора, священники, юристы… их пытали, чтобы "выяснить имена убийц", потом устали и просто расстреливали на глазах остальных. А их скорбящих жен и дочерей заставили языком вылизать несколько подъездов трехэтажного дома, а потом собирать ртом в одну большую кучу мусор во дворе. Думаешь, это иносказательно? Нет, сынок. "Я до сих пор вижу, как одна молоденькая профессорша бьется в тошнотворных судорогах, слизывая застарелые плевки со ступеней" – так сказал Георг. Меня и самого чуть не вывернуло наизнанку. В Варшаве они заставили женщин мыть дороги нижним бельем… а затем велели натянуть его на себя обратно, кто-то из мужей попытался заступиться, так ему под дулом приказали обосраться прямо в штаны. Ты уж прости, сын, за такие слова, знаю, ты не привык к такому, но других не подберу. Еще много чего он рассказывал, но о том даже писать не буду. И бумага такого не стерпит. Георг все повторял: "Против немцев… против немцев… против немцев… всякое враждебное проявление…" И пил одну кружку за другой, потом плакал, уговаривал самого себя в чем-то. Я больше не мог этого выносить и оставил его одного в той пивной. Если хотя бы половина из того, что он говорил, правда, то это закат человеческой души, Виланд, мне стыдно быть немцем. Сейчас я малодушно избегаю Норберта, хотя это не так уж и сложно, меня ведь уволили. А впрочем, оставаться в школе уже не было никаких сил. Несколько недель назад директор Штайнхофф получил циркуляр, обязывающий учителей показать во всех классах кинохронику о разрушениях, которые наша авиация произвела в Польше, чтобы ученики гордились нашей военной мощью. Я впервые смотрел ее вместе с детьми и остановил пленку прямо посреди просмотра. Дети сидели в полном молчании. Когда я выключил это, одна из девочек обернулась и спросила у меня: "За что им это?" Я не успел ответить, ее сосед по парте опередил меня: "Поляки на нас первые напали", но девочка замотала головой: "Я не о них, я знаю, что поляки плохие, я о наших солдатах. За что их заставляют это делать? Разве им не страшно?" На это даже я не нашелся, что ответить. Я долго думал, почему Георг Штрассе не отказался делать то, что делал, если его душу коробило от того. Почему власть для нас превыше всего? Беда с этим отказом мыслить и анализировать. И ведь похоже на трусость, но нет, это что-то другое, ибо немец готов даже умереть, если поступит приказ, а на это какая-никакая смелость нужна. И твердость, пожалуй. Больше я не показывал детям эти фильмы, вот и попросили на выход. Ты не думай, Вилли, я не болтаю направо и налево, знаю, что это может навредить тебе, а ты – самое дорогое, что у меня осталось на этом свете. Я по большей части сейчас слушаю. Все уверены, что мы выиграем войну, ведь сейчас Россия с нами заодно, на другом конце палки лишь Франция и Британия, "затеявшие эту мировую свару", как сказал мне директор Штайнхофф. И победа эта наступит совсем скоро, уверен он. Сказал так: "Все признаки налицо: на прошлой неделе нам выдали сахара на пятьдесят граммов выше нормы, а на этой неделе сразу два куска мыла вместо одного!" Только не объяснил он мне, зачем повсюду снимают церковные колокола и отправляют на переплавку для производства орудий. А недавно ходили по домам и забирали все оловянные и медные предметы, берут еще из свинца, никеля и латуни, да таких у меня не оказалось. Компенсации не обещают, да, впрочем, мне грех жаловаться из-за ложек и вилок, вот у Норберта Штрассе автомобиль забрали… Что ж, надеюсь, мои вилки и ложки да старый драндулет Норберта помогут нам выиграть эту великую войну. А в том, что она великая, никто не сомневается. Фюрер по радио заверил, что сейчас определяется наше будущее на ближайшую тысячу лет. Скажу тебе по секрету, Вилли, наелись мы этими тысячелетними планами, сыты ими по горло, побед у нас уже хоть отбавляй, складывать негде, но когда уже будет та победа, которая принесет нам мир? Нам бы что-то на более близкую перспективу: где уголь взять к холодам, увеличат ли пайку, удастся ли урвать калоши к началу дождей. Заботы о тысячелетней жизни нам не по зубам, по-прежнему все больше мелочи беспокоят. Вот, например, гестапо запретило матерям и отцам погибших давать в газеты извещения о смерти, так мы даже не знаем, скольких жизней стоят нам эти великие победы, – списки тоже под запретом. Пишут, что Дания и Норвегия дались нам бескровно, а между тем твой одноклассник Отто больше не вернется домой. Он был матросом на крейсере «Блюхер», который затонул недалеко от Осло, хотя в газетах об этом тоже ничего нет, значит, ничего и не было, Вилли. Но Грета, мать Отто, все равно повесилась, – кроме сына, у нее ведь никого не было, сам знаешь. Я догадываюсь, почему газеты об этом не пишут, сынок, – при плохом знании истинной ситуации нет у нашего народа возможности трезво оценить происходящее, но при этом преобладает страх и ненависть к новому "врагу". Всякий раз наши власти стремятся уменьшить распространение информации о реальных потерях и суммах, в которые Германии обходится эта война, и героизируют образ воина, которому предстоит славная прогулка на защиту Отечества…
Запамятовал совсем, есть ведь и хорошая новость, сынок! Макс вернулся с той "прогулки" домой. Оказывается, он тоже был на "Блюхере", правда, не матросом, а среди солдат, которых погрузили туда, чтобы взять Осло. Макс – негодник, болтает глупости, говорит, что они даже не знали, куда отправляются, были уверены, что их ждут обычные учения, и лишь после выхода в море им все сообщили. А ведь половине из них учения действительно не помешали бы. Убивать тоже нужно учиться. Всему, сынок, нужно учиться, даже такому богопротивному ремеслу. Так я и сказал уроду Максу. Да, он теперь урод, все лицо погорело, вместо носа две дырки. Там ведь ад был, Виланд. Макс сказал, все каюты и палуба были завалены боеприпасами и горючкой, которые начали взрываться сразу же после попадания торпед. Те, кто смог удержаться на воде после потопления, погорели заживо в топливе, которое накрыло их плотной пленкой. Полторы тысячи наших мальчишек. Такие дела, сынок. Вести сейчас морскую войну с британцами – великая глупость. Вода – не воздух. Тут их стихия. И в ней мы все еще уступаем им по мощи. Для тех, кому, в отличие от Отто, посчастливилось вернуться из того водяного пекла, это совершенно очевидно…»
Я уставился на письмо, взгляд мой застыл. Отто погиб? Руки непроизвольно опустились. Перед тем как я уехал в Берлин, мы пообещали друг другу писать каждый месяц. И Отто писал, и я поначалу честно отвечал, а потом закрутилось, понеслось. Когда же я написал ему в последний раз? Черт подери, кажется, еще в Берлине, я тогда хвастался, что во время сжигания книг стоял совсем рядом с Геббельсом. Отто радовался, писал в ответ, что я точно далеко пойду, он во мне не сомневается. Не сомневался… Отто погиб? Как такое могло произойти, ведь у нас не было потерь на том фронте: Дания капитулировала, сопротивление Норвегии не доставило проблем. В газетах писали, что урон с нашей стороны единичный, и уж тем более не среди матросов. Что за чушь написал отец? Вражеская пропаганда уже бы трещала об этом без умолку, коль это было бы правдой. Им только повод дай.
– Виланд, ты чего здесь сидишь? – В открытую дверь просунулось лицо Карла.
Он явно был чем-то взбудоражен.
– Чего тебе? – тихо спросил я.
– Томми привезли!
И Карл вновь скрылся за дверью. Я судорожно подхватил письмо, запихнул его в карман и выскочил вслед за Карлом.
В Дахау доставили группу, на которую собрались посмотреть все без исключения охранники. Это была небольшая кучка пленных англичан, которых позже должны были этапировать дальше. Они не были похожи на наших типичных заключенных. Да, они были грязны и, судя по всему, голодны, но взгляды их не были обращены к земле. Они с интересом осматривались, изучая новое место, где им предстояло провести несколько дней. Некоторые даже имели наглость переговариваться и шутить, но никто из охраны не делал им замечания.
– Разве это солдаты? – наконец пришел в себя Штенке и по привычке сплюнул себе под ноги. – Доходяги какие-то рахитичные.
Действительно, все пленные были бледны, худы, многие сутулились и щурились, будто у них было плохое зрение.
– Вспомните Олимпиаду, взяли всего восемь золотых против наших тридцати трех. Зато все в колледжах обучались, – усмехнулся Карл.
– Эй, how are you?[99] – Франц подошел к одному из них.
Парень, улыбчивый, узкоплечий, длинный, как шпала, со впалой грудью, что-то ответил, голос у него был приветливый, располагающий. Через несколько минут Франц вернулся к нам:
– Офисный клерк из банка.
Я ожидал, что он усмехнется, но против обыкновения лицо Франца было задумчиво.
Я обвел взглядом наших охранников: сильные, широкоплечие, откормленные, пропитанные чувством собственного достоинства, обладающие всеми военными навыками. Такими нас сделал папаша Эйке, слава ему.
– Если у них вся армия такая, как эти офисные доходяги, то они обречены, – произнес я.
– Очевидно, они действительно не готовились к войне.
Все посмотрели на Франца. Он пожал плечами.
Все мы испытали облегчение, когда группу пленных англичан увезли. У охранников не получалось вести себя с ними так, как с другими заключенными. А по-другому было опасно. Я хорошо помнил наставления папаши Эйке.
Судя по всему, окончательно удостоверившись, что лягушатники, как и англичане, разбиты и более не представляют опасности, десятого июня в войну вступила Италия. Ничего, кроме смеха, эта новость не вызвала.
– Тоже мне союзнички, прискакали на раздел пирога, – презрительно выдохнул Штенке, – выждали, когда мы фактически выиграли эту войну. Вот увидите, потом будут бить себя в грудь и доказывать всему миру, что все благодаря им. Другого от макаронников ждать не приходится – какой-нибудь маленький триумф вначале приводит в неописуемый экстаз весь их сапожок, а потом они раздувают свой нулевой вклад до великих размеров.
Это был тот случай, когда со Штенке никто не спорил.
В выходные я отправился в Мюнхен, чтобы увидеться с Линой. Центр города был полон гуляющих людей. Играла музыка, пахло кофе и сладкими пирогами, народ был празден и по-воскресному расслаблен. Мы с трудом нашли свободный столик в кафе и заказали по чашке кофе. Сливок, к сожалению, не было, зато удалось урвать целую плитку шоколада – как всегда, на хозяина произвела впечатление моя форма, и он велел достать из запасов для особых гостей. Пока мы ждали заказ, Лина смотрела на табличку, воспрещавшую евреям заходить в кафе.
– Говорят, им сейчас даже продукты невозможно купить, их не пускают ни в лавки, ни в аптеки за лекарствами.
Я пожал плечами и со снисходительной усмешкой посмотрел на Лину:
– Было бы что покупать, не по их ли вине эти лавки сейчас пустуют? Поверь мне, уж кто-кто, а эти о себе всегда позаботятся.
Принесли кофе и шоколад.
Лина с нескрываемым удовольствием смаковала каждый шоколадный квадратик, время от времени закрывая глаза. В такие моменты бессознательная улыбка смягчала ее и без того красивое лицо, делая его еще прекраснее. Я с удовольствием наблюдал за ней.
– Уже забыла, когда в последний раз ела такой вкусный шоколад, – проговорила она.
Я не притрагивался к плитке, в нашем пайке шоколад присутствовал регулярно, как и другие дефицитные продукты: апельсины, бананы, кофе, сыры, колбасы, свежее мясо и овощи. Я продолжал молча любоваться ее наслаждением, испытывая удовольствие от того, что сумел организовать его Лине.
– Нет, никогда раньше не пробовала такой шоколад, – вновь проговорила она, не в силах предложить мне кусочек.
Меня это забавляло.
– Поверь, ты пробовала шоколад и много вкуснее этого суррогата, – усмехнулся я.
Лина бросила на меня задумчивый взгляд.
– Возможно, – согласилась она.
– Но не волнуйся, вскоре ты наешься настоящего шоколада вдоволь. Война фактически завершена.
– Хотелось бы, – вздохнула Лина.
– Вчера пал Париж. Их правительство удрало в Бордо и оттуда молит о перемирии. Эйфелева башня получила лучшее украшение, на которое могла рассчитывать, – наш флаг!
Я уже знал, что все французское правительство бежало в один день, бросив свой народ на произвол судьбы. Горожанам даже не сообщили, что обороны столицы не будет.
– Но ведь есть еще Англия, – с тревогой проговорила Лина.
Я снисходительно усмехнулся:
– У Англии больше нет армии.
– Я сейчас не склонна доверять нашей прессе в полной мере. – Лина покосилась по сторонам. – То, что пишут в газетах, теперь нужно делить на два. – Она подалась вперед. – Они только и твердят, что Германия не несет никаких потерь, а между тем только в моем доме две семьи получили извещения о гибели сыновей. Право, мы словно в какой-то изоляции, без зарубежной…
– Лина! – Я пресек ее грубее, чем хотел, но тут же взял себя в руки и продолжил уже спокойнее: – Томми теперь согласятся на любой мир, верь мне. Какую бы кость фюрер ни бросил им, они за нее ухватятся, будь покойна. Не в их положении артачиться. Для них будет счастьем, если мы позволим сохранить им свои границы и свободу. Это большее, на что они теперь могут рассчитывать. Когда-то они унизили нас, заставив подписать самый постыдный документ, который только можно было выдумать. То позорное пятно на нашей истории теперь отмыто.
– Но какой ценой? – тихо проговорила Лина. – И ты, и я были совсем еще детьми, когда случилось то, о чем ты говоришь. Я того совершенно не помню, мне от того прошлого сейчас не больно, не страшно, и я за него не в ответе, но я знаю, что теперь идет война и где-то там умирают люди.
– Умирают наши враги, Лина, французы и англичане, поставившие нашу нацию на колени двадцать лет назад. Черт побери, не будь дурой, нашла кого жалеть! Ешь лучше шоколад, – со злостью прошипел я.
Лина даже не обратила внимание на ругательства. Щеки ее раскраснелись. Сведя брови, она впилась в меня гневным взглядом.
– Неужели ты не понимаешь? Я говорю не только о них! Нам не говорят о наших потерях. Я знаю по меньшей мере несколько семей… – попыталась повторить она.
– Слышал уже! Да, великое и свободное будущее требует жертв! И порой оно требует даже войны! Она расчищает застоявшееся болото, в которое превращается наша жизнь. Война очищает общество, Лина, она изобличает всех предателей, которые как раз в такие времена и раскрывают себя в полной мере. Кроме того, благодаря войне мы получим необходимое нам пространство и избавимся от опухоли под названием «еврейство», которая точит нас изнутри. Разве это не то, что нужно для здоровой жизни всякому организму, – достаточные жизненные просторы и отсутствие болезни внутри? А потому те, кто проповедует мир в такое время, являются трусами и изменниками собственного народа, запомни это, Лина. Мечта о вечном мире, стремление к вечному комфорту и покою есть не что иное, как деградация народного сознания, она ведет к приспособленчеству и к стагнации.
Кровь отлила от лица Лины, оно стало мертвенно-бледным. Она подалась назад и откинулась на кованую спинку стула. Мне стало не по себе от выражения ее лица. Я протянул руки и нашел ее холодные ладони, безвольно лежавшие на столе, сжал их, но она продолжала молчать.
– Как так вышло, что мы хотели всего лишь защитить немцев, которых притесняли в чужих землях, а теперь льем их же кровь за завоевание этих земель, – тихо прошептала она.
Я терпеливо выдохнул:
– Извини, нам вообще не стоило поднимать эту тему.
Она отстраненно кивнула.
26 ноября 1993. Свидание № 6
– Мы по глупости наделяем наших правителей чуть ли не демоническим знанием и видением, но они всего лишь люди, которые по воле случая оказались у руля. Такие же дураки и лентяи, а если повезет – неглупые и с долей чести. Но такие же люди. Так почему у них что-то должно быть по-другому?
И Валентина пожала плечами.
Лидия удрученно смотрела на нее, не понимая, как женщину, сидящую перед ней, в самом деле могли тревожить подобные эфемерные философские категории, когда ей грозило самое реальное пожизненное заключение.
Валентина пила теплое молоко с медом, которое ей принесла Лидия. Смакуя каждый глоток, она порой прикрывала глаза и умолкала, но лишь на несколько мгновений, а потом продолжала говорить, выпуская на волю первые слова, еще не успев раскрыть глаза. Когда Лидия впервые принесла ей кофе, Валентина поблагодарила, но так и не притронулась к нему. Во второй раз Лидия принесла чай, все повторилось. Затем она прямо спросила, что принести в следующий раз. Валентина, словно извиняясь, призналась, что очень любит молоко с медом, но не просила, а просто сказала, будто понимала, что в ближайшем кафетерии Лидии такого не найти. В следующий раз адвокат принесла с собой бутылку молока и маленькую баночку меда, попросила в кафетерии подогреть молоко и налить его в стаканчик, затем сама добавила туда пару ложек меда. Попробовав, что ей принесли на этот раз, Валентина внимательно посмотрела на Лидию, потом долго пила, пока не выпила половину стакана. Сладкое медовое молоко подействовало на нее как хорошее вино. Она стала мягче, смотрела на Лидию без колкой опаски, во взгляде ее даже мелькнула доброжелательность.
– То есть ты считаешь, что обстоятельства оправдывают и тех, кого судили в Нюрнберге? Кто отдавал те самые приказы?
Подумав, Валентина ответила:
– А чем они отличаются от тех, кому они отдавали приказы? Все дорвавшиеся до власти в любые времена точно так же неспособны предсказать, к чему приведут их решения. Точно так же ими управляют страхи, как и остальными. Они мучаются малодушием и нерешимостью, так же как я, ты и тот парень, который караулит нас за дверью. С той только разницей, что, когда они принимают неверное решение, им есть кем прикрыться. Ведь у них в распоряжении есть миллионы душ, которые можно ставить на кон.
Лидия знала, что их время уходит, но она вновь не перебивала Валентину. На нее вдруг напала совершенно несвойственная ей апатия. Окончательно отпустив мысли, с которыми она пришла, она просто слушала ровный и мягкий голос.
– Так что, по сути, это могло случиться с любой страной… В тот раз не повезло Германии. И не надо обвинять немецкий характер, чтобы все это объяснить, не нужно в нем искать гнилой ген. Нет у вас никакой предрасположенности. Всего лишь вопрос везения, как верно подметил когда-то один твой соотечественник. Да, вам не повезло с правительством, которое создало те самые «обстоятельства». Так подумать: да если бы в любой другой стране появилась такая система концлагерей – где дают хороший оклад, отличный соцпакет, стабильные условия работы, а главное, где ты делаешь благое дело, так тебе государство сказало и законом подтвердило? Проблем с набором сотрудников не возникнет, уж поверь. Ну вот и в Германии… Все они были добропорядочными и славными гражданами своего не менее славного государства. Как честные, дисциплинированные и преданные граждане, они защищали свое государство от врага, на которого им указали. Сама знаешь, образ врага – это лучший инструмент влияния. Он быстро погружает общество в атмосферу страха и ненависти, атмосфера накаляется, а дальше… Когда страх поглощает человека, то даже самый умный, воспитанный, который может мыслить критически, даже такой человек одуряется и порабощается. Суть управления испокон веков одна и та же, Лидия, и она не скрыта за семью печатями. Раздели всех людей на таких и сяких и позволь одним считать, что одно – истина, другое ложно и несет опасность. И начнется в мире грызня. А ты владей тем миром. Но вопрос: что потом? Финал владения таким миром всегда грустный и болезненный. Потому как люди по природе своей не злы, не кровожадны. Они просто восприимчивы и хотят ощущать себя в безопасности, только и всего. Поэтому согласны платить кровью и страданием за эту безопасность. Они перестают видеть во враге человека прежде всего, больше не могут разглядеть в нем подобие самого себя, ровно такого же, как он сам, желающего дышать, есть, смеяться – просто жить.
Слушая все это, Лидия вспоминала удивление Клары по поводу Валентины: откуда в ней, учительнице литературы из небольшой деревни, эти мысли, знания, а главное, какое-то неизбывное желание говорить обо всем этом? Вместо того чтобы обсуждать собственную судьбу, которая решалась здесь и сейчас, Валентина продолжала уводить Лидию в какие-то сложные метафизические категории. В какой-то момент адвокат поймала себя на мысли, что ответы на все те странные философичные вопросы, которые Валентина адресовала даже и не ей, а как будто самому пространству, принесли бы ее подзащитной большее облегчение, нежели оправдательный приговор. Но какой практический толк в этих ответах, когда жизнь твоя будет проходить за колючей проволокой, под чужим управлением? Нет, Лидии было никак не понять Валентину. Не в том смысле, что она не понимала того, о чем та говорила. Но она недоумевала: зачем из раза в раз продолжать изводить себя этими мыслями, не имевшими никакой практической пользы для ее существования? Прошло уже столько времени с момента их первого свидания, но Лидия никак не могла разгадать эту уставшую женщину, сидящую перед ней.
– Да что говорить о врагах, когда и в тех, кто с нами тут, рядом, по одну сторону, мы не всегда способны увидеть своего. В Заксенхаузене… Это концлагерь, ты, наверное, знаешь… Там были норвежцы и евреи. Так вот, норвежские узники получали посылки с едой от Красного Креста, им это дозволили. И они с отвращением наблюдали, как евреи выуживали из мусорных баков помои и тут же их съедали, хотя их за это избивали капо. Что им удары, если они уже скелеты, обтянутые кожей. Они только чувствовали, как что-то проваливается в их желудки, пусть это и грязные, гниющие объедки. «Свиньи», скажешь ты? Нет, конечно, ты так не скажешь, сейчас нам с тобой жалко их, история все рассудила. А норвежцы, которые с ними же сидели, тогда сказали именно так. Свиньи. В грязном и опустившемся человеке сложно разглядеть человеческое. Они и не разглядели – не потому что плохие или злые. Просто они видели только то, что видели, вот и все. А дальше копать не хотелось. Противно, я понимаю. Я знаю такой случай… Однажды немецкий капо обожрался жирным гуляшом. И выблевал все на землю. А один одуревший от голода узник опустился и съел эту блевотину. Да… Это в самом деле было, это январь сорок пятого года, лагерь Эбензее, филиал Маутхаузена. Ты бы увидела в нем человека, а не то, что с гадливостью обойдешь стороной?
– В капо или в узнике? – совершенно серьезно спросила Лидия.
Валентина отставила стакан и с неподдельным любопытством уставилась на адвоката. Губы ее медленно разъехались в бессознательной улыбке, она медленно кивнула раз, затем другой:
– Да, ты поняла.
Она продолжала неотрывно смотреть на адвоката. Лидии показалось, что Валентина решила не продолжать разговор, но та вдруг заговорила так же внезапно, как и умолкла, совершенно иным, однако, тоном, словно не было только что бессознательных улыбок и странных киваний.
– А голод меняет отношение человека ко всему, – проговорила она, – даже к смерти. Зимой сорок третьего в Треблинке наступило затишье, новых заключенных перестали привозить. Совсем. Ничего. Пустота. Полтысячи заключенных из зондеркоманды[100] остались без работы. Те, которые работали в крематориях, сжигали тела в печах и рвах. Их не стали ликвидировать, иначе мог бы бунт произойти. Их просто перестали кормить.
– Когда в начале весны, – продолжила говорить Валентина, – к этим измученным подножными объедками и окончательно озверевшим от голода зондерам явился солдат в форме СС и объявил, что с завтрашнего дня снова начнут приходить транспорты из Греции, они… – Она оторвалась от созерцания стакана и уставилась на Лидию. – …Вздохнули с облегчением. Это значило, что они наконец-то получат полноценную еду, чтобы у них вновь появились силы на работу. Выходит, что убивать против воли переносится организмом легче, чем ежедневный лютый голод. Неприглядно, но это факт нашего существования, Лидия. Он не заслуживает, чтобы его осуждали. Тем более мы. Они сами себя осудили и сожгли стыдом и самобичеванием. Они ели и ненавидели ту еду. Но не есть не могли. Как, впрочем, и всякий человек на этой земле. Понимаешь, о чем я говорю? Как и всякий человек.
Валентина замолчала и посмотрела на Лидию, затем пожала плечами и снова перевела взгляд на стакан, будто сегодня он – центр ее внимания.
•••
Ссылаясь на несметное количество узников, комендант все-таки сумел выбить необходимое распоряжение сверху, и в Дахау наконец-то прибыло очередное пополнение охранников. Это было весьма кстати – я начал ловить себя на мысли, что это бескрайнее полосатое море, которому на построении не видно было ни конца ни края, настораживает меня. Их было много больше нас – нескончаемый поток, лившийся в ворота, против которого охранники выглядели жалким островком. При желании этот поток мог снести нас, уничтожить, поглотить, растерзать. Но они словно не замечали этого. Обрядившись в робу, получив свой винкель, они становились образцом смирения и послушания, словно и не ведая, что такое неповиновение. Порой мне казалось, что они черпают какое-то упоение в своих страданиях. Это было похоже на садомазохистское подчинение по доброй воле. Тупая необъяснимая покорность, возведенная в какую-то невероятную степень, выводила из себя. Я видел, в какую ярость впадали вчерашние новички-охранники, глядевшие в пустые лица, послушно склоненные к земле. И с каждым днем они все больше убеждались, что все происходящее тут – правильно.
Но вскоре всем стало ясно, что даже такое покорное и безропотное стадо будет сложно удержать в загоне, коль скоро оно продолжит расти. И мы поняли, что нам нужны дополнительные погонщики, которые нашлись… в этом же стаде. Мы бросили нескольким кость в виде дополнительного пайка и некоторых привилегий, и они с радостью ухватились за нее. В ответ от них требовалось всего ничего: поддерживать тотальную дисциплину любыми способами и максимально жестоко наказывать всякую шваль, нарушающую порядок. Вряд ли кто-то из нас даже догадывался, насколько действенным будет этот шаг. Ни один службист на довольствии не старался так яро, как капо, желавший показать себя самым дельным и полезным парнем в бараке, представить себя в самом выгодном свете охране, чтобы не потерять возможность жрать куски пожирнее, иметь ботинки поцелее и иметь бумагу для задницы почище… в принципе иметь бумагу для задницы. Отныне всякое наказание на козлике завершалось потерей сознания, поскольку невозможно было сохранить сознание в теле, по которому прошлась палка в руке капо, в свою очередь над которым нависала угроза понижения до рядового узника в случае недостаточно старательного исполнения своих обязанностей. И они старались так, как никто из нас. Вскоре обычные заключенные стали смотреть на капо едва ли не с большей ненавистью, чем на нас. Даже самое жесткое обращение со стороны охраны не ломало их так, как «предательство» со стороны своих же солагерников, которым посчастливилось стать привилегированными. Их психику буквально потрясал тот факт, что такой же бедолага, как и они, оказался способен истязать не хуже эсэсовца.
«Разделяй и властвуй», как говорил папаша Эйке. Едва ли можно было найти более подходящее место для демонстрации эффективности этого принципа, чем концлагерь.
Вместе с увеличением количества арестантов ужесточились и негласные правила: даже при полноценном снабжении еда, медикаменты, движение, воздух отныне полагались лишь в объеме, необходимом для поддержания в заключенном жизни и способности к работе, не более того. А рабочих рук стало в избытке. Откровенно говоря, и работа-то для всей этой оравы не всегда находилась, порой охранникам приходилось выдумывать для них бесполезные дела, чтобы не засиживались: заключенных заставляли перетаскивать огромные валуны с места на место, часами маршировать на месте, копать яму, а рядом другую, чтобы землей из нее засыпать первую, руками сгребать пыль с дорог и грязь перед бараками. Делало ли это лагерь чище? Возможно. Но всем было плевать, станет ли зона арестантов чище или нет. Важен был сам факт подчинения и унижения этого сброда, который должен был в полной мере ощутить чужое превосходство и потерять всякую волю к жизни.
Тем временем число смертей в лагерях перевалило за отметку в десять тысяч, в основном от голодного истощения и болезней, все чаще случались и самоубийства: в припадках помутнения они бросались на проволоку, через которую проходило высокое напряжение. Пока лидировал по летальным показателям Маутхаузен – там окончили свое существование без малого четыре тысячи заключенных. Далее шел Заксенхаузен – немногим меньше, Бухенвальд – почти две тысячи, и на четвертом месте Дахау. Нашу цифру мы знали точно: одна тысяча пятьсот семьдесят четыре арестанта. На этом фоне Флоссенбюрг и Нойенгамме выглядели курортами для заключенных: не больше пяти сотен на оба лагеря. Что творилось в польских лагерях, мы пока не ведали. Местные морги отказывались принимать такое количество тел, и никакие распоряжения свыше не могли заставить их переменить свое решение: им попросту некуда было их уже складывать. Да и сама транспортировка трупов очень быстро стала отдельной проблемой – переполненные грузовики становилось все сложнее укрывать от глаз гражданских. После долгих раздумий решено было обустроить все лагеря собственными установками для сжигания, и уже к лету две частные фирмы – «Топф и сыновья» и «Хейнрих Кори» – установили нам необходимое оборудование. Сразу после этого в Дахау учредили собственное бюро регистрации смертей. Теперь гражданские чиновники не получали от нас никаких данных о смертях, все фиксировали служащие СС, тщательно следившие, чтобы ничто не покидало пределов лагеря: ни трупы, ни информация.
Отныне охранники вольны были делать что хотели.
Мы с Францем курили возле комендатуры. Чуть поодаль рабочая команда с фиолетовыми нашивками старательно прочищала клумбы от сорняков. В этот момент на велосипеде показался Штенке, под мышкой он зажимал какой-то пакет. Не доехав до комендатуры, он остановился возле клумбы, ретиво спрыгнул с велосипеда и, подскочив к ближайшему арестанту, от души наподдал ему под зад. Не ожидавший того старик завалился на бок, но тут же подобрался и снова вскочил на ноги.
– К счастью, мы никогда не увидим Штенке среди начальства, – усмехнулся Франц.
Я вопросительно посмотрел на него.
– Он тот редкий персонаж, который ни на что не променяет возможность истязания заключенных. Даже на повышение.
Тем временем Штенке выговаривал молчаливому старику, стоявшему перед ним навытяжку:
– Святой отец, я тебе так скажу, на алтаре истинного немца не должно быть никаких распятий, библий и ликов. Для немецкого народа есть лишь одна священная книга – «Майн кампф»[101], слышал про такую, обезьяна в сутане? Ее заветам мы следуем. Только ей есть место на алтаре. Ей и великому немецкому оружию. И есть только один крест – свастика. Понял, святой отец, или повторить? Я могу – истинную веру насаждать мне в радость!
– Штенке сегодня в ударе, – заметил я.
Старик оторвал лицо от земли и впился взглядом в охранника, он так ничего и не сказал, но в глазах его мелькнуло плохо скрываемое презрение, смешанное… с жалостью. Довольная улыбка тут же съехала с лица Штенке, он размахнулся и снова ударил заключенного. Но на сей раз тот был готов и лишь пошатнулся, однако не отвел взгляда. Черт его дери, почему он не опускает голову? Даже меня это начало выводить из себя. Упрямый взгляд старика выражал что-то крепкое, никак не вязавшееся с его отчаянным обликом грязного голодного арестанта.
– Что уставился, собака церковная?! – уже с перекошенным лицом рявкнул Штенке. – Злишься, что гноблю вас, песнопевцев благолепных? А чего тебе злиться-то? Тут логика простая. Если есть тот, чье имя вы славите, значит, и ад с раем есть уж точно, а значит, гореть мне за свои слова, не переживай, безнаказанным не останусь! А если переживаешь, значит, сам не веришь в то, на чем стоишь. Ты вникни, старик, ведь если я не попаду в ад, значит, и нет его, ада-то! И Бога тоже, значит, нет, и выходит, прав я! И наказывать меня не за что. Вот она, истина-то! Вникни, вникни, старик!
– Сучья морда, на разрыв, – пораженно покачал головой Франц, – иногда его логические цепочки даже меня ставят в тупик. И не поспоришь.
– Он невежа. – Я пожал плечами. – Как у большинства невеж, у Штенке комплекс уверенности в том, что он прав и не нуждается в дополнительных познаниях. Это раздражает.
– Не знаю, что меня больше всего коробит в нем, садизм или непостижимое скудоумие. Сложно определить, какая его черта все же самая отвратительная. Первое могло бы помочь ему сделать отличную карьеру в лагерной системе, но второе напрочь перечеркивает все его достижения.
– С другой стороны, в отличие от нас, Штенке хотя бы не лентяй, – усмехнулся я и посмотрел на Франца. – Знаешь, почему я не жажду бить их? – Я перестал улыбаться. – Я им нисколько не сочувствую, они вызывают у меня такое же отвращение, как и у Штенке. Но я не трогаю их, потому что мне лень писать все эти отчеты в трех экземплярах после каждого наказания. Попросту лень, понимаешь?
Франц пожал плечами.
– Эти распоряжения теперь ничего не стоят, сам знаешь. – Он снова перевел взгляд на Штенке. – Случайно «забудешь» про рапорт, никто тебя не осудит.
– Есть правила.
Франц резко повернул голову.
– Так ты себе говоришь? – Он сделал ударение на первом слове, впившись в меня взглядом. – За этим прячешься, чтобы не делать им больно?
– Не неси чушь, – лениво огрызнулся я, – я ненавижу этот сброд всей душой.
Франц согласно кивнул.
– Здесь я тебе верю. Ты действительно ненавидишь этот сброд. – Он снова выделил нужное, по его разумению, слово. – А Штенке что? Он ярый антисемит и убежденный нацист? Так кажется со стороны. Но я сомневаюсь, что он часто сталкивался с евреями до того, как они оказались в лагере. Сколько их там было в его деревне? Полторы калеки вернулись с мировой, не говоря уже о том, чтобы кто-то из них нанес ему какой-нибудь личный вред. Я уверен, что сегодня он точно так же действовал бы и против датчан или, скажем, бельгийцев, случись им быть неугодными. Его ненависть зависит исключительно от приказа. По приказу он станет кем угодно: антисемитом, антикоммунистом, антицерковником, антилюбителем цилиндров и тростей, ненавистником органной музыки или концертов для фортепиано… А идеология его мало интересует. Такие, как Штенке или вот наш лопоухий приятель Адольф, теперь засевший в Вене, сейчас чувствуют себя отлично. Преданность и исполнительность ценятся. Ему-то не лень писать рапорт за рапортом после каждого наказания. Возможность наказывать для него – право законное с юридической точки зрения. А ты видишь в этом проявление высшего закона. Исполнять его ты не очень хочешь и прячешься от этого как раз за нормы юридические – ты видишь тут великую истину, но тебя коробит от способов.
Я молча пожал плечами и зевнул, хотя позыва к тому не было, но я не хотел, чтобы Франц решил, будто я отношусь к его словам всерьез.
– Активнее, свиньи! – продолжал надрываться неподалеку Штенке, напрочь позабывший, что ему необходимо доставить пакет. – Ваша книга сдала вас с потрохами: вам нипочем ни скитания по пустыням, ни переходы по дну морскому. Вы чума, которую ничего не берет.
Неожиданно раздался стук. Лопата не просто выпала из рук заключенного – нет, она была брошена со всей силы. Я с тревогой обернулся туда.
– Истина. Все истина. Поделом нам – заслужили, что попустили. Хуже – поверили Сатане. А теперь вы пытаетесь заставить нас замолчать, ибо знаете, сколь велика сила церкви, знаете, что во имя Божье народ пойдет за нами! Мы честно исполнили все условия конкордата[102], а вы, дьяволы во плоти, не следовали ни единому обещанию. Вы потомки Бисмарка, которого нам впору ненавидеть, но вы не стоите и ногтя великого канцлера. Лживое, жестокое, лицемерное отродье, проклятое поколение, которому гореть в аду…
Наступила тишина. Все замерли в том положении, в котором их настигли слова ополоумевшего старика-арестанта. Лица остальных заключенных изумленно искривлялись, едва они во всей полноте понимали наконец смысл сказанного.
Я пораженно смотрел на старика. Плечи его были расправлены, одна нога выставлена вперед, руки прижаты к бокам, а глаза… глаза почернели от бушующей ярости, непостижимой в лице священнослужителя. Я посмотрел на брошенную у его ног лопату и явственно представил, как Штенке разбивает ею голову старика. Как грязное погнутое лезвие раскраивает надвое сухой, чуть вытянутый поседевший череп, в котором оказалось недостаточно ума, чтобы молчать. Я уже двинулся вперед, чтобы унять Штенке, но, к моему изумлению, да и, наверное, к изумлению всего сущего вокруг, этого не потребовалось. Некоторое время Штенке молча смотрел на заключенного. Глаза его не мигали, но сузились так, что, казалось, он вряд ли мог видеть отчетливо, а губы сжались в такую же плотную линию. Он не хмурился, но весь его образ выражал самую лютую ненависть, на которую только мог быть способен человек. Он медленно подался вперед, к старику, который и не думал отклоняться.
– Прежде чем ты сдохнешь, собака поганая, я тебе скажу, что вы молиться должны на этот чертов конкордат. Когда его расторгнут, вы перестанете сосать из государства субсидии, которые каждый год выплачивает фюрер вашей прогнившей воровской церкви. Вот уж самая бесполезная трата – денежные субсидии попам. Веришь, что проживете на пожертвования, старик? Так это не про вас, вы-то привыкли жить жирно и сытно. И ты, гнида, еще смеешь заявлять о несоблюдении обязательств? И поносить своим поганым языком партию? Когда каждой собаке известно, что вы сами же и нарушаете пункты конкордата! Вы же укрываете за алтарем самый сброд, который спит и видит падение нашего рейха! Ведь ваши монахи рангом повыше твоего – самые прожженные политики, которых только можно себе представить! Ваши же епископы будут ползать в ногах и молить фюрера о возвращении старых условий, если он откажется от этого конкордата. Вот это ты заруби себе на носу, дед! А теперь взял лопату и продолжил работать.
И Штенке… отошел от него. Сев на велосипед, он вновь зажал пакет под мышкой и покатил в нашу сторону. Остальные заключенные пораженно смотрели ему в спину. Старик-арестант медленно поднял лопату и продолжил работать, я видел, как дрожали его руки, но лицо его не выражало ровным счетом ничего. Остальные молча присоединились к нему. Я в замешательстве посмотрел на Франца, он так же озадаченно покачал головой:
– Повиновение и активность – опасный союз. Он же обычный бюрократ с кулаками, имеющий право пускать их в дело. Но я был уверен, что он понятия не имеет, что делать, когда и на его силу находится противодействие. Судя по всему, я ошибался.
Штенке проехал мимо нас и кивнул. Я кивнул ему в ответ, Франц лишь проводил его задумчивым взглядом. Я редко видел его таким растерянным.
В середине июня благодаря Францу мы раньше всех узнали о подписании перемирия с французами в Компьенском лесу. Он сумел настроить приемник на американскую радиостанцию, которая в подробностях осветила это событие. Тот редкий случай, когда никто его за это не осуждал.
– Да иди ты! Прямо там же, где лягушатники прижали нас в восемнадцатом?!
– Я тебе больше скажу, по приказу фюрера даже отрыли где-то в музейных закромах тот самый вагон Фоша[103]. Вытащили на поляну ржавую железяку и прямо в ней вернули должок лягушатникам. На том же столе и поставили подписи.
– Не подписи поставили, а французов на колени!
– Вот уж поворот истории. Закольцевали элегантно! Унизительнее не придумаешь.
– Знатно щелкнули лягушатников по носу! Вот так реванш!
– Пусть теперь сами нажрутся перемирием, которым накормили нас двадцать лет назад! Теперь поймут, каково это.
– Верно! Все идет верно! Потому как окончательная победа всегда за истиной!
– Весь север и юго-запад Франции наши! За шесть недель!
– Больше бери! От Ла-Манша до Буга, от мыса Нордкап до Бордо!
– Адольф Гитлер – величайший полководец всех времен и народов!
– За фюрера!
– А я вам еще так скажу, не без нашей помощи это! Главный фронт – у нас тут, в лагерях! Это мы боремся с недобитыми ублюдками, которые мечтают уничтожить рейх изнутри, как это сделали ноябрьские шакалы в восемнадцатом!
– За нас!
– За дивный новый мир, – произнес Франц.
– Нарядно сказал, – одобрительно кивнул Штенке.
– Заимствовано, – уклончиво ответил Франц.
«Весь Берлин бьется в экстазе, мальчик мой. Пожалуй, такого единения и восторга я и не припомню. Счастливые толпы заполонили улицы, все от мала до велика обнимаются и целуются, превознося военный гений фюрера. Гений! Истинный гений, что ж, таким история все прощает. В субботу, кажется, весь город встречал его после возвращения с фронта. Твоя старая тетка тоже была там, каюсь. Нас с Элизой затянуло в толпу и донесло прямиком до Бранденбургских ворот, возле которых состоялся торжественный парад. Уж ты знаешь свою тетку, дружок, знаешь, что я стараюсь быть в стороне от этого политического флера, но тут вынуждена признать: события ныне доказали, что нас ведет мудрый вождь. Германия сделала верный выбор. Ну а как у тебя дела, мой мальчик? По городу ходит много нехороших слухов касательно Дахау и других подобных мест – ты же понимаешь, что я с трепетом ловлю все касающееся лагерей, ибо твоя жизнь сейчас неразрывно связана с этим институтом, а ты самое дорогое, что есть у старой тетки, – но будь покоен, мой мальчик, я никогда не поверю в эти выдумки. Элиза заверила меня, что это не такие уж и страшные места, как о них сплетничают, наоборот, для заключенных там организованы неплохие условия, они могут и спортом заниматься на свежем воздухе, и отдохнуть после работы. В газетах пишут, что рацион у них как у охранников, и даже меню напечатали, я внимательно изучила, вполне себе, и пирожные по выходным…»
В письмо тетя Ильза вложила вырезку из воскресного «Фёлькишер Беобахтер» с фотографией: на фоне монументальных Бранденбургских ворот, увешанных флагами со свастикой, был запечатлен праздничный автомобильный кортеж. В первом ряду в черном «мерседесе» стоял Адольф Гитлер и приветствовал народ, который едва сдерживало оцепление.
Пока фотография переходила из рук в руки, я громко читал статью: «…Вступление Адольфа Гитлера в столицу рейха явилось грандиозным историческим символом. Фюрер сконцентрировал в себе сознание восьмидесяти миллионов и смело явил миру волю этих миллионов. Он выбил из нежизнеспособной системы Версаля один блок за другим и стал полноправным хозяином тех континентальных областей, из которых по воле Лондона и Парижа скоро должно было снизойти окончательное разрушение Германского рейха. Но шестое июля нынешнего года символизирует уничтожение всех деструктивных планов наших врагов. Эта дата навсегда останется в истории не только как дата возникновения нового европейского порядка, но как дата окончательного становления бессмертной национал-социалистической мысли о бесспорном величии немецкой нации. Той мудрой нации, которая сразу же постигла всю истину и справедливость этой борьбы…»
Когда я закончил, охранники зааплодировали.
Можно считать, что с войной было покончено, – теперь совершенно очевидно, что англичане будут вымаливать мир.
Слухи о скором окончании войны достигли даже ушей заключенных. Во время работ они тихо перешептывались, строя предположения, что это принесет лично им. Слухи, сплетни и порожденные ими надежды – единственное, что им оставалось.
Вскоре эти слухи подтвердились официальными сообщениями в газетах. Папа римский лично призвал противоборствующие стороны к миру, заявив, что готов выступить посредником, то же самое предложил и король Швеции.
– Не сегодня завтра англичане выбросят белый флаг, – предсказывал Штенке с явным сожалением.
Он не скрывал, что жаждал полного разгрома англичан, и тот факт, что немецкие войска так и не вступили на Британские острова, его печалил.
– Теперь все зависит от настроения фюрера, – авторитетно заявлял Карл, – согласится ли он на мир, или будем добивать островных обезьян.
– С войной покончено, фюрер великодушен, – снова говорил Штенке.
Девятнадцатого июля Адольф Гитлер выступил в рейхстаге. Как и предсказывал Штенке, он предложил англичанам заключить перемирие: «Из Британии все еще раздаются крики с призывом к продолжению войны, но крики эти не народа, а политиков, которых ежедневно, кроме субботы[104], дергают за нити прекрасно известные нам личности. И крики эти лицемерны и убийственны для народа, ибо кричат, что будут продолжать войну до конца, а если Великобритания сгинет, то будут продолжать войну из Канады. И что под этим подразумевается? Что весь английский народ в случае опасности переберется в Канаду? Чушь! В Канаду отправятся только те джентльмены, которые кричат сейчас о продолжении войны. Народ же останется в Британии, где увидит войну другими глазами, нежели их так называемые лидеры из Канады. И эта картина будет страшна. Я открыто говорю, что питаю откровенное отвращение к такого рода бессовестным политикам, которые заранее обрекают целый народ на гибель. И что самое страшное – свой народ! И в момент этой гибели мистер Черчилль будет в Канаде, куда, без сомнения, уже отосланы деньги и дети тех, кто сейчас ратует за продолжение войны. Однако миллионы простых людей ждут великие страдания. А потому я считаю долгом перед собственной совестью еще раз обратиться к благоразумию Великобритании. Я думаю, мое положение позволяет мне обратиться с таким призывом, ибо я не побежденный, выпрашивающий милости, а победитель, говорящий с позиций здравого смысла. Победитель, который не видит причин для дальнейшего пролития крови…»
Даже Штенке, жаждавший, чтобы мы дожали англичан, вынужден был признать, что фюрер все сказал по делу. Теперь даже самые отчаянные скептики вроде моего отца должны были уверовать в него.
Что ж, томми легко отделались.
Свидание № 6. После перерыва
– И ведь знаешь, кто-то верит, что во всей той истории жертва – Иуда, потому как без предательства не случилось бы искупления. Предал да и обрек себя на проклятие в веках, сделав даже имя свое нарицательным. Возможно, это действительно вторая по важности жертва после Христовой, кто знает.
Валентина продолжила смаковать молоко и свои мысли.
– То, к чему ты ведешь, довольно скользко, – проговорила Лидия.
– Потому что идет вразрез с общепринятым? – Валентина вопросительно посмотрела на своего адвоката, понимая, что отвечать та не будет. – Избранность народа избранного с веками потускнела, а арийский фюрер начистил ее так, что она вновь засияла, слепя всех вокруг. Уничтожая народ избранный, он сделал все, чтобы обеспечить им их собственное, активно развивающееся государство.
– Но какой ценой?
– Возможно, той, которую они сами готовы были заплатить.
Обе замолчали, в упор глядя друг на друга. Наконец Лидия посмотрела на часы, с тревогой осознав, что скоро ее попросят удалиться. Валентину, казалось, этот факт нисколько не беспокоил. Она продолжила:
– Вот была конференция в Касабланке, там все обсуждали, как страшно то, что происходит с евреями в Европе. Тогда это много где обсуждали: Эвиан, Касабланка… Но позже в неофициальной обстановке один видный политик, которого немцы обвиняли в постоянных потаканиях Вечному жиду, – Рузвельт, как ты, конечно, догадалась, – заметил, что неплохо бы после войны все-таки ввести для евреев некоторые ограничения на профессии, чтобы, значит, они не доминировали в экономике Северной Африки. Он сказал, что это, мол, должно сгладить «понимаемые претензии», которые были у немцев к евреям. Понимаемые, – еще раз повторила Валентина, сделала паузу и едва заметно усмехнулась. – И только когда представители западных демократий – люди, безусловно, понимающие – явились в Германию и Польшу и своими глазами увидели, что там сотворили с евреями, тогда они осознали, что «претензии» придется отложить. Ни единого плохого слова в сторону евреев, ни единого хмурого взгляда теперь – на ближайшие сто лет холокост сделал этот народ неприкосновенным.
Лидия проигнорировала иронию в голосе Валентины.
– На всех этих конференциях никто не предполагал, до чего может дойти! – эмоционально и с плохо скрываемым возмущением проговорила она.
– Как это? – Валентина несогласно покачала головой. – Разве не было в книге Гитлера прямо написано, что партия сделает все, чтобы обеспечить немецкий народ пространством, на котором пока «бездарно паразитируют низшие расы»? – Она вскинула руки и закавычила пальцами нужные слова. – Разве не были там описаны и планы касательно евреев? Он даже не пытался завуалировать свои мысли, не было никаких иносказаний. Уже на этих страницах он размышлял, кому дозволено рожать, а чье потомство следует уничтожать, уже тогда он пускал слюни на восточные земли. Его больной разум сразу явил себя во всей красе – безумец, убийца и узурпатор. Вот уж кого-кого, а Гитлера никак нельзя обвинить в неисполнении своих предвыборных обещаний. В этом смысле он был политической патологией, для народа изумительной и нестандартной. Ведь народ, и немецкий, и всякий, если говорить откровенно, привык к тем политикам, которые, знаешь, твердо следуют главному политическому псалму: «Приидите ко мне все страждущие и жаждущие, и я не сделаю ничего».
Лидия не сумела сдержать смешка, но перебивать не стала.
– Но он оказался уродом во всех смыслах и исполнил, что обещал. Он лжец лишь в том смысле, что заявил немцам, будто приведет их к новой жизни, но что нового он совершил? Кто уж больший борец за старое, чем он… Стремление к власти, преступления, совершенные на пути к этой власти, кровавые завоевания для ее укрепления, наплевательство на международные соглашения – что из этого не видела старая добрая Европа? Антисемитизм? Но вспомни Дрейфуса. Его дело показало, что в культурной Франции антисемитизм существовал, по сути, на уровне закона. Так что… Нет, нацистский фюрер не предложил ничего нового. Так чего было удивляться, когда он начал воплощать то, о чем объявил загодя?
Глухой удар вывел Лидию из оцепенения – птица ударила в оконное стекло, резко отпрянула и криво взмыла вверх, постепенно выравнивая свой стремительный полет. Лидия опустила голову и потерла переносицу, затем недоуменно посмотрела на Валентину.
– Раньше я была уверена, что ты не сторонник коллективной ответственности. Но я ошиблась. Ты считаешь нацию так же виновной в случившемся, как и ее правителей? Но как же все твои рассуждения об обстоятельствах, в которых оказались немцы…
Валентина поморщилась, качая головой. Лидии даже показалось, что в глазах ее промелькнуло некоторое разочарование.
– А кто же творец той ситуации, как не сам народ в том числе? Мы всё привыкли на своих правителей валить, а разве сами ни на что не влияем? От каждого по возможности и по способностям… Один промолчал, второй закрыл глаза, третий решил, что его это не касается, четвертый не стал вникать, а пятый выгоду в этом увидел, да и вовсе посодействовал… Ты как думала? За ту страшную войну каждый виновен. Каждый, кто попустил хоть единой мыслью.
Они с Лидией снова посмотрели друг на друга, но на этот раз Валентина не дала возможности Лидии произнести хоть что-то, она продолжила распутывать клубок собственных мыслей, очевидно, давно не дававший ей покоя.
– И вы, немцы, это теперь хорошо выучили. Вам было велено признать и раскаяться. Заслуженно! Но то, что поначалу вам показалось принудительным и позорным, стало вашим новым движением вперед. Мало кто из судей осознал это тогда. Вы открыто признали свои ошибки и до сих пор приносите извинения по всякому удобному случаю, преподаете историю своих ошибок детям, на страницах учебников рассказали о своих военных преступлениях в надежде, что те не повторят их. Признав ошибки прошлого на всех возможных уровнях, теперь вы можете говорить об этом свободно, не измываясь над историей. Поражение подарило вам редкий шанс повиниться легко и открыто, без внутренних распрей, и пользы в этом больше, чем тяжести, – иметь возможность раскаяться в своих ошибках и просить прощения за ту страшную глупость.
Лидия молчала, анализируя слова Валентины. Она никогда не копала с этой стороны, имея мнение о том времени, давно сложившееся и хорошо укладывавшееся в ее картину мира. Ту картину, которая позволяла жить не в разладе с собой, но с тем, что она могла принимать за некоторую гармонию и тем вполне удовлетворяться. Ее озадаченный взгляд застыл на лице Валентины, которого она даже не замечала сейчас. Та же интерпретировала ее взгляд по-своему.
– Да, глупость. А как еще? Приходишь на указанную землю и видишь, что там нет кровавых монстров, а такие же люди. Но ты уже пришел к ним с оружием и сотворил непоправимое, и поэтому они в ужасе кричат: «Умрите!», отбиваясь в страхе. И тогда ты в ответ кричишь им: «Сами умрите!», побивая в том же страхе. И так по кругу. Вот это она и есть. Борьба человека с человеком. Бестолковая, беспричинная, которая только одними поводами погоняется и ложью кормится, которую временщики подстегивают по мере необходимости. Когда одну сторону ввели в искушение, а вторую в заблуждение, и стороны эти меряются тем, кто был больше облапошен. И всякая сторона винит другую в том, что та была больше одурачена и потому сейчас по глупости творит зло. Сколько раз француз воевал с русским? С тем самым русским, с которым пришлось брататься во Второй мировой? Сегодня противник, завтра союзник… Вот и вся наша история – бессмысленное и хаотичное перемещение туда-сюда границ через кровь и страдания. Знаешь ли хоть одну войну, которая бы имела смысл, сохраненный на века? Знаешь ли хоть один пакт или союз, заключение которого накрепко уберегало от противостояний в будущем? Вот российский император Александр I заключил союз с Францией – Тильзитский мир, а через пять лет Наполеон решил, что дружба с Россией уже ни к чему. Пять лет от пламенных признаний в дружбе до вероломного нападения – вот она, возня временщиков в чистом виде. Которые не умеют ни слово свое держать, ни договориться, ни хотения свои умерить, ни страхи побороть. Возня, стоившая жизни больше миллиона солдат. Тех солдат, которые действительно воевали, не задумываясь, за что…
– За что воюют? – наконец вышла из своего оцепенения Лидия.
– За что им это. А воюют всегда за Отечество. За что ж еще? Самое богоугодное дело, Лидия. Когда «за Отечество», тогда всё с доброго дозволения большей части нации, согласной принести себя в жертву. Это сильный морок, за богатства так не пойдет народ, за ресурсы так не пойдет. А за идею Отечества поползут даже в кровях своих. Но как мы вспоминаем, где границы того Отечества? По итогам какого-нибудь соглашения, союза, пакта, раздела, устройства, порядка, закрепленного подписью очередного протирателя трона… В то время как у противоположной стороны также всегда найдется подобная бумага. И ведь и то и другое – не филькина грамота, а правдивый документ. Ведь этих войн и союзов уже столько было, что скопилось итоговых бумаг тех столько… Если на каждую ссылаться, то человечеству можно уже и не жить. Где они, эти границы? Если взять карту мира и расчертить ее всеми границами, когда-либо существовавшими, то, сдается мне, она будет заштрихована так, как будто ребенок взял карандаш и бездумно закрасил всю землю. Так какой прок в этих мирных соглашениях, когда они нарушаются, едва успевают высохнуть чернила на них? Те, кто подписывает их, – несчастные люди, по существу, вынужденные всю жизнь изыскивать возможность, чтобы представить всякое свое действие благим или на крайний случай вынужденным. Это не так уж и просто, Лидия. Тяжело даже. Скрыть процессы, которые ведут к очередной войне. Вот тебе еще одна дурная линия того века, прошлого. Был Союз трех императоров: германского, австро-венгерского и российского. Он оформился в тысяча восемьсот семьдесят третьем году. Да. А еще через несколько лет оформилась новая группировка – Тройственный союз, тут уже сговорились Германия и Австро-Венгрия с Италией. Эти союзы прямо противоречили друг другу. По первому соглашению, если честно ему следовать, второе никак нельзя было допускать. Тогда вскоре в противовес Тройственному союзу создали Русско-французский союз, к французам потом присоединились англичане, а еще попозже было подписано и англо-русское соглашение. Круг замкнулся очередным союзом трех флагов, это Антанта, может, помнишь такую. Окончательное межевание государств перед Первой мировой войной. Лицемерные сдерживающие союзы приводят не просто к тому, что каждый народ начинает путаться, кого ему теперь надо возлюбить, а кого возненавидеть, но к чему-то поистине демоническому по степени своего кровопролития… И никого это никогда не смущало. Так, иногда кто-нибудь, чьи интересы нарушаются, завопит насчет того, что другие бесстыдно нарушили соглашение, но замолкает, когда сам делает ровно то же. А потому всякая война, в которой один может назвать себя победителем, а другой признать себя побежденным, – это зачаток нового военного конфликта, и он разгорится, как только побежденный наберется сил, чтобы пойти устранять якобы несправедливость. А после того устранения обещаем, клянемся веками помнить врага, не прощать ему. Но тут же простим, если того потребуют экономические интересы. Сначала скинем на врага две ядерные бомбы, а потом станем с ними крепкими торговыми партнерами. И ничего… Просто цена той ненависти – выгодная покупка нефти, инвестиции, налоговые льготы, займы, размещение баз… А главное – поддержка в новом военном конфликте. Старые недоразумения с легкостью забываются в прагматичных новых целях.
Валентина произнесла это совершенно серьезно, без тени усмешки, как и многое, что другими бы непременно было окрашено сарказмом.
Их свидание уже порядком затянулось, но, против обыкновения, их не торопили. Валентина продолжила:
– Между всеми якобы врагами бывали и конфликты, и дружба. Вопрос только, что поминать, то или другое. Фокус внимания искусно меняется сообразно новым целям. Так способен ли улучшить человеческую природу этот страшный опыт войн? И если нет, то зачем же он тогда из раза в раз дается? Если по правде, по справедливости, которую мы периодически так любим, тогда все, кто исполнял роль строгих судей в Нюрнберге, должны были потом и сами занять место на той скамье подсудимых. Ведь и после того бывали и принудительный труд, и расстрелы, и лагеря. Индокитай, задохнувшийся в огне, Суэцкий канал, Алжир, Гватемала, Гренада, Ливия, Панама, азиатские военные преступления, резня в Будапеште – она же подавление венгерского контрреволюционного мятежа, как меня учили в школе. Снова великие республики, демократии и королевства мира творят акты возмездия и справедливости во имя светлого будущего там, где, по их мнению, не дотягивают до понимания правды. И от этих актов справедливости земля продолжает полыхать. Отчего же этот страшный опыт всё никак не может починить человека? И до сих пор нам невдомек, что пока сами мы будем раздроблены внутри себя, пока половина нашего разума будет подчиняться инстинктам или совести, а другая – голосам с трибун и призывам газет, то наша земля продолжит гореть и воевать. Не владея даже собой, не умея быть целостным, как можно владеть хоть чем-то в этом мире? И уж тем более убивать за это? Как же не ясно человеку, что плата будет всегда? Потому что есть законы, которые работают вне зависимости от нашего невежества. Все в нашей жизни происходит в пределах той совести, которой мы обладаем. Тут ведь нет нового мышления, Лидия, – рождение новой мысли по сложности соизмеримо с прохождением Дантова ада наяву, да и за призыв гения плата берется серьезная. А с меня что взять? Тут вообще ничего нет, если так подумать, а может, есть все, что нужно знать…
И Валентина медленно покачала головой, продолжая смотреть перед собой.
– Поэтому нет, Лидия, у меня истовой гордости за былое, только скорбь. Не смотри на меня так, как-нибудь в другой раз объясню подробнее, сейчас нет нужных слов, другие мысли застилают, а там глубоко копать надо.
•••
«Мы не оставим народы стран, порабощенных Гитлером, в положении рабов!»
Я не мог поверить своим ушам. Итак, британцы грубо отклонили мирное предложение, о чем по радио сообщил лорд Галифакс. Франц выключил приемник. Лица всех присутствующих в комнате выражали полнейшее недоумение.
– Никогда не понимал их, но то, что они творят сейчас, вообще за гранью всякого разумного, – тихо произнес кто-то у меня за спиной.
Мне и самому было невдомек: как можно было огрызаться, находясь в подобном катастрофическом положении?
Через четверть часа новость облетела все казармы и бараки.
– Если в Англии еще остались умные люди, то скоро там вспыхнет революция. Попомните это. Даже самые недалекие теперь осознают, что война отныне целиком и полностью на их ответственности.
– Черчилль ведет свою страну к погибели, и не наша вина, что они не слышат голоса разума! – брызгал слюной Штенке. – Им предложили мир без каких бы то ни было условий, это уму непостижимо!
– Черчилль – еврейская содержанка, это всем известно. Чего еще от него ждать?
– Но остальные? В нынешней ситуации мы легко придавим их, как зарвавшуюся вошь. Неужели они этого не понимают? Их ждет судьба лягушатников, – говорил Карл.
Ульрих исподлобья посмотрел на брата:
– Боюсь, и нам будет сложно пережить еще одну военную зиму.
– Будто ты испытывал какие-то лишения, – тут же отмахнулся Карл.
– У нас со снабжением, может, и порядок, но ты забыл о письмах из дома? Бабка едва не отдала богу душу во время холодов, да и отец со своими легкими не переживет еще одной зимы без угля.
– И Ильке твоя опять завшивеет без горячей воды, – перебив, захохотал Карл.
Ульрих с осуждением посмотрел на брата, но ничего не ответил и отвернулся.
– Кох прав, – неожиданно подал голос Готлиб, задумчиво крутивший в руках оторвавшуюся пуговицу, – у нас в Брукмюле довольных немного, а точнее – нет их совсем. Отец писал, что летом-то поутихли, а зимой многие в открытую высказывались против.
– Против кого? – хмуро спросил я.
– Сам знаешь, – тихо ответил Готлиб, продолжая смотреть на пуговицу, – без угля совсем туго в холода, да и нормы продуктов не те, что в газетах пишут. В лучшем случае половину дадут, да и за той три часа на морозе выстаивали.
Мне было противно слышать это. Я хотел резко ответить Готлибу, но меня опередил Штенке:
– Все не просто так, а во имя!
– Во имя чего? – Готлиб наконец оторвался от созерцания своей пуговицы и посмотрел ему в глаза.
– Во имя преодоления позора, которому была предана Германия, – жестко ответил я вместо Штенке.
Готлиб хмуро скользнул взглядом по моему лицу и снова уставился на пуговицу.
Английская авиация начала хаотично бомбить немецкие города: Гамбург, Бремен, Падерборн… Я читал газеты и не мог поверить, что они сподобились на такую низость. В первые дни мирное население – дети, женщины, старики, – совершенно не ожидавшее ничего подобного, оказалось застигнуто врасплох. В ответ люфтваффе[105] вынуждены были вести массированную бомбардировку Британии. Судя по сообщениям газет, мы быстро завоевали полное превосходство в воздухе: «Соотношение потерь ставит Англию на колени! Все английские "Спитфайры", рискнувшие ответить, погребены в Ла-Манше», – сообщалось в «Фёлькишер Беобахтер». Я был уверен, что с таким раскладом война завершится уже к осени и еще одной зимы по карточкам удастся миновать. Окончательно я в этом убедился после письма тети Ильзы, которая сообщала, что в Берлине активно готовятся к большому параду в честь победы: на Парижской площади уже установили огромные трибуны, украшенные золотыми орлами и гигантскими копиями Железных крестов.
– Франца не видел? – спросил я, наткнувшись на Карла в столовой.
Тот читал газету.
– А? – Он рассеянно глянул на меня поверх страницы. – Он со смертниками сейчас. Пришел приказ собрать группу для обезвреживания бомб.
Я удивленно замер – это было что-то новое.
– Охранников?
Карл озадаченно смотрел на меня, словно не понял вопроса. Потом нахмурился и произнес:
– Заключенных. Скажешь тоже. – И он вновь уткнулся в газету.
Я вышел на улицу и хотел двинуться в сторону бараков, но увидел Франца и Ульриха, куривших неподалеку от ворот. Кох-старший тихо свистнул и махнул мне рукой. Я подошел.
– Милый Карлхен выдал… – И я умолк.
Судя по тому, как они переглянулись, Карл нес вовсе не чушь.
– Кто-то должен обезвредить неразорвавшиеся бомбы, иначе на них могут подорваться наши солдаты или, еще хуже, дети или женщины, – совершенно спокойно проговорил Франц.
Сложно было понять его истинное отношение к тому, о чем он говорил. Я посмотрел на Ульриха. Тот теребил все еще дымившую сигарету так, что из нее уже начали сыпаться крупинки табака.
– Я ведь что думал, – торопливо заговорил он, – нам придется выбирать номера для отправки, а они вдруг сами, добровольно, еще и препирались за это право. Это ведь странно, да? – И он посмотрел на Франца.
Тот пожал плечами.
– Они голодны, а там усиленный паек, почти как у нас.
– Но ведь они не проходят никакого обучения, прежде чем… прежде чем их туда… прежде чем их заставляют откапывать бомбы.
– У них есть инструкции. – Франц снова пожал плечами.
Ульрих помолчал, кинул взгляд в сторону бараков и вдруг вспомнил:
– Сегодня среди них был парень, который вызвался во второй раз. Он рассказывал остальным, что двоих разорвало на куски прямо у него на глазах, и он вычесывал остатки их мозгов из своих волос.
Франц достал еще одну сигарету и опять закурил.
– Если они ошибутся, то все произойдет мгновенно, они не успеют ничего почувствовать.
– Но ведь это… – Я задумался, подбирая выражение, стараясь избежать слова «самоубийство».
– По сути, самый легкий выбор для них, – помог мне Франц на свой манер, – молниеносная смерть – для многих избавление. К тому же всегда есть небольшой шанс, что бомба не взорвется, и тогда они хоть пожрут досыта.
Он сделал еще одну затяжку и, не докурив, бросил сигарету на пыльную дорогу и пошел в сторону казарм.
Мы с Ульрихом молча пошли за ним.
Тон тетушкиных писем изменился. Последнее послание от конца августа буквально выбило почву у меня из-под ног:
«Виланд, мальчик мой, не знаю, как я еще жива, ибо то, что происходит у нас, способно остановить сердце старой тетки. Кошмар, который я испытала, который теперь испытываем все мы, не описать словами. У нас война! Нет, не та война, что идет на страницах газет где-то там. А здесь, у нас! Она вошла в наши дома! Я ничего не понимаю, нас заверяли, что Берлин неприкосновенен, что эти англичане даже не доберутся сюда, а если такое и произойдет по великой случайности, то ни один вражеский самолет не прорвется сквозь нашу противовоздушную оборону. Это клятвенные заверения рейхсмаршала. Мы верили, что так оно и будет. И вдруг в полночь завыли сирены, задрожали стекла, и над городом появились самолеты, и раздался сумасшедший грохот. Я оглохла в ту же секунду. Я в ужасе металась по спальне, не понимая, что происходит. Не знаю, откуда набралась смелости приоткрыть шторы: ох, мальчик мой, огонь, повсюду был огонь, и близко, и далеко. Шел свист, от которого кровь стыла в жилах, а потом всполохи и пламя. И самолеты все резали и резали небо, хаотично, безостановочно, над самым центром, низко-низко. Они ревели, гудели, и я, мальчик мой, ревела, выла от страха, не стыжусь теперь признаться. И знаешь, что было нашим ответом, Виланд?! Нашим ответом были прожектора! Прожектора, которые отчаянно пытались ухватить во тьме хоть один самолет. Они без толку шарили по небу и затухали. Наутро весь город был ошеломлен. Люди выходили из своих домов, озирались, принюхивались. Как зверьки, принюхивались к подпаленному Берлину. Как же омерзительно пахнет благополучный город, который подвергся такому акту поругания! Он пахнет паленым страхом, Вилли. По мостовым валялись листовки, которые сбросили англичане: "Война, которую начал Гитлер, будет продолжаться, пока жив сам Гитлер" – вот что там было. Первые газеты буквально вырывались из рук мальчишек-разносчиков, и что ты думаешь, мальчик мой? Всего несколько строк о поврежденном в результате авианалета коровнике в пригороде! Больше ничего! Как же так, англичане прямо у нас над головой, в самом сердце Германии?! Они, как птицы, свободно летают над нами, а мы, как крысы, проводим ночи в подвалах и убежищах. Пять миллионов испуганных берлинских крыс – вот в кого мы превратились всего лишь за одну неделю непрекращающихся авианалетов.
Все стали необычайно нервными и злыми, оно и неудивительно. Штольцы умудрились разругаться в пух и прах прямо у меня за столом. Лиза как заведенная повторяла: "Зачем, зачем, зачем они это делают?" – "Потому что мы бомбим Лондон, Лиза!" – Альберт ей. Лиза: "Но ведь мы наносим удары только по военным объектам, а англичане бьют по нашим домам, по беззащитным женщинам и детям, словно хотят истребить все мирное население, откуда столько кровожадности?!" Я видела, что она вот-вот разрыдается, и надеялась, что Альберт найдет в себе силы промолчать, но он тоже был на взводе: "О господи, Лиза! Неужели ты до сих пор веришь всему, что печатают газеты?" – "О мой бог, Альберт, но кому мне еще верить?" – "Мы точно так же бомбим мирное население Лондона. Необходимо иметь хоть каплю объективности и здравого смысла, если рассчитываешь на место в раю, дорогая". – "Что за чушь, Альберт! Наши самолеты отправились в Лондон только после того, как англичане появились над Берлином. Это ответная мера". – "В тебе мозга не больше, чем у рыбы!" – рявкнул он ей, и она разрыдалась.
Ох, мальчик мой, как же все-таки это тяжело. Времена такие, что уже ни в чем нельзя быть уверенной. Знаю только, что народ разочарован, он колеблется в своих выводах. Прошедшая неделя заставила многих усомниться в том, в чем раньше были свято убеждены. Нам говорят, что англичане фактически уничтожены, что мы выиграли эту войну, но если это правда, то чьи же истребители и бомбардировщики каждую ночь гонят нас в бомбоубежища?
Я не знаю, когда ты получишь от меня следующее письмо, мой мальчик. Я приняла решение покинуть Берлин и переехать в Бад-Хомбург. Я уже отправила распоряжение подготовить дом к моему приезду, но понимаю, что в нынешних условиях переезд может затянуться. Кстати, как у тебя с деньгами? Скоро холода, не нужно ли тебе прислать на теплую одежду, малыш?
Храни тебя Господь, Виланд. Твоя тетя Ильза».
Я еще раз перечитал письмо, написанное таким аккуратным и понятным почерком, что недопонимания попросту не могло быть. Берлин бомбят?! Почему же фюрер тянет с обещанным вторжением в Британию? Геринг заверял, что наша авиация превосходит британскую в несколько раз и по количеству самолетов, и по их мощности. Немецкие люфтваффе способны уничтожить Лондон одним налетом!
В столовой громко обсуждали новости из Берлина. Очевидно, не только я получил оттуда письмо.
– Хотя бы пообещали, что пайки не будут срезать, – скорбно проговорил Ульрих, – сегодня читал, что нормы на мясо, хлеб, масло и мыло оставят прежними.
– А тебе лишь бы пожрать, – не глядя на брата, процедил Карл.
– А меня уже тошнит от этих газет. Ни черта полезного! Сыт по горло демагогией доктора. Мы получаем правдивую информацию, только когда все хорошо.
Все посмотрели на Готлиба. Он выглядел подавленным.
– Месяц назад Геббельс глотку драл, обещая окончательную победу к сентябрю, а теперь просит затянуть пояса потуже.
– Говори тише, твои разговоры мало кому тут нравятся, – резко осек его Карл.
В Дахау стали прибывать транспорты, заполненные тяжелобольными заключенными. Их везли из других лагерей по особому распоряжению Рихарда Глюкса, заместителя папаши Эйке, решившего таким образом бороться с повсеместным распространением лагерных эпидемий. В обмен Дахау отправлял здоровых арестантов, освобождая тем самым бараки под падаль, неспособную даже толком передвигаться. Тысячи калек, тифозных, изуродованных сыпью и гнойниками, корчащихся в сильнейших приступах дизентерии, вшивых, истощенных, обмороженных, с гноящимися конечностями… парад уродов не прекращался. Вонь, крики, стоны, мольбы о помощи, о воде, о лекарстве, о еде, о смерти не утихали. Охранникам по силам было удовлетворить только последнюю, да и на то не оставалось ни сил, ни желания. Я с ужасом смотрел на очередную партию, которую грузовики просто вывалили на «лугу». Время от времени в горе смердящих тел возникало какое-то шевеление, доказывавшее, что они еще живы и по-прежнему ждут, когда их растащат по баракам. Некоторые стонали и просили воды, бессознательно размазывая по груди и животу собственные экскременты, которые стекали по их тощим, веревочным ногам. Видавшие всякое охранники взирали на это молча, никто не решался подойти ближе. Неожиданно один, лежавший на самом верху кучи, вдруг встрепенулся и начал с воем отдирать остатки рубашки от струпьев на груди. Корка на затянувшихся ранах тут же треснула, грязная ткань мгновенно пропиталась кровью и гноем.
– Мы тут сами подохнем от заражения, – зло произнес один из охранников.
Я по-прежнему не отводил взгляда от кроваво-гнойной груди заключенного. Пока он не начал шевелиться, я был уверен, что он мертв. Я понял, что охранники скорее руки себе отрубят, нежели прикоснутся к этой омерзительной куче, кишащей вшами и всевозможной заразой, а между тем сегодня предстояло принять еще один транспорт из Заксенхаузена.
Осенью новые транспорты принесли очередную напасть – чесотку. Почти четыре тысячи заключенных заразились ею за считаные недели. Изолировать такое количество не было никакой возможности, и они продолжали находиться в общих бараках. О лекарствах для них не могло быть и речи – все медицинские препараты уходили на охранников, которые в ужасе поглощали их в огромных количествах для профилактики. Каждый с опаской осматривал себя в душе и при малейшем подозрении несся в лазарет.
– Уверен, папаша не в курсе приказа, – кипятился Штенке, который только вернулся с приемки очередного транспорта, – он бы не позволил устраивать тут лепрозорий. Видели, что на платформе? Свалка мерзости, перегной из человеческого материала. Зачем их кормить задарма? Только впустую расходуем средства и подвергаем себя же опасности.
Очевидно, в Берлине наконец-то решили так же. Через несколько дней лагерную охрану собрали, чтобы сообщить о непосредственном приказе рейхсфюрера: заразные больные, калеки и неспособные работать должны быть немедленно ликвидированы. Распоряжение выслушали молча, никто не вздумал возразить.
– А с другой стороны, что еще с ними делать? – нарушил молчание Карл уже в столовой. – Многие из них и сами об этом просят. В конце концов, не нам предстоит это делать, а умникам из «Т-4»[106].
– Нам предстоит проводить отбор, кого на уничтожение, кому еще пожить. – Ульрих вяло ковырял свой ужин. – Не одно и то же? – Он хмуро посмотрел на брата. – Лежит такой в тифозном бараке, вроде и больной, а одну таблетку дашь – уже здоровый. Так куда его? На смерть или пусть живет?
– Не даст ему здесь никто таблеток, – резко ответил Карл.
– Вот то-то и оно, – совершенно спокойно согласился Ульрих, – но мы сделали так, что ему нужны теперь эти таблетки.
– Чего несешь, дурак? – возмутился Карл. – Ничего мы не делали! Их уже везут к нам в таком состоянии.
– Не в Дахау, так в другом лагере. Все мы делаем одно дело.
Мы посидели еще несколько минут в молчании.
– Так, значит, доктора из «Т-4» приедут сюда? – снова спросил Ульрих.
– Вряд ли, скорее всего, будем отправлять к ним. Это секретная программа…
Штенке тут же перебил Карла:
– Тоже мне секретная, все уже давно в курсе, что парни из «Т-4» кончают психов в специальных клиниках.
– Не только психов. Я слышал из верного источника: инвалидов тоже, – негромко сказал Карл.
– Ну и тех заодно, – не стал спорить Штенке.
Я представил людей в белых халатах с автоматами.
– Говорят, ядовитым газом. – Штенке понизил голос.
Автоматы в моем воображении заменились на противогазы.
– Интересно, наших тоже будут газовать? – спросил Ульрих.
Штенке захохотал. Я не выдержал и тоже усмехнулся.
– Газовать, – насмешливо проворчал Карл.
Несмотря на тревожное положение на Западном фронте, все мюнхенские рестораны, кафе и пивные были забиты, будто народ, осознавая скорое «затягивание поясов», решил напоследок урвать, что еще можно было. Мы с Францем жадно тянули пиво в центре города. Я подозревал, что если продолжу, то могу очнуться утром с неизвестной женщиной и без единой марки, но даже эти проблески разума не останавливали меня. В конце концов, все мы имели право развлечься напоследок, ведь неизвестно, что нас ожидало в будущем. Вскоре к нам присоединились Карл и Ульрих.
Не знаю, сколько я выпил, но в какой-то момент мочевой пузырь прижало словно сапогом, подбитым грубыми гвоздями. Встав, я покачнулся и начал пробираться вдоль длинных липких столов к отхожему месту. Даже сквозь пьяное марево я брезгливо ощутил, как там воняло. Хотелось поскорее справить нужду и вернуться в зал, но руки не слушались. Мне казалось, еще секунда, и я сделаю это прямо в штаны. Наконец я высвободился и почувствовал неимоверное облегчение. Только спустя несколько секунд я понял, что моя горячая пивная струя бьет прямо на пол, но сил и концентрации направить ее верным курсом не было, и я даже не стал пытаться. Зато теперь я прекрасно понял, почему здесь так воняло, и мои претензии к хозяину пивной мигом улетучились.
Я вернулся в зал. Карл с кем-то горячо спорил, Ульрих отстраненно поглядывал на младшего брата, судя по всему, даже не слыша, что тот втолковывал своему собеседнику. Франц махнул рукой, и через минуту на нашем столе появились новые кружки с пивом. Мне захотелось рома, и я успел сказать это кельнеру прежде, чем он ушел. Не знаю, сколько времени прошло, может, час, а может, и все три, когда Ульрих погрузил мертвецки пьяного Карла в такси и они уехали. Теперь уже я доказывал какую-то глупость его собеседнику, неплохому, но упертому малому, механику из мастерской, располагавшейся неподалеку. Мы спорили об автомобилях, и, честно говоря, не стоило мне этого делать, ведь я ни черта в этом не смыслил, но в тот момент я сам себе казался гением автомобильной мысли.
– Пожалуй, нам пора. – Рука Франца опустилась на мое плечо, когда я практически навалился на внушительное пузо автомеханика.
Я скинул руку друга ретивым движением плеча, но толстяк неожиданно поддержал Франца.
– Еще по стаканчику, и пойдем, – вынужден был согласиться и я.
Передо мной поставили стакан, но я никак не мог сообразить, полон он или пуст. Все плыло перед глазами.
Франц помог мне подняться.
– До встречи, приятель. – Я пожал руку автомеханику, не в силах вспомнить его имени.
Мы вышли на свежий воздух, казавшийся необычайно чистым и прохладным после спертой атмосферы прокуренной пивной. Я покачивался, жадно втягивая бодрящую ночь через ноздри. Над нами светила полная луна, казавшаяся ярче всех фонарей, вместе взятых. Запрокинув голову, я глупо уставился на нее, недоумевая, как раньше не замечал ее красоты. Впрочем, я не столько был впечатлен красотой светила, сколько боялся начать движение и тут же рухнуть на землю. Голова кружилась. Внезапно я особенно сильно подался вперед, и Францу пришлось ухватить меня. Хорошенько встряхнув меня, отчего голова моя затряслась, как у кукольного болвана, он заставил меня развернуться. Я с трудом сфокусировал взгляд, чтобы разглядеть его лицо в неверном ночном освещении, и, когда мне это удалось, я глупо улыбнулся. Франц внимательно смотрел на мою тупую улыбку. Его сосредоточенный взгляд рассмешил меня.
– Франц, а Франц, я больше не могу находиться в том чумном месте. Не могу, понимаешь?
Франц молчал. Затем, посмотрев в сторону, произнес как ни в чем не бывало:
– Понимаю.
Я покачал головой.
– Не могу.
Я молча смотрел на профиль Франца. Осознание ужаса ситуации во всей своей полноте начинало накрывать меня. Ужаса того, что я дал слабину, произнося эти слова сейчас здесь, окончательно явив свое трусливое нутро.
– Сам себе противен, – выдавил из себя я, пытаясь справиться с омерзением в голосе, – я ругаю молодняк за проявление слабости, но сам не в силах туда вернуться. Больше не могу.
Он снова кивнул.
Я молчал, по-прежнему не понимая, как так вышло, что я продолжал произносить вслух такие вещи. Вдруг открылась дверь, и из пивной, громко рыгнув, вывалился толстый механик. Мы посторонились, давая ему пройти. Очевидно, он что-то хотел сказать на прощание, но, глянув на наши лица, молча кивнул и прошел мимо. Я кинул еще один взгляд на молчавшего Франца и тоже пошел прочь, правда, не так быстро, как хотелось бы. Я ступал осторожно, будто пытался нащупать землю под ногами. С каждым шагом я злился на себя все сильнее и сильнее. Во всем виноват чертов ром! Но сейчас хотелось напиться еще сильнее, чтобы забыть позорное признание Францу, в лице которого не было ни тени изумления или недовольства, но светилось понимание, будто… будто он знал, что рано или поздно я произнесу нечто подобное.
На следующий день я был мрачен и немногословен. Карл и Ульрих пару раз пытались выяснить, что случилось, но я довольно грубо огрызался, давая понять, что не их ума это дело. Я стал избегать Франца, и если в свободное время это еще худо-бедно удавалось, то во время службы было крайне сложно.
– Ты мрачнее тучи, это уже откровенно раздражает, – заметил Карл как-то за обедом.
– Раздражает, не смотри, – буркнул я по привычке.
Карл пожал плечами.
– С девкой, что ли, поссорился?
Я резко отставил тарелку и вышел из-за стола.
Близился новый, сорок первый год. Вместе с поздравительными открытками из Дахау полетело и мое прошение о переводе.
В марте пришел приказ, согласно которому мне надлежало явиться в Ораниенбург, в Инспекцию концлагерей и караульных соединений, проще говоря, в ведомство, которое управляло всей системой концентрационных лагерей, а еще проще – вновь под крыло дяди Тео. Под приказом значилось не его имя, но я подозревал, что мой перевод утвердили не без его вмешательства, с учетом того, сколь много было желающих попасть на службу в Инспекцию. В прошлом году она перешла в состав Главного оперативного управления СС, но по факту мало подчинялась ему и была практически самостоятельным органом. Все прекрасно понимали, что в этом была заслуга исключительно папаши Эйке: лезть в ведомство того, кто вылепил Дахау в его нынешнем виде и другие лагеря, было полнейшей глупостью, а уж тем более пытаться что-то контролировать в его вотчине. Впрочем, перебравшись в Ораниенбург, папашу Эйке я так ни разу и не увидел. Позже я узнал, что в белом двухэтажном здании Инспекции, располагавшемся на Генрих-Гиммлер-плац в окружении скудной растительности, где отныне мне предстояло служить, он был довольно редким гостем, хотя официально являлся тут главой. В это время Эйке лютовал во главе своего очередного детища – танковой дивизии «Мертвая голова». О сумасбродстве и фанатичности его солдат, брошенных во Французскую кампанию, ходили легенды по всей Инспекции. Не имевшие совершенно никакого боевого опыта, парни Эйке пытались искупить этот недостаток больной самоотверженностью, что приводило к огромным потерям. Поговаривали, что генералы в штабе были в ужасе и ярости одновременно, а Эйке был счастлив: новый боевой статус его людей приводил папашу буквально в экстаз. Рассказывали, что после очередной бойни генерал Гёпнер не выдержал и отправил письмо в штаб фюрера, в котором пожаловался на действия Эйке, мол, этот мясник не считается с людскими потерями и даже не пытается хоть немного поберечь людей, вверенных ему. А после Гёпнер будто и самому Эйке в открытую заявил, что его лагерные замашки и варварские методы совершенно неприемлемы на фронте. Но результатом гнева штабного генерала стало лишь новое прозвище, которое с тех пор прочно закрепилось за Эйке, – Мясник.
– Слышали, потери такие, что папаше пришлось брать пополнение уже из кадетской школы! Прямо со скамьи, совсем сопляков. Отправятся на небеса за предыдущими, как пить дать.
– А что фюрер?
– Говорят, доволен, еще больше окрылил папашу.
– А то. Иначе хватило бы Эйке смелости порешить разом почти сотню томми в Па-де-Кале!
– Военнопленных?!
– Не моргнув и глазом. Его парни поставили томми к стенке в каком-то сарае и положили всех из пулеметов. Гёпнер был в ярости.
– У папаши не забалует ни свой, ни чужой. Слышали, как он борется с загулами своих командиров? На всю округу разнес имена тех, кто якобы заразился сифилисом. Теперь ни одна мамзеля не подойдет.
И курилка сотряслась от очередного взрыва смеха.
Не скрою, когда я подавал прошение о переводе, то, продолжая злиться на себя, я рассчитывал попасть именно в дивизию Эйке, и бумажная работа, на которую меня отрядили, стала полной неожиданностью. Подобная кабинетная рутина была мне противна, но со временем я смирился и с этим, разумно судив, что в спокойной обстановке наконец-то могу поразмышлять над своей дальнейшей судьбой. К тому же вскоре меня снова повысили в звании, что в немалой степени способствовало примирению с ситуацией.
Несмотря на то что количество лагерей непрерывно росло, структура, контролировавшая всю их деятельность, частью которой я отныне являлся, была не такой уж и большой. Поначалу в ее подчинении было шесть лагерей: Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен, Флоссенбюрг и женский Равенсбрюк. Но чем выше поднимался градус военных действий, тем активнее ширилась география полномочий Инспекции: Аушвиц, Нойенгамме, Гросс-Розен, Нацвайлер-Штрутгоф… Затем Майданек, Арбайтсдорф… Они возникали повсеместно, как грибы после дождя. И из каждого в Инспекцию текли бесконечные потоки статистической информации: ежедневные доклады о численности и составе заключенных, еженедельные отчеты о вспышках заболеваний, о попытках побега, смертях, жалобы на нехватку стройматериалов, одежды, питания, медикаментов для руководящего состава, охранников и заключенных. Последняя жалоба могла вызвать лишь усмешку у того, кто хоть раз сам поработал в лагере. Но здесь в кабинетах все казалось действительным и исполняющимся, а потому к каждой бумажке относились с полной серьезностью.
Бумажная рутина поглотила меня настолько, что мой разум даже не отреагировал должным образом на вторжение в Советский Союз. Из-за чего именно началась война на этом фронте – я не успел разобраться, да и какое это теперь имело значение, коль я до сих пор не умел должным образом отделять причину от повода. Стоило признать это. А потому утром двадцать третьего июня я мог лишь потерянно удовлетвориться газетными сообщениями о том, что Германия вынуждена была принять военные меры на границе с Советским Союзом, который вел тайные переговоры с англичанами. Русские собирались объединиться с томми и напасть на нас с тыла. Согласно этому замыслу, в первую очередь должны были подвергнуться нападению наши части в Румынии и Болгарии, которые находились там на учениях. «Понуждаемый обстоятельствами, фюрер отдал приказ противодействовать этой угрозе всеми имеющимися в распоряжении германских вооруженных сил средствами», – читал я, медленно отхлебывая остывший кофе. Грандиозности, которую этому событию пытались придать газеты, я не ощущал. Полагал, что эта оборонительная в каком-то смысле заваруха на Востоке закончится довольно быстро, потому как совладать с нашей мощью отсталому Союзу было не под силу. Этим было далеко и до англичан, и до французов, а мы уже и тем и другим дали прикурить. Оставалось лишь дожать. Я поражался слепоте советского командования: переброску столь гигантских масс войск, артиллерии, танков, самолетов и грузов материально-технического снабжения с запада к советским границам просто невозможно было осуществить незаметно, не вызвав никаких подозрений. Но, судя по всему, Германии это удалось, поскольку поставки сырья и товаров от Союза, согласно условиям пакта, продолжали пунктуально поступать до самого последнего часа, более того, в Инспекции поговаривали, что в последние месяцы они даже увеличились, выйдя за пределы наших соглашений. Я так до конца и не разобрался, была ли то безоговорочная дурость русских, замешенная на слепоте и самоуверенности, или их отвлекающий маневр, но во всем происходящем в целом мне виделась единственная правда: моральная свобода для Германии. Ведь этот союз с русскими был тошнотворен по сути своей и категорично расходился со всеми устремлениями рейха. Он попросту был противен нутру всякого истинного немца, полагал я, как самая неестественная и извращенная случка, вызывающая лишь искреннее отвращение.
По прогнозам нашего командования, кампания на Востоке должна была завершиться в срок от четырех до шести недель. В Инспекции иных тем не было.
– Уничтожаем сразу двух зайцев. Разгром России сделает Англию сговорчивее.
– Давно пора, не стоило дожидаться, пока русские оттяпают себе Прибалтику, Бессарабию и Буковину.
– Думаю, это-то как раз и подстегнуло фюрера. Сталин – шакал, если бы фюрер не сыграл на опережение, то, думаю, Болгарию, Турцию и Венгрию ждала бы похожая судьба.
– Русские недоразвитые, как и поляки. Скоро наберем трофейного оружия времен мировой, – насмешливо обсуждали в штабе.
– Животное – оно и есть животное. Правильно решили не возиться с их командирами. Говорят, фюрер лично санкционировал их расстрелы.
– Слышал от верного человека из ближайшего окружения Глюкса, что в Заксенхаузене еще в прошлом месяце прошло совещание, на котором Эйке это в открытую подтвердил. С русскими нельзя по обычным правилам войны.
– Они к такому привычные. Говорят, у Сталина не все в порядке с головой, и он сам же и порешил половину своего командного состава. Они там все в панике, офицеры массово дезертируют. Шесть недель, самое большее восемь – мой прогноз. Уже в сентябре наш флаг будет над Кремлем.
– До зимы было бы в самый раз. Задницы Карла и Наполеона помнят…
– Не в этот раз, мы обложили их по всем направлениям: Польша – наш штатный лагерь, почти миллион наших на Балканах, Югославия и Греция наши – с юга все прикрыто, Румыния, Болгария и Венгрия тоже у нас под пятой. Люфтваффе долетят до любой нужной точки, чтобы страховать сверху. А их бомбардировщики не доберутся ни до Берлина, ни до промышленности в Силезии. У них и семи десятков укомплектованных дивизий не наберется. Говорю, до зимы уложимся.
– В голове не укладывается, у нас активное наступление на фронте длиной почти две с половиной тысячи километров. Черт подери, от Северного Ледовитого до Черного моря. Матерь божья, спаси теперь!
– Еще свечку сбегай поставь.
– А может, и поставлю! Фюрер сам сказал: «Да поможет нам Бог в этой битве».
– Без Бога справимся. Не дикари, чтоб от холода бежать. Россия упадет к нашим ногам, как яблочко, останется нагнуться и насладиться.
– Снова на два фронта. Как бы действительно не нагнуться…
– И не насладиться.
Раздался очередной взрыв хохота.
Я как будто очутился в нашей казарменной столовой в Дахау.
1 декабря 1993. Свидание № 7
– У меня ведь племянник есть, в Киеве учится. В детстве был очень смышленым мальчиком, увлекался поездами, всю информацию о них изыскивал. И веришь ли, Лидия, раскопал где-то про встречу Гитлера со Шпеером, его главным архитектором, в сорок втором, где они обсуждали будущую прокладку железнодорожных путей из Берлина в Москву и Харьков. Приходит он ко мне и рассказывает: и про ширину колеи в четыре метра, и про мягкие сидячие купе, и про широкие просторные проходы, и про новые товарные вагоны, у которых верхняя часть должна сниматься каким-то специальным краном и насаживаться на вагоны старого типа, чтоб они могли ездить по старым колеям. И все это с таким задором рассказывает, что-то даже рисует на обрывке своей школьной тетради, показывает, значит, как это все должно было крепиться и переставляться. Радостный такой, да, интересно это ему все было, – задумчиво проговорила Валентина и посмотрела в окно, за которым бесновались воробьи.
Лидия понимала, что на этом рассказ не окончен, но Валентина словно и не думала продолжать. Ушла в себя, уставившись куда-то вдаль. Очевидно, шла где-то по задворкам своей фантазии по этим широким проходам между мягкими купе. Лидия не мешала ей, она изучала документы, которые утром получила в архиве. Наконец, оторвавшись от очередного пожелтевшего листа, она все же решила спросить:
– А потом?
Валентина перевела на нее отстраненный взгляд, посмотрела несколько секунд так, будто пыталась вспомнить, о чем речь, и проговорила:
– А потом мы с ним поехали на дачу. На электричке. Старая, грязная, вонючая, сиденья деревянные, твердые, затертые до блеска задницами дачников. Мы вышли, и он стоял на перроне, провожал взглядом эти дребезжащие вагоны, нахмурился, а потом резко обернулся и спросил: «А что мы выиграли-то?» Я тогда растерялась, говорю ему: «Мы не выиграли, Пашенька. Мы победили. Это была не игра, а война». Тогда он кивнул и совершенно серьезно переспросил: «А что мы выиграли в результате этой победы?» Ну вот ей-богу, был бы взрослый человек, подумала бы, что издевается. А так дите. Серьезно все спрашивал, понять хотел. А у меня, дуры, и слов-то не нашлось, чтобы правильно объяснить. Ребенок малый, как ему о свободе говорить, когда одни поезда и конфеты на уме?
И она снова уставилась в окно, наблюдая за беспорядочным мельтешением воробьев. Через несколько секунд опять заговорила, не оборачиваясь:
– Умный этот Шпеер был. Толковый. По первой профессии, конечно[107]. Знаешь, что он сказал в последнем слове на суде? Что очередная грандиозная война закончится полным уничтожением человеческой цивилизации. Учитывая технологии, которые мы теперь имеем, похоже на правду, как считаешь?
Она повернулась и посмотрела на Лидию, снова уткнувшуюся в архивные документы. Видя, что та не отвечает, Валентина продолжила:
– Вот уж парадокс дрянной: чем выше успехи в науках, тем в большей опасности человек. Ведь множество этих технологий для чего он использует? Для борьбы друг с другом, а вовсе не во благо себе. Понимаешь, даже такое явление, как прогресс, умудрились заставить работать против себя же.
Голос ее был озадаченным, но совершенно спокойным, не выдававшим никакого волнения, будто она не могла найти какую-то мелочь на привычном месте.
Лидия в очередной раз оторвалась от бумаг, которые изучала.
– Ты ведь понятия не имела про свою тетку, которая умерла в концлагере? – Она прямо смотрела на Валентину.
Лицо той менялось очень медленно, так медленно, что Лидия не сразу осознала, что теперь на нем играла легкая извиняющаяся улыбка.
– Это была моя бабушка. И она… выжила.
Руки Лидии, все еще державшие архивные документы, медленно опустились. Она изумленно разглядывала свою клиентку.
•••
Довольно быстро слухи о советских военнопленных распространились далеко за пределы управления. Казалось, никто и не пытался скрывать, что красных комиссаров отправляют в лагеря прямиком на расстрел. Многих даже не регистрировали по прибытии. Впрочем, русские отказались ратифицировать Женевскую конвенцию, поэтому вполне очевидно, что на них ее положения не распространялись, говорил себе я, наблюдая, как в управлении смотрели на это сквозь пальцы. Гаагской конвенцией Советы так же подтерлись по вполне очевидным для меня причинам: они собирались напасть на нас первыми и хотели, чтобы в этом случае их руки были развязаны в отношении наших военнопленных, которых они планировали захватить. Но они не учли, что мы сыграем на опережение. Что ж, они пожинали плоды своего коварства и пренебрежения к международным правовым нормам. Теперь и мы были вправе делать с их пленными что угодно, имея на то все юридические основания, ответственность за это нес исключительно towarisch Сталин, который, очевидно, самонадеянно полагал, что его солдатня никогда не попадет в плен[108]. Как бы то ни было, бумажной волокиты хватало и без этого, потому я предпочитал не закапываться еще и в конфликты морального порядка. С утра до вечера я был погребен под ворохом донесений, половина из которых теряла свой смысл уже на пути в Инспекцию. Вырвавшись на несколько минут в курилку, я с наслаждением втягивал тяжелый дым, туманивший мозги и хоть на несколько минут перекрывавший бесконечные строчки перед глазами.
– И что ж, они не сопротивляются? Не верю. Русская собака, даже подыхая, будет тянуться к горлу обидчика.
Я открыл глаза и посмотрел на двух сотрудников, куривших поодаль. Один из них привлек мое внимание: судя по всему, как и я, выбился из лагерной охраны. Мне сложно было сказать, что именно выдавало нас, но мы безошибочно угадывали друг в друге лагерное прошлое даже здесь, в кабинетах управления.
– Не знаю, как в других местах, а в Заксенхаузене все по уму сделано, – медленно проговорил он, – потому и не сопротивляются.
После обеда я вновь столкнулся с этим человеком в курилке. Я и не думал подходить к нему и уж тем более заводить разговор, но он сам подсел ко мне.
– Дахау? – Он вопросительно глянул на меня.
Я кивнул.
– Заксенхаузен, – проговорил он.
Я еще раз кивнул, стряхнул пепел и снова затянулся.
– Диковатые у вас там, конечно, порядки, – продолжил он, глядя на меня сквозь дым.
Я приподнял брови.
– Я про решение вопроса с русскими, – пояснил он.
– Расстреливают. – Я пожал плечами. – В Заксенхаузене разве иначе?
– Да, но ведь способ. Способ. – На последнем слове он сделал многозначительное ударение.
– И какой у вас способ?
– Гениальный, – протяжно выдохнул он, – комендант Лориц лично создал проект расстрельного станка.
Я хотел сделать еще одну затяжку, но рука с сигаретой замерла, я уставился на него.
– Станка?
Он посмотрел на меня снисходительно, явно довольный тем, какую реакцию вызвал. Сев удобнее, он закинул ногу на ногу и прикурил еще одну сигарету.
– Был у нас один сарай, совершенно непримечательный, для всяких хозяйственных нужд. По проекту коменданта заключенные из столярной мастерской изготовили там… – Он сделал паузу, будто подбирал подходящее слово, затянулся и неторопливо выдохнул дым вместе с тем словом: – …Шедевр. Ни один русский так и не понял, что это. Их туда заводят группами, в одном помещении они раздеваются, в другом проходят «медосмотр», ну вы понимаете, так им говорят. Они по одному заходят в комнату, а там ни дать ни взять кабинет доктора: врачебные инструменты, анатомические картинки, книжки медицинские, а за столом наш человек в белом халате. – Широко улыбнувшись, он снова сделал паузу, но на сей раз, чтобы я мог представить себе картину.
– И он стреляет? – вырвалось у меня прежде размышлений.
Продолжая широко улыбаться, мой собеседник покачал головой. Он молчал, словно предлагал мне высказать еще одну догадку. Но я замолчал, досадуя, что не сдержался. Поняв, что я не намерен разгадывать загадки, он продолжил:
– Он осматривает, затем ведет русского к ростомеру, тот прижимается спиной к линейке, и – бах, можно выносить, следующий.
Его улыбка начала вызывать у меня раздражение. Да и сам он казался мне неприятным типом.
– Так кто стреляет?
– Вы так и не поняли? В ростомере есть отверстие, а за стеной наш человек. Увидел, что тело прижалось, и спустил курок. Тело тут же за ноги и в соседнюю комнату, а в кабинете тем временем шлангом уже кровь смывают. Через несколько минут можно заводить следующего.
– Но звук выстрела? – Я смотрел на него недоверчиво.
– Звукоизоляция хорошая, к тому же в первой комнате на полную орет патефон. Ожидающие своей очереди ничего не слышат, а если иной раз кто-нибудь и услышит, так решит, что почудилось. Они поступают уже в том состоянии, когда их сознание совершенно спутано. Голодные, оборванные, оглохшие, многие ранены, идут в бараки, качаются, а там вповалку на голый пол, потом два-три дня без жратвы. Да такие уже ничего не соображают. – Он пожал плечами. – В любом случае этот станок – отличный пример того, сколь велики возможности изобретательного человека, у которого есть цель, но нет лишней сентиментальности.
Я вдруг понял, что курю уже третью сигарету подряд.
– Цирайс[109] из Маутхаузена взялся соорудить у себя нечто подобное. Кох[110] в Бухенвальде, говорят, уже заканчивает такой же механизм. В Гросс-Розене перешли к инъекциям синильной кислотой. Когда про наш станок узнали в других лагерях, пошла инициатива на местах. Везде, только не в Дахау. Ваши по-прежнему возят на открытое стрельбище в Хебертсхаузене. Ставят партиями и косят беспорядочным огнем, а остальные видят это и начинают выть на всю округу и сопротивляться, конечно же. И кому это надо, скажите мне? Вот увидите, долго эти бойни не смогут продолжаться, у охранников попросту начнет ехать крыша, никакой разум не выдержит таких психологических нагрузок. Это поначалу кажется, что нет тут ничего сложного: берешь и просто спускаешь курок, и все… Это не так. Все гораздо сложнее… Видишь их перекошенные ужасом лица, слышишь их мольбы о пощаде, проклятия… Какая бы подготовка ни была у парней, невозможно полностью абстрагироваться от всего этого. Рано или поздно вашей лагерной администрации придется подумать в этом направлении и начать осваивать более… современные, скажем так, методы, чтобы не делать из наших парней психов. Я уж не говорю об экспериментах типа видмановского[111] в Минске. Крайне неудачный по всем параметрам.
– К сожалению, я ничего об этом не слышал, – выдавил из себя я.
– Не в курсе? Доктор Видман, он из Института криминологии, просто взорвал группу психов, выделенных ему для испытаний. Их загнали в какой-то блиндаж, заложили динамит и рванули. Только представьте: раненые полезли из-под обломков, мозги, кишки и другие части на ближайших деревьях… Омерзительно. Дистанцировались, нечего сказать.
– Думаю, не существует способа, который бы мог…
– Не скажите, – перебил он, покачав рукой с дымящейся сигаретой, – я, знаете ли, глубоко интересуюсь темой и слежу за изысканиями в этом направлении. Вот в Могилёве, это в Белоруссии, опять же в психиатрической больнице работали с угарным газом. Ошибка была в том, что они изначально использовали легковую машину, но когда подогнали грузовик с мощным мотором, то эксперимент завершился вполне успешно: когда помещение вскрыли, все были мертвы. Но тут, конечно, вызывает нарекания вопрос времени. И в этой связи меня заинтересовали опыты в одном из лагерей. Чувствую, – выпустив дым, он подался вперед, глядя мне прямо в глаза, – там случится настоящий прорыв. Они уже сообщают об ошеломляющих результатах, способных в корне изменить подход к уничтожению врага.
– Что за лагерь?
– Аушвиц, слышали?
– Что-то слышал, – произнес я, затушил сигарету и встал. – Прошу меня простить, нужно возвращаться к работе.
Неожиданно я получил письмо от Ульриха Коха. Вот уж от кого действительно не ожидал. На бумаге он был более словоохотлив, нежели в жизни:
«Вовремя ты свинтил из Дахау, Виланд. То, что Карл называет "вагонами с перегноем", совсем заполонило лагерь. Они шли и шли, вагоны, я имею в виду. А уж то, что было в вагонах, идти было совсем не в состоянии. Все на селекцию. А там что выбирать, коли все измучено, истощено, изуродовано и болезнями изъедено? К ним и подходить-то страшно, не то что проверять, смогут ли они лопату в руках держать. А выбирать, главное, нужно нам, охранникам, значит. Ну, мы их всем транспортом бракуем, еще бывает, и своих из лазаретов добавляем, лежачих. А что еще с ними делать? Обуза – она и есть обуза. Мы им говорим: "Вас переводят в больничку или специальный реабилитационный лагерь". А они верят! Верят, Виланд, с каким-то дурным упорством цепляются за эту чушь насчет больнички, когда уже каждая вошь в округе знает… А потом приезжают эти, из "Т-4". Их двое – доктор Меннеке и доктор Штайнмайер. Помоложе и постарше – вот и все, что могу о них сказать. Непримечательные они там все. Особо не осматриваются, сразу же в лазарет идут. Работы у них, конечно, много: изучают личные дела всех, кого мы им отобрали, а потом еще заполняют на всех подробные формуляры и отправляют в Берлин. Ума не приложу, кому нужны эти бумажки. По мне, так лишняя волокита, ведь отобранных все равно… того. Мы, конечно, стараемся больше из евреев набирать, но им это без разницы. Меннеке нам так и сказал: "Мы в первую очередь врачи, а не палачи. Нас интересуют медицинские аспекты, а не идеологические". И никто им не перечил, они птицы важные, распоряжение насчет них сам знаешь откуда пришло. И что тогда удумал Штенке? Гоним очередную колонну к врачам на отбор, Штенке из нее евреев выуживает и дубинкой по почкам, они потом стоят перед врачами, шатаются и кровью прямо под себя ссутся. Ну их, понятное дело, на отбраковку. Штенке гордым орлом по лагерю парил, даже шутцхафтлагерфюрер его похвалил за эту придумку. "Мы теперь правим здесь естественным отбором", – сказал вчера Штенке. Да, чистая правда. Мы решаем за природу, кому в этих бараках жить, а кому умирать. Меннеке говорит, их увозят в специальный центр в Хартхайме. Рассказал, что там оборудовано герметичное помещение, и в него подается угарный газ через трубы. Его облицевали кафельной плиткой – как бы душевая. Доктора говорят, что у больных до последнего никаких подозрений и все проходит довольно спокойно. Пятнадцать-двадцать минут, и проблема решена. Я что думаю, Виланд, это в любом случае гуманнее расстрелов, идут они себе в душ, до последнего не знают, что сейчас помрут. А тут, бывает, ведешь к стенке, так они под себя от страха ходят, орут громко, трясутся от ужаса так, что с трудом попадаешь. А еще, как бы это сказать… по отношению к нам это ведь тоже гуманнее, Виланд. Завел мотор, а где-то там все само собой, без твоего участия. И никаких глаз, на тебя смотрящих, и никаких мозгов у тебя на сапогах. Сильно это на человека влияет, когда этих больных приходится своими руками у стенки… Они, правда, уже и на людей-то не похожи, отупевшие, иные и говорить не способны, мычат, стонут, говно по себе размазывают. Настроение потом ни к черту. Я не то чтобы злюсь на все это, что ж рейху такую обузу кормить, понятное дело…
Я вообще много теперь про это знаю. Меннеке занятно рассказывает. Есть такой термин "евгеника", слышал? С греческого означает "благородный". Меннеке говорит, это как раз про их цель. Это какой-то англичанин еще в прошлом веке придумал: что если мы будем производить тщательный отбор и совершать правильные браки, то уже через несколько поколений создадим расу самых выдающихся людей, "гениальную генерацию". Меннеке сказал, что тот англичанин был умен, но с тонкой кишкой. А вот немец Плётц[112] дальше пошел. Это его идея, что врачам надо дать право решать, кому позволено производить потомство, а кому нет, кого из новорожденных оставлять, а кого того… но безболезненно. Расовая ценность, значит. Но я что думаю, Виланд, если по нашим лагерникам понятно, кого в расход, а кто еще помашет лопатой, то как по младенцу определить, расово ценный он или нет? Нам об этом запрещено трепаться, с нас и расписку взяли о неразглашении, так что ты уж молчи, Виланд, добро? Просто надо мне это кому-то сказать, не Карлу же. Брат у меня хороший, но сразу в драку полезет».
Если Ульрих думал, что поведал мне большую тайну, то глубоко ошибался. Инспекция регулярно получала телексы из лагерей о ходе программы уничтожения заключенных, неспособных работать.
В августе мне дали несколько дней отпуска, чтобы я смог навестить могилу матери, на которой еще ни разу не был. Откровенно говоря, у меня не было настойчивой душевной потребности в этом, но осознание необходимости исполнения сыновней обязанности давило на меня. Я долго раздумывал, сообщать ли отцу о своем приезде или остановиться в гостинице, но разумно решил, что кто-нибудь в любом случае узнает меня и рано или поздно отцу станет известно, что я побывал в городе.
Я приехал в Розенхайм рано утром. Не заходя домой, сразу же направился на кладбище. Молча шел по пустынным улицам, не глядя по сторонам. Я боялся наткнуться на кого-нибудь из знакомых, ведь это значило, что нужно будет непременно остановиться и перекинуться хоть парой слов. Из-за предстоящей встречи с отцом настроение у меня было не самое хорошее. Оставалось только надеяться, что и ему, и мне хватит ума и выдержки не заводить разговоры на политические темы. Уже на кладбище совершенно не к месту я вдруг вспомнил, что именно здесь в детстве осквернил с друзьями могилу какого-то еврея. Кажется, мы тогда мочились на нее. Я усмехнулся, вспоминая, каким идиотом был – верил, что мы этим совершаем истинный подвиг на благо Германии. Могилу матери я отыскал довольно быстро, еще издали заметив худощавую сутулую фигуру отца рядом с ней. Я молча подошел и встал рядом, уставившись на невзрачный букетик из каких-то садовых цветов, лежавший на земле. Запоздало осознал, что сам не догадался принести никаких цветов. Что ж, я всегда был отвратительным сыном.
– Под конец она уже не сильно мучилась. Все произошло во сне, – тихо произнес отец, не отрывая взгляда от имени, высеченного на светлом камне.
Я кивнул, зная, что он по-прежнему не смотрит на меня. Кивнул скорее для себя, словно утвердил где-то внутри, что мать ушла легко.
– Спрашивала про тебя каждый день, я говорил, что ты регулярно пишешь и у тебя все хорошо.
Ни на одно из писем отца я так и не ответил, тем не менее снова кивнул.
– Я ей сказал, что ты занят тем, что выполняешь волю фюрера, а значит, всего народа. Все верно? – И он наконец оторвал взгляд от могильного камня и посмотрел на меня с тенью иронии.
Я ужаснулся тому, как он постарел за это время. Густые беспорядочные брови поседели, глаза почти утонули в запавших глазницах, щедро обрамленных нависшей морщинистой кожей, от носа к губам шли две глубокие борозды, страшно искривлявшиеся всякий раз, когда он усмехался. Как сейчас.
Я не ответил, давая понять, что не желаю пререкаться с ним. Теперь уже он кивнул, будто соглашался с моим молчаливым решением. Он еще немного постоял, продолжая разглядывать могилу, которую, уверен, знал до каждой щербинки и каждого скола на могильном камне.
– Что ж, народ хочет убивать?
Все-таки не выдержал, черт бы его побрал.
– Наш народ вправе хотеть чего угодно.
– Я гляжу, все-таки крепко тебе вбили в голову мысль о принадлежности к избранным. Глубоко ты в это уверовал. Превосходство ощутил, сынок. Гляди, потом психологические комплексы будут.
Он издевался надо мной. Я видел это по уродливо искривленным бороздам на его лице. Я заставил себя промолчать. Отец продолжал внимательно смотреть на меня. И вдруг он изменился в лице. Подался вперед, по-прежнему продолжая буравить меня темными глазами, но борозды разгладились.
– Э, сынок, да ведь все гораздо хуже, чем я думал. Ты и сам не питаешь иллюзий. Я-то думал, ты обманываешься, а ты все осознаешь не хуже меня.
– Тебе не стоит рассуждать о том, о чем ты понятия не имеешь, – процедил я сквозь зубы, понимая, что здесь не время и не место для таких разговоров.
Но он продолжал качать головой.
– Говорят, даже вермахт в ужасе от того, что творят СС. Все уже слышали, как вы поступаете с евреями и военнопленными на оккупированных территориях, Виланд. Даже у своих вы вызываете отвращение.
– Вот именно, это слухи.
– Значит, убийств нет?
– Кто считает нас убийцами?
– Вся Европа называет нас кровавыми палачами.
– Ты о той Европе, которая вступила в союз со Сталиным? Не смеши меня. Они должны молиться на нас, поскольку мы предотвратили вторжение этих азиатских орд в европейское пространство. Не сегодня завтра русские бы вступили в Европу, будто ты сам этого не понимаешь! И их упреки в том, что мы губим несчастных евреев, – такой же фальшивый и лицемерный парад фарисейства. Они продолжают без устали вопить об этом, но протянуть им руку по-прежнему никто не жаждет, или ты этого не замечаешь? А ты знаешь, что корабль, полный евреев, бегущих от нашего якобы страшного режима, две недели простоял у берегов Кубы и США, курсируя туда-сюда? Они умоляли правительства разрешить пристать хоть к какому-нибудь порту[113]. Они даже обращались к канадскому правительству, и никто, слышишь, никто из тех, кто на весь мир кричит о нашей жестокости, не позволил этому сброду сойти на их святой берег. Рузвельт, этот великий человеколюбец, не пожелал открыть перед этими несчастными врата в свое царство благополучия! А ведь врата эти были уже видны с палубы корабля. Вот уж иллюстрация американского гуманизма и сострадания! Все вдруг позабыли о своей собственной истории, славной еще более жестокими чистками. Карл Великий переселял саксов, не особенно интересуясь их мнением. То же самое делали испанцы с маврами и англичане с ирландцами. Стоит ли говорить про американцев и про то, что они творили с коренным населением? Мы не придумали ничего нового, мы используем лишь те методы, которые всегда использовали все сильные нации с теми, кто засорял их породу. Евреи во все времена своей поганой истории знали, что такое гетто и желтая метка.
Отец долго и вымученно смотрел на меня. Глубокие борозды на его лице вновь исказились, но на сей раз не от усмешки. На лице его отпечатались усталость и тоска.
– Ты прав, сынок, – неожиданно согласился он без тени сарказма, но с какой-то утверждающей безысходностью, – тут все хороши, и ни за кем правды нет. Да и была бы за кем – уже пустое, потому как построили мы мир такой, где важно не за кем правда, а кто победит. А он уже свою правду расскажет и научит остальных по этой правде жить, а кто не захочет, того заставит. Наш доктор все больше за умы толпы теперь воюет, оно и правильно. Кто овладеет разумом людей, тот овладеет и землями, и морями, и ресурсами. Ты думаешь, я не понимаю, что не только Геббельс этим грешит? Все они этим занимаются. Те – со своими, наши – с нами. И все для того, чтобы продолжали существовать «те» и «наши», понимаешь ты это, сынок? Враг – тот, кто назван врагом и в уме твоем таковым является. А он, может, в своем уме себя хлебопашцем называет и в поле хлеб возделывает, и вчера, и сегодня, и завтра будет возделывать. За ум твой битвы разворачиваются, и нам за разум свой нужно бороться, сынок. Не отдавать свой разум добровольно, чтоб из него лепили дурное и чтоб мы с этим слепленным разумом истязали друг друга. Такое уже было.
Он замолчал и чуть погодя снова выдохнул с надсадой:
– Да, впрочем, все уже было. – Он продолжал смотреть на меня. – Земля уже все видела. Все повторяется из раза в раз, обертка лишь меняется, по которой недалекие судят, что это что-то новое, и по глупости своей принимают за развитие. Но то, что мы назвали «цивилизация», так ведь и не наступило. Я уже сам не знаю, за что спорю с тобой, сынок. Воюем, убиваем, воруем, лжем, подавляем чужую волю. Но суть не меняется, убиваем ли каменным топором или травим чем-то высокотехнологичным, – говорят, вы какие-то газы теперь используете, Вилли, да? А результат один – человек, которому жить положено, умирает, потому что так решил другой человек по непонятно какому замыслу. Хотя что ж тут непонятного? Преступный замысел. И еще преступнее повиноваться ему. Мы шли веками к тому, чтобы стать владетелями жизни и истины, но испуганно повернули и возвращаемся к стае, а то и того хуже – к стаду. Стаду никак без погонщика, который помыкает, а затем заколет, когда придет время, и сожрет. Обратно к инстинктам, обратно к животному началу – вот что такое война, в которую мы теперь опрокинулись. Когда управляют, направляют, меняют и владеют, давая взамен только право на ощущение права.
Я вдруг осознал, как измучили его подобные мысли, если он из раза в раз повторял их. Может, они травили его так сильно, что затмевали боль от потери матери, совершенно не даря при этом хоть какого-то облегчения, поскольку были тлетворнее, ядовитее и даже безысходнее, чем мысли о смерти. Да, пожалуй, даже и безысходнее самой смерти. И так он терзался ими изо дня в день, не имея возможности поделиться хоть с кем-то, поскольку за этим могла последовать неминуемая беда.
Внезапный порыв ветра сорвал с него шляпу и будто рукой прицельно швырнул ее прямо на могилу, примяв и без того хилые цветы. Отец словно и не заметил этого.
– А впрочем, – говорил он, потерянно глядя перед собой, – может, и твоя правда. Если люди настолько слепы, что за красивой оберткой, в которую упаковывают все те же боль, страдания, насилие и подавление воли, ничего разглядеть не могут… То, может, и поделом. Такая непроходимая глупость, когда природой нам дан столь светлый разум…
Безотчетная тревога вдруг охватила меня. Я вновь уставился на могилу матери, пытаясь унять неприятные ощущения внутри. Тошнотворный комок забился в районе груди, ширясь и отравляя настроение окончательно.
– Сейчас война, она диктует свои условия. – Я также продолжал упорно смотреть на могильный камень, будто разговаривал именно с ним. – Это особое состояние нации, в котором какие-то принципы и оценки мирного времени должны быть забыты. Отец, тебе ли не понимать этого? Мы должны отнестись с пониманием к некоторым вещам. Ты называешь «беззаконием» обусловленную войной меру безопасности. В мировой войне мы потерпели крах исключительно на внутреннем фронте, и это страшнейшая из катастроф, которая может случиться с нацией, – удар в спину от тех, кому она доверилась. Сейчас любое проявление слабости или сострадания обесценит все наши усилия, и катастрофа повторится.
– Но вот ведь в чем дело, сынок, Германия среди тех, кто в свое время подписал Гаагскую конвенцию. Я тебе напомню, Вилли, там говорится про ценность всякой человеческой жизни, равно как и про свободу религиозных убеждений. Это ли не признак человека высокоразвитого – давать свободу себе и всякому?
Я сомкнул зубы до боли.
– Кому давать свободу? Еврею? – шумно выдохнув, проговорил я. – Это сор, накипь человеческая, от которой нужно умыть рейх, а не свободу ему давать.
Отец что-то тихо забормотал, я ничего не мог разобрать, кроме болезненного смешка, после которого он резко умолк. Стоял, опустив голову, можно было подумать, что он внимательно рассматривал свои стоптанные ботинки, но слишком уж безвольно повисла его непокрытая голова. Только сейчас я заметил, что он начал лысеть. Что ж, достаточно поздно, надеюсь, и мне так повезет. Голова его вновь дернулась, и он медленно поднял на меня свое исхудавшее лицо.
– Самое страшное, что вы всю нацию хотите привлечь к этому. Всех сделать соучастниками. Стоит отдать должное, это умно: попуская такое, мы сжигаем все мосты, и остается идти до конца. Теперь в этой стране никто не сможет быть патриотом, не вступив в конфликт со своей совестью. Страну поработил человек, еще при жизни своей достигший девятого круга ада. Он уже никогда не отличит, где заканчивается его воля и начинается заключение, ибо он главный узник и раб своих страстей. Его тюремщики – его же ненасытное нутро и беспокойный разум. Он заточен в самом себе. Власть и преклонение только ширят ту внутреннюю пропасть, которая отделяет его от реальности и свободы. Его погоняет главная страсть – господство. Она в конце концов его и прикончит. И нас, если мы продолжим идти вслед за ним.
Это был перебор. Я сжал голову руками, пытаясь унять гнев.
– Прекрати! Если бы ты не был моим отцом, я бы уже пристрелил тебя! – Слова вырвались прежде, чем я успел осознать их.
Но отца они нисколько не удивили.
– Знаю, – кивнул он и вновь умолк.
Итак, второй раз я встретился с отцом и второй же раз испытал необоримое желание прекратить его никчемную жизнь своими же руками. Как можно было стать столь ненавистным собственному сыну? Я не жаждал обрести любовь к нему – хотя бы безразличие. Но даже в нем мне было отказано – бешеная ненависть жгла насквозь.
Я слышал, как жужжала муха над могильным камнем, раз за разом она садилась на него и снова взлетала, продолжая настырно зудеть. Я готов был слушать это надоедливое жужжание еще долго, только бы отец не прерывал его своим голосом. Но он все-таки снова заговорил. И речь его была отвратительнее жужжания мухи:
– Отныне у нас нет иного выбора, кроме победы, иначе нас не просто призовут к ответу, но уничтожат на корню. Подобное не прощают.
– Победа нас и ожидает! Немцы умеют воевать.
– Ни черта мы не умеем, мы нарушили первое и главное правило ведения всех войн.
– Какое еще, к черту, правило? – С бешеной злобой в глазах я уставился на отца.
– Не нападать на русских.
– Да ты издеваешься? – Я смотрел на него, не веря, что он по-прежнему в здравом уме. – Ты сомневаешься в нашей победе?! В первую же неделю наши танки прошли почти треть расстояния до Москвы. Это самое стремительное наступление за всю историю! Скоро вся кавказская нефть будет под нами. Что это, если не успех? И не нужно поминать сейчас ни Наполеона, ни Карла. – Я упреждающе вскинул руку, увидев, как отец раскрыл было рот. – Им приходилось бороться не только с русскими, но и с их огромными дикими пространствами, где ни нормальных дорог, ни городов. Теперь эта проблема решена благодаря нашему техническому оснащению: самолеты, танки и машины. Мы принесем туда культуру и сделаем из этой земли свою Индию, как делали все сильные и просвещенные европейские народы с отсталыми. Посмотри на английские колонии, нам и не снилась та жестокость, которую чопорная метрополия проявляет к коренному населению в своих владениях! И никто не упрекает англичан, все понимают, что политика жесткого кнута идет на благо всем сторонам, в том числе этим дикарям, не способным жить без хозяев. И для русских так будет лучше, они такая же нация рабов, которые способны на что-то, только когда ими повелевают. Им нужен тот, кто будет говорить свое слово, и слово будет для них закон.
– Не боишься русского бунта, сынок?
– Нет ничего страшнее немецкого оружия, а не бунта дикарей с мотыгами и вилами.
– Совсем недавно мы братались с этими «дикарями»…
– Оставь, это была вынужденная мера. – Я попытался взять себя в руки и продолжил спокойнее: – Русские рано или поздно напали бы на нас сами. Они собирались с силами, это ясно. Мы сыграли на опережение и в том, что неизбежно, поставили себя в более выгодное положение. Ты хочешь мира? Тогда ты должен радоваться, ведь теперь томми одумаются и поймут, что мы – щит всей западной цивилизации от большевистских орд с Востока. Мы приняли бой на себя, сделав то, на что другие не осмеливались. Когда все закончится, мы позволим Англии обеспечивать безопасность на морях, а сами займемся восточными пространствами.
– И как же в эту картину вписываются другие государства, сынок? – тихо спросил отец.
– Прекрасно, отец. Они прекрасно впишутся в состав нового Великогерманского рейха. Знаешь, как приветствовали наших солдат в Литве? Сотни жителей Каунаса встречали наших как освободителей от режима Сталина, которым они досыта нажрались за время советской оккупации: их землю национализировали, товары вынуждали продавать за бесценок, тысячи литовцев оказались в тюрьмах, в Сибири. Нас там встретили с распростертыми объятиями, отец!
Я знал, что теперь мне следовало заткнуться, но уже не мог, слова лились беспрерывным потоком.
– Думаешь, они против наших мер? – Я жестко усмехнулся. – Когда наши пришли, на следующий же день благодарные литовцы согнали полсотни своих евреев в какой-то двор и ломом проломили им всем башки. Нашим солдатам не пришлось даже вмешиваться, гражданские все сделали сами! Они кричали: «Бей евреев!», аплодировали, а кто кричал и аплодировал? Женщины и дети! Они пережили еврейско-коммунистический террор. Мы освободили их от этой красной заразы, и умные это осознали. Никто не желает, чтобы эта холера расплодилась по цивилизованной Европе. Ее надо уничтожить раз и навсегда. Румыны где-то там у себя, в Яссах, кажется, сами за одну ночь укокошили столько, что утром уборочный грузовик не смог заехать во двор – он был весь завален трупами, а ближайшая улица затоплена кровью. И после этого ты по-прежнему думаешь, что они не за нас? Просто не все еще набрались смелости заявить об этом громко. Прямую связь между большевиками, евреями и их страданиями надо просто донести до тех, кто не понимает, а далее они все сделают сами. Тем более им и материально это выгодно. – Я говорил без тени осуждения. – После каждой такой акции местные выстраиваются в очередь, чтобы купить по дешевке оставшееся после евреев имущество. Или просто разворовывают их дома – в которых еще постели не остыли после хозяев. Выгода – стимул не хуже веры или идеологии.
Начал накрапывать дождь. Мы молча наблюдали, как мелкие редкие капли чертили полосы на камне с именем матери. Дождь постепенно нарастал, но мы не двигались с места. Я лишь приподнял воротник. Отец нагнулся и поднял шляпу.
– Люди настрадались от одного режима, но что принесет им другой? На завоеванных территориях мы повторяем ошибки прошлых завоевателей…
– Мы справедливы, но нельзя забывать, что мы принадлежим к расе, которой суждено повелевать.
– Страшная это принадлежность, сынок, раз подразумевает убийство невинных людей… И если взаимоотношения между нами и теми, кто живет на землях, что мы завоевываем, будут строиться как отношения раба и господина, то в ответ мы получим не содействие, а лютую ненависть. Если мы отринем принцип равенства и будем владеть этими людьми, то вскоре нас проклянут.
– О каком равенстве ты говоришь? – Я изумленно смотрел на отца, чувствуя, как быстро тают остатки моего самообладания. – Они не могут быть с нами на одном уровне хотя бы в силу своего происхождения.
– Виланд, такой расклад противен истории. Даже рожденные рабами всегда восставали, что ж говорить про свободных людей. А впрочем, – отец уставился мне прямо в глаза, – мы и своих не жалеем. В Германии убивают инвалидов и немощных, слухи вам уже не остановить.
– Плевать и на слухи, и на мнение тех, кто их распространяет. Умалишенным и кретинам, которым и дышать-то нужно запретить, позволяют плодиться. Знаешь, во сколько обходится Германии жизнь каждого такого неполноценного? В шестьдесят тысяч марок. Немало, отец, не правда ли? Мы должны сохранять лучшую кровь, отделив от нее поганую. И тогда через несколько поколений мы выведем чистую породу идеальных немцев. Это преступление, что у нас благоденствуют инвалиды, когда на фронтах гибнут здоровые и полноценные.
– Это возврат к временам темным и диким. Разве могли мы представить, что в нашей стране появится закон, предотвращающий рождение ребенка?[114] Самое святое…
– Каких детей? – снова не выдержал я. – Потомство от наркоманов, убийц, алкоголиков, больных? Это жизни не имеют никакой ценности. Наши дети еще скажут нам спасибо за то, что сегодня мы лишаем дегенератов права рожать. Силы, время и деньги, которые тратятся на заботу о таких никчемных, лучше тратить на благо всей нации. Если ты переживаешь за сам процесс, то могу тебя успокоить: никто не заставляет их страдать, все происходит совершенно безболезненно под руководством опытных врачей.
Отец скользнул по мне потерянным взглядом, в котором мелькнул ужас.
– Во что превратилось мышление тех, кто давал клятву не навредить, – тихо пробормотал он, качая головой, – врачи убивают… Непостижимо…
– Ты должен понять, – терпеливо проговорил я, – теперь их первоочередной задачей стало здоровье всей страны в целом. Их долг – лечить не единичных безнадежных пациентов, а все общество. Жизнь, не имеющая ценности…
Отец резко перебил меня:
– Кто ты такой, сынок, чтобы решать, чья жизнь ценная, а чья уже нет?! Для кого она не имеет ценности? Для нашего фюрера? А для матери того ребенка ценность есть, и еще какая! Это же не корова, не коза, а тот, кто мыслит и осознает то, что с ним творят.
– Они не способны выполнять свое человеческое предназначение!
– А что ты скажешь насчет солдат – храбрых патриотов, которые вернулись с фронта искалеченными? А скольким еще предстоит вернуться без рук, без ног, слепыми, глухими. Их тоже? Инвалиды ведь. Разве можно…
– Нельзя! – резко проговорил я, устав изыскивать аргументы, чтобы парировать отцовский натиск. – Нельзя не подчиниться, пойми ты это, это преступно. Даже если б я думал как ты, я продолжил бы действовать как сейчас. Есть приказы. Я всего лишь солдат и гражданин рейха, живущий по его законам. Неподчинение равно предательству!
Отец посмотрел на меня, и в глазах его промелькнуло что-то сродни надежде. Я в ярости отвернулся.
– Используй свой разум хоть на секунду, – со страстью заговорил он, – соотнеси ты ваши приказы с нормами человеческого, и ты поймешь, что преступно как раз исполнять их! Это правда, сынок!
Я вновь обернулся и посмотрел на него:
– Чтобы говорить правду, нужно знать правду.
Я покачал головой и умолк. И он следом вдруг как-то вмиг осунулся, плечи опали, а страсть, с которой он еще секунду назад говорил, улетучилась. Он устал.
Я достал портсигар и молча протянул ему. Он взял. Закурили.
Этим же вечером я уехал из Розенхайма, будучи не в силах остаться хотя бы до следующего дня. Перспектива провести с отцом под одной крышей даже одну ночь приводила меня в ужас.
В Ораниенбурге меня ожидало письмо от тети Ильзы. Его мне услужливо передала хозяйка квартиры, которую я нанимал.
«Берлин окончательно поменялся, мой мальчик. И я сейчас говорю не обо всех этих самолетах в небе и прочем. Я про другое. Ты ведь знаешь, что с первого сентября евреев обязали носить на одежде звезду Давида. Теперь их сразу видишь на улице. И меня поразило, сколько их, оказывается, живет среди нас. А ведь так сразу и не поймешь, ведь годами бок о бок – дети вместе растут, в бакалее парой слов перекинешься, в парке кивнешь, у доктора в приемной заболтаешься, – а теперь рот раскроешь, но увидишь это желтое клеймо и поперхнешься на полуслове. Донесут. Такой теперь Берлин, мальчик мой. Тихий. На полуслове запинаемся. Недавно мы с Элизой забрели в еврейский квартал. Там власти устроили ярмарку – распродавали имущество евреев, которых уже вывезли. Элиза за бесценок урвала невероятной красоты чайный сервиз на шесть персон. Я же долго приглядывалась к расписной салатнице, но в голове крутилась мысль, что еще недавно из этой салатницы ела какая-то еврейская семья, которую насильно выволокли из-за стола и прогнали из Берлина прочь. Но с другой стороны, этим людям не станет лучше, если эта салатница останется на лотке, и не будет еще хуже, если ее кто-то купит, и уж точно теперь им все равно, куплю ли ее я или кто-то другой, а учитывая цену, кто-то ее непременно купит, так что… Впрочем, все это такие глупости. Когда мы возвращались с покупками, я увидела старого мужчину в потрепанном костюме. Он очень торопился, шел, опустив голову, тем не менее я узнала его. Это был профессор из твоего университета, Виланд, – доктор Гишпан. Неожиданно он остановился возле общественного туалета, оглянулся и, прикрыв портфелем желтую нашивку, прошел внутрь прямо мимо таблички «Евреям вход запрещен». Не знаю, о чем я думала в тот момент, но я подошла и дождалась его. Когда он вышел и столкнулся со мной нос к носу, на лице его отразился истинный ужас. Очевидно, он был уверен, что я сей же час вызову полицию. Я хотела что-то сказать, но посмотрела на его желтую звезду, и слова вновь застряли у меня в горле. "Я… мы не предполагали этого" – вот и все, что сумела выдавить я. Он кивнул и быстро пошел прочь. А я так и стояла и смотрела ему вслед. "Ты это видела? Еврей", – пораженно проговорила Элиза. "Им тоже необходимо по нужде", – ответила я. Как и нам. Понимаешь, мальчик мой, я думала, что их переселят в какие-то города, их города, еврейские, где они будут спокойно жить среди своих. Что их нация просто пойдет своим путем, а не это все, что происходит сейчас. Эти метки… их заклеймили, как скотину. Мне до сих пор неловко перед этим профессором. Я ведь знаю его, милейший человек, интеллигентный…»
Я смял письмо и выкинул в мусорную корзину.
Темпы немецкого наступления ускорялись день ото дня. Мы уверенно брили весь фронт от Балтики до Черного моря. Появились слухи, что совсем скоро часть наших солдат вернется домой, так как фюрер распорядился о сокращении вооруженных сил в связи с отсутствием необходимости. В Инспекции поговаривали, что расформируют почти сорок пехотных дивизий. Кроме того, сверху заверяли, что все просьбы о капитуляции будут нещадно отклоняться. Итак, вермахту даже не пришлось использовать всю свою мощь. Но для нас же самая жаркая пора только начиналась: огромные оккупированные территории, неимоверное число пленных, партизан и просто сомнительных личностей военного времени означали снова переполненные лагеря.
Через пару недель я получил очередное глупое письмо от тетки. Я и помыслить не мог, что столь рассудительная и мудрая женщина способна так быстро отупеть. Но я тут же одернул себя, вспомнив тот ужас, который ей пришлось пережить во время авианалетов на Берлин, – тут уж немудрено умом тронуться не только старухе, но и кому покрепче.
«Случилось ужасное, мой мальчик. Вчера Элиза примчалась ко мне домой, возбужденная и испуганная. Кричала: "Они его выволокли из подъезда и потащили к машине, прямо на ходу избивали! Боже правый, только подумать! Я даже помыслить не могла…" Оказалось, эта глупая курица (прости, ибо по-другому не скажешь) донесла на доктора Гишпана. Помнишь, я писала тебе в прошлом письме, что он воспользовался туалетом для немцев. Я отругала Элизу, но она возмутилась, что лишь сообщила о том, что видела, не более. "Но зачем? Чего ты хотела этим добиться?" – вопрошала я, действительно не понимая, зачем она это сделала. Ведь мы теперь прекрасно знаем, на что способны молодцы из гестапо. "Но ведь это ныне наша первейшая обязанность – доносить на евреев! Ведь если попустить, то нож в спину, евреи не дремлют, – понесла она полнейшую газетную чушь, – каждый день пишут о том, какую опасность они таят. Не злись на меня, милая, я же и пальцем его не тронула, я даже не оскорбила его, не сказала ему ни одного дурного слова. Я лишь сообщила куда следует о том, что видела. Сегодня, когда война в разгаре, обязанность каждого немца – быть начеку, чтобы своевременно выявить врагов…" И наконец она сказала мне: "В конце концов, Ильза, не будешь же ты отрицать, что это как минимум несправедливо – пока немецкие солдаты погибают в боях на Востоке, этот отсиживался в безопасности в Берлине! Все как и тогда, в мировой войне: наши гибнут, а эти прячутся…" Подумать только, Виланд, как хорош доктор Геббельс. Отныне, мой мальчик, все соглядатаи за всеми. Таково состояние нашего общества сегодня. Но в конце концов, а где еще было сидеть доктору Гишпану, как не дома? Ведь им же запретили идти на военную службу вместе с немцами. Почти все они не работают, им это запрещено. Выходит, мы сами загнали их в положение, которое подтверждает все наши обвинения. Но все это размышления старой глупой тетки, сейчас не это главное. Сейчас я пишу к тебе с просьбой, Виланд. Дорогой мой, нельзя ли как-то посодействовать, чтобы этого старика отпустили? Он ведь не сделал ничего дурного…»
4 декабря 1993. Свидание № 8
– И гляди, как забавно, в Германии ведь не запрещено называть детей Адольфами, но найди теперь хоть одного маленького Адольфа. Я как-то наткнулась на любопытное исследование. В выборке из тридцати тысяч имен новорожденных имя Адольф встретилось только у одного малыша, да и то в качестве второго имени – наверно, дань памяти какому-то предку. Сколько тебе лет, Лидия? И скольких Адольфов моложе пятидесяти ты встретила в Германии за свою жизнь? Выходит, даже имя табуировал, сделав своей собственностью. Никто после него не смеет.
– Не желает.
– А ведь имя красивое. С древненемецкого означает «благородный волк». Это для нас он теперь как такая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла. Для них он был реальным человеком, способным одним лишь словом вознести или уничтожить – в действительности влиять на их жизни, понимаешь? Тогда ведь история еще не рассудила, а творилась.
– В прошлый раз ты явно дала понять, что не оправдываешь людей, которые попустили. Но сегодня ты определенно снисходительна к тем, кто, возможно, попросту хотел быть сопричастен успеху и власти, а потом так же усиленно готов был открещиваться от этого, потому что успех превратился в провал, а власть – в катастрофу и позор.
Валентина пристально посмотрела на Лидию и медленно, но довольно кивнула, будто услышала что-то приятное.
– Ты ведь наверняка читала «Портрет Дориана Грея». Помнишь, как там: «Влиять на другого человека – это значит передать ему свою душу». А он влиял на всю нацию, он добился такого отождествления с государством, что нельзя было восстать против него ради сохранения этого государства. Нация жила мыслями, страстями, грехами и пороками одного человека. А потому даже ужас бомбежек и близость смерти не способны были развеять тот морок, который окутал одурманенных людей. Да, каждую ночь с неба приходила смерть, рушились дома, жизни, надежды на будущее, хаос окутал всю страну, но во время войны всем ни до чего. Поэтому верили до конца, а многие и потом не способны были осознать, насколько были одурачены. И прожили в обиде на жизнь, которая столь сурово с ними обошлась, хотя это была всего лишь закономерность, так и не понятая ими.
– Так про всю нашу жизнь можно сказать. Всем ни до чего. Только до себя и своих собственных проблем. Как бы мы ни старались демонстрировать обратное, мы редко теряем сон из-за страданий ближних. Но это не оправдывает…
– Вот именно! – перебила Валентина, словно не услышала последнюю начатую Лидией фразу. – Поэтому нам ли упрекать, когда мы и в мирное время не способны сопереживать друг другу, а вокруг них гремела война? Да, истощенные заключенные голыми руками расчищали завалы после бомбежек на глазах у всех, но именно что после бомбежек, Лидия. Какому человеку будет дело до несправедливости по отношению к другому, когда свой собственный дом разрушен? Близкие гибнут. Дети калечатся. Измученные и запуганные неминуемой развязкой, они были неспособны докопаться до истины. Но даже и докопавшись, не могли они переживать за кого-то помимо себя. И уж тем более предпринимать какие-то действия ради них. И знаешь, что самое важное, Лидия? Предположим, я жила бы там в то время. Я была бы из тех – из безразличных, старалась бы держаться подальше от лагерных узников. Возможно, не издевалась бы, не оскорбляла, в спину не плевала б, когда мимо моего дома гонят их измученные колонны. И, возможно, вопреки всем усилиям пропаганды даже не верила бы, что в тех колоннах одни проститутки, убийцы, насильники, воры и недолюди. Но ведь и куска хлеба они б от меня не дождались. Слишком опасно, слишком некогда, слишком своих проблем много. Не хватило бы у меня сил в той ситуации быть праведницей. Так что не осуждаю я никого. Это был для них молчаливый побег от еще одного ужаса, который выпал на долю этого века.
– Но ты ведь считаешь этот побег трусостью, – произнесла Лидия без какой-либо вопросительной интонации.
– Верно, – согласно кивнула Валентина, – как и то, что я была бы в первых рядах тех бегущих!
И она с некоторым вызовом посмотрела на Лидию. Та молчала. Валентина вздохнула и продолжила уже более спокойным тоном:
– Знаю, о чем ты думаешь: молчи и бездействуй, и зло свершится. Это правда, Лидия. Ты, как никто другой, это понимаешь, потому что ты живешь с комплексом вины новых немцев, которые без вины виноватые. Но ведь они хотели, чтобы их родина наконец-то поднялась с колен, что может быть благороднее?
И Валентина внимательно посмотрела на своего адвоката, с интересом ожидая, что та ответит.
– Но вставание с колен и обещанное мировое господство – это совершенно разные мотивы. Закрывать глаза на дымящиеся трубы крематориев ради неголодной жизни собственного ребенка или ради того, чтобы твой ребенок погонял хлыстом «рабов-недолюдей», – это не одно и то же. – Подавшись вперед, Лидия каждое слово выговаривала тихо, но совершенно отчетливо. – Не пытаться разглядеть, что происходит за колючей проволокой, по причине того, что у тебя сердце прекращает биться от горя? Или чтобы случайно не увидеть, как бывшего хозяина твоего нового дома, лавки или фабрики с его семьей ведут в крематорий, и не устыдиться?
Валентина медленно кивнула, словно они не полемизировали, но стояли на одном.
Выждав еще немного, она снова спросила:
– Так чего там, по-твоему, было больше? Какие мотивы были у загадочной немецкой души, Лидия? Ругать мне их, как в прошлый раз, или проявлять снисхождение? Твоя нация обманулась или нация лгала? Восемьдесят миллионов не могли лгать, как не могли и все обмануться. Так что это было?
Лидия молчала. И Валентина сама ответила на свой вопрос:
– Всё там было. И все. И обманутые, и обманывавшие, и подонки, и невинные. Как и во всякой нации. Во всякой, Лидия… Да и как определить ту степень вины, если многих от бремени той самой вины спасли как раз… газовые камеры.
И пауза, и взгляд, который Валентина бросила на Лидию, выражали и ее собственное недоумение перед обстоятельствами, о которых она же сама говорила.
– Сотням людей не нужно было ежедневно спускать курок возле расстрельной стены. Необходимо было всего лишь засыпать гранулы в отверстие, для этого достаточно было одного человека. Еще пара-тройка для сопровождения. А как определить вину того, кто не был непосредственным участником этой отлаженной цепочки? Того, кто наблюдал за высокими технологиями убийства через окно административного отдела? Или политического? Как разобраться в том, какие мысли были у него в тот момент? И стоит ли вообще применять наказание за одно лишь знание о происходящем или за желание потворствовать ему? Или стоит отпустить того, кого искренне воротило от творящегося, но который был вынужден крутить баранку газвагена? Или взять, к примеру, заключенных из зондеркоманд, чьи руки были натурально по локоть в крови, они собственноручно плодили мертвечину. Боже избави быть судьей в таком деле… Да и разве есть такой суд на земле, который точно определит степень их вины? Боюсь, и Страшному суду это не под силу. Все было много сложнее попытки спрятаться за приказы и законы времени.
– Но даже те попытки были безосновательны, – с нажимом проговорила Лидия, – расовые законы существовали, но массовые расстрелы и уничтожение в газовых камерах не были упомянуты ни в одном из сводов законов ни в Германии, ни в Австрии, ни в Богемии и Моравии, этот процесс не регламентировался ни единым законодательным положением. Это великий обман на государственном уровне!
– Ты мыслишь как настоящий юрист, и это неплохо. Но кто копал так глубоко? Да и сегодня останови на улице любого и задай ему несколько вопросов о законах. Ты поймешь, как мало мы знаем о своих правах и обязанностях. Мы до сих пор многое принимаем за непреложное обязательство перед государством, в то время как оно все еще оставляет нам право отказаться. Обычный человек не всегда может разглядеть в том, что просто требуется, юридически неправомерное. В силу страха, или обыкновенной безграмотности, или обстоятельств. Особенно в таких обстоятельствах, когда, выполняя что требуется, ты получаешь одобрение. Собака предана хозяину – это назвали добром. Немцы преданы фюреру – это назвали злом, поскольку эта преданность вызвала у них полную нравственную слепоту по отношению к его действиям. Но качество-то одно. Ну да ладно. Мы ходим с тобой по кругу… В этой связи мне только не дают покоя уже давно слова одного человека. Когда его спросили, для чего он убивал и что при этом испытывал, он ответил, что просто делал свою работу. И меня мучает вопрос, ведь если задание, которое он обязан был исполнить, было преступным в смысле правовых норм…
– Они все так говорили, Валентина. Именно об этом я и твержу тебе! Все они повторяли, что у них был приказ, которому они обязаны были подчиниться, и все в таком духе, но это…
Валентина рассеянно перебила Лидию:
– Кто они?
– Эсэсовцы, конечно!
– А… – Валентина отрицательно покачала головой. – Загвоздка в том, что теперь речь не о них. В сорок четвертом году в составе британских войск была сформирована так называемая Еврейская бригада. Продвигаясь с боями и видя воочию, что творят нацисты с евреями, они распалялись в своей ярости все сильнее и сильнее. Уже после войны они надели форму британской военной полиции и стали выискивать немцев, которые, по их предположению, были связаны с концлагерями. Они предлагали проехать с ними на допрос, и те спокойно ехали, думая, что едут с британскими солдатами для дачи показаний. Больше их никто не видел. Даже их тел. Спустя много лет один из членов той Еврейской бригады рассказал, что они удушили всех до единого. Был ли он уверен, что каждый, кого он убил своими руками, принимал участие в непосредственном уничтожении евреев? Их возможностей не хватало, чтобы проводить полноценные расследования. Были лишь подозрения, слухи, ярость и желание мстить за беды своего народа. Никаких сожалений, никакой вины он не ощущал. Он просто делал свою работу.
Валентина задумчиво глянула в окно, погруженная в собственные мысли. Помолчав, она продолжила отстраненно рассуждать, глядя цепким взглядом в чужое прошлое. Эта чуждость словно позволяла ей сохранять безучастность в голосе, но Лидия чувствовала, что это было обманчивое впечатление, – отрешенность и безразличие были напускные, а в действительности по какой-то причине Валентина пропускала все это через себя. Все эти рассуждения и чужие воспоминания были словно неким садомазохизмом по доброй воле разума, который вроде бы и искал покоя, но так же отчаянно гнал его от себя.
– Понимаешь, Лидия? Он сказал, что просто делал свою работу… Как и те… Вот это и не дает мне покоя…
•••
Я смотрел в окно. Вдруг потемнело, как ночью, будто под одно небо, светлое и ясное, вдруг подлезло другое – черное, грозовое. На землю тяжело обрушились низкие тучи, хлестало отчаянно, будто омывало улицы и все, что по ним ходило, от чего-то грязного, но все только в испуге попрятались. Крупные капли быстро стекали по стеклу, торопясь освободить место новым. Сквозь них я наблюдал, как ширились лужи на дороге.
Был сентябрь сорок первого. Мы по-прежнему побеждали, но битва за Смоленск нас сильно задержала. Пришлось перекидывать вторую и третью танковые группы к Ленинграду и Киеву. Никто не сомневался, что Москву мы возьмем, но наступление затянулось. Осенние дожди размыли то, что русские называли дорогами, из-за этого снабжение наших частей ухудшилось. К тому же поговаривали, что у наших солдат не было зимнего обмундирования, поскольку окончание войны было запланировано еще до наступления холодов, а потому все с нетерпением ожидали последнего усилия наших войск.
Третьего октября с фронта вернулся фюрер и выступил с обращением к народу, в котором, к великому облегчению всех, объявил без каких-либо оговорок о полном крахе Советского Союза: «В эту минуту я обращаюсь к великому немецкому народу и уверенно заявляю, что враг на Востоке повержен и никогда не восстанет вновь. За спиной наших войск территория, которая в два раза превышает размеры рейха времен, когда я пришел к власти…» Как сообщали газеты, разрозненные остатки армии Тимошенко, оборонявшие Москву, были зажаты в котлах, армии Будённого на юге – разгромлены и хаотично развеяны по своим же бескрайним пространствам, дивизии Ворошилова – окружены в Ленинграде. Оставалось добить гидру.
Пивные гудели от празднований. Что ж, судя по всему, кошмар Германии – война на два фронта – скоро завершится, а вместе с ним испарится и тупое упорство англичан.
В ноябре в России ударили морозы. Наши по-прежнему были там.
В начале декабря вновь сообщили, что части вермахта фактически в Москве, в каких-то тридцати километрах от Кремля. Нужно было сделать последнее усилие.
Пятого декабря Красная армия перешла в контрнаступление.
Что ж, судя по всему, даже будучи окончательно разбитыми, русские отказывались это признавать и перли вперед, не считаясь с действительностью.
Сидя в одиночестве в ресторане, я пил ром, прислушиваясь к разговору за соседним столиком. Он становился все тише, и отдельные слова стали постепенно ускользать от меня, но и без них смысл был предельно ясен.
– Слышал, Фридрих? Наши терпят откровенное бедствие, но в газетах об этом ни слова. Все, что на колесах, еще в октябре завязло на размытых дорогах, они превратились в настоящие болота. Все машины тогда тонули в месиве из грязи по самую ось. Танки выводили из боев, чтобы вытаскивать из болот и трясин колесную технику с боеприпасами, уму непостижимо! Самолеты, вместо того чтобы сбрасывать боевые и снабженческие грузы, сбрасывали тросы и веревки. И все это ради того, чтобы после осеннего бездорожья вся техника окончательно застряла в снегах. Морозы колоссальные, Фридрих, снегопады сильнейшие, шипов для танковых тягачей нет. Солдатам приходится разводить костры под техникой, чтобы запустить двигатели. Топливо стынет, смазка твердеет, пулеметы отказывают, оружие не стреляет, отмороженные пальцы отваливаются, черт бы побрал эту чумную страну! Да что там, даже наши лошади оказались напрочь… немецкими, черт подери. Понимаешь, о чем я, дружище? В тяжелые орудия впрягли кобыл с пивоварен, а они, видишь ли, привыкли к сухим теплым стойлам и свежему овсу – половина из них передохла в болотах, вторая половина – в снегах, попросту не выдержав нагрузок. Гудериан просит о зимней одежде и теплых сапогах для солдат, но ничего не получает. Вместо того чтобы воевать, наши командиры вынуждены заниматься бытовыми хлопотами, добывать самое необходимое для полуголых солдат, чтобы они в этих диких ледяных просторах просто хотя бы выжили и… Вот же черт, Фридрих, я позабыл на службе портфель. Ты не закроешь счет?
Прикончив ром, я молча отставил пустой стакан и отправился домой.
Спустя несколько дней США официально объявили нам войну.
По этому поводу Гитлер выступил в рейхстаге. Стоило признать, что это был еще один шедевр, способный уверить любого в истинности того, что извергалось из уст фюрера. А извергались в основном обвинения в адрес Рузвельта, поддерживаемого еврейскими капиталами и названного главным разжигателем войны. Фюрер напомнил, что за те годы, которые Германия употребила, чтобы встать с колен и возродиться экономически, Рузвельт не сумел добиться ни малейшего улучшения жизни в своей стране, что в любом цивилизованном государстве он рано или поздно оказался бы под судом за бесцельные и злостные растраты национальных богатств и вряд ли избежал бы сурового приговора, по крайней мере народного. И когда после такого бездарного и коррупционного управления перед американским президентом замаячила реальная и сильная оппозиция, способная призвать к ответу, он поступил как всякий трусливый политик – переключил внимание с неурядиц внутренних на внешние. Но подло это было в первую очередь не по отношению к тем, на кого он пытался перевести внимание, – ведь немцам по большому счету не было дела до них, – но по отношению к своему же народу, который теперь был втянут в конфликт, не имевший к нему никакого отношения. Тем самым Рузвельт бесстыдно и преступно надругался и над правдой, и над правом, а все ради того, чтобы укрепить шатающийся под ним трон.
Многие винили японцев просто потому, что надо было кого-то винить. Все, что от них требовалось, – не провоцировать Америку до тех пор, пока мы не разберемся с русскими. Этого было бы достаточно. Но атака военно-морской базы в Пёрл-Харборе поломала эту схему. Тот нелепый демарш Японии был очень несвоевременен именно теперь, когда мы по уши увязли в России. А потому общее мнение было таково: вместо того чтобы помочь Германии и напасть на СССР с тыла где-нибудь в районе Владивостока, японцы преследовали исключительно свои личные эгоистичные цели, никак не вяжущиеся с ситуацией, в которой находился их союзник. Но, в общем-то, в глубине души все прекрасно понимали, что и без мясорубки в Пёрл-Харборе присоединение США к общей заварухе было неизбежно. После того как Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую хартию, открытый конфликт стал лишь вопросом времени – слишком уж явно и нагло американцы провоцировали наши подлодки в Атлантике. Очевидное противостояние теперь просто признали вслух. Забавно, но поначалу, как и многие, я искренне думал, что наш союз с Японией как раз удержит Америку от вступления в войну или как минимум отсрочит это событие. Что ж, я ошибался. Как и во многом другом, война оголила ошибочные суждения.
В середине декабря генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич подал в отставку, и командование сухопутными войсками на себя взял лично Адольф Гитлер. Теперь в его руках была сосредоточена власть, которой никогда не обладал ни один из живших на немецкой земле людей. Ни императоры, ни короли, ни канцлеры, ни президенты не имели настолько абсолютной власти над всем живым в рейхе. В апреле это было официально закреплено через рейхстаг. Во благо Германии фюрер более не был связан никакими юридическими нормами и имел полное право… на все.
Я прислушивался к перешептыванию в курилках и коридорах Инспекции.
– Геббельс поет свою привычную песенку – окончательная победа почти достигнута, советская армия фактически разбита, а Англия доживает свои последние дни. Но по факту…
– Слышали, старика Браухича свалил повторный сердечный приступ?
– Не такой уж и старик, всего-то шестьдесят.
– Говорят, эти полгода сделали из него форменного старика. Нужно смотреть правде в глаза: в том, чем экипированы наши солдаты, сейчас невозможно находиться в России, а тем более вести бои. Наши парни без шинелей, без перчаток, без теплой обуви! Кому повезло – кутаются в шерстяные платки, которые отбирают в деревнях у старух. Скрюченные, в соплях и с больным горлом – жалкое зрелище. Брат моего соседа, которого вернули с фронта после ранения, сказал, что целые колонны заносило снегом на обледенелых дорогах и никто не шел им на помощь! Он видел их собственными глазами! Солдаты уже даже и не тряслись, а застывали от холода, засунув отмороженные руки в карманы и стоя на таких же отмороженных, распухших ногах. И бесконечной чередой такие же обледенелые танки, грузовики, телеги, орудия – все брошено на обочинах дорог! Все обездвижено.
– А новое распоряжение в связи с этим слышали? Объявили, что за обморожения будут наказывать. Это теперь расценивают как саботаж. Чертовщина какая-то.
– Геббельс надрывался в заверениях, что Рождество наши отметят в Кремле, а они сейчас в ста пятидесяти километрах от него. Далековато от праздничного стола.
– Самое разумное сейчас откатить назад, собраться с силами и ударить весной.
– Боюсь, весной не найдется дураков, желающих вести туда за собой наши армии. Рундштедт отстранен за то, что попытался отступить от Ростова. И что же? Занявший его место Рейхенау сделал ровно то же самое, но уже с потерей времени и сил.
– И тут же умер от сердечного приступа!
– Сердечный приступ не так страшен, как гнев нашего фюрера. Я бы тоже выбрал приступ.
– А фон Бок свалился с какой-то желудочной болячкой, говорят, от нервов, но это явно повод, за который он с радостью уцепился. Фон Лееба также убрали, Гёпнера не просто сняли, но с позором и лишением всех воинских знаков отличия и запретом отныне даже надевать военную форму. Черт подери, даже Гудериан отстранен от командования! Как бы я к нему ни относился, но уверенности и решительности этому парню не занимать, и если он дал приказ к отступлению, то, значит, были самые серьезные причины.
– Гудериану еще повезло, фон Шпонек и вовсе разжалован и отправлен в тюрьму, и, между нами говоря, там пахнет смертным приговором. Говорят, с фюрером едва не случился припадок, когда ему доложили, что фон Шпонек велел отступить одной из дивизий своего крымского корпуса, чтобы спасти ее от русских, которые вдруг вылезли у него в тылу.
– Фюрер считает это трусостью.
– Ему издалека в своей ставке, конечно, виднее. На картах, разложенных на столе, оно нагляднее. Один бумажный дюйм, и победа.
– Фюрер привык побеждать, хотя обстоятельства, скажем так…
– Он в ярости, что нам не удалось взять ни Москву, ни Ленинград, и это после того, как он громогласно объявил о победе. Теперь будут стоять на завоеванных позициях хоть до последнего издыхания.
– Еще неизвестно, что страшнее: сумасшедшие русские впереди или ярость фюрера позади. Слышали, генерал Удет из люфтваффе сам застрелился?
– С другой стороны, куда им отступать? В тылу не подготовлены ни позиции для отступления, ни рубежи для обороны, ведь даже не подразумевалось, что наша армия будет отступать. Боюсь, это будет дорого нам стоить.
– Боюсь, дорого нам будет стоить то, что мы недооценили степень помрачения этих русских. Они вводят свежие дивизии, о которых наша разведка даже не подозревала. На каждую разбитую они формируют две новые. Из ниоткуда. Черт пойми, из каких лесов выходят, с каких гор спускаются, из каких рек и озер выплывают…
– Почему ж из ниоткуда, ты на карту смотрел? Что ж, по-твоему, те гигантские пространства безлюдные?
– Жаль, на карту не посмотрели, прежде чем сунуться туда…
– Стоило бы, да.
– Не понимаю, как так вышло, еще полгода назад мы фактически праздновали победу, а сейчас и Англия, и Россия, и США… С их огромными людскими ресурсами…
– Какого черта США вообще суют сюда свой нос? Фюрер все по делу сказал: они не имеют на это ни морального права, ни исторического, ни территориального. Нация пользователей! Вот увидите, они еще покажут миру свое истинное лицо.
«…Без ноги вернулся Альфред, ты должен его помнить – старший сын герра Торпа, нашего библиотекаря. Говорит, их заверили, что смысл жизни русских заключается в водке и табаке, но уже спустя пару недель после наступления он понял, что это чушь. "Не встречал более читающих людей, – качает теперь головой наш безногий, – в любой глухой деревне всегда найдется библиотека – читальная изба, как они ее называют. Книг немного, но каждая замусоленная, зачитанная, клееная-переклееная. Нам говорили, что они не знают, что такое мыло, а они чистят себя в своих адских банях до скрипа кожи. Нас убеждали, что они не ведают, что такое медицина, а у них даже самая темная деревенская бабка своими травами и настоями способна за ночь поднять на ноги после сильнейшей инфлюэнцы. Мы рассчитывали встретить необстрелянных дикарей-большевиков, а встретили бесчисленную армию, за которую воюет собственная земля. Даже отступая, они бьют нас, – прознали про наше отвратительное обеспечение и заманивают, уничтожая все за собой, чтобы мы попросту передохли с голоду и от холода. Примитивные? Черта с два, умные и жестокие. Жгут собственные деревни, амбары, хранилища, поля, только бы нам не досталось ни крохи. Страшные люди. И таких не сотни или тысячи, а все! Миллионы! Вы, – говорит нам, – хоть представляете, каково это – противостоять миллионам, не боящимся смерти?! Когда у них заканчиваются патроны, они хватают ломы, лопаты, молотки, кувалды и прут врукопашную. Против пуль! По собственной воле ложатся под танки, жертвуя собой ради подрыва нашей техники. Так не вели себя поляки, так не вели себя французы, даже англичане так себя не вели. В Европе наша армия перешагивала города на двести-триста тысяч жителей, не задерживаясь ни на час. А тут чертову Tula мы пытались взять больше сорока дней. В городе этом поначалу и военных частей-то не было, одно ополчение из каких-то рабочих да баб с детьми. Но эта израненная Tula так и не дала нашим частям замкнуть кольцо". Я сказал Альфреду так, сынок: "Ты бы у меня спросил, я там был, на Восточном фронте-то…"»
Я не помнил ни чертова Альфреда, ни его отца герра Торпа, так как никогда не посещал нашу школьную библиотеку. А теперь хотелось бы забыть и отца, который подвергал нас обоих серьезной опасности, отправляя подобные письма.
Зима выдалась на редкость холодной – так ворчали во всех лавках Мюнхена, в который мне удалось вырваться после праздников. Я же прекрасно понимал, что зима была рядовая, понижала градус лишь острая нехватка угля и дров, которые было сложно достать даже по карточкам. Топливо экономили, прогревая дома лишь к ночи, днем же кутались в теплые пальто и шарфы. Благодаря своим связям я организовал для Лины пять мешков с углем, за что она была невероятно благодарна. За возможность наконец-то согреться у печки она и меня щедро обогрела своим телом, стараясь в постели как никогда прежде. Лишь под утро я устало откинулся на скомканную потную простыню. Что ж, пять мешков угля определенно того стоили.
Вернувшись в Ораниенбург, я был тут же вызван к начальнику.
– В Ванзее прошло важное совещание, обергруппенфюрер Гейдрих пригласил руководителей всех ведомств, имеющих отношение к нашему сектору. Обсудили определенные изменения в нашей политике касательно еврейского вопроса. Решено, скажем так, ужесточить меры. Эвакуации на Восток подлежат… – Он открыл папку, лежавшую перед ним на столе, и начал перелистывать документы. – …Однако… – Он приподнял брови. – Впрочем, здесь речь и о территориях, пока нам неподконтрольных, – немного погодя уточнил он, продолжая изучать документы, – так что цифры на перспективу, но тем не менее. – Он вновь выразительно посмотрел на меня. – Одиннадцать миллионов евреев. Если честно, даже не подозревал, что их столько наберется.
Я продолжал спокойно смотреть на него, ничем не выдав своего изумления относительно озвученной цифры.
– По моим данным, в рейхе едва ли осталось сто пятьдесят тысяч. Великобритания? – предположил я «неподконтрольную» территорию. – Но даже с учетом того, что там еще не приступали к чистке, вряд ли наберется больше трех сотен тысяч. Они свою чистоту блюли.
– Семьсот пятьдесят тысяч французских, два миллиона с четвертью польских, три миллиона украинских, пять миллионов с территории Советов. – Его глаза скользили по строчкам. – Что ж, – поднял он их на меня и пожал плечами, – великие дела начинаются с малого. Некоторые моменты совещания остаются, скажем так, неуточненными, но в целом основной момент ясен. Чистку начнут с рейха. Всех евреев отправят в лагеря Генерал-губернаторства, где они будут задействованы в трудовых отрядах на строительстве дорог, соединяющих рейх и Восточный фронт.
– А кто по определенным причинам окажется неспособен к труду?
– Остальных сразу, скажем так… – Он прокашлялся, продолжая рыться в бумагах. – Вот, да, корректировка от Глюкса касательно труда. Да, не всех, определенно не всех, нерабочие руки и постепенно тех, кто будет приходить в негодность, тоже… естественным образом, так сказать, – говорил он, не отрываясь от документа, – на соответствующую обработку… В любом случае вопрос давно назрел и отчаянно требовал хоть какого-то решения.
– Оно окончательное?
– Что, простите?
– Решение окончательное? Пересмотру не подлежит? – уточнил я.
– Забавно, что вы подобрали именно эти слова. В документах… а впрочем, да, решение окончательное.
Я не мог поверить, что за сбивчивыми иносказаниями скрывалось именно то, о чем я подумал в первый момент. Просто практически невозможно было отладить процесс так, чтобы в столь короткие сроки и без лишнего шума уничтожить такое количество евреев. В этом свете очередной план Эйхмана, о котором он мне поведал в одном из писем, выглядел не лишенным здравого смысла.
– Полагаю, рассматривались варианты концентрации этих евреев в определенных местах под нашим жестким контролем…
– Для этого нужны обширные территории, но таких нет.
– Россия или Польша, на мой взгляд, это самое очевидное. Я слышал, Эйхман предлагал устроить там что-то вроде еврейской резервации со строгими границами, за которые евреи не посмеют сунуться. Мне кажется, подобное решение устроило бы обе стороны.
Он покачал головой.
– Нас не должно заботить, чтобы их все устраивало. В любом случае вопрос требует решения прямо сейчас, так что Россия не актуальна. Пока, – поспешил добавить он, – думаю, позже и этот вариант будет рассмотрен. В конце концов, не всех же… – Он снова уткнулся в бумаги и что-то негромко забормотал. – Матерь божья! – внезапно изумился он. – Ожидается почти сто пятьдесят тысяч евреев уже в ближайшие недели.
Он снова посмотрел на меня и заговорил, будто размышляя:
– Да, подобные резервации избавили бы нас от многих проблем, но для нынешнего времени это слишком масштабный проект, учитывая цифры, с которыми нам предстоит работать. Эйхман действительно прорабатывал подобный план и в свое время даже получил от Гейдриха добро на него. Тогда австрийских евреев начали отправлять куда-то в район Ниско[115], если не ошибаюсь, но никто не соизволил договориться об этом с Франком, который был совершенно не готов да и, откровенно говоря, увидел во всем этом посягательство на свои губернаторские полномочия и пожаловался в Берлин. А ведь тогда успели переправить всего каких-то пять тысяч евреев, даже не знаю, где они сейчас, говорят, их прогнали в сторону границы с Советами и запретили возвращаться назад. Послушайте меня, голова Эйхмана – это кладезь бредовых идей, не советую к ним прислушиваться. Думаю, вы слышали и про его Мадагаскарский прожект?[116] – Я едва заметно кивнул. – Подумать только, в разгар войны, когда вся техника на счету, он предложил переправить кораблями почти четыре миллиона евреев через Атлантику, которая почти целиком под контролем британского флота!
– Я слышал, что поляки и французы собирались провернуть нечто подобное.
– Вот именно. Нашел у кого воровать идеи. Итак, – он захлопнул папку и поднялся, – что и требовалось понять, для них нет места. Нигде. Нет территорий, готовых принять их, потому иного решения не существует, по крайней мере пока.
Я тоже встал. Мы направились к двери.
– Вам необходимо отправиться с инспекцией в Кульмхоф. Там уже все началось. Выполнением занимается команда гауптштурмфюрера Герберта Ланге. Они пока единственные, у кого есть необходимое оснащение.
– Для чего? – озадаченно спросил я и тут же подосадовал на себя за откровенную глупость.
Он недовольно посмотрел на меня:
– Не дурите. Пока используют газвагены. В данный момент уже строят стационарную камеру в Бельзене, но она заработает не раньше весны, поэтому нужно убедиться, что у них пошло дело с грузовиками. Расстрелы – гиблый номер, учитывая масштабы, которые нас ожидают, нерационально, нерентабельно да и слишком губительно для психики. Иное решение этого вопроса уже давно напрашивалось.
Я давно слышал про использование выхлопных газов, но не знал, что метод уже поставили на поток.
– Нам нужно подготовить собственный отчет для штаба рейхсфюрера, поэтому разузнайте все подробно. От четвертого отдела ответа не дождешься, они там сами ни черта не знают. Хотя, казалось бы, кому, как не Эйхману… Впрочем, ему сейчас не до того. Как это ни удивительно, но именно на него ложится организация всего процесса депортации. Думаю, мне не стоит напоминать вам, что планируемые мероприятия должны содержаться в строжайшей тайне. В отчетах и донесениях не должны фигурировать такие слова, как «уничтожение», «убийство», «казнь», «ликвидация», это ясно?
Я озадаченно посмотрел на него. Он вздохнул.
– Используйте вот это… – Он вернулся к столу и снова заглянул в бумаги. – «Окончательное решение» или «специальная обработка».
Я вскинул руку и вышел из кабинета.
Было крайне сложно сдержать радостную улыбку. Командировка, наконец-то! Я был счастлив вырваться из своего захламленного кабинета на свежий воздух.
Кульмхоф находился в рейхсгау[117] Вартеланд. Мне было приказано явиться в Лицманштадт[118] в местное управление гестапо. Там мне дали расписку о неразглашении, формуляр был уже заполнен, мне оставалось лишь поставить свою подпись.
– Теперь такой порядок, – словно извиняясь, проговорил сотрудник управления, – после того, как пришло распоряжение об… да вы и сами в курсе, раз едете туда.
Я кивнул, не вдаваясь в подробности. После этого мне выделили сопровождающего – улыбчивого роттенфюрера Ланса. Когда мы сели в машину, он объявил, что нам предстоит проехать еще семьдесят пять километров на северо-запад.
В пути я с интересом разглядывал деревья и поля, убранные и покрытые снегом. К счастью, несмотря ни на что, уборка земель проходила по расписанию. Я с трудом поборол в себе желание попросить Ланса остановиться, чтобы выйти из машины, постоять, посмотреть, вдохнуть полной грудью морозный воздух. Ничего, еще успею в Кульмхофе, к тому же, как мне сказали, там был какой-то старинный замок, есть что посмотреть. Командировка!
– Мы-то по привычке называем лагерь Хелмно, как местные, – заговорил Ланс, – но в документах и отчетах исключительно Кульмхоф. Хотя иной раз и Лицманштадт случайно назову Лодзью.
– Вы родом из этих мест? – Я оторвался от созерцания пейзажа и посмотрел на него.
– Нет, что вы. – Он тут же замотал головой, будто я уличил его в чем-то постыдном, потом обернулся и, словно извиняясь, торопливо добавил: – Мать у меня отсюда, прожила лет до семнадцати, пока отца не встретила и не уехала. Теперь-то оно и к лучшему, что уехала. – Он умолк, но ненадолго. – Впрочем, сейчас все куда-то едут. Переселяют, знаете же? Ерунда, конечно…
– Почему вы так думаете? – спросил я.
Ланс покосился на меня в зеркало, я ободряюще кивнул.
– Это не для отчета. Политика переселения фольксдойче не мой вопрос. Просто любопытно мнение обывателя на местах, так сказать.
– В жилищных управлениях сейчас бардак. У одних отбираем квартиры, отдаем другим, новым немцам, как их сейчас называют, да только в них немецкого ни черта и нет. Недавно вывезли партию «поляков», – Ланс саркастично усмехнулся, выделяя слово, – говоривших на чистейшем немецком, а вместо них заселили переселенцев из Волыни, признанных фольксдойче. Думаете, хоть кто-то понимал их тут? Дети и вовсе шарахались от них в стороны. Эти «фольксдойче», – еще один едкий смешок, – ходили в огромных меховых шапках и в таких же мохнатых накидках из овечьей шерсти, пещерные люди ни дать ни взять. Так некоторые из них еще и носы воротили, мол, там, откуда приехали, условия у них лучше были. Многие прямо говорят, что их обманули: обещали переселить в Германию, а отправили в Польшу.
– Отныне эти земли – часть рейха, – заметил я, – так что юридически никто их не обманывал.
– Плевать они хотели на «юридически», им подавай старый рейх, туда они надеялись попасть, соглашаясь на переселение. Сами-то по-немецки не способны связать и двух слов, а уже выбирают. Ударило, видать, в голову осознание принадлежности к нам. – Ланс улыбнулся. – В дальних районах и вовсе целые деревни выселяют для этих новых немцев. Да только разве ж они немцы?
– Есть какие-то критерии, определяющие…
Ланс засмеялся.
– В этих критериях – кто поляк, а кто немец – сам черт ногу сломит. У нашего гауляйтера Грайзера[119] не забалуешь, каждого под лупой рассматривают, а в соседнем гау[120], у гауляйтера Форстера[121], просто распространили какие-то листы – кто их подписал, тот и немец. Поляки не дураки, все подписались, в итоге мало того что остались, так еще и льготы на жратву получили и разрешение на учебу.
– Так где, по-вашему, эта политика реализована грамотно, – спросил я, – в вашем гау или у гауляйтера Форстера?
Не отрывая взгляда от дороги, Ланс пожал плечами:
– И там и там ерунда. У нас строго до такой степени, что прогоняем хорошие семьи с настоящим немецким укладом, а там остаются явные поляки. А всё отсутствие четких указаний сверху. – Он снова опасливо покосился на меня в зеркало, но, увидев, что я не обратил на его замечание никакого внимания, весело продолжил: – В итоге недовольны все, а больше всего в Генерал-губернаторстве. – Ланс снова засмеялся.
– Что вы имеете в виду?
– А куда ж мы их переселяем? Сейчас всех поляков отправляют туда, поезда каждую ночь уходят, вот генерал-губернатор Франк и недоволен. Оно и понятно, соразмерность-то не в их пользу: только за прошлый год перегнали больше миллиона поляков, а на их место в два раза меньше фольксдойче. Говорят, их там уже селить некуда и кормить нечем, а ничего не поделаешь, не евреи ведь… Вот их просто и вытряхивают из вагонов, а там никому до них и дела нет.
Я задумчиво смотрел на проносившиеся мимо пейзажи. В отчетах все виделось по-другому. Этническим немцам, которые возвращались в свою страну, необходимо было пространство для жизни, и логично, что его должны были освободить те, кто не имел на него никакого права. Но по всему выходило, что на местах так окончательно и не разобрались, кто право имел на самом деле, а кто пользовался им незаконно. А потому выходило, что политика эта реализовывалась… ради самой политики.
Впереди показались какие-то постройки. Ланс кивнул на них и снова заговорил:
– Там сейчас всем руководит гауптштурмфюрер Ланге, но мы его не застанем, он в отъезде. Руководитель толковый, за короткий срок привел тут все в порядок, и процесс пошел. Видели бы вы, в каком запустении был замок, когда мы сюда только прибыли, но теперь ничего. Сносно. В нем их и собирают. – На этих словах он замялся, словно опять произнес что-то неловкое.
– Кого их? – Я разглядывал деревню, к которой мы приближались.
– Евреев. – Ланс скосил на меня быстрый взгляд, затем снова уставился на дорогу.
Я кивнул, зная, что он продолжает поглядывать в зеркало заднего вида.
– Расскажите подробнее, – попросил я.
– Везут пока своих, со всех окрестных местечек, из Бабяка, Гродзеца, Коло, Сомпольно, Домбе, Клодавы, но в управлении ходят слухи, что скоро повезут и из дальних мест.
Я кивнул.
– Да, в ближайшее время вам предстоит принять большие партии, в первую очередь из гетто Лицманштадта.
– Туда ведь еще в сентябре начали ссылать со всего рейха и протектората. Слышал, эшелоны шли один за другим, трамбовали их серьезно, и не только евреев, еще синти и рома[122]. Это ж сколько повезут…
Нахмурив лоб, он поднял глаза кверху, пытаясь что-то прикинуть в уме.
– Сейчас во всех гетто дела обстоят не лучшим образом, – заметил я. – Откровенно говоря, ситуация уже критическая. Скученность большая, нехватка продовольствия еще больше, медикаменты отсутствуют полностью, все это вылилось в эпидемии, и они могут вырваться за границы гетто, если мы не примем меры. Поэтому да, повезут много.
Ланс со вздохом кивнул.
– Слышал, у них там трупы на улицах валяются, да столько, что и хоронить уже негде. – Он снова вздохнул, пожимая плечами. – Оно, может, и гуманнее будет тех, кто уже не может работать, того… По мне, так лучше быстро и без мучений, чем медленно подыхать от голода и болезней. Раз уж неизбежно, – торопливо добавил он.
– В этом вопросе не должно быть сентиментальности. Евреи хотели эту войну, они ее получили. Но прежде чем провоцировать ее, они должны были несколько раз подумать над словами фюрера о том, что будут нести ответственность за каждого немецкого солдата, убитого в этой войне. А наших полегло уже столько, что этому народу не расквитаться и всей своей кровью. – Я пристально посмотрел в зеркало заднего вида, из которого на меня глядели серые глаза Ланса. – Каждый немец должен отчетливо понимать: эта война случилась потому, что еврейские толстосумы, которым удалось хорошо устроиться в Великобритании и США, сделали все для нее. Они без устали пропагандировали конфликт против Германии, несмотря на все предупреждения, а фюрер прямо говорил, что если они не уймутся, то их европейские собратья дорого заплатят за это. Теперь все должны осознать, кто втягивает европейские нации в войну, кому это выгодно и кто обогащается на этих конфликтах.
Ланс торопливо кивнул еще несколько раз.
Деревня была уже совсем близко.
– Их везут в грузовиках? – Я переменил тему.
– Не совсем. – Водитель покачал головой. – В товарняках до Поверче – это ближайшая от лагеря станция, тупиковая, туда идет ответвление от Коло. А через Коло проходит главная ветка из Познани в Лодзь… Лицманштадт. А из Поверче уже на машинах, хотя бывало, что и пешком гнали. Грузовики здесь в ходу для другого. – И он снова умолк.
Я продолжал ловить его внимательный взгляд в зеркале. Он словно пытался понять, что мне уже известно.
– Вы можете продолжать, – с нажимом произнес я.
– На площади перед замком их собирают и велят раздеться.
– Полностью?
– Да, догола, говорят, что им предстоит санитарная обработка в душе. Ну а дальше они что… Заходят, значит, внутрь по пятьдесят – семьдесят человек, идут по коридору, а в конце попадают прямиком в грузовик – его подгоняют вплотную с распахнутыми дверьми. Как в комнату, значит. Хитро туннель сконструировали, он даже под нужным наклоном. Раньше-то просто расстреливали, такие дела.
– А дальше?
– Да вы сами все увидите.
Я понял, что про основной этап Лансу не хотелось говорить. Он упер взгляд в дорогу и больше не косился на меня в зеркало. Оставшийся путь мы преодолели в полном молчании. Собственно, он был прав, к чему расспросы, если совсем скоро я все увижу собственными глазами.
Замок на деле оказался обыкновенной усадьбой, окруженной запущенным парком. По периметру он был обнесен высоким деревянным забором, у ворот находилась постовая будка, возле которой мы остановились. Ланс предъявил предписание, я молча показал документы. Мы тут же беспрепятственно проехали во двор. Я рассчитывал увидеть внутри толпу людей, но вместо этого был оглушен тишиной. Впереди было большое крыльцо, на лестнице курил эсэсовец. Огромный двор был покрыт каким-то хламом: одежда, ботинки, тюки, платки, кепи, меховые шапки, чемоданы, сумки, очки. Что-то было аккуратно сложено, но по большей части все это было хаотично разбросано по земле.
– Опоздали, уже увели, – проговорил Ланс у меня за спиной.
Я медленно переступал через эти вещи, стараясь не задеть их своими сапогами. Несмотря на всю мою осторожность, что-то хрустнуло под каблуком. Я убрал ногу и уставился на круглые очки – оправа, конечно же, была сломана, одна линза вдребезги. Я поднял их, не зная, как поступить.
– Да бросьте их. – Мое замешательство вызвало у Ланса улыбку. – Тут этого хлама знаете сколько? А сколько еще будет! У-у-у, – протянул он. – Им ведь разрешено брать с собой кое-какие пожитки. Это чтобы подозрений не было, им же говорят, что их везут на строительство дорог и укреплений.
Я наклонился и аккуратно положил очки туда же, где и взял.
Солдат на крыльце тоже заулыбался.
– Сейчас поляки уберут, – сказал он, подходя к нам, – к следующей партии не должно быть ни пылинки. Скоро повезут из Завадок.
Усадьба состояла из двух зданий: самого жилого дома и большого амбара. Одна стена дома была полуразрушена.
– Это еще с восемнадцатого года, – пояснил Ланс, проследив за моим взглядом, – гауптштурмфюрер Ланге пытается выбить финансирование на восстановление. Но пока только на два барака выделили. Может, вы в отчете…
– Я думал, деревня будет побольше. – Я огляделся по сторонам.
– Нет, совсем крохотная, – покачал головой Ланс, – дома только вдоль дороги, один продовольственный магазин, администрация, зато своя школа имеется и вот еще церковь, – кивнул он на какие-то светлые очертания среди голых ветвей парка, – но она обнесена с нашим участком одним забором, поэтому местным сюда нежелательно теперь, но ходят, конечно, ну те, кому разрешили остаться, работники все-таки нужны.
– Они видели газвагены? – обратился я к солдату.
– Конечно, дорога-то в лес одна, грузовики каждый день снуют мимо их окон. Но за это не беспокойтесь, дома, в которые они перебрались, раньше принадлежали евреям, так что они теперь…
– Понятно.
– В общем-то, от местных проблем никаких, они и сами стараются держаться в стороне. Когда гоним очередную партию пешим маршем, они быстро прячутся по домам. А те поляки, которых наняли помогать, так и вовсе в охотку все делают и язык за зубами будут держать, вы уж поверьте. Мы закрываем глаза на то, что они иногда подворовывают что-то из еврейского хлама. – И он пнул добротный кожаный чемодан, лежавший у его ног. – А бывает… – И он замялся, будто раздумывал, стоит ли рассказывать дальше, но я ободряюще кивнул, давая понять, что с пониманием отнесусь к тому, что выходит за рамки правил. – Иногда они выбирают себе женщину из этих, красивую, конечно, стараются выбрать, да в последнее время привозят таких худых и серых, что и выбирать-то не из чего. – Последние слова солдат произнес с сожалением, и у меня закралось подозрение, что не только наемные поляки огорчены отсутствием выбора. – Там внизу есть комната, – продолжил он, – туда они и уводят ее на ночь. Наутро, конечно, с очередной партией отправляют в грузовик.
– Давно вы начали проводить эти акции?
– Первые прибыли в начале декабря, числа шестого-седьмого. Уже на следующий день их того, а потом пошло-поехало, везли и евреев, и цыган. Теперь не держим ни дня, стараемся сразу в расход, потому как по несколько партий в день, бывает, приходит.
– Какая у вас пропускная способность?
– Что, простите?
– Сколько человек в день?
– А, вы про это. – Он пожал плечами. – Самое большее тысячу в день везут. Больше не можем, и так забиваем грузовики под завязку. Но в то же время уж лучше грузовики, чем возиться с баллонами. Врачи из «Т-4» используют баллоны с угарным газом, знаете? Поначалу и нам их хотели везти, но потом прикинули, подсчитали и поняли, что столько баллонов на Восток не навозишься, масштабы у нас другие. В итоге нам уже пришли переделанные грузовики без всяких баллонов, все за счет собственных выхлопных газов.
Мне не терпелось увидеть эти грузовики, но я сдерживал себя.
– Вам хватает охранников?
Парень задумчиво пожал плечами, затем покачал головой.
– С душем, конечно, хорошо придумали, это решило много проблем. Затолкать такую толпу против воли – много сил надо, а так они сами идут. Опять же, первых отправляли прямо в одежде, потом долго маялись, чтоб стянуть ее с трупов, теперь же они сами раздеваются, аккуратно стопочкой вещи складывают, ботинки даже шнурками связывают, чтоб в суматохе не потерять. Нашим остается только собрать и рассортировать. Так что справляемся малыми силами. Бывает, конечно, кто-то заартачится, но получит прикладом по башке и пойдет дальше. Еще помогает фокус с едой.
– Какой еще фокус?
– Пообещать им обед после дезинфекции, горячий суп, кашу какую-нибудь, чтоб еда окончательно вытеснила все мысли. Я, бывает, говорю, что сегодня из кухни так несло гуляшом в подливе или кислой капустой, что аж воротило. С голодным эту штуку легко провернуть, обрисуй ему в подробностях еду, которая его ждет, и готово. Еще и остальных поторапливать будет. Тут-то и пошутить можно, о пустяках каких-то завести разговор, главное, спокойно и расслабленно себя с ними вести. Тогда они спокойно прыгают в грузовик. В принципе все по уму устроено, даже на большие партии уходит не больше часа.
Я еще раз окинул взглядом двор, усыпанный вещами, затем повернулся и спросил:
– Как происходит сам процесс?
Солдат вначале сделал затяжку, затем, выпуская дым, снова пожал плечами.
– Да как, заталкиваем их, закрываем плотно двери и даем команду «газ», шофер лезет под грузовик, вставляет трубу в специальное отверстие, заводит мотор, и по этой трубе газ поступает внутрь грузовика. На холостом ходу, естественно. Как именно там все устроено, вам лучше у водителя спросить, он точно в курсе. Наше дело небольшое – дать команду. Потом открываем ворота, и они уезжают в лес. Там уже ждет рабочая команда, чтоб все, значит, доделать. А вот как раз…
Мимо нас проехал непримечательный серо-зеленый фургон с двустворчатыми дверьми, в каких обычно развозят продукты по городу. Со стороны сложно было догадаться, для каких целей он использовался. Машина двигалась медленно. Мне показалось, что я услышал крики изнутри. Или действительно всего лишь показалось.
– Сегодня тихо было. – Солдат переглянулся с Лансом, затем вновь посмотрел на меня. – Водители говорят, когда к лесу подъезжают, уже ни звука. А мимо нас провозят, так, бывает, громко орут, а бывает, уже и не орут. Как придется.
– За этим поедем или подождем следующую партию? – спросил Ланс.
Я посмотрел вслед грузовику и торопливо ответил:
– Поехали за ним.
Ланс кинулся к машине. Солдат крикнул нам вслед:
– Не переживайте, вы их еще обгоните. Они едут медленно. Если будут гнать, то может не хватить времени, ну, понимаете, был такой случай: высыпали, а один вдруг пополз от общей кучи. Пришлось пристрелить.
Мы и в самом деле легко обогнали трясущийся по грунтовой дороге фургон.
– Куда их повезут? – спросил я, глядя в заднее окно на отставший грузовик.
– В Жуховский лес, тут недалеко, километра четыре.
Дальше ехали молча. На одном из ухабов машину подкинуло, и я сильно прикусил губу. Ланс бросил на меня быстрый взгляд.
– Кровит.
Я уже и сам чувствовал вкус крови на губах. Платка не было. Я осторожно утер рот тыльной стороной ладони. Через несколько минут мы остановились возле охранного поста, Ланс вновь предъявил документы, и мы въехали на участок, обнесенный высоким забором. Машина остановилась, но выходить мы не стали. Ждали грузовик.
– Сосен и так много, укромно, но велено насадить еще молодняка, чтоб было густой стеной, – проговорил Ланс.
Вскоре показался грузовик. Ланс проехал немного вперед и встал плотнее к краю дороги, чтобы фургон мог нас объехать. Он проехал метров на двадцать дальше нас и тоже остановился, но мотор продолжал работать. Из кабины показалась голова шофера; вытянув шею, он начал медленно сдавать назад. Я вышел и подошел ближе, только сейчас увидев края вытянутой ямы, к которой подкатывал грузовик.
– Шульц – толковый парень, – проговорил Ланс, встав рядом, – всегда подкатывает к самой кромке, чтоб разгрузка быстрее шла.
Заглянуть в яму я не успел. Шофер уже выпрыгнул из грузовика, обежал его и ловким движением распахнул двери.
7 декабря 1993. Свидание № 9
Валентина смотрела в стаканчик, который бережно держала двумя руками, будто грела ладони.
– Вкусное молоко, спасибо, и мед хороший. Я разбираюсь, у родителей первого мужа пасека своя была… Считай, наша аптека – и прополис, и мед, и перга, любую заразу тем лечили… – И, будто бы что-то вспомнив по случаю, она вдруг резко перевела заинтересованный взгляд на Лидию. – А вот представь, к тебе приходит человек и заявляет, что в лаборатории изучили состав натурального меда и воспроизвели его точную синтетическую копию, и суррогат этот, значит, ничем не хуже. А, наоборот, дешевле, да и производство проще, а известные химики в один голос кричат тебе о его полезности. И светит феноменальная прибыль, если пустить это в дело. Удержалась бы ты от того дела? Тем более в твоей власти, чтобы народ кинулся покупать у тебя «полезный» продукт. Осталось лишь начать делать барыши. Именно так ведь они и делаются.
И, к полнейшему удивлению Лидии, Валентина вдруг хихикнула. Как-то гортанно, чуть ли не всхрюкнув.
– Но вместо этого ты возмущаешься, – воодушевленно продолжила она, – и отметаешь подобную мысль! Тебя даже злит, что кто-то хочет заменить натуральное синтетическим и впихнуть это людям. Тебя вообще злит употребление консервантов, красителей, усилителей вкуса, а главное, потуги производителей и рекламщиков выдать это за полезный продукт и накормить этим народ. Тебя серьезно беспокоит, что люди отказываются от натуральных продуктов, которые дает земля, в пользу рафинированного и консервированного. Ты хочешь на законодательном уровне утвердить количество качественной муки, которую пекари обязаны использовать при приготовлении хлеба, чтобы народ получил все ценные компоненты натурального зерна, потому как знаешь, что питание, навязанное промышленными концернами, которые гонятся лишь за барышами, приведет к запору нации в лучшем случае, а в худшем и к нервным расстройствам, проблемам с пищеварением, раннему старению и преждевременной смерти. Но кого волнует национальный запор, когда на кону такая выгода, так ведь?
Валентина смотрела с улыбкой на Лидию, но та не понимала, к чему вела ее подзащитная.
– А его, видишь ли, волновало и это, и то, какого черта в больницах пациентов с больным кишечником кормят ливерной колбасой, консервами и квашеной капустой. Он, видишь ли, сокрушался, что вся система дала сбой.
– Да о ком ты говоришь, в конце концов?
– О Генрихе Гиммлере.
И Валентина сделала паузу, дав Лидии время соотнести все то, что она сказала раньше, с произнесенным именем.
– Мне нравится твой взгляд в такие моменты, Лидия, он непередаваем. Но я ни в коем случае не говорю, что Гиммлер был хорошим человеком, – тут же добавила она, – он был монстром, святая правда! Просто пытаюсь разобраться: где произошел тот слом, после которого человек, которого интересовало здоровье нации, который хотел наладить выращивание лекарственных растений по всей стране, который хотел, чтобы люди научились сами облегчать свои недомогания без фармы, и который, наконец, пытался вернуть немецким массам их инстинкты, превратился в исчадие ада? Ты знала, что после войны он собирался использовать СС как полигон для диетических исследований на благо немецкого народа? А потом снять об этом просветительский фильм, в котором хотел рассказать всем, что действительно полезно, а что лживая реклама? Собирался воспитывать врачей и фармацевтов, не идущих на поводу у фармакологических концернов, и оплачивать это обучение из фондов СС. Он опасался, что врачи движутся прямой дорожкой к чиновничьему образу мышления, и это приведет к окончательной гибели медицины, потому как будет уничтожена всякая инициатива, всякий творческий проблеск в действиях медиков, всякая искра, которую так ценили Гиппократ и Парацельс. И главным мерилом для врача станет то, что будет способствовать его карьере и благосостоянию, и этим поводком легко будут управлять те концерны.
Валентина замолчала и снова уставилась на молоко, но через несколько мгновений продолжила, не отводя взгляда от белой поверхности, подернутой пенкой:
– Лекарства стали массовым продуктом, ныне доктор – продавец промышленника, фармацевт – его клерк. Лечение стало потоком, вспомни свой последний поход к врачу, Лидия. Десять-пятнадцать минут, не больше? Из них пять-семь, чтобы заполнить все необходимые бланки, и две на осмотр и назначение лечения. Общество заговорило об этой проблеме только сейчас, а он сокрушенно рассуждал об этом еще в сорок первом со своим личным мануальным терапевтом. Представляешь, Генрих Гиммлер был против медикаментов поточного производства. Он жаждал донести до нации, особенно до матерей, что лекарства промышленного производства часто не лечат, но лишь глушат симптомы, он жаждал обратить их внимание на лечебные травы, правильное питание и физкультуру. Так где же произошел сбой в сознании человека с подобными взглядами?
– Ты говоришь о человеке, который считал расовую селекцию делом жизни, который давал указания к проведению жесточайших опытов над людьми, который санкционировал создание анатомических коллекций…
– Именно, – закивала Валентина, – про него, со всеми его концентрационными лагерями, в которых были газовые камеры, пожравшие миллионы жизней. Я говорю про это исчадие ада. И хочу понять, где гений этого монстра шел против своих личных убеждений, а где в полном согласии?
И она уставилась на Лидию, но не замечала ее, глядя сквозь, в свои бесплотные мысли, витавшие вокруг.
– В каких ситуациях нас больше? – совершенно отстраненно пробормотала она.
•••
– Там, наверху, никого не волнует, какими способами мы тут решаем этот вопрос, главное, чтобы он был решен. А как, никто и не спросит… Я бы не спрашивал… вдруг расскажут. Ведь бывает, и с подростками привозят… да.
Я не отшатнулся. Стоял и смотрел. Все десять минут, пока выветривался газ. Пока что-то говорил Ланс. Не отшатнулся, потому что окаменел каждый мускул. Кажется, мысли тоже остановились. Нельзя было думать. Не сейчас. В этом таилась определенная опасность. Можно было додуматься до чего-то страшного, до того, что принесет мне вред. Страшно было и без мыслей. Подошел один из рабочих и ткнул чем-то, напоминающим багор, в жуткий слипшийся монолит, который начал распадаться. Из кузова повалились трупы. Голые, еще гнущиеся, в испражнениях, с открытыми выпученными глазами и вывалившимися языками, переплетенные друг с другом тонкими обвисшими конечностями. Я слушал, как они с глухим стуком ударялись о замерзший грунт.
– Вы бы отошли подальше, – услышал я голос Ланса, – многие охранники жаловались на головные боли. Водители в кабине в противогазах сидят.
Один из рабочих, осматривавший тела, схватил одно за ногу и потащил в сторону. Я наблюдал, как голова трупа подскакивала на неровностях. Как у тряпичной куклы: вверх, вниз, набок… замерла. Рабочий склонился над ней. На солнце блеснул металл. Щипцы, разглядел я. Он запихнул их в рот трупа. Я отвернулся и тут же наткнулся на взгляд Ланса. Он кивнул.
– Перед захоронением приказано выдрать золотые зубы и снять кольца.
Ланс замолчал. Нужно было вновь повернуться и посмотреть. Я чувствовал, как тошнотворный ком подбирался все выше. Он уже распирал гортань. Сейчас будет позыв. Но нужно повернуться. Я обязан: инспекция.
– А так и не скажешь, что машины какие-то особенные, – откуда-то издалека раздался голос Ланса.
Да, фургон! Я быстро повернул голову и уставился в пустой кузов, стараясь не косить взглядом в сторону. Ланс махнул курившему рядом водителю. Тот затушил сигарету и подошел ближе. Ланс что-то сказал ему, тот понимающе кивнул.
– В общем-то, машина – она и есть машина, особой премудрости нет, только выхлоп вывели внутрь. Изнутри кузов покрыт железными листами, да двери подогнаны так, что воздух не проникает. Ну как не проникает, – усмехнулся он, ударив мыском сапога по колесу, – поначалу оно, конечно, так и есть, но вы сами видели дорогу, кочки да ухабы, а в день вон сколько ходок, только успевай туда-сюда. За пару недель заклепки разбалтываются, и появляются щели. Своих мастерских у нас здесь нет, гоняем в Коло в починку при автодорожной службе, там все подтягивают.
Я нахмурился.
– Там работают немцы?
Шульц покачал головой.
– Местные.
– То есть они видели конструкцию? Как вы думаете, они поняли, зачем это нужно?
– Не дураки, пожалуй. – Он посмотрел на гору трупов и проговорил: – Задумка неплохая, учитывая мобильность, но требует доведения до ума.
Я торопливо достал из внутреннего кармана записную книжку.
– Исходя из вашего практического опыта, какие моменты вы бы исправили?
Шульц потер подбородок и кинул вопросительный взгляд на Ланса, тот едва заметно кивнул. Шульц вздохнул.
– Вы подумаете, что ерунду говорю, но, чтобы исправить проблемы с вместимостью, нужно уменьшить пространство кузова. Зауреровские[123] грузовики громоздкие, вместимость каждого около десяти единиц груза на квадратный метр. Но если точно соблюдать эту норму и забивать его по полной, то устойчивость во время движения снижается. Был у нас тут один инцидент… – Он снова бросил торопливый взгляд на Ланса, тот опять кивнул. – Грузовик перевернулся, и все посыпались из него как горох, еще живые, не успели… Пришлось пристрелить прямо на дороге. Чтобы добиться устойчивости, мы просим охранников загружать меньше людей. Им, конечно, не хочется этого делать, тоже понять можно, на них транспорты валятся один за другим. К тому же свободное пространство в кузове дольше заполняется газом, ехать нужно медленнее, соответственно, затягивается весь процесс. Но, – Шульц даже поднял указательный палец, – если уменьшить пространство хотя бы на один метр и правильно утрамбовывать груз в такой кузов, то можно разместить прошлую норму, не нарушая устойчивости машины.
– То есть пространство меньше, но количество дышащих тел то же? – уточнил я.
Шульц кивнул:
– Процесс ускорится в разы.
– Я не конструктор, – с сомнением проговорил я, – но сдается мне, что, уменьшив заднюю часть на целый метр, мы получим избыточную нагрузку на передний мост.
Шульц словно ожидал этого замечания. Он тут же улыбнулся и даже подался вперед:
– А в том-то и штука, что равновесие будет восстановлено за счет человеческого фактора!
Я вопросительно посмотрел на него. Он продолжил:
– Во время работы мотора они жмутся к дверям. Инстинкты такие. Иной раз наваливаются на них, пытаясь выдавить, но только друг друга давят, уж двери в машинах что надо. Так и выходит, что бо́льшая часть веса находится как раз сзади, и на передний мост не приходится особо серьезной нагрузки.
Я перевел взгляд на Ланса. Он кивнул. Я понял, что он уже не раз слышал эти замечания. Я уткнулся в блокнот и начал записывать идеи, предложенные водителем. Записав, я начал перечитывать написанное, оттягивая момент, когда предстояло подойти ко рву.
– Везу, орут, все громче, все безумней, слышно, как бьются головами о стенки кузова, а потом тише, еще тише, а потом совсем мертвая тишина, – снова заговорил Шульц, заметив, что я закончил писать. – Мы поначалу педаль газа до отказа выжимали, думали, так продуктивнее. Потом уже новые инструкции пришли. Оказывается, неправильно делали: они кончались от удушья, а не от отравления.
Ланс добавил:
– Открывали, а там говна по самую крышу. Омерзительно. А как водители получили новые инструкции и стали правильно регулировать рычаг, смерть стала наступать легче, теперь многие просто засыпают и кончаются во сне. Гуманнее, – серьезно говорил Ланс, – причем по отношению ко всем. Иногда ведь приходится разгружать своими силами, только представьте, какая нагрузка на психику парней…
Я поднял голову и посмотрел вперед. Рабочие начали стаскивать тела к яме.
– В общую кидают слоями, по тридцать-сорок, – продолжал рассказывать Ланс, – пока так, но с учетом того количества, что нас ожидает, чувствую, по весне проблем не оберемся. Земля столько не вместит, попрет наверх. Сжигать надо.
Я сделал шаг вперед, затем еще один. Я смотрел поверх кучи, упершись взглядом в стволы деревьев, росших на противоположной стороне рва, вцепился и как будто держался за них. Дойдя до ямы, я медленно опустил голову. Я рассчитывал увидеть тела, аккуратно лежащие ровными рядами, одно возле другого, – так я себе представлял общие могилы. Но это была многослойная спрессованная масса хаотично сплетенных мужских и женских тел, измазанных кровью, грязью и экскрементами. Распластанные, с запрокинутыми головами, с вывалившимися глазами, согнутые, изломанные, натянутые струной, на боку, навзничь, на животе, сгорбленные, вниз головой, горизонтально, на четвереньках, с руками по бокам, с раскинутыми в стороны, сцепившиеся…
Я отвернулся и пошел к машине. Ланс молча последовал за мной. Заводя мотор, он проговорил:
– Выдержка у вас будь здоров. Присылали тут пару недель назад конторского из Берлина, карточки сделать для отчета, так блевал дальше, чем видел, еле откачали. Да не только он. На бумаге ж оно одно, а вживую увидеть… – Ланс замолчал, очевидно, подбирая слова. – С подробностями отчет никто не требует, цифры только. А цифры что? Легче отправить в газ тысячу на бумаге, чем одного в реальности. Из Берлина приезжают с проверкой, а потом сгибаются пополам. А ведь они ж и дают добро на то, что увидели. Тут лишь исполняют… Была б моя воля, я б тоже не интересовался, знал бы цифры только.
– Слабость здесь неуместна. Это приказ, и его надо выполнять, – проговорил я и замолчал, уставившись на голые стволы деревьев.
Далее ехали молча. Мне предстояло посетить еще Люблин и Бельзен.
Более я не размышлял о том, что видел, лишь скрупулезно фиксировал все детали для отчета, стараясь концентрироваться исключительно на технической стороне дела. В конце концов, в этом состояла моя работа, которую я обязан был выполнять. Каждый вечер я допоздна засиживался в каком-нибудь местном ресторанчике, проверяя свои записи и добавляя по памяти то, что упустил. В последний вечер перед возвращением я еще раз окинул придирчивым взглядом листы перед собой. Что ж, отчет получился весьма подробный.
С первыми днями весны заработали газовые камеры в Бельзене. Едва зацвели яблони – в Собиборе. Когда на лотках появились первые ягоды – к процессу подключилась Треблинка, уже третий лагерь Генерал-губернаторства, завершенный по необходимости в кратчайшие сроки. Все три лагеря курировал люблинский штаб Одило Глобочника. Но все чаще в Инспекции звучало другое название:
– Поль со старшими офицерами лично отправился с инспекцией в Аушвиц.
– И Каммлер[124] с ними. Знаешь, сколько вбухают в расширение лагеря? Почти четырнадцать миллионов марок.
– Что там на такие деньжищи возводить?
– А ты догадайся. Про эксперименты с синими гранулами слышал?..
Весь последний месяц начальники лагерей закидывали нас жалобами на несогласованность между инстанциями. Впрочем, правда была на их стороне – не успевали мы отправить одно распоряжение, как вдогонку ему следовало другое, совершенно противоречащее первому. А все потому, что штаб рейхсфюрера штормило из крайности в крайность: вначале требовалось «подвергнуть евреев специальному отношению», потом сохранить, потом часть «подвергнуть», а часть «сохранить для работ» – телексы с корректировками сыпались один за другим. Транспорты приходилось разворачивать на полпути, что влекло дополнительные расходы, а отвечать за это никто не хотел. Вся эта бюрократия уничтожений изрядно выматывала и тормозила продуктивность. Уйма времени уходила только на регистрацию приказов от вышестоящих к нижестоящим, запросов на эти приказы и распоряжения, поступающих уже в обратном направлении, подтверждений, служебных записок, рабочих писем, отчетов – макулатура, беспрерывно выплескивавшаяся из ундервудов и адлеров[125] в кабинетах всех уровней власти и мигрирующая между секторами и отделениями служб по всей Германии, не поддавалась исчислению. Откровенно говоря, утонув в ней, я даже не замечал того, что творилось на фронте. Все больше новостей узнавал в ресторане, где обедали сотрудники.
В начале марта случилось то, о чем долго шептались. Наша Инспекция все-таки перешла в состав Главного административно-хозяйственного управления СС, во главе которого стоял деятельный Освальд Поль. Управление состояло из пяти отделов, в которых работало больше полутора тысяч сотрудников, как разъездных, так и конторских, и все они, то есть теперь уже и мы, отвечали целиком за хозяйственную деятельность СС начиная от покупки авторучки и заканчивая размещением войсковых частей. Впрочем, нашу управленческую группу D – так теперь называлась наша Инспекция – оставили в Ораниенбурге в привычном корпусе, только табличку на входе поменяли. Функции же у нас фактически не изменились – мы по-прежнему оставались административным средоточием всей системы концентрационных лагерей, и, по сути, никакое более-менее серьезное решение там не принималось без контакта с нашим департаментом: все назначения и переводы по службе, распоряжения, ответы по ходатайствам, решения о присвоении званий, дисциплинарные взыскания – вся жизнь лагерных СС все так же шла через управленческую группу D. Непосредственным сердцем этой группы все еще оставался Эйке, правда, в данный момент он находился где-то на Восточном фронте, в районе местечка Демянск. Новости о его дивизии вновь и вновь доказывали: если уж папаша берется за что-то, то делает это на совесть, – Эйке и его «мертвоголовые» успели навести шороху в Бельгии и на севере Франции, с блеском отметиться в Прибалтике, а под Лужно «Мертвая голова» в одиночку уничтожила три дивизии противника. Награды сыпались одна за другой: вначале дядя Тео приторочил планку к Железному кресту второй степени, затем получил Железный крест первой степени и, наконец, Рыцарский крест с дубовыми листьями. Заткнули рты даже те, кто недовольно ворчал, мол, Эйке – мясник, которого никоим образом не волнуют потери личного состава, доходившие до невообразимых цифр. Обвинения в сумасбродстве сменились восхищением отчаянной и беспримерной отвагой.
– Слышали, Эйке сумел прорваться сквозь окружение?!
– Вырвался старый вояка из котла, из самого адища удрал!
– Да этому черту ад – дом родной!
В отсутствие папаши руководил нашим отделом его заместитель Рихард Глюкс. В его большом и светлом кабинете на первом этаже регулярно собирались руководители всех подотделов, на которые был разбит наш департамент. Артур Либехеншель возглавлял центральный отдел, следивший, чтобы все приказы от Поля и из штаба рейхсфюрера были доведены до руководства лагерей. Также люди Либехеншеля собирали все статистические данные по составу заключенных, отслеживали переводы в другие лагеря, вели учет выпущенных на свободу и умерших, причем как отправленных в газовые камеры, так и скончавшихся от болезней, при попытке к бегству и во время наказаний. Отделом, отвечавшим за работу заключенных, руководил недавно назначенный на эту должность Герхард Маурер, по слухам, любимчик Поля. Впрочем, мы быстро убедились в правдивости этих слухов: как опытный тренер, Освальд Поль взялся перетряхивать всю команду комендантов, сразу дав понять, что лагерные СС на пути серьезных перемен. И разговоры касательно этих перестановок Поль вел не с Глюксом, а непосредственно с Маурером. Так мы уяснили, кто теперь реальная власть в нашей управленческой группе. Впрочем, утомленный Глюкс и не особенно сопротивлялся, довольствуясь тем, что номинально бразды правления, а также роскошный кабинет официального руководителя остались за ним. За лето Поль и Маурер поменяли практически всех комендантов, не тронув лишь четверых: своих управленцев сохранили Бухенвальд, Маутхаузен, Аушвиц и Нидерхаген. Разобравшись с высшим руководством лагерей, Поль вознамерился переворошить и остальные звенья. Вскоре в лагеря поступило распоряжение составить списки блокфюреров, которые долго находились на одном месте, – так Поль планировал осуществить круговорот переводов, чтобы расшевелить «чертово лагерное болото», как он сам выразился, «которому пора бы начать приносить рейху деньги». Все прекрасно понимали, чем вызваны такие решения: вопрос быстрой победы уже не был таким очевидным, а фронт отчаянно требовал вооружения в количестве, с которым тыл теперь просто-напросто не справлялся. Военные усилия рейха нуждались в колоссальной подпитке, и трудоиспользование заключенных в полной мере, а не частично могло кардинально повлиять на ситуацию. Маурер должен был в кратчайшие сроки повсеместно наладить принудительный труд заключенных – задача, на которую раньше фактически не обращали внимания, перекидывая этот вопрос то на один департамент, то на другой, а то и вовсе оставляя его на откуп комендантам, которые сами не понимали, как им действовать в такой ситуации, по банальной причине отсутствия четкой утвержденной схемы, на которую они могли опираться. Но пока от лагерей со всех концов приходили лишь жалобы на условия и депеши с попытками выбить дополнительное финансирование.
– А при правильном распределении и грамотном планировании они должны не только обеспечивать себя, но и нести неоценимую пользу рейху, – вкрадчиво рассказывал на первом собрании Маурер, сразу же показавшийся мне толковым малым, правда, с явным уклоном в академизм.
Он собирался наладить поставку рабочей силы из лагерей на коммерческие предприятия за пределами колючей проволоки. Как всегда, кто-то видел благо в том, что теперь бесчисленные еврейские заключенные начнут приносить хоть что-то в кошелек СС, кто-то – лишнюю организационную головную боль. Не скрою, теперь я склонялся ко второй категории, ибо лично видел, чем увенчались подобные попытки, о которых я когда-то с жаром рассказывал Лине, – ничем.
Отныне все лагеря должны были регулярно отчитываться сотрудникам Маурера о количестве трудоспособных, больных и истощенных. Откровенно говоря, тех интересовали только цифры касательно трудоспособных, остальные данные они передавали в следующий отдел, отвечавший за санитарное обслуживание лагерей. Этим подотделом ведал штандартенфюрер Энно Лоллинг, его задачей было добиться, чтобы цифры, переданные ему, перекочевали обратно в отдел Маурера, но уже с пометкой «работоспособные». Доктор Лоллинг регулярно разъезжал по лагерям с врачебными проверками и курировал работу всех лагерных врачей, но на местах мало кто воспринимал всерьез и его отдел, и его самого – алкоголика, страдавшего зависимостью от морфия. Судя по слухам, коменданты даже не готовились к проверкам Лоллинга, а некоторые так и вовсе игнорировали его приезды, ссылаясь на неотложные дела. Моим личным доказательством того, что чертов Лоллинг выполнял свои обязанности из рук вон плохо, было очередное письмо от Ульриха.
«…К нам прислали студентов-медиков на практику, они делают операции на желудке и желчном пузыре заключенным. Здоровым, конечно. Навыки отрабатывают. Кажется, второкурсники. Почти все мрут под ножами этих практикантов, потому лучше бы тренировались на доходягах. У нас таких предостаточно. Накануне согнали почти сотню в лазарет, а там без всяких селекций: раз – укол, два – выноси. Фенолом, говорят, а когда не хватает, так просто воздух вгоняют. Так и почистили бараки. А кто спросит – подозрение на туберкулез. Да кто спросит-то теперь? Подробных отчетов уже никто не требует, ни тебе врачебных комиссий, ни бумажной волокиты. Никаких ограничений сверху больше нет. Потому чистим. Бараки же переполнены. Сам пока не знаю, что об этом думать. А что у вас говорят по этому поводу? Что слышно, Виланд? Не последует никаких мер?»
Я растерянно перечитал письмо. Все описываемое Ульрихом я мог отнести лишь на счет личной инициативы лагерных эсэсовцев. Конечно, вряд ли кто-то привлечет их к ответственности за это, но и прямого приказа не было. Наоборот, коменданты всех лагерей уже получили распоряжение о сохранении рабочих рук, неважно, еврейские они или нет. Отныне лагерным врачам разрешалось уничтожать лишь неизлечимо больных или тех, кто был поражен эпидемическими заболеваниями. Но, судя по всему, несмотря на все предписания, в лагерях продолжали хаотично чистить бараки. И проверить, действительно ли уничтожались только неизлечимо больные, не было никакой возможности. Вскоре ситуация настолько вышла из-под контроля, что руководство вновь было вынуждено вернуться к первоначальному плану и сделать один из лагерей единственным средоточием всех больных и неспособных к труду. Я был уверен, что жребий опять падет на Дахау, и не ошибся. Совсем скоро я получил очередное письмо от Ульриха с описанием новой волны мерзости, которой их накрыло.
«…Знаешь, что теперь самое отвратительное? Думаешь, тащить их на убой? Как бы не так! Согнали, загнали, укололи – это уже дело отработанное. Самое отвратительное – принимать транспорты, будь они прокляты! Я думал, в прошлый раз был перегной, да ошибся, они еще были крепыши по сравнению с тем, что сейчас везут. Привезли вчера из Штуттгофа. Набили вагоны так, что, подогни кто-то под себя ноги, не упал бы. Везли несколько дней, не поили, не кормили. Открыли мы эти вагоны – матерь божья! Вонь нестерпимая, стоят по колено в собственном дерьмище. Кто живой, стал выползать, а трупы так и оседали в болото говна и мочи. А нам ЭТО (Ульрих дважды подчеркнул слово, да так, что порвал бумагу) пришлось доставать и складывать на платформу. Блядство! Впрочем, и те, которые сами выползли, до лагеря не добрались. Шагов двадцать сделали, и крышка. Даже фенол тратить не пришлось. Гадко до блевоты. Мы вот что думаем: написать коллективную жалобу наверх, пусть что-то решают. А ковыряться в этом дерьме мы больше не будем! Хоть нам за это и обещали путевки в Италию, на Капри, на целых две недели, как тем, которые «решили вопрос» с советскими пленными… Они тогда, конечно, знатно съездили: лимончелло, тарантелла, молоденькие итальянки – чего только не рассказывали. Может, и нам все-таки по правде перепадет, работку-то не легче выполнили, как думаешь? А нет, так во Францию. Говорят, там всего еще в достатке, и жратвы, и сигарет, и алкоголя, и француженки не прочь с нашим братом. Слышал про приказ о создании борделей для наших солдат во Франции? Говорят, отбирают самых сочных. А главное, все здоровы, наши врачи каждую осматривают…»
Через неделю жалоба от охранников Дахау действительно поступила в наше управление. Еще через несколько дней во все лагеря, отправлявшие транспорты в Дахау, поступило строжайшее запрещение помещать в вагоны заключенных, находящихся при смерти, теперь решать с ними вопрос необходимо было на месте.
В разгар этой суматохи среди кучи рабочих корректировок я обнаружил на столе новое письмо от отца. Старик, очевидно, совершенно ополоумел: в свой конверт он вложил письмо какого-то очередного приятеля, служившего в Польше. Я торопливо пробежался глазами по строчкам.
«…Вчера гауптштурмфюрер сказал: "Расстреливать не только за то, что уже совершено, но за наличие одной лишь возможности это совершить! По глазам все видно, а если не видно, то для острастки остальных!" Такие дела, Эмиль, расстреливаем сотни людей в день без суда. Все чаще мне приходит в голову мысль, что фюрер не знает, что здесь происходит на самом деле. Ведь это мирное население: учителя, чиновники, врачи, инженеры, конторские, землевладельцы, даже священники, все, кто попал в специальные списки "политически неблагонадежных". А кто составляет эти списки? Как проверяется информация? Все знают, это идет от Гейдриха, но тут поговаривают, что он самоуправничает, ведь фюрер не может такого приказать! Откровенно говоря, даже армию воротит от наших делишек, военные не горят желанием нам помогать, некоторые из них и вовсе не скрывают своего ужаса. Ты скажешь, они тоже убивают. Верно, Эмиль, у них в руках тоже оружие. Правду сказать, сегодня у всякого оружие. Но мы делаем не то, что наши солдаты. Кажется, мы делаем что-то… я не знаю, какими словами выразить то, что мы делаем. Мы собираем всех евреев и объявляем, что им предстоит переселение. Затем группами отвозим на грузовиках в лес. Там уже подготовлены рвы. И вот ведь какая штука, когда они всё осознаю́т, то не пытаются бежать, укажешь им дулом на край рва, они покорно и выстраиваются, а через несколько минут валятся туда, скошенные пулями. Я думал, перед рвами-то уж точно взбунтуются, ведь когда на верную смерть идешь, терять уже нечего, верно? Нет, всё же валятся. Мы присыпаем хлоркой, да толку? Тут же всё пропитывается кровью. А потом на эту едкую жижу валится второй слой. Понимаешь, что я хочу тебе сказать, Эмиль, нет никакого переселения… Никакого переселения нет. Я размышлял: малодушен ли я? Ведь каждое утро просыпаюсь с мыслями: смогу ли сегодня, не дрогнет ли рука? Трусость это или что, Эмиль? Ведь во имя Германии, во имя нашего дома. Теперь вот пришел приказ перед расстрелом проверять, не спрятал ли кто ценности прямо в себе. Оно, конечно, правда, – они иногда пытаются утаить кто колечко, кто цепочку с кулоном, кто часики золотые, кто монеты… Вот и проверяем, кто палкой, кто дулом, приказ ведь. Когда молодая и красивая еврейка, оно еще ничего, везде тогда проверяем, там и пальцами некоторые ворошат, а когда старик, так до тошноты. Пишу тебе это, и выворачивает. И думаю: так ли уж это надо нашему дому, всё во имя которого, значит? Чтоб мы палками в задницах стариков ворошили… Евреев ныне лупят все, тут нам даже помогают. Знаешь кто? Поляки и помогают, и приказывать не приходится. Поняли, что остался кто-то, кого еще меньше за людей считают, чем их, и начали измываться над теми. Можно, конечно, подумать, что перед нами выслуживаются, от себя беду отводят, но я другое подозреваю. Просто осознали, что ничего им за это не будет, ведь нет больше никаких прав у жидов, никакой закон их не защитит, а потому можно не церемониться… Что я тут понял, Эмиль, дай силу над другими и пообещай, что за это не накажут, так всякий легко извергом станет…»
Я не стал дочитывать чужое письмо, достал другой лист, испещренный уже отцовским почерком. Проскочил его торопливым взглядом, не найдя ничего интересного, смял, выкинул и снова окунулся с головой в рабочие бумаги, которые продолжали валом идти через наше управление.
– Что это с Клаусом? На нем лица нет. – Кто-то толкнул меня в бок.
Я отвлекся от тарелки с остывшим шницелем, покрытым тушеным картофелем, и поднял голову. За соседним столом сидел понурый унтерштурмфюрер Клаус Вольф. Я покачал головой, давая понять, что не в курсе проблем Клауса.
– Вы не слышали про Кёльн? – раздался торопливый шепот слева. – За ночь город превратился в руины. Англичане по нему прошлись. У Клауса там родители и младшие сестры, он до сих пор не сумел с ними связаться. Между нами говоря, я думаю, их уже нет в живых. Говорят, там было больше тысячи бомбардировщиков.
В течение дня все обсуждали обескровленный Кёльн. Клаус Вольф так и не сумел ничего выяснить про свою семью. Каждый счел своим долгом ободрить его дружеским похлопыванием по плечу и словами, смысл которых сводился к тому, что его старики и девочки непременно спаслись, но едва ли хоть один в это верил. Между тем в ставке фюрера происходил какой-то сюрреализм. По словам одного из адъютантов, Геринг не захотел верить гауляйтеру Кёльна относительно количества сброшенных на город бомб, вместо этого обвинил его в гнусной лжи и распространении пораженческих настроений. Все прекрасно знали, что у рейхсмаршала Геринга попросту недоставало смелости сообщить о случившемся Гитлеру, ведь в ответ на массированные бомбардировки англичан не было поднято ни одного нашего истребителя. А потому Геринг продолжал обвинять несчастного гауляйтера во вранье и преувеличении масштабов разрушений, настаивая, чтобы тот изменил свой отчет. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы на следующее утро Гитлеру не доставили английскую прессу с ярким живописанием произошедшего. Фюрер был взбешен.
– А Геринг что?
– Уверял, что это происки вражеской пропаганды. Он уже давно доставляет фюреру вместо реальных докладов его ожидания и надежды. Они все боятся передавать фюреру что-то иное, потому как плохие новости – значит, ты пораженец и пессимист. Полная оторванность от действительности.
– Боюсь, это может нам дорого стоить.
– Во время инспекции один из комендантов жаловался мне – только между нами! – что рейхсфюрер не дает ход многим изменениям к лучшему. Теперь я понимаю, в чем дело.
– Их нужно согласовывать с фюрером, а это значит, сказать ему, что предыдущее работало не лучшим образом. Для Гиммлера это смерти подобно. Он скорее язык себе откусит, чем лично донесет до фюрера неприятные новости.
К счастью, вскоре с Восточного фронта пришли хорошие новости, изменившие тон разговоров за обедом. В конце августа все газеты облетела фотография флага со свастикой, установленного на вершине Эльбруса.
– Окончательный перелом наступил! Наши захватили Майкоп со всеми районами вокруг него. Это почти три миллиона тонн нефти в год!
– Шестая и Четвертая танковые уже двигаются вдоль Волги к Сталинграду, скоро и он будет наш. Потом пойдем на Москву с двух сторон. Судя по всему, русские всё же выдохлись, у них не осталось резервов.
– Я бы так не торопился с выводами, – внезапно подал голос Клаус Вольф, – прошлым летом нам тоже так казалось. Тогда нам обещали, что армия красных больше никогда не возродится. Но чтобы возродиться, нужно сначала сдохнуть, видите ли, а эта зараза все еще живее всех живых. И теперь жарко дышит в нашу сторону. Да и все нефтедобывающие сооружения русские разрушили перед уходом, а в касках много нефти не унести.
Все посмотрели на грустного Клауса. Он же умолк и вновь уткнулся в тарелку.
– Это невозможно, они никогда не ступят на немецкую землю. Фюрер этого не допустит. Вскоре и томми поймут, что, пройдя по нам, большевизм доберется и до них. И уж тогда воцарится полный хаос. Тогда этот мир уже нельзя будет спасти, да и незачем. Томми это поймут, точно вам говорю.
– Не допустит, это безусловно, но я вам по секрету скажу, наше военное производство уже испытывает серьезную нехватку горючего. Наши возможности уже не те, и как это ни смешно, но, кажется, архитектор единственный, кто это понимает. Слышали, на свой страх и риск Шпеер предложил приостановить все парадные стройки, в том числе и улицу фюрера в Берлине? Хотел перекинуть все силы на авиапромышленность.
– Был бы толк. Говорят, Гитлер через Бормана резко заткнул Шпеера. Но насчет архитектора вы правы. Мы смеялись над парадником, но, по-видимому, Шпеер знает то, чего не знал Тодт. Цифры говорят сами за себя. Всего за шесть месяцев он увеличил производство боеприпасов почти вдвое. Выходит, архитектор войны из него вышел тоже неплохой. Уверенно импровизирует.
– Вот именно, импровизирует! Нет никакой четкой схемы, никакого организационного плана.
– Знаете ли, такие разговоры приведут нас к поражению. Война – это искусство, и импровизация здесь так же необходима, как и вдохновение.
– При всем моем уважении это полнейшая чушь.
Но в одном все сходились твердо – за нефтеносные районы Майкопа и Грозного Сталин и Гитлер будут грызться до последнего солдата, кавказская нефть нужна была как воздух и тому и другому. И в этой связи особое значение приобретал последний узел, через который русские переправляли эту нефть в центральную часть своей страны через Каспийское море и Волгу, – Сталинград.
С первым снегом сорок второго пришло письмо от тети Ильзы.
«Ты ничего не ответил по поводу профессора Гишпана, мой мальчик. Ни в коем случае не виню тебя, понимаю, что тебе сейчас не до этого. Меня лишь мучает один вопрос уже долгое время. Они исчезают самым невероятным образом, еще вчера они ходили по Берлину, а сегодня их уже нет. И это все, что я знаю. Альберт говорит, что их забирают прямо из домов по ночам и на рассвете, но я лично ни разу этого не видела. Хотя о чем я вообще говорю? Разве я, старая женщина, теперь выхожу из дома ночью или на рассвете? Сейчас не те времена, чтобы спокойно разгуливать по Берлину даже днем, не говоря уже о вечерах. В субботу Альберт пришел и сказал мне не выходить из дома весь следующий день, позже они с Элизой даже принесли немного хлеба и масла, чтобы мне не было нужды идти в лавку. В воскресенье я долго смотрела в окно, спрятавшись за портьерой, разумеется: улицы опустели, все немцы, будто что-то предчувствуя, попрятались в своих квартирах, зато было много полицейских машин, они останавливались практически у каждого дома… Я солгала тебе, мальчик мой, да, ни разу не видела, но я слышала. Это невозможно было не услышать. Они волокли мою соседку Ханну, видимо, прямо за волосы, иначе тот душераздирающий крик невозможно объяснить. Весь подъезд сотрясался от ее воплей, но, уверена, ни в одной квартире дверь даже не приоткрылась. Я пыталась заткнуть уши, но и сквозь затычки я слышала ее глухой вопль. Господи, а что же сталось с ее детьми? Неужели их тоже забрали? Но куда? Ее близнецам ведь не больше шести лет. Альберт сказал, что их забирали отовсюду, даже с рабочих мест в конторах и на фабриках, а потом свозили в ресторан "Клу" для регистрации перед отправкой. Твой дядя очень любил его, там просторный зал, в котором было так весело танцевать в молодости… Как будто это было в прошлой жизни. Не знаю, хватит ли у меня духу еще когда-нибудь выпить там хоть чашку кофе.
Куда их отправили, Виланд? Ведь их так много, разве лагеря вмещают всех? Тогда куда они все деваются? Говорят про трудовые отряды в Польше. Это правда? И если мы не выиграем эту проклятую войну, разве они не вернутся в Берлин и не отомстят нам за то, что мы выгнали их из их же домов?»
Я перевел взгляд на другое письмо.
«Так и не получив ответа, мы направляем повторный запрос касательно количества печей. Три единицы уже были отправлены вам на прошлой неделе, но в связи с планируемым строительством дополнительного кремационного корпуса полагаем, что этого может оказаться недостаточно.
Понимая требования нашей клиентуры, в данный момент мы можем предложить вам усовершенствованную конструкцию, работающую на угольном топливе. Подобные модели уже были отправлены в Люблин. Там эти печи успели показать себя на практике с наилучшей стороны, продемонстрировав высочайшую производительность и полностью удовлетворив заказчика. К сему письму прилагаем чертеж с расчетами. Из него наглядно видно, что нашим инженерам удалось уменьшить площадь, необходимую для обслуживания печи и раздува огня за счет разделения пространства на отдельные тепловые камеры. Также прилагаем схему укладки тела в камеру меньшей площади.
Как всегда, наши сотрудники возьмут на себе вопросы доставки и установки.
К вашим услугам,
"С. Н. Кори" – Общество с ограниченной ответственностью.
Хайль Гитлер!»
Письмо это случайно оказалось на моем столе. Оно должно было быть отправлено в отдел оберфюрера Каммлера, отвечавшего за лагерное строительство, в том числе за возведение газовых камер и крематориев. Но после того как какая-то фирма получила от одного из белорусских лагерей большой заказ на комплектацию их крематория тридцатью двумя печами, остальные конторы начали забрасывать своими предложениями все отделы управления, адреса которых им удалось раздобыть. Увидев в этом золотую жилу, печных дел мастера срочно задвинули производство пекарских печей и отопительного оборудования и переключились на новое направление, соревнуясь в качестве своих услуг. Все козыряли дополнительными приспособлениями, которые способны были облегчить работу лагерному персоналу: электрические лифты для подъема трупов, механизм для подачи угля и транспортировки пепла, сверхлегкие тележки для перевозки тел к печам, колесные конвейеры и прочее. Особо предприимчивые наладили производство передвижных крематориев, которые прицепом перевозились на грузовиках. По моим сведениям, как минимум четыре таких отправились в Заксенхаузен в прошлом месяце. Когда же стало известно, что намечается большой заказ из Аушвица, эти конторы и вовсе с цепи сорвались. Желая выиграть контракт, эрфуртская фирма «Топф и сыновья», помимо основного заказа, обязалась бесплатно поставить запасной электрический подъемник для трупов и отдельный механизм для перемещения пепла, зато берлинские «Заводы Дидье» предлагали в дополнение партию легких колесных тележек для перевозки тел. Кроме того, берлинцы разработали простую, но в то же время очень производительную поршневую систему подачи трупов уже непосредственно в печь. На мой взгляд, предложение «Дидье» было интереснее, но центральное строительное управление Аушвица выбрало все-таки «Топф».
Я достал из конверта схему укладки тела. Это были простые схематические картинки, пронумерованные в хронологической последовательности, на последней лежал труп с отрезанными ногами, конечности лежали у него же на животе. Запечатав, я переслал письмо по назначению.
Однако, несмотря на быстрое строительство и модернизацию крематориев, лагерные бараки, судя по отчетам, по-прежнему были переполнены. И я знал почему. Взгляд мой упал на листок, испещренный мелким почерком Эйхмана.
«…Ожидается горячая пора. К декабрю все Генерал-губернаторство должно быть очищено. Отныне никаких поблажек. Убийство Гейдриха[126] подтолкнуло рейхсфюрера к решительным мерам. Вопрос продовольственного обеспечения, опять же. Думаю, даже до вас, конторских крыс, дошел слушок, что с этим сейчас серьезные проблемы: фольксдойче уже заселили, а сброд, который должен был освободить для них место, вывезен еще не весь, и в области возникла огромная нехватка еды. Но рейхсфюрер твердо заявил: прежде чем хоть один немец испытает чувство голода, все, кто подлежат депортации, сдохнут от этого самого голода. И как ты понимаешь, отныне иносказаниям места нет. Приоткрою тебе тайну, друг мой: в ближайшее время в лагеря планируется пригнать больше ста двадцати тысяч евреев. Ощущаешь масштаб? Сейчас и Белжец, и Собибор активно расширяются, уже полностью ввели в строй Треблинку (отличное железнодорожное сообщение с Варшавой, надо отметить). Бо́льшая часть отправится, конечно, в Аушвиц, довелось побывать? А вот я уже бывал не раз. У этого лагеря хорошие перспективы в решении нашего вопроса. Местечко изолированное, но в то же время нет проблем с транспортной доступностью, прекрасно подходит для приемки крупных составов. Минус одна проблема, которых у меня и так по горло. Основная – словацкие евреи. Даже правильнее будет сказать – их отсутствие. Каким образом отсутствие евреев может быть проблемой, спросишь ты? А вот каким: я тебе, кажется, писал, что еще весной мы перевезли около семнадцати тысяч словацких евреев на работы в Польшу. И я, и Вислицени[127] лично встречались и с министром Махом[128], и с премьер-министром Тукой[129], и они были счастливы всучить нам сей сброд. Более того, позже они уже сами связывались со мной на предмет переправки и остальных евреев. Нам, конечно, нужны были только работоспособные мужчины, но словаки продолжали усиленно настаивать, чтобы мы забирали их целыми выводками: и с детьми, и со стариками. И знаешь, чем аргументировали? Тисо[130] вдруг вспомнил о своем сане и запричитал, что не по-христиански разделять семьи. Не по-христиански разделять семьи! От такого лицемерия у меня волосы зашевелились. Будто было непонятно, что эти шкуры попросту боялись, что обеспечение этих семей в отсутствие кормильцев станет заботой словацкого правительства. Не стоит забывать и про жидовскую собственность – одному богу известно, сколько осталось от них добра в Братиславе. В общем, словаки настолько желали избавиться от них, что в итоге заплатили по 500 марок за каждого экспортируемого еврея! Что ж, я добросовестно организовал транспорт еще для тридцати пяти тысяч. И что ты думаешь? Теперь, после гневных выступлений папы, эти братиславские шкуры вдруг вздумали пойти на попятную. Теперь они бомбардируют меня официальными запросами относительно условий, в которых находятся их рабочие. Их рабочие! Подумать только! Запели, будто отправили этих евреев с условием, что с ними будут обращаться порядочно. В то время как сами намекали мне, что не будут против, если никогда больше не увидят их. А сейчас, только представь, под нажимом общественности Тука требует, чтобы мы позволили их делегации приехать в гетто, дабы убедиться в том, что их драгоценные евреи в порядке и благоденствуют, хотя прекрасно знает, что мне уже некого ему предъявлять. Черт бы их всех там побрал, проблем и так по горло, а я вынужден отвлекаться на эту ерунду. И ведь никто не помогает мне с решением этих задач, толковых людей катастрофически не хватает, тем более на местах, – всех сжирает Восточный фронт. И от нашей дипломатии поддержки не дождешься. Приходится прибегать к помощи местной администрации, благо у меня есть там свои люди, но работают они, откровенно говоря, спустя рукава. Французы, к примеру, устраивают какой-то невообразимый в нынешней ситуации торг, будто мы на рынке. То они готовы содействовать в депортации исключительно евреев-иностранцев, то исключительно евреев из оккупированной зоны, то из оккупированной и свободной, но исключительно иностранцев, которым удалось проскользнуть туда. И только мне начинает казаться, будто лягушатники пытаются прикрыть своих евреев за счет иностранных, как вдруг они сами же начинают предлагать и своих жидов, и их детей, которым нет еще шестнадцати. Черт их разберет. Видимо, как и словаки, смекнули: если избавятся от родителей, то детские рты придется кормить правительству. Тошнит от этого лицемерия. Но думаешь, французы доставляют мне самую сильную головную боль? Как бы не так! Итальянцы, наши союзники, однако черт бы и их побрал. Одна из самых терпеливых ныне наций по отношению к евреям. Именно так! Один макарони признался мне по случаю: они, видите ли, помнят, что евреи сражались на стороне Гарибальди за объединение страны. Помнят и, что самое ужасное, испытывают к ним благодарность. Иногда мне кажется, что итальяшки просто насмехаются над нами в этом вопросе: девяносто процентов их евреев не боятся антиеврейских законов, так как попросту не подпадают под них из-за поправок. Муссолини одобрил к этим законам столько исключений, что макарони с полным правом гонят моих представителей прочь. Только представь, если хоть один из жидовского семейства был в фашистской партии, и неважно, состоял ли он в ней час или год, отныне вся его семья, даже внучатый племянник, не подпадает под эти законы. Ты знал об этом? Вот и я был не в курсе, пока не осознал, что мы не можем заполнить ни единого вагона в Италии. Итальянские пограничники дошли до того, что отказываются делать в паспортах евреев-иммигрантов особые отметки, помогая им, по сути, затеряться в общей массе. Иногда вообще доходит до абсурда, мне рассказывали об откровенно вопиющих случаях, когда кто-то из их солдат заявлялся в наши временные лагеря и требовал освободить ту или иную еврейку под предлогом того, что она якобы его жена или невеста, и мы вынуждены были отпускать этих еврейских сук с ним во избежание открытого конфликта, веришь ли? Дал же бог союзников… Дрянной народец. Ясно, что они бы предпочли воевать скорее против нас, нежели с нами. С самого начала в нашем союзе с макарони было что-то натужное, вымученное, когда что-то происходит лишь по причине банального неумения одной стороны сказать "нет" другой стороне. Они с таким громогласным скрипом вступали в войну, словно мы тянули их на поводах. А на хорватском побережье итальянские солдаты даже защищали евреев от усташей![131] Думаю, слышал про них. Отморозки те еще, за зуб отсекают голову, за голову – десять голов, а что они творят с сербами, даже нашу полевую полицию оторопь берет… но в это лучше не лезть. Их дела. Главное, в основе своей эти дела созвучны нашей политике, остальное меня не интересует. С Хорватией у меня другая головная боль. Почти все их бонзы, засевшие в правительстве, в свое время породнились с евреями, грязных браков на высшем уровне не счесть, за каждым стоит еврейка с целым выводком родственников. А сколько жидов до сих пор на государственных должностях! В итоге они выдумали чертов закон о "почетных арийцах". В голове не укладывается, как еврея можно назвать почетным арийцем?!
С Румынией те же проблемы. Рихтер[132], мой человек в Бухаресте, сообщил мне, что теперь многие их политики чуть ли не в открытую получают взятки от еврейских толстосумов в обмен на гарантии безопасности. А после того как в войну вступили США, и сам Антонеску[133] завертелся как уж на сковородке. И ведь это те самые румыны, которые еще до наших рекомендаций сами лишили всех своих евреев гражданства, те румыны, которые выставляли трупы задушенных евреев в мясных лавках, это тот Антонеску, которого пытались остановить все, начиная от наших армейских шишек до Розенберга[134] и фон Киллингера[135], когда он вознамерился без всякой подготовки переправить на подконтрольные нам территории больше сотни тысяч евреев. Я лично тогда умолял министерство иностранных дел помешать этому депортационному хаосу, пока я не завершу переговоры хотя бы о предоставлении необходимого количества эшелонов для переправки их в Люблин. Но теперь выяснилось, что они любят не только кровь, но и деньги: прознав, какие суммы евреи могут заплатить за свои шкуры, румыны вдруг решили, что эмиграция в Палестину их также устраивает. Как и трупы в мясных лавках, как и спонтанные расстрелы на берегу Буга… И сейчас они тормозят все мои с трудом налаженные процессы.
В оккупированных странах все же проще – приказ есть приказ. С теми же голландцами никаких проблем. Образцовая территория в этом плане, демонстрирует прекрасное понимание еврейского вопроса. Зейсс-Инкварту[136] можно только поаплодировать. Приказали всем евреям поголовно зарегистрироваться, все сто шестьдесят тысяч пришли и сделали это. Мелкие стычки я даже не буду брать в расчет. С Грецией тоже пока дела обстоят неплохо. С Норвегией спорно. Квислинг[137] содействует, что и неудивительно, учитывая, сколько они зарабатывают на этом благодаря их закону о конфискации всех еврейских активов, домов и земель. Но сколько их евреев ускользает от нас в соседнюю Швецию?.. Сложность с Бельгией в том, что там почти девяносто процентов евреев – приезжие с Востока. Эти хорошо знают, куда мы их везем и для чего, или, по крайней мере, подозревают, а потому изворачиваются как могут. На их местную полицию надежды никакой, у них нет ни малейшего желания сотрудничать с нами, а что творят их железнодорожники?! Они не запирают эшелоны, и евреи попросту выпрыгивают в пути! Постоянно приходится идти на хитрость: чтобы получить от местной администрации требуемое количество евреев, изначально приходится завышать цифру, а уже позже "снисходительно" понижать, если ты понимаешь, о чем я. Только так получается…»
Я усмехнулся. Конечно, Эйхман, как всегда, жаловался, но за этим нытьем скрывалось явное хвастовство и гордость от того, что именно его подразделение получило главную роль во всей пьесе. Что ж, в свое время ушастый сделал верную ставку. Я вздохнул и еще раз посмотрел на его письмо, осознавая, что с румынами, итальянцами и иже с ними не только у Эйхмана были проблемы. Каждый день в управлении обсуждалось продвижение наших войск к Сталинграду и положение Шестой армии. Она, по общему мнению, была прикрыта какими-то клоунами, из которых фюреру приходилось собирать мозаику: между Второй венгерской и Третьей румынской ему пришлось срочно втискивать итальянскую армию, так как оказалось, что венгры и румыны настолько полны взаимной ненависти, что способны перебить друг друга и без помощи русских. Я подозревал, что эти шуты даже не понимали, зачем они там. У них не было ни необходимого опыта и навыков, ни истинной цели в этой войне, а значит, им не за что было бороться и идти на верную смерть. И что-то мне подсказывало, что с такой подмогой нашей Шестой армии еще предстоит хлебнуть. Впрочем, выбора у нашего генералитета не было: из-за тотальной нехватки людских ресурсов приходилось оперировать тем, что было в наличии.
12 декабря 1993. Свидание № 10
Все утро они подробно обсуждали свидетельские показания, на которые могла рассчитывать защита. Таковых, к сожалению, было немного. На исходе второго часа, устало растирая лоб, Лидия попыталась отвлечься и кивнула на книгу, которую Валентина принесла с собой на свидание. Это были «Письма с земли» Марка Твена.
– Любишь американскую литературу?
Валентина посмотрела на книгу так, будто не знала, какая именно лежала на столе, затем пожала плечами.
– Нет, – она покачала головой, – совершенно. Я сейчас не про Твена, а про американскую литературу в целом. Мысли там, может, и заложены глубокие, а поданы рублено, слишком просто и плоско. Нет надрыва, наслоений нет, разновкусия словесного нет, и нет, знаешь, усложнения простого до небывалого, огромного. Не для того я книгу открываю, чтобы найти там то, в чем я и сама обитаю. С американской литературой как раз таки связано мое самое большое разочарование, – вспомнила она. – «Над пропастью во ржи». Ты читала, конечно. Целый культ вокруг этой книги, а я читала и все ждала, когда же я дойду то того, из-за чего целая нация ее так полюбила. Так и дошла до последней страницы. Нет, – снова покачала она головой, – мысли хорошие, но без нашего рытья до самых глубин. Когда все уже, кажется, вывернуто, но автор все равно находит, как душу героя еще раз перемолоть… Все у них там просто и доступно пониманию, без сотен смыслов и размашистого гуляния слов.
Лидия усмехнулась.
– Может, в том и прелесть?
– Может, в том и прелесть. – Валентина не стала спорить. – Но если хочешь знать, то страсть моя – немецкая литература. Пожалуй, только она и способна сравниться по своей силе с русской. Только среди ваших есть равные Достоевскому, Толстому, Чехову, Бунину. И вот ведь парадокс, Германия породила Шиллера, Гёте, Манна, Ремарка, Гессе, Брехта, Фейхтвангера… Их сложность была доступна любому немцу. Может казаться странным, что нацисты добились таких успехов именно с вашим народом. Но потом вдруг становится ясно: народ, понимающий Толстого и Достоевского, тоже иногда ведут за собой не самые духовно богатые управленцы. – И она широко улыбнулась.
Дотянувшись, Лидия взяла книгу и начала листать ее.
– Из тебя самой вышел бы неплохой писатель, – совершенно серьезно заметила она.
Глядя с легкой полуулыбкой на книгу, которую Лидия продолжала держать в руках, Валентина пожала плечами:
– Писатель должен писать правду. В переплеты зашивают то, что может повлиять на человека даже без его ведома. Он может и не понять, что теперь мыслит иначе. А правды-то я и не знаю. А потому я не способна сделать и важный вывод, который нужен любому, кто тратит свое время на чужие мысли в тексте, – кто прав, кто виноват и как жить по этой правде. Нам всегда кажется, что уж мы-то знаем все действительные причины всего происходящего, ясно видим виновных и так же ясно видим угнетенных. Но видим мы на самом деле только то, что хотим видеть, или то, что нам позволяют видеть.
– Об этом и напиши, – совершенно серьезно произнесла Лидия.
Валентина чуть склонила голову набок и задумчиво уставилась перед собой.
– Может, там, за чертой, правда и откроется, – тихо протянула она, – а может, и этого не будет. Кто ж знает, что там, за чертой? Может, ничего и нет. И это очень страшно. Не отвесил мне Бог смелости ни на что. Только и хватило решимости, чтобы старика удушить. Да, впрочем, и того уж мне достаточно.
Лидия убрала книгу и подалась вперед:
– А если там ничего нет, Валентина, то разве ты наказала старика?
Валентина долго смотрела на адвоката. В том взгляде не было ни обиды, ни злобы, ни протеста. Вообще ничего не было, будто он отдыхал на пустой стене.
– Все так же считаешь, что я его наказывала? Воля твоя, Лидия, решать, что я сотворила. Может, и зло, тогда суди меня. Суди, если считаешь, что это разумно. Но уж не иди против своей правды – не защищай меня. Не ищи зацепок и поводов, которые помогут тебе смягчить мое наказание, а то и вовсе освободить. Идти против своей правды, Лидия, – преступление, быть может, еще и страшнее того, что сделала я, по твоему мнению. Оно наделало в мире больше бед, чем освобождение того несчастного старика.
•••
В полном одиночестве я сидел за крайним столиком, курил и читал газету, которую передо мной положил официант. То, что было напечатано в ней, от того, что я знал наверняка, отличалось кардинально. Русские подошли к Сталинграду с севера и юга, ожидая, что наша Шестая армия отступит, чтобы не быть зажатой в безысходном положении. Но Гитлер запретил Паулюсу[138] покидать Сталинград и отступать к Дону. В итоге Шестая армия совершенно закономерно оказалась в окружении. Что ж, в некотором роде это давало право автору статьи утверждать, что «Сталинград твердо удерживается в немецких руках». Наша недооценка русских принимала уже какую-то болезненно-карикатурную форму. В этом вымученном желании успокоить неведением не было никакого блага, оно несло уже откровенный крах.
Я перевернул страницу и уставился на очередной заголовок: «Торжество искусства над войной». Под ним было описание праздничного мероприятия в Берлине, которое устроил Геринг по случаю открытия отреставрированного здания оперы. Я разглядывал фотографию партийных лидеров в новеньких фраках, наслаждавшихся Вагнером из ложи фюрера. Торжество цинизма… или глупости – я и сам не понимал, чего здесь было больше. В то время как изувеченная армия погибала в Сталинграде, не имея ни боеприпасов, ни продуктов, в то время как тысячи раненых, у которых даже гной в ранах замерз, лежали там без какой-либо медицинской помощи и медикаментов, укрытые лишь пропитанными кровью и стоящими колом шинелями, голодные, изможденные, обмороженные, разбитые, ждали конца, пресса публикует… это. Очевидно, доктор стал терять хватку. Я смял газету.
– А что со снабжением?
– По воздуху, как же еще. Геринг заверил…
За соседним столом сидели два офицера. Судя по всему, один из них был изрядно пьян, речь его была обрывочна. Подавшись вперед, он тихо говорил приятелю:
– Геринг может заверять кого угодно. В том котле… сколько? Больше двадцати наших дивизий… это еще если румын не считать. Хоть понимаешь, сколько тонн надо… туда… по воздуху? А наши люфтваффе что? Сейчас и половину не способны…
В Инспекции в открытую говорили, что слова Геринга стали решающими. Опираясь на них, фюрер запретил Паулюсу делать хоть шаг назад и приказал держать Сталинград любой ценой. Сталин приказал отбить Сталинград – и тоже любой ценой. Выбора не было ни у кого.
– Этот жирный боров… попросту похоронил Шестую армию, – совсем тихо раздалось из-за соседнего стола.
Я затушил сигарету прямо в рюмке с недопитым коньяком.
Буквально через несколько дней газеты напечатали очередное распоряжение Гитлера: отныне все столичные рестораны и увеселительные подвальчики были прикрыты. Очевидно, народная реакция на описание оперных услад партийной верхушки не заставила себя ждать. Понимая, что совершил просчет, министр пропаганды пошел дальше.
– Слышали, фон Тилл? Геббельс приказал вывинтить лампочки во всех залах своего дворца у Бранденбургских ворот.
– Зачем? – Я быстро расправлялся со шницелем, торопясь вернуться к работе.
– Солидарен с народом. В Берлине же теперь свет по расписанию из-за авианалетов. По городу гуляет новый анекдот, как его слуга, сервируя в темноте коньяк и деликатесы, запутался в собственной ливрее и расшиб голову. Так его и отвезли в госпиталь: с окровавленной рожей, перемазанной черной икрой.
Я усмехнулся. Вдруг монотонное бормотание по радио прекратилось и раздалась тихая, но четкая барабанная дробь, заставившая всех вскинуть головы. Затем послышалась музыка.
– Это Бетховен, – произнес кто-то, – Пятая симфония. «Так судьба стучится в дверь».
– Что? – Я растерянно посмотрел на соседа.
– Так говорил сам Бетховен о ней, – совсем тихо проговорил тот и умолк.
Мы уставились друг на друга. Музыка резко прервалась, и раздались слова: «Сталинградское сражение завершилось. Войска Шестой армии под образцовым командованием фельдмаршала Паулюса, верные своей клятве сражаться до последнего вздоха, были побеждены превосходящими силами противника и неблагоприятными для наших войск обстоятельствами».
Пятая симфония Бетховена была последним музыкальным произведением, которое мы услышали той зимой. В Германии был объявлен четырехдневный национальный траур.
Несмотря на время, а до обеда было еще часа два, ненавистные цифры уже издевательски плясали перед глазами, не желая складываться в послушный столбик. Я то и дело поглядывал за окно, на серый февральский пейзаж, размышляя над письмом, которое получил сегодня утром. В нем Лина сообщала, что собирается замуж. Она почему-то считала своим долгом известить меня об этом, «хотя и не обязана», как сама же и подчеркнула, причем не фигурально, а в прямом смысле, подведя жирную черту под этими словами. Очевидно, она злилась, по крайней мере давила пером так, что чернила прошли насквозь. Что ж, она имела на то полное право, ведь я не наведывался в Мюнхен уже почти… год?! Черт, как летит время. «Лина Фольк – девчонка что надо!» Я с усмешкой вспомнил, как хвалился Францу своей любовницей. А ведь Лина действительно была чертовски хороша, и не только внешне, но и в постели выше всяких похвал. Сейчас эти мысли навевали особенную тоску, учитывая, что последние месяцы приходилось заниматься исключительно самоудовлетворением. Впрочем, даже это было лучше той деревянной стенографистки, которая умудрилась расплакаться, когда я завершил процесс на ее удивленно сморщенное лицо. Для нее это оказалось настолько неожиданным, что она даже не догадалась прикрыть веки и на следующее утро смотрела на меня обиженными глазами с блестящими зрачками в обрамлении раскрасневшихся белков и то и дело заливала туда аптечные капли. После того эпизода с канцелярскими дамами (как я их называл) пришлось завязать: ни удовольствия, ни толка, одна морока.
А тут еще все эти «мужская верхняя одежда, в том числе головные уборы, – 150 745 комплектов, женская верхняя одежда, в том числе головные уборы, – 346 255 комплектов, обувь (без принадлежности) – 246 990 пар, золотые коронки – 157 876 шт., волосы (рассортированы и упакованы) – 3 тонны, личные украшения – в процессе подсчета…». И как мне, черт подери, завершить доклад с этим «в процессе подсчета»? Сортировка и учет в Заксенхаузене по-прежнему оставляли желать лучшего.
– Фон Тилл, вы, наверное, уже знаете?
Я оторвался от бумаг, двойным слоем покрывавших мой стол. Передо мной стоял гауптштурмфюрер Зоммер, мой непосредственный начальник.
– Про Эйке, я имею в виду, – продолжил Зоммер.
Отодвинув постылые бумаги с россыпью цифр, я тут же встал и покачал головой. Зоммер понимающе кивнул.
– Ну да, я ведь и сам буквально только что узнал. Самолет Эйке был сбит накануне под Харьковом, обергруппенфюрер погиб на месте.
От неожиданности я сделал шаг назад и, уткнувшись в свой стул, медленно опустился на него. Папаша погиб? Мне казалось это немыслимым, он ведь был неубиваемым, железным, самим чертом, которому не страшны ни пули, ни гранаты. И вот нашелся прицельный пулеметчик и на него. Зоммер продолжал внимательно разглядывать меня и неожиданно спросил:
– Вы случайно не были родственниками? Возможно, дальними?
Я растерянно посмотрел на гауптштурмфюрера, не понимая, чем был вызван его вопрос. Возможно, моя реакция его смутила. Я тут же взял себя в руки и вновь встал, отрицательно покачав головой.
– Ясно, ну теперь уже я могу вам сообщить, что обергруппенфюрер Эйке регулярно справлялся, как обстоят ваши дела на службе, собственно, он же и инициировал ваш переход в Инспекцию, зарубив ваше прошение о переводе в его боевую дивизию. Чем, думаю, и спас вам жизнь, учитывая огромные потери «Тотенкопф».
Я не хотел откровенничать с Зоммером, но он продолжал пристально вглядываться в мое лицо, словно ожидал дальнейших объяснений.
– Обергруппенфюрер Эйке был старым товарищем моего отца, они служили вместе в мировую.
Я посчитал, что этого будет достаточно, судя по всему, Зоммер решил так же. Посмотрев на мой стол, он тут же перевел тему:
– Читаете?
Из-под бумажных завалов он извлек потрепанную книгу Хаксли. Я уже и забыл про нее. В последнее время было не до чтения.
– Когда выдается свободная минутка, пробегаю глазами. Помогает отвлечься, – лаконично ответил я.
– Рекомендую быть поосторожнее с подобным чтивом.
Я не понял, шутил Зоммер или говорил всерьез, и вопросительно глянул на него.
– Олдос Хаксли был в списках гестапо на случай захвата Англии. Если мне не изменяет память, там также фигурировали Пристли, Вулф, Уэллс, Шоу, хотя… – Он задумчиво поднял глаза к потолку. – Нет, Бернарда Шоу там, кажется, не было, запамятовал… – Он улыбнулся. – А вот Хаксли точно был. Хотя, стоит признать, список этот не более чем развлекательное чтиво на ночь – в числе самых опасных организаций вместе с масонской ложей и еврейскими заведениями там значилась детская организация бойскаутов как источник информации английской разведки. Я всегда говорил, у них там в контрразведке не у всех в порядке с головой.
– Списки? – рассеянно произнес я, продолжая думать о папаше Эйке.
– Сразу же после захвата Англии там должны были действовать наши айнзацгруппы. В первую очередь им надлежало арестовать тех, кто фигурировал в этих списках. Жаль, конечно, что не дожали тогда… – Он сделал ударение на последнем слове, подразумевая, что рано или поздно это все же случится. – Сейчас бы ресурсы Англии нам пригодились. Эта война на два фронта…
Он задумчиво посмотрел в окно за моей спиной.
– Пока нам есть где их черпать, – осторожно произнес я, имея в виду Польшу.
Усердный Франк выкачивал оттуда неимоверное количество ресурсов, и в первую очередь продовольствия. Я подозревал, что если он умудрится полностью выполнить продовольственную программу и в этом году, то Варшава с пригородами изрядно похудеет. Проще говоря, у них случится настоящий голод. И я готов был поставить на то, что Франк выполнит эту норму, несмотря ни на что.
– Но, боюсь, еще пара лет, и Польшу можно будет отправлять в утиль, – все так же осторожно добавил я, продолжая внимательно следить за настроением Зоммера, – ее экономика уже уничтожена, хозяйства разорены, учебные заведения прикрыты. Можно сказать, мы откатили ее до времен Средневековья.
– И это грамотный шаг, фон Тилл, поскольку любое возрождение кроется в интеллигенции. Франк ловко пресекает любой ее рост – и правильно делает. Самый опасный враг – человек образованный, именно он подпитывает бесполезную сопротивляемость местных масс. Убирая этот наиболее стойкий и сознательный элемент, вместе с тем Франк проводит и грамотную политику раскола: вслух он говорит лишь об устранении руководящего слоя, того самого, которого любой народ во все времена терпеть не мог. Насколько я знаю, время от времени его полиция даже проводит демонстративные акции по защите польских работяг и крестьян от местных же нуворишей. Но в вопросе просвещения он тверд и непреклонен – полное отсутствие доступа к образованию, тем более к высшему. Для всех! И в этом, повторюсь, Франк умен, не мудр, но умен, этого у него не отобрать. Но вы только подумайте, – покачал головой Зоммер, – несмотря на все запрещения, они организовывают на своих квартирах подпольные школы и университеты и умудряются проходить целые курсы по изящному искусству, медицинские программы, математические, инженерные. Читают лекции по истории, философии, литературе, архитектуре и праву. По праву! В Варшаве накрыли курс лекций даже по теологии. На кой черт им сейчас теология? – произнес он без злобы, но в искреннем удивлении, и снова сокрушенно покачал головой. – Нет, наш долг в полной мере лишить их науки и образования, а главное – их же собственное спокойствие по этому поводу. Тут основное – не позволять умникам оставлять после себя потомства, и уже через несколько поколений мы получим то, что надо. Рабам не нужно иметь мыслительный навык, он пробуждает в них чувство собственного достоинства, знаете ли, – продолжал философски рассуждать Зоммер. – В их головах должна господствовать единственная мысль: где добыть пропитание. Еще лучше, если они не будут уметь даже читать. Все это касается и русских – те, кто уже на нижнем культурном уровне, должны на нем и остаться, те, кому посчастливилось ухватить крупицу образования, должны быть низведены до нуля. Научатся считать до сотни и писать свое имя – на немецком, безусловно, – уже хорошо. Но никакой мыслительной нагрузки, никаких печатных изданий, никаких университетов – откат постепенный, но неизбежный. Умственная и духовная первобытность, если угодно, отсутствие всякой критической мысли. И тогда они будут самыми счастливыми существами на земле, вот увидите, фон Тилл. Впрочем, их народец привык к подобному. Видите ли, я ведь интересовался их историей. Был у них некий Победоносцев, правовед, при царях крутился, нескольких наследников империи выучил. Он говорил, что все их беды кроются в образовании: если обучать народец грамоте, то он думать начинает и воду мутить, против власти идти, а потому ратовал за обучение одному только Закону Божьему. Но, – Зоммер поднял указательный палец, – и тут нужно действовать с умом. Вера – она, к сожалению, объединяет, а нам, безусловно, следует этого избегать. Но если изолировать их области друг от друга и попытаться навязать в каждой свое верование, то это может привести к потрясающему эффекту. Нет ничего более разобщающего, чем религиозные воззрения, это известный факт. В каждой области мы создадим различные церкви и секты. Через пару поколений у них будут кардинально разные представления о боге, равно как и о собственной истории. Каждая деревня будет поклоняться отдельному божеству и иметь свое собственное прошлое. Если нам не хватит культур, будем заимствовать у дикарей их магическую ересь вплоть до вуду и худу. Слышали? Единственное, что будет объединять божеств, – то, что всякий бог велит слушать слово немца и исполнять то слово. Только представьте, сколь легко будет управлять этой огромной территорией, разбив ее на религиозно и исторически разобщенные сектора. А разобщенные славянские орды – значит, слабые славянские орды. Да, фон Тилл, образование – это вода, подтачивающая режим. Незаметно, но верно. И когда она сделает свое дело, то и шторма не надо, чтоб прорвало. Как раз с русскими, судя по всему, это хорошо работает, а потому хочешь властвовать этим народом долго и беспрепятственно – сделай его нужду состоянием перманентным, ослабь образование, щедро снабди балаганом и шутами по праздникам да подкидывай чужие неурядицы по необходимости. Чем более такие примитивные народы отвлечены на чужие беды, тем менее замечают свои. Нам останется лишь следить, чтобы комфортная жизнь немецких управителей, которые заселят те территории, как можно меньше соприкасалась с жизнью местных, и тогда эти туземцы даже знать не будут, как до́лжно жить человеку, довольствуясь тем, что им дано. Тогда это будут покладистые рабочие руки, они станут без устали копать канавы, прокладывать дороги, уничтожать вредителей в полях, осушать болота и добывать ресурсы. Нельзя позволять этим дикарям перенимать наш образ жизни, нужно отдавать себе отчет, что наша сила – в их дикарстве в том числе. Эти человекообразные должны раз и навсегда усвоить, что они всего лишь скот для шахт и полей, поэтому никаких поблажек быть не может, никакой медицинской помощи, например. Впрочем, и тут мало что придется менять, я слышал, в своих деревнях они до сих пор лечатся заговорами и нашептыванием молитв. Естественно, исключение должны составить процедуры по стерилизации. Поначалу снабдим их женщин в полной мере противозачаточными средствами и заставим пользоваться ими в принудительном порядке, потом уже наладим пункты массовой стерилизации. А будут артачиться – распространим какую-нибудь таблетку и скажем, что от чумы. Необходимые исследования уже проводятся в лагерях. И совесть никого по этому поводу не должна терзать, фон Тилл, – произнес он таким тоном, будто я вздумал с ним спорить.
Я продолжал молчать. Он продолжал говорить:
– Это паразиты, фон Тилл. Миру они ничего не дали, как, впрочем, ничего дельного и не взяли. У них в крови заложено то, что отвергает всякий процесс развития. Но самое невероятное, что это слова самого же русского. Причем не последнего в своем обществе. Образованного по их меркам, состоятельного дворянина. За те слова он был назван сумасшедшим и отправлен в ссылку, а я скажу – зрел в самый корень[139].
Усмехнувшись, Зоммер вдруг покачал головой, будто что-то вспомнил, и проговорил:
– И вот ведь что странно, если уж говорить о медицине, – наш там выпьет кружку сырой воды, утрется грязным рукавом, и привет! Через час мается с животом, в лучшем случае – обычный понос, а так ведь и дизентерия, и сальмонеллез. А эти жрут грязные нечищеные овощи, пьют отвратительную воду из каких-то колодцев, а иные прямо из рек зачерпывают, и ничего их не берет! Пухлощекие, зубастые, упитанные, руки-наковальни. Их лачуги кишат вшами и прочими паразитами, но ни сыпной тиф, ни малярия, ни прочая зараза к ним не липнет. Мы же каждый день должны гробить там свою печень атебрином[140], чтобы ничего не подхватить.
Я рассеянно кивнул, думая о другом. Я слышал, что велись разговоры касательно радикальной политики онемечивания местного населения, чтобы через несколько поколений эта земля приобрела полностью германский облик, а потому сказанное Зоммером, откровенно говоря, удивило меня.
– Вы считаете, что политика онемечивания себя не оправдает?
Зоммер задумчиво пожал плечами.
– Такие планы действительно обсуждались, но никто не уверен в их исполнимости. Исключения могут касаться детей, тех, которые устроят наших расовых экспертов. Их переправят в Германию и будут воспитывать как настоящих немцев. Тут мы убьем двух зайцев: подпитаем рейх новой кровью и лишим эти никчемные нации их сильнейшего потенциала. Но что касается взрослых, тут есть определенные проблемы: как понять, кто там годен к онемечиванию, а кто скрытый еврей, коих у них целые стада? С Советами в этом плане все сложно. У них там не всякий обрезанный – еврей, а необрезанный – необязательно не еврей. Вы в курсе, что поначалу наши оперативные подразделения расстреливали там целые группы татар, потому что у тех тоже практикуется обрезание? Чертовщина знатная. Но даже если откинуть эту проблему, вы полагаете, что у взрослых славян есть хоть какая-то способность к онемечиванию? Вы верите, что они могут мыслить культурными просвещенными категориями нашего уровня? Ерунда. Вы их дороги видели? Ничего не поменялось со времен монгольского управления, и, держу пари, если мы не возьмемся за это, то еще долго не поменяется. На тех сумасшедших пространствах, которые история по непонятным причинам ссудила русским, столько проблем, что нам придется долго там возиться. Но дороги – это первая задача. Любая культура начинается со строительства дорог, и русским, видимо, это невдомек. Фюрер презирает их особенно за это. Он питает особую слабость к автострадам. Проектирование и строительство трасс у него неизменно на контроле. Уж насколько сложно было на первых порах найти финансирование на эти имперские автострады, но он нашел. Тысяча километров отборного дорожного полотна ежегодно, не чета американской халтуре в пять сантиметров. Вы ведь в курсе, фон Тилл, что толщина нашего дорожного покрытия в среднем двадцать пять сантиметров, а кое-где доходит до всех тридцати?
Я никогда не задавался этим вопросом, но снова умолчал, дав Зоммеру возможность продолжить разглагольствования:
– Я как-то возвращался из Берлина и сказал водителю остановиться посреди дороги, мы с ним вместе замеряли, это действительно так. А ведь фюрера увещевали сэкономить, утверждали, что достаточная грузоподъемность дороги – двенадцать-пятнадцать тонн, а теперь его прозорливости можно только позавидовать: по нашим дорогам спокойно передвигаются танки. И даже авианалеты не способны причинить им большого вреда, поскольку в них заложена нагрузка до ста сорока тонн. И рейху это даже не стоило каких-то заоблачных сумм! Рейхсфюрер как-то обмолвился, что бо́льшую часть строительства выполнили безработные, которым в связи с этим перестали выплачивать пособия по безработице. С таким опытом нам не составит труда проложить достойные трассы и на восточных территориях. Только представьте, фон Тилл, широкое безупречное полотно от Берлина до Архангельска, Астрахани или Крыма, прямое сообщение между Верхней Силезией и Донецким угольным сектором, единая радиальная система идеальных дорог! И не две полосы, а все три, чтобы автомобили могли обгонять грузовики и туристические автобусы. Эти пространства перестанут быть дикими, мы стянем их дорожной сетью, одомашним их, как человек одомашнивал все буйное, дикое и необходимое ему в хозяйстве.
– Может, поэтому их до сих пор никто и не завоевал, с такими дорогами-то. – Мне хотелось зевнуть, но я сдержался, видя, как был воодушевлен своим рассказом Зоммер. – Умная политика дурных дорог?
Он усмехнулся и погрозил мне пальцем, чего я совершенно от него не ожидал.
– Как бы то ни было, после войны рейхсфюреру придется немало потрудиться. Когда для Германии все завершится, в нашем хозяйстве только начнется самое горячее время.
Слухи о планах Гиммлера на восточные территории уже давно не были секретом.
– Все это удивительно, учитывая, что я слышал об отце рейхсфюрера.
– Чистая правда, – совершенно серьезно кивнул Зоммер, – родитель Гиммлера действительно в свое время путешествовал по России, говорят, на санях добрался аж до Новой Земли. Он был под впечатлением от ее просторов и в школе даже убеждал своих учеников, что Россию невозможно завоевать с запада. Занятно выходит, не правда ли? А у его сына уже есть подробнейшее техническое задание на послевоенную реконструкцию тех пространств. Между нами говоря, по приблизительным подсчетам, стоимость работ составит не менее тринадцати миллиардов марок.
Я изумленно уставился на Зоммера. Названная сумма ошеломила меня.
– Но это же сумасшедшие деньги, – тихо вымолвил я, – и их планируется вложить в пространства русских?
– Наши пространства, – тут же поправил Зоммер, – к тому времени они окончательно станут нашими. Я вам больше скажу, это еще минимальная сумма – согласно проекту Поля, бо́льшая часть строительных работ будет выполнена заключенными лагерей. Боюсь даже представить, какова могла бы быть сумма, если бы в план не были заложены бесплатные рабочие руки.
Озвученные цифры никак не укладывались в моей голове, равно как и тот факт, что они должны были пойти на освоение земель, которые с самого раннего детства воспринимались мною землями чужими и непригодными для какого бы то ни было благополучия. Между тем Зоммер продолжил:
– И этот многомиллиардный молох реконструкции коснется не только железа и асфальта, но всех сфер восточной жизни вплоть до… да вот хотя бы до судопроизводства. Да, даже порядок судопроизводства для них должен быть отдельным. Невооруженным глазом видно, насколько они отличаются в своих поступках и мышлении от людей немецкой национальности. По моему мнению, при рассмотрении любого преступления, и уголовного в том числе, судья обязан учитывать личность обвиняемого и преступление негерманца оценивать не по юридическим нормам, а с точки зрения необходимости полицейского подавления этого опасного элемента.
– Однако на все области мы распространяем единый закон…
Зоммер не дал мне договорить:
– Да, но реалии будут таковы, что единственно верным станет тот подход, который я озвучил. Только он ведет к порядку.
– Иными словами, в губернаторстве наше право будет заключаться в силе, а не в юридических законах?
Зоммер внимательно посмотрел на меня, очевидно, силясь понять, какой смысл я вложил в эту фразу, но я произнес ее совершенно безэмоционально, исключительно констатируя.
– Да, фон Тилл, право сейчас в силе. Времена, когда их жизнь определялась общими законами, прошли.
После того как Зоммер ушел, я еще долго смотрел в окно на февральскую серость, кое-где подкрашенную редким сыпучим снегом, и думал о папаше, которого с нами больше не было. На душе было тоскливо.
Вскоре тоскливые февральские пейзажи сменились на такие же унылые и выцветшие мартовские, и лишь ближе к середине апреля вид за окном подкрасился редкими яркими мазками. Впрочем, ни последовавшее за этим майское цветение, ни летнее зеленое буйство не могли разогнать душевную тоску и тревогу, ставшие моими неизменными спутниками и окончательно разладившие пищеварение.
Однажды вечером за ужином в ресторане, где собирался весь офицерский цвет нашего управления, я узнал очередные скверные новости, на сей раз из Италии.
– Все, finita la commedia![141] На итальянцев можно не рассчитывать. Только что узнал последние сплетни из Рима: Муссолини низложен, никто из его сторонников и пикнуть не успел, как дуче под ручки вывели из приемной короля и отправили за решетку. Фашистская партия распущена! Всех антифашистов выпускают из тюрем. Уверен, не сегодня завтра Италия объявит о выходе из войны. В ставке Гитлера все в глубоком шоке, Геббельс думает, как преподнести эту новость народу.
– Почему бы не попробовать для разнообразия правду? – с усмешкой произнес какой-то подвыпивший гауптштурмфюрер.
– Правду? Боюсь, даже если бы в правде заключался залог его благополучия, Геббельс все равно по привычке солгал бы. Доктор либо отрицает правду, либо говорит ложь.
Я был уверен, что министр пропаганды элегантно объявит о пошатнувшемся здоровье дуче, в связи с чем тот был вынужден покинуть свой пост. Сейчас был не тот момент, когда можно бередить недовольные умы немцев подобными новостями, – аналогии напрашивались сами собой. Тотальная мобилизация, объявленная буквально несколько недель назад, вызвала небывалое недовольство в народе. На сей раз призвали всех: и подростков от пятнадцати лет (а кое-где, как я слышал, без разбору хватали и четырнадцатилетних), и шестидесятилетних стариков. В поисках новобранцев шерстили школы, училища, университеты, мастерские, фабрики и даже больницы. Нашу идеологическую философию медленно, но верно теснили обстоятельства – все чаще в управлении велись разговоры о том, что могут ослабить запрет на поставку в Германию русских и еврейских рабочих рук с завоеванных территорий. Всем вокруг было уже очевидно: наша промышленность, да и сельское хозяйство испытывали серьезный дефицит в трудовых ресурсах, которые поглотил для своих нужд фронт и никак не желал возвращать обратно. Обещанного блицкрига, увы, не случилось, вместо этого мы увязли в страшной заварухе, которая неумолимо демонстрировала, что твердые и незыблемые принципы оказались не такими уж твердыми и незыблемыми. Я внимательно прислушивался к обрывкам разговоров в ресторанах, кабинетах, курилках, на улице, в лавках. Разговоры эти тут же затихали, едва говоривший замечал посторонних слушателей, но стоило отойти в сторону или прийти в другое заведение, как ухо сразу же цеплялось за другой похожий шепоток.
– Войну надо завершать срочно! В ближайшее время! Иначе этот год станет для нас трагедией!
– Пораженческие разговоры?!
– Различайте, господин, пораженческие разговоры и трезвую оценку ситуации. Приходит время, когда тот, кого слушают люди, обязан говорить правду. Надо понимать ответственность за свои слова. А теперь особенно – идет война, растет ненависть, смерть людей ежечасная. Когда этот мир рухнет, каждый лжец будет отвечать за свою ложь. Ведь каждое лживое слово ослепляет всех нас и длит этот ад. Сталинград, где прикончили нашу Шестую армию, уничтожение Африканского корпуса, массированные бомбардировки немецких городов… Мы фактически потеряли Африку, Роммель разбит! Вот что правда, а не то, о чем пишут в газетах. Ставка совершенно оторвана от реальности. Все, что их интересует, – цвет ночного горшка Бормана!
– Что, простите?
– А вы не слышали новый анекдот? Вермахт и партия уже так перегрызлись, что дошли до смешного. Вот война, в которой они и вправду хороши! Хозяйственники вермахта, которые отвечали за оборудование ставки, специально не провели водопровод в спальню рейхсляйтера Бормана! Они поставили там ночной горшок! Коричневый, точь-в-точь цвета партийных рубашек! Борман рвал и метал, естественно. Фюреру лично пришлось вмешаться, чтобы погасить конфликт. Вот чем вынужден заниматься главнокомандующий в разгар войны…
Не желая больше это слышать, я вышел из скобяной лавки, так и не дождавшись своей очереди. К тому же мне стало там душно. Я пошел вниз по улице в другую лавку, вознамерившись все же достать новые петли для проклятого кухонного буфета, скрипевшего всякий раз, как я открывал дверцу.
– Слышал, Роммелю, как и Паулюсу, не разрешили сделать ни шагу назад. Досидели до того, что потом только моторизованные смогли улепетнуть. Остатки взяли в плен пешими, на своих двоих. Так ты сможешь починить чертов велосипед до завтра? Хочу прокатиться к своим на ферму, может, удастся разжиться свежим молоком и яйцами. Хильда совсем отощала.
Я вывалился из очередной лавки и торопливо расстегнул воротник. Промозглый декабрьский ветер тут же вцепился в горло, но я не замечал холода. Я продолжал слышать разговор покупателей, которые вышли вслед за мной.
– Будем откровенны, Бруно, все понимают, что заслуга в этом разгроме не столько томми, сколько виновато наше отвратительное снабжение. Парням Роммеля попросту нечего было заливать в свои танки, разве что самим впрягаться. Посмешище для всего мира.
– Смешим не только людей, но даже рыб, Юрген. Дёниц[142] со своими подводными лодками в Северной Атлантике тоже сдает назад. И… я забыл, прими мои соболезнования по поводу сына.
Тот, кого назвали Юргеном, сдержанно кивнул, ничего не ответив на последнюю реплику.
Я закурил, ожидая, когда они пройдут мимо. Но они остановились рядом и продолжили разговор:
– Бреши на Востоке закрывать нечем. Людей не хватает, отправляют фактически детей, которые и оружия-то держать не умеют.
– Ерунда выходит, молодняком дыры латают, а старшие бегут. Гоббс сообщил, что число дезертиров только растет. Надрывные речи Геббельса об обороне священной германской земли до последнего вздоха уже не действуют, да и угрозы не пугают.
– До последнего вздоха-то никто не хочет, Бруно, все хотят жить, хоть бы и не на положении господ. Как бы это сказать… жить.
Я побрел домой, так и не купив петли для буфета.
Что ж, судя по всему, скрыть от народа реальную судьбу нашей Шестой армии и Африканского корпуса Геббельсу, несмотря на все усилия, так и не удалось. Слухи полнили улицы, неслись от лавки к лавке, от дома к дому, от семьи к семье, которая, возможно, и так уже была в курсе не по слухам, а по похоронному извещению.
Многие считали, что наши парни изначально были обречены в Сталинграде, что, в общем-то, было недалеко от истины, учитывая приказы, которые летели в сторону Волги. В конце ноября фюрер перекинул на помощь Шестой армии Манштейна с Ленинградского фронта. Тот отчаянно умолял Гитлера позволить Паулюсу прорываться им навстречу. Тогда у Паулюса оставался шанс вырваться и спасти остатки армии. Но никакие мольбы не помогли, фюрер запретил отход от проклятой Волги. Манштейну пришлось в одиночку прорывать кольцо русского окружения. Каким-то чудом он даже продвинулся, его формирования были всего в пятидесяти километрах, и наши в Сталинграде уже даже видели их сигнальные огни и уверовали в свое спасение. Им нужно было всего лишь сделать рывок навстречу! Соединившись, две наши армии могли отойти, и двести тысяч солдат были бы спасены! Но очередной прорыв русских заставил Манштейна спешно отступить, и армия Паулюса осталась одна в сталинградском котле. Больше ни один самолет до них не добрался, ни с едой, ни с лекарствами, все аэродромы они потеряли… В управлении рассказывали, что итальянцы в панике разбежались, румынская Третья попросту развалилась.
– Дал же бог союзников, черт бы их побрал, – качал головой какой-то сотрудник в курилке.
– Там был мой брат… Гореть им в аду, ублюдкам поганым.
– Уймись. Война. Везде кто-то был.
– Чертова авантюра! Пытаться завоевать эту страну с запада – это безумие. Никому это еще не удавалось.
– Поначалу безумием-то не выглядело. Другие ломались и от меньших ударов, а эти… После того как мы их смяли в первое лето, разве ж можно было собраться…
Я вспомнил, как после того самого лета доказывал отцу, что победа фактически у нас в руках. И это не было самонадеянностью или легкомыслием, – после такого наступления никто не смог бы собраться и дать отпор! Немыслимо! Но русские… Отец… отец… был прав, черт бы его побрал! Мне вдруг стало смешно. И я расхохотался. Оба сотрудника удивленно посмотрели на меня. Ничего не сказав, я вышел из курилки и пошел в свой кабинет. Мне хотелось накрыться ворохом бумажного хлама на своем столе и больше не знать, что происходит вокруг. Но скрыться от этих разговоров было невозможно.
– Это черт знает что! Только что Би-би-си объявила, что Италия подписала перемирие с союзниками. Их войска уже используют южную оконечность сапога как плацдарм для высадки! Вы понимаете, что сейчас творится в умах немцев? Главный союзник предал их… нас! Если еще и оставались те, кто верил Геббельсу, то теперь даже дети не станут его слушать. Он втюхивал им про плохое здоровье дуче, а тут бодрый английский голос сообщает, что Муссолини арестован в результате переворота, а фашистский режим в Италии пал уже больше месяца назад!
– Макарони никогда не были искренни в дружбе с нами.
– Мне кажется, они никогда не были искренни и в дружбе с фашизмом. Так, временно примирились с ним и пережидали, потому что слишком ленивы, чтобы разворотить к чертям все сразу.
– Итальянцы… неожиданно, однако.
– Да черт бы с ними! Слышали? Геринг окончательно отлетел от реальности. Говорят, он уже совершенно не понимает, что происходит с его драгоценными люфтваффе, но часами рассказывает о своих коллекционных игрушечных паровозах с благостным видом.
– И это в то время, как английские и американские бомбардировщики бреют наши города под корень. В Киле уничтожен весь флот, в Дортмунде за одну ночь были разрушены все дома, к утру не осталось ни одной постройки, пригодной для жилья. Почти сто тысяч человек без крыши над головой остались, и это те, кому посчастливилось выжить. Хотя теперь и не знаю, считается ли в их случае выживание счастьем… Им некуда приткнуться, уничтожено все, абсолютно все! В Гамбурге тьма бомбардировщиков оставила без крова почти миллион немцев. Эти бездомные теперь толпами бродят среди руин, выковыривая из-под них остатки еды и хоть какую-то одежду. Эти проблемы уже не решить. Откуда сейчас у рейха силы, чтобы эвакуировать почти миллион человек? Расселить их и обеспечить едой и лекарствами, не говоря уже об одежде? Они предоставлены сами себе. Им уже, судя по всему, все равно, чем война кончится. Только бы кончилась.
Новости, сплетни, потаенные страхи – все, чем оставалось жить замершему в ожидании развязки народу. Калейдоскоп разных мнений и прогнозов продолжал крутиться, рисуя невероятные узоры действительности, в которой все мы оказались. В Мюнхене студенты даже в открытую вышли на антинацистскую демонстрацию. Весь город осыпали листовками с призывами к восстанию. Судя по всему, их не пугали ни аресты, ни подвалы гестапо. Они громко требовали прекратить преследование евреев и угнетение церкви и вернуть юридическую систему без контроля нацистской партии.
– В тридцать третьем я тоже был студентом. Помню, и мы выходили на демонстрации. Тоже горлопанили и много чего требовали. Передать власть нацистской партии требовали, например. Также за будущее наше боролись, также не жалели себя в стычках ни с полицией, ни с красными. Помню, мать родную проклял за то, что она за коммунистов голосовала. Кричала, костьми лягу, только бы не дать Гитлеру к власти пробиться. А я так же костьми за него, а сегодня в Мюнхене молодежь опять против… Жизнь смешно воротит…
– Геббельсу подарок. Теперь на них и спихнут вину за катастрофу, хотя и без них мы, судя по всему, уже идем ко дну.
– Запоздали эти мученики за идею. Разве не ясно, что они вышли на улицы только из-за наших неудач на фронте? Трусливое отродье!
– А я гляжу, финт Геббельса удался…
– Я тебе покажу, какой финт у меня имеется! Геббельс все по делу пишет! А таких предателей – на виселицу! И тебя туда же! В тяжелое время раскачиваете…
Договорить он не успел. Драка завязалась буквально за мгновения.
Я сидел в гражданской одежде в одной из редких пивных Розенхайма, работавших в эти дни, и отрешенно наблюдал за этой потасовкой. Перед серией зимних инспекционных поездок по лагерям, которые наметил Глюкс, мне была дана короткая увольнительная, и я приехал на Рождество к отцу, просто потому что мне больше некуда было ехать. Тетя Ильза, пострадавшая во время очередного авианалета, уже почти месяц находилась в госпитале, Лина вышла замуж, и, черт подери, на этой земле не было больше никого, к кому бы я мог заявиться на домашний ужин, чтобы встретить новый, сорок четвертый.
– Погляди туда, Йорг. Да ты не пырься так явно, еще и тебе вмажет, – негромко проговорил какой-то парень за соседним столиком своему соседу. – Народ в массе-то своей по-прежнему за фюрера.
– Осознание – это, знаешь, Ганс, такая штука, которая приходит позже, – так же тихо ответил его сосед, наблюдавший за дракой.
– Верно говорят, конец близок. На кого рассчитывать? На вояк из Эльзаса, которых угрозами вынудили воевать за Германию? Или на хиляков из Люксембурга, которых собирали поштучно? Или, может, Норвегия выдала нам самых бравых солдат? Все они мобилизованы по принуждению. Не будут они сражаться насмерть, Йорг.
– Кажется, нас обманули. Снова. Как это работает, Ганс?
– Нам обещали примитивную армию дикарей, ничего не смыслящих в современном военном деле.
– А разве было не так? Они шли против нас с минометами времен мировой войны, с одной винтовкой на двоих, а то и на троих. Кто тогда мог подумать, что это стадо способно к такому сопротивлению?
– С винтовкой, да… Под Брянском, когда у меня был первый бой, я видел кое-что невероятное. Они шли на нас плотной стеной, а потом я понял, что только у первой шеренги были винтовки. Когда первые упали, следующие подхватили их винтовки, переступили – и снова вперед. Понимаешь, Йорг, второй, третий ряд и так далее шел в атаку без оружия! Как можно идти в бой без оружия? У меня в голове такое не укладывается. Как?! Врукопашную против нас, а у нас-то экипировка тогда была до зубов! Тупоумные, не иначе, я тогда так решил. А потом я увидел у этих дикарей танк с такой броней, что снаряды наших противотанковых отскакивали от него, как шрапнель.
И, усмехнувшись, он разом осушил свой стакан.
– А я, Ганс, тоже видел невероятное. Я видел в бою… женщин, веришь?! Я наблюдал в бинокль, как во время боя одна ползала под пулями. Думал, медсестра, но нет, ковырялась в земле. Связистка, провода чинила. Я внимательно следил за ней… юбка задралась, и там было на что посмотреть, я тебе скажу честно. Вдруг вижу, бросила свою сумку и быстро ползет в сторону. Думаю, наконец-то головой начала думать, убирается из-под пуль. А она… к пулемету! Заметила, значит, что пулеметчика убили, и сама залегла, орет кому-то. Смотрю, вторая к ней ползет, ленту подает, а первая из пулемета уже наши позиции поливает. Меня холодный пот прошиб. Женщины!
– От этих пощады не жди. Когда баба чувствует, что по праву ее гнев, тут конец всему.
– Русские – их нельзя было трогать, Ганс. Нельзя. Они не от Бога. Не могут обычные люди стоять так, как стоят они. Их сопротивление – от самого дьявола, я тебе клянусь. Иначе откуда они берут силы, когда все уничтожено, когда вокруг пустота и голая выжженная земля?
– Хоть и пустота, но это их пустота, Йорг. Они зовут ее Rodina. Я не могу объяснить этого, но в случае с русскими это слово и мертвеца поднимает. Лишает их чувства самосохранения.
– Мой дядька сражался с русскими под Нарвой в семнадцатом. Когда объявили о войне с Союзом, он сказал мне: «Запомни этот день и этот час, парень. Это начало конца Германии. На тех просторах наша армия найдет свою смерть…» А мы с братом высмеяли его.
– Говорят, Наполеон тоже выступил в поход против России двадцать второго июня. Я не суеверный, но не знак ли это, Йорг?
– Мы сильно ошиблись в своем поведении с местным населением, вот что скажу, Ганс. Мы всех русских под одну гребенку, а у них там народов разных… Могли тем воспользоваться, но, вместо того чтоб подлить масла, заставили их объединиться. Да вот хотя бы в той же Украине… Могли получить сильного союзника, но вместо того сами сотворили себе кровного врага, обозлившегося на нас теперь еще больше, чем на большевиков за их продовольственную политику. Надо было пользоваться той злобой, распалять и разобщать! Надо было! Но теперь все в курсе, чем занимаются наши айнзацгруппы на территории Украины. Даже у англичан хватило ума в Индии оставить туземцев в покое, дать им жить по их обычаям. Поэтому они так долго в Индии и верховодят, и тянут из нее несметные сокровища без всякого труда. А мы…
– Фюрер не верит, что возможно хоть какое-то взаимодействие с местным населением. Нация примитивных…
Но Ганса вдруг перебил их третий приятель, молчавший до этого. Мне казалось, что он давно захмелел и попросту дремал, не слушая разговор за столом. Но я ошибся.
– Я был в Сталинграде, – низким хрипловатым голосом заговорил он. – И теперь я вряд ли назову их примитивными, Ганс… Да, повезло, что ж тут, забрали меня домой из того страшного котла с последней партией раненых. Двадцать третьего января мое полумертвое тело закинули в самолет, а двадцать четвертого потеряли мы тот последний сталинградский аэродром. В том котле мы варились с русскими вместе, Ганс, мололо всех подряд, невзирая на расу. По метру выскребали друг у друга землю, отбивали каждую развалину. Бывало, могли занять даже один дом: наши засядут на первом этаже, а русские еще второй удерживают. И там и там гора трупов, кто жив – еле дышит от усталости. Привалимся к стене, винтовку обнимем, и вдруг тишина. Выше тоже люди, тоже без сил. Тоже поняли, что минуту можно урвать на передых. И тут в один момент слышим: «Эй, фрицы!» Мы им: «Что вам, русские?» – «Воды хоть глоток есть?» – «Есть, а у вас что?» – «А у нас kurewo!» Так они сигареты называют. И мы менялись. Менялись, Ганс! Прекращали огонь на время, курили-пили, переглядывались, перемигивались… А потом расходились. И снова огонь. Во время одного из таких обменов я выменял шнапс на позолоченный портсигар, красивый такой. Перекурили после обмена, русский высокий был, со светлой бородой, он ее постоянно приглаживал, глядел на меня, усмехался. Потом снова встретились, уже в бою на улице. Они в окопе засели, а наш один подобрался совсем близко – и гранату туда. Но его самого же волной и зацепило, не устоял на ногах. Кто-то из русских из окопа успел выскочить и тут же положил его. А вокруг все горит, земля гудит, пыль, гарь – я не сразу разглядел, кто выскочил. Навел на него автомат и вижу – знакомый мой, бородатый. Дрогнула у меня рука. А он тем временем нашего лейтенанта угробил, тот за грузовиком прятался. Прямо в голову, мозги по всему борту, каска откатилась мне под ноги. Я на русского – он на меня – автоматы вскинули друг на друга, а он мне улыбается. Тоже узнал, значит. Мол, не обессудь. И… и ничего, патроны закончились у него. Мне повезло, значит. Он дуло опустил и усмехается еще шире. Тоже, наверное, думал, что за чертовщина, вчера менялись, а сегодня… Вижу, вроде вздохнул он, мол, стреляй, что ж. Я и… Это был честный бой. А через секунду и меня прошило. Пришел в себя уже на перевязке. Портсигар до сих пор у меня, вот он, глядите.
– Хорошая вещь…
– А мне смотреть на него тошно, – покачал головой хозяин портсигара. – Противоестественно это все, аж воротит: вот мы вместе курим их kurewo, пьем нашу воду, давая друг другу передышку, а вот уже убиваем друг друга. Того бородатого тоже, небось, ждала какая-нибудь фройляйн, как и меня моя Клара. Я лежал тогда на сыром полу в темном вонючем подвале, слышал, как в нескольких метрах от меня крысы копошатся в горе грязных бинтов и тряпок, в которой, кажется, замерзал один из наших безнадежных солдатиков, лежал и думал: какого черта я здесь делаю? Убивать можно и за деньги, и по приказу, и из страха, а вот погибать только за смысл, а иначе тошно. А смысла-то и не было, Ганс. Там-то я его и не увидел, где он мне нужен был больше всего. И тогда какого черта я делаю в этом Сталинграде, за тысячу километров от дома, который надо было «защищать»? Я лежал и думал, да, я начал думать там… Не самое приятное дело, признаюсь.
Тем временем драку удалось разнять. Побитых и едва стоящих на ногах развели по разным концам стола. Но даже сейчас они не унимались.
– А я тебе говорю, что Запад во всем виноват! Он предательски вонзил нам нож в спину в самый разгар польской кампании! – утирая разбитую губу, кричал тот, кто затеял потасовку. – Они дали в руки этим варварам все козыри! Идиоты, они ведь и себе вырыли яму! Они и понятия не имеют, с кем побратались!
В какой момент они позабыли о митингующих студентах в Мюнхене, из-за которых изначально сцепились? Я сделал знак кельнеру, чтобы он повторил мне еще стакан.
– А так бы взяли их наскоком! – все еще не унимался драчун. – Блицкриг…
Но и другой не намерен был молчать.
– В Европе-то, где страны размером с носовой платок, это, может, и работает! Но подмять под себя разом целый континентальный массив нельзя, дурак!
Судя по всему, он был прав, глупо было рассчитывать, что мы возьмем Россию одним блицем. Ганс, также наблюдавший за перепалкой, по-видимому, тоже был согласен с этим. Он снова негромко проговорил своим приятелям:
– Белосток, Минск, Смоленск, Вязьма, Киев – везде мы были хороши, всех пропарили в котлах, а в итоге идем к самому сокрушительному поражению, которое будет помнить человек. Да хоть бы и Москву взяли, все одно результат был бы один. Французы взяли, потом еле ноги унесли. И глупо как-то получается: вот горела их Москва из-за француза. А теперь они с лягушатниками бок о бок против нас идут.
Я допил остатки в своем стакане. В руках у меня все еще было письмо, которое отец молча всучил мне утром, после рождественских поздравлений. Очередное послание от его приятеля, медленно сходившего с ума на Востоке в айнзацкоманде.
«…Самое страшное, когда они окончательно все осознаю́т, то не рыдают, не плачут, не кидаются на нас, не молят о пощаде. Целуют друг друга на прощание. А если с детьми малыми, то все внимание им. Идет такая, с каждым шагом все ближе ко рву, но вместо рыданий что-то бормочет мальцу, которого к груди прижимает. И так что мать, что отец. По головке гладят, рассказывают что-то, отвлекают, значит. Одна девушка шла без родителей, без детей. Двигалась медленно в очереди за всеми. Когда перед ней оставалась одна партия, она вдруг подходит к нам и говорит: "Мне только семнадцать было". Еще живая, а уже "было". Сколько их уже прошло мимо нас, а ее, худую, бледную, с глазами серыми и пшеничными волосами, помню до последней черточки, будь проклята эта память. Вместе с другими она пошла по телам на то место, куда указали. Сложно это, идти по свежим трупам, я имею в виду. Они еще мягкие, скользкие от крови, босые ноги проскальзывают, проваливаются. Дошла и легла… Потом следующая партия на них. А у рва ветер трепал цветные ленты-завязки на детских шапочках. Их всегда много. Я потом смотрел на игрушки, забрызганные кровью, бутылки с сосками, на которых еще было тепло младенческих губ. И снова слышал автоматную очередь. И снова партия на предыдущих. К вечеру котлован был полон, они, как в штабелях, лежали друг на друге ровными плотными рядами. На краю, свесив ноги, сидел Гельмут и курил. Когда он видел, что кто-то шевелился или поднимал голову, он вскидывал автомат и добивал. В тот раз я попросил у него сигарету и тоже закурил. Впервые за сорок лет. Смотрел на пятно пшеничных волос посреди котлована. Ветер их шевелил. Уже опускался туман, который смешивался с паром от остывающих тел. Раздался щелчок. Фотограф делал снимки для отчета…»
Нужно было выкинуть это чертово письмо. Не дай бог оно попадет кому-нибудь в руки.
Уходя, я оставил письмо на столе, прижав его кружкой. Что ж, я был слишком пьян.
17 декабря 1993. Архив
Лидия потерла переносицу и осторожно поводила головой из стороны в сторону, разминая усталую шею. Глянув на часы, она поняла, что просидела в архиве уже больше трех часов. Приглушенный свет, поначалу казавшийся приятным, изрядно утомил глаза. Она прикрыла веки, размышляя над тем, что ей удалось выяснить: бабушка Валентины в возрасте семнадцати лет была угнана на принудительные работы в Германию. Уже в рейхе ее отправили в лагерь по доносу фермера, у которого она работала. Каким-то чудом ей удалось пережить заключение в Аушвице и дождаться завершения войны. После освобождения она попала в фильтрационный лагерь в Кемптене, где была установлена ее личность, затем вместе с партией других бывших узников вернулась в СССР.
Лидия еще раз посмотрела на имя, которое выписала, и бессознательно обвела его несколько раз: К. Лозовская.
•••
Я с трудом дождался окончания праздников. Время, проведенное с отцом, выматывало сильнее службы. Но что самое поразительное, это было молчаливое время. Мы больше не вступали в перепалки, предпочитая ограничиваться краткими замечаниями по нашему быту. И тем не менее мне по-прежнему было тяжело с ним под одной крышей. Возможно, потому, что он в чем-то оказался прав, но даже и не думал указывать мне на это. Просто спокойно поглядывал из-под своих кустистых бровей, будто ждал, что я сам что-то скажу о происходящем. Но я скорее откусил бы себе язык, чем вступил бы с ним в еще один затяжной диалог.
Возвращаясь обратно в Ораниенбург, я распечатал очередное письмо от Эйхмана.
«…Работаем все больше урывками. С каждым месяцем моим группам становится сложнее. Видишь ли, желание сотрудничать с нами прямо пропорционально успехам вермахта на фронте. Дошло до того, что я уже ничего не могу добиться даже от немецкой администрации на местах. В Бельгии Реедер[143] вдруг приказал освободить евреев, которых мы уже собрали и подготовили к отправке в Аушвиц. А Вернер Бест?![144] Тоже отличился, нечего сказать. Мало того что он до последнего попускал семитское раздолье в Дании, евреи продолжали вести бизнес и спокойно посещать школы с университетами, так теперь, когда наконец-то появился четкий приказ депортировать всех, он позволил им скрыться! По нашим подсчетам, мы должны были получить из Дании почти восемь тысяч работоспособных евреев, вместо этого Бест отправил нам меньше пяти сотен немощных стариков! Он лично запретил нашим полицейским врываться в еврейские дома, так как датская полиция, видите ли, имела все права вмешиваться и пресекать наши действия! В итоге я имею пять сотен идиотов, которые собственноручно открыли двери своих домов и добровольно вышли к нашим подразделениям, потому что из-за старческой глухоты попросту не расслышали, что им говорили! Ты представляешь? А остальные? Где остальные? А я тебе скажу – они все бежали в Швецию. И та принимает их с распростертыми объятиями, более того, еще и высылает лодки навстречу, которые подсвечивают этим крысам путь к берегу, – они же только по ночам набираются смелости переправляться. Уверен, эти евреи были предупреждены насчет нашей ночной облавы, и что-то мне подсказывает, что не обошлось здесь без нашего славного рейхскомиссара Беста, который теперь, как запахло жареным, жаждет быть хорошим – и вашим и нашим. Я понял, что ему нельзя доверять, еще когда он лично отправился в Берлин выбивать распоряжение, чтобы датских евреев депортировали исключительно в Терезин[145]. Почему же не сразу в «Адлон»?[146] Я не понимаю заботы этих глупцов о евреях. Неужели они думают, что когда-нибудь хоть один еврей выкажет им свою благодарность за это? Идиотизм.
И пока я пытаюсь управиться с саботажем в Дании, меня параллельно просят обратить внимание на ситуацию в Болгарии. Там не на что обращать внимание, там одни неблагодарные свиньи! Они основательно расширились за счет Румынии, Югославии и Греции, и кого болгары должны благодарить? Германию! Но там ни капли благодарности. Они нагло отказались отправить на Восточный фронт хоть кого-то в помощь нашим войскам, так стоило ли от них ожидать помощи в решении еврейской проблемы? Те меры, которые мы с них выбили, курам на смех: крохотные нашивки, которые больше половины евреев игнорируют и не носят, а те, кто носит, считаются в глазах болгар чуть ли не мучениками, и им в открытую оказывают помощь. А как тебе мера по выселению евреев из городов в сельскую местность? Мол, вот они, наши антиеврейские меры. Идиоты лишь усложнили мне задачу, рассеяв евреев по всей стране, вместо того чтобы сосредоточить в одном месте и дать моим людям депортировать их. Я молчу про квоты для еврейских врачей и промышленников. Я отправил туда Даннекера, чтобы он лично повлиял на ситуацию. После изматывающих переговоров с их комиссаром он все-таки выбил соглашение на депортацию шести тысяч в Треблинку, но где они? Так они и сейчас в Болгарии. Даннекер попросту ничего не мог поделать, не подвергая свою жизнь опасности, – изо дня в день в Софии проходят демонстрации в защиту евреев, и никто их не пресекает! Мы пытались надавить на Бекерле, это наш посол в Софии, – но этот еще хуже Беста, на него также нельзя положиться, скользкий тип. Уверен, он получает мзду от местных еврейских толстосумов. Он даже не стал общаться с Даннекером, а в Управление отправил отчет, мол, ситуация сложная, поделать ничего нельзя. Я уже отказываюсь что-либо понимать! Что с ними со всеми происходит? Саботаж всюду. Всех вдруг начала мучить совесть. Это провал всех наших…»
Я оторвался от письма и посмотрел на проносившиеся за окном пейзажи.
Совесть. Это провал.
Рекомендуем книги по теме

Юлиус Фучик
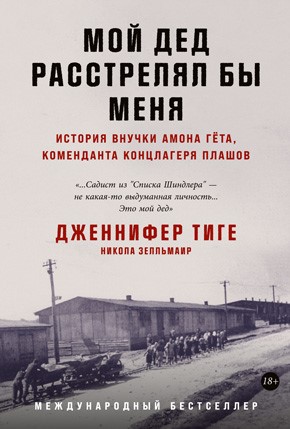
Мой дед расстрелял бы меня. История внучки Амона Гёта, коменданта концлагеря Плашов
Дженнифер Тиге, Никола Зелльмаир

Конрад Морген: Совесть нацистского судьи
Герлинде Пауэр-Штудер, Дж. Дэвид Веллеман

В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине
Эрик Ларсон
Сноски
1
3 ноября 1943 года в концлагере Майданек прошла операция под кодовым названием «Праздник урожая» («Эрнтефест»). За один день было расстреляно 18 000 узников. Это была крупнейшая бойня за всю историю существования концентрационных лагерей. – Здесь и далее прим. автора.
(обратно)2
Адольф Эйхман (1906–1962) – оберштурмбаннфюрер СС, глава отдела гестапо IV В-4, отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса». После войны сумел бежать в Южную Америку, где агенты израильской разведки «Моссад» выследили его, похитили и вывезли в Израиль. На суде в Иерусалиме приговорен к высшей мере наказания, казнен через повешение.
(обратно)3
Генрих Мюллер (1900–1945) – группенфюрер СС, начальник гестапо.
(обратно)4
Эрнст Кальтенбруннер (1903–1946) – обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления имперской безопасности СС.
(обратно)5
Теодор Даннекер (1913–1945) – гауптштурмфюрер СС, сотрудник отдела Адольфа Эйхмана, специалист по осуществлению нацистской антиеврейской политики.
(обратно)6
«Циклон Б» – пестицид на основе цианида, использовался для массового уничтожения людей в газовых камерах немецких лагерей смерти.
(обратно)7
Газваген (нем. Gaswagen, «газовый автомобиль»), также использовали термин «душегубка», – мобильные газовые камеры, применявшиеся нацистами в период Второй мировой войны для массового уничтожения людей путем отравления угарным или выхлопным газом.
(обратно)8
Ванзейская конференция – совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии 20 января 1942 года на озере Ванзее в Берлине. На нем итоги первоначальной политики вынуждения евреев к эмиграции были объявлены неудовлетворительными – большинство стран отказались принимать у себя еврейских беженцев, у которых не было средств для переезда. Тогда было предложено новое «окончательное решение еврейского вопроса» – «выселение на восток». За этими словами скрывалось планомерное истребление евреев в концлагерях на территории Польши. Спустя 11 дней Адольф Эйхман разослал командному составу полиции и руководителям СД указания к подготовке депортации евреев Германии, Австрии и Чехии. Именно эту конференцию многие исследователи считают поворотным моментом в геноциде еврейского населения Европы.
(обратно)9
Рейхсбан (нем. Deutsche Reichsbahn) – железнодорожная организация. После Первой мировой войны объединяла все железные дороги государств, ранее входивших в состав Германской империи. В 1949 году прежнее название Deutsche Reichsbahn сохранилось лишь на территории ГДР, в ФРГ же была создана Deutsche Bundesbahn.
(обратно)10
«Шоа» (1985) – фильм режиссера Клода Ланцмана о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях.
(обратно)11
НСДАП (от нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP) – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Существовала в Германии с 1920 по 1945 год. С 1921 года ее бессменным лидером был Адольф Гитлер. На Нюрнбергском процессе объявлена преступной, а ее идеология была признана одной из главных причин войны.
(обратно)12
РСХА (от нем. Reichssicherheitshauptamt – RSHA) – Главное управление имперской безопасности, руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха.
(обратно)13
Рейнхард Гейдрих (1904–1942) – обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления имперской безопасности, в которое с 1939 года входила тайная государственная полиция (гестапо). Считался правой рукой рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
(обратно)14
Одило Лотарио Глобочник (1904–1945) – группенфюрер СС, с июля 1941 по январь 1942 года уполномоченный рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера по созданию системы концлагерей на территории Генерал-губернаторства (оккупированной Польши). Был непосредственным руководителем люблинских лагерей смерти: Белжеца, Майданека и Собибора, а также Треблинки. Принимал участие в уничтожении Варшавского и Белостокского гетто. Отличался особой жестокостью. В личном деле имел, в частности, следующую характеристику: «Безрассудство и ухарство приводят его часто к нарушению установленных границ даже в рамках эсэсовского ордена».
(обратно)15
«Байер» – немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Была частью «ИГ Фарбен», крупнейшего в Европе химического и фармацевтического конгломерата, который поддерживал нацистский режим, в том числе финансово. «ИГ Фарбен» владел половиной акций компании, которая производила «Циклон Б». В течение Второй мировой войны «ИГ Фарбен» активно использовал рабский труд заключенных и заказывал для проведения опытов узников в концентрационных лагерях. После Второй мировой войны за участие в организованных военных преступлениях союзники разделили «ИГ Фарбен», и «Байер» возродилась как независимая компания. На процессе в Нюрнберге директор «Байер» Фриц тер Меер был приговорен к семи годам тюрьмы. Выйдя на свободу, он вновь получил высокий пост в компании.
(обратно)16
Айнзацгруппы полиции безопасности и СД – военизированные группы, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. Согласно официальным данным, общее число еврейских жертв в результате акций уничтожения этими группами составляет 900 000 человек.
(обратно)17
Капо – привилегированный заключенный, сотрудничавший с администрацией в концлагерях нацистской Германии.
(обратно)18
Рудольф Хёсс (1901–1947) – оберштурмбаннфюрер СС, комендант концентрационного лагеря Аушвиц в Освенциме.
(обратно)19
Закон № 104 «Об освобождении от национал-социализма и милитаризма» от 5 марта 1946 года. Первый закон после войны, который приняли немецкие органы власти, а не оккупационные. После принятия этого закона 13 миллионов немцев прошли анкетирование, которое должно было помочь определить степень их вины и причастности к нацизму. Трибуналы не справлялись с валом обвиняемых, в итоге была объявлена амнистия для всех рожденных после 1 января 1919 года, нетрудоспособных и малообеспеченных. Из 13 миллионов лишь 613 тысяч были признаны в той или иной степени причастными к деяниям нацизма. Основными преступниками были признаны 1600 человек.
(обратно)20
Плашов – концлагерь в южном пригороде Кракова. Его комендантом был Амон Гёт, известный своими садистскими наклонностями. Часто развлекался тем, что натравливал свою собаку на заключенных.
(обратно)21
«Ноябрьские преступники» – прозвище немецких политиков, которые подписали перемирие, положившее конец Первой мировой войне.
(обратно)22
Вальтер Ратенау (1867–1922) – немецкий промышленник еврейского происхождения и министр иностранных дел Германии. На посту министра находился с 1 февраля по 24 июня 1922 года, когда был убит членами антисемитской организации «Консул».
(обратно)23
Версальский договор от 28 июня 1919 года. Основной из мирных договоров, завершивших Первую мировую войну. По нему Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию, передавала Саар под управление Лиги Наций, предоставляла Данцигу статус вольного города, соглашалась с созданием «Польского коридора», который давал Польше доступ к Балтийскому морю, а также формировалась Рейнская демилитаризованная зона и ликвидировались германские колонии. Германия обязалась соблюдать независимость Австрии и выплачивать победителям репарации, брала на себя всю ответственность за развязывание войны. По воспоминаниям Черчилля, французский главнокомандующий Фердинанд Фош, узнав об условиях договора, заявил: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет…» В Германии соглашение прозвали «Версальский диктат».
(обратно)24
Рейхсвер (нем. Reichswehr) – немецкие вооруженные силы в 1919–1935 годах, ограниченные по составу и численности условиями Версальского мирного договора. Согласно этому договору Германия могла иметь лишь 100-тысячную сухопутную армию и малочисленный военно-морской флот. Всеобщая воинская повинность отменялась. Запрещены были генеральный штаб, военная авиация, подводные лодки, крупные боевые корабли, танки, зенитная и тяжелая артиллерия, а также химическое оружие.
(обратно)25
«25 пунктов» – официальная программа НСДАП с 1 апреля 1920 года, впервые оглашенная 24 февраля 1920 года на собрании в мюнхенской пивной «Хофбройхаус». В 1926 году положения этой программы объявлены руководством партии «незыблемыми».
(обратно)26
Рейхстаг (нем. Reichstag) – высший представительный и законодательный орган в Германии времен Германской империи, Веймарской республики и формально при национал-социалистах. С 1894 по 1933 год заседал в одноименном историческом здании в Берлине.
(обратно)27
Ландсберг – тюрьма в баварском городе Ландсберг-ам-Лех, где отбывал заключение Адольф Гитлер, осужденный за попытку государственного переворота, которая впоследствии получила название «Пивной путч». Суд приговорил Гитлера к пяти годам тюрьмы, но уже через девять месяцев он вышел на свободу. Само заключение сложно было назвать суровым испытанием: нацистам, осужденным вместе с Гитлером, позволялось собираться за общим столом и обсуждать политические вопросы, принимать гостей, получать письма и подарки от последователей партии.
(обратно)28
«Фёлькишер Беобахтер» (нем. Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель») – печатный орган НСДАП.
(обратно)29
Охранные отряды, также СС (от нем. Schutzstaffeln – SS), – военизированные формирования НСДАП. Первоначально СС предназначались для личной охраны лидера НСДАП Адольфа Гитлера и входили в состав штурмовых отрядов, но позже стали отдельной структурой и подчинялись лично Гитлеру и Гиммлеру.
(обратно)30
Штурмовики, также штурмовые отряды, СА (от нем. Sturmabteilung – SA), – военизированные формирования НСДАП.
(обратно)31
Курпарк – парк с элементами садовой и ландшафтной архитектуры. Подобные парки устраивались в курортных городах еще во времена Германской империи. В некоторых, помимо клумб, фонтанов, оранжерей и прудов, возводились термальные комплексы – так называемые водолечебницы.
(обратно)32
Коричневый дом (нем. Braunes Haus) – здание в Мюнхене по адресу: Бриннерштрассе, 45, где в 1930–1945 годах располагалась штаб-квартира НСДАП.
(обратно)33
Коричневорубашечники – прозвище штурмовиков. После Первой мировой войны Германия утратила свои африканские колонии, и на складах осталось много коричневой униформы, которую производили специально для солдат, служивших в тех колониях. Когда позже встал вопрос, чем экипировать создаваемые штурмовые отряды, то Герман Геринг вспомнил про эту форму и скупил ее за бесценок.
(обратно)34
Эрнст Тельман (1886–1944) – лидер немецких коммунистов. Один из главных политических оппонентов Гитлера. В юности он перепробовал множество профессий, в том числе успел поработать и кочегаром на океанском пароходе.
(обратно)35
Пауль фон Гинденбург (1847–1934) – рейхспрезидент Германии в 1925–1934 годах.
(обратно)36
«Дер Ангриф» (нем. Der Angriff, «Атака») – антисемитская и антикоммунистическая газета, выпускавшаяся в Берлине местным отделением НСДАП. Издавалась гауляйтером (главой партийного округа) Берлина Йозефом Геббельсом.
(обратно)37
Во время своего заключения в тюрьме города Ландсберг-ам-Лех Адольф Гитлер надиктовал автобиографическую книгу «Моя борьба» (нем. "Mein Kampf". – Включена в Федеральный список экстремистских материалов – Прим. ред.), в которой изложил свои политические убеждения и планы на будущее Германии.
(обратно)38
Груневальд – район на западе Берлина.
(обратно)39
Франц фон Папен (1879–1969) – рейхсканцлер Германии с 1 июня по 17 ноября 1932 года.
(обратно)40
Курт фон Шлейхер (1882–1934) – рейхсканцлер Германии с 2 декабря 1932 по 28 января 1933 года, оппонент и предшественник Гитлера на этом посту. Последний глава правительства Веймарской республики.
(обратно)41
Отель «Кайзерхоф» – первая берлинская гостиница класса люкс. Располагалась в старом правительственном квартале напротив рейхсканцелярии по адресу: Вильгельмплац, 3/5.
(обратно)42
Альбрехт фон Роон (1803–1879) – прусский генерал-фельдмаршал.
(обратно)43
Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке (1800–1891) – прусский генерал-фельдмаршал. Наряду с Бисмарком и фон Рооном считается одним из основателей Германской империи.
(обратно)44
Анвертер (нем. Anwärter) – кандидат на зачисление или присвоение звания.
(обратно)45
DRL (от нем. Deutscher Reichsbund für Leibesübungen) – Немецкий имперский спортивный союз.
(обратно)46
СС-манн (нем. SS-Mann) – низшее воинское звание в войсках СС и СА. Соответствовало званию рядового в вермахте.
(обратно)47
Аппельплац (нем. Appelplatz) – площадь в лагере, на которой проходили поверка и перекличка.
(обратно)48
Рейхсбаннер (нем. Reichsbanner) – демократическая политическая и боевая организация. Существовала в Германии с 1924 по 1933 год под фактическим руководством социал-демократической партии.
(обратно)49
Эрнст Рём (1887–1934) – один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА (штурмовиков). Был близким соратником Адольфа Гитлера во времена становления НСДАП.
(обратно)50
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» – элитное формирование СС, созданное на базе личной охраны Адольфа Гитлера. Члены «Лейбштандарта СС» приносили присягу на верность непосредственно Гитлеру и не подлежали никакому партийному или конституционному надзору, хотя какое-то время формально и входили в состав прусской полиции. К началу 1935 года «Лейбштандарт СС» был преобразован в настоящую военную часть. Принимал участие во всех довоенных аннексиях рейха (вступление в Саар и демилитаризованную Рейнскую зону, аншлюс Австрии, аннексия Судет, оккупация Чехословакии). Во время Второй мировой «Лейбштандарт СС» был развернут в 1-й танковый корпус СС и регулярно перебрасывался между Восточным и Западным фронтами.
(обратно)51
Штадельхайм – тюрьма в юго-восточной части Мюнхена. Основана в 1894 году.
(обратно)52
Ганс Франк (1900–1946) – юрист, рейхсляйтер. С 1933 года рейхскомиссар министерства юстиции Германии. С 1940 года – генерал-губернатор оккупированной Польши (в нацистской документации территория называлась Генерал-губернаторство).
(обратно)53
Курт фон Шлейхер был застрелен во время Ночи длинных ножей вместе со своей женой Элизабет. Не имел никаких связей со штурмовиками, более того, испытывал к ним открытую неприязнь.
(обратно)54
Вальтер фон Рейхенау (1884–1942) – генерал-фельдмаршал. В 1933–1935 годах руководил одним из управлений военного министерства.
(обратно)55
Масс (нем. Maß) – литровая кружка для пива в германоязычных странах. Бывают стеклянные и керамические.
(обратно)56
Jude (нем.) – еврей.
(обратно)57
Локарнские договоры (1925) – семь договоров, подписанных по итогам переговоров Германии, Италии, Великобритании, Франции, Бельгии, Польши и Чехословакии в Локарно (Швейцария). Согласно этим соглашениям границы в Западной Европе были незыблемы. Подписав их, Германия отказалась от решения территориальных споров военным путем. Все возникающие разногласия должны были решаться мирно, по взаимному соглашению – через Лигу Наций или международные суды. Министр иностранных дел Германии Густав Штреземан, представлявший страну на этих переговорах, в следующем, 1926 году был удостоен Нобелевской премии мира.
(обратно)58
Томми – прозвище солдат вооруженных сил Великобритании.
(обратно)59
Мюнхенское соглашение (1938) было подписано Германией, Великобританией, Францией и Италией. Согласно ему Чехословакия должна была в течение десяти дней освободить и передать Германии Судетскую область. Этот договор считается апогеем политики умиротворения Германии, которую проводили Франция и Англия, старавшиеся не допустить очередной войны в Европе. Чехам даже не разрешили присутствовать на переговорах. Их представители сидели за дверью, пока в соседнем зале шли переговоры о судьбе их страны. Потом чехов поставили перед фактом: если они будут упорствовать в удовлетворении германских требований, то в предстоящем военном конфликте не смогут рассчитывать на помощь ни Англии, ни Франции. Чехословакия была вынуждена принять условия договора во избежание войны.
(обратно)60
Невилл Чемберлен (1869–1940) – премьер-министр Великобритании в 1937–1940 годах, подписавший Мюнхенское соглашение от имени своей страны.
(обратно)61
Включена в Федеральный список экстремистских материалов. – Прим. ред.
(обратно)62
Винкель (нем. Winkel, «угол») – перевернутый треугольник, нашитый на робу узника концлагеря. В зависимости от цвета обозначал принадлежность к определенной категории заключенных.
(обратно)63
Евреи в лагерях обычно помечались двумя треугольниками, лежащими друг на друге, образуя звезду Давида. Как правило, нижний треугольник был желтого цвета, а верхний соответствовал категории заключенного. В некоторых лагерях ограничивались одним желтым треугольником.
(обратно)64
СД – Служба безопасности. С 1939 года находилась в подчинении Главному управлению имперской безопасности (РСХА).
(обратно)65
Дело Дрейфуса (1894) – судебный процесс во Франции по делу капитана еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса (1859–1935). На фоне сильных антисемитских настроений он был обвинен в шпионаже в пользу Германии на основании сфабрикованных документов и приговорен к пожизненной ссылке. Дело получило широкий общественный резонанс и поделило французское общество на два лагеря. Спустя 12 лет после появления доказательств невиновности Дрейфус был реабилитирован, он принимал участие в Первой мировой войне. Похоронен с национальными почестями. Хотя Дрейфус был ассимилированным евреем, его дело показало, что ассимиляция не являлась защитой от антисемитизма даже в просвещенной Франции.
(обратно)66
«Хайнт» («Сегодня») – ежедневная газета на идиш, издававшаяся в Варшаве с 1906 по 1939 год.
(обратно)67
«Дер Штюрмер» (нем. Der Stürmer, «Штурмовик») – еженедельник, издавался в Нюрнберге Юлиусом Штрейхером. Печатал статьи, лозунги и карикатуры, возбуждающие ненависть к евреям, католикам, коммунистам и прочим врагам рейха. Имел большое влияние, его тираж был одним из самых больших в Германии – почти полмиллиона. Пестрел грубыми выражениями, порнографическими иллюстрациями и карикатурами, историями о жестокости евреев, большинство из которых сочинял сам Штрейхер. Гитлер и Гиммлер негласно поощряли издание, считая его примитивизм и бульварный стиль отличным способом завладеть вниманием масс.
(обратно)68
Евреям было запрещено вывозить с собой рейхсмарки, поэтому они были вынуждены покупать иностранную валюту.
(обратно)69
Эдуард фон Грютцнер (1846–1925) – немецкий художник. Известен жанровыми картинами, изображающими жизнь монахов.
(обратно)70
Карл Фридрих Май (1842–1912) – немецкий писатель, автор приключенческих романов (в основном вестернов).
(обратно)71
Томас Манн (1875–1955) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
(обратно)72
Жак Оффенбах (1819–1880) – французский композитор еврейского происхождения.
(обратно)73
Джакомо Мейербер (1791–1864) – немецкий и французский композитор еврейского происхождения.
(обратно)74
Дариус Мийо (1892–1974) – французский композитор еврейского происхождения.
(обратно)75
Альберт Шпеер (1905–1981) – личный архитектор Адольфа Гитлера, позже рейхсминистр вооружений и военного производства.
(обратно)76
Эрнст фом Рат (1909–1938) – немецкий дипломат, застреленный в Париже еврейским эмигрантом, 17-летним Гершелем Гриншпаном. В кармане у Гриншпана полиция обнаружила письмо к родителям: «Мое сердце облилось кровью, когда я узнал о вашей судьбе, и я должен протестовать так, чтобы об этом узнал весь мир». Считается, что Гриншпан мстил за притеснения евреев в Германии, среди которых были его родители, депортированные в Польшу через границу в Збоншине без гроша в кармане. Убийство Эрнста фом Рата стало поводом для массовых антисемитских погромов, известных как Хрустальная ночь. По иронии судьбы, сам фом Рат не скрывал своих антигитлеровских взглядов, возникших как раз из-за отношения нацистов к евреям, и считался политически неблагонадежным.
(обратно)77
Артур Бальфур (1848–1930) – в годы Первой мировой войны занимал пост министра иностранных дел Великобритании. 2 ноября 1917 года подписал письмо с декларацией, адресованное барону Уолтеру Ротшильду как лидеру британских сионистов: «Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа…» Принятие Декларации Бальфура вызвало всплеск иммиграции евреев в Палестину, что спровоцировало беспорядки в Иерусалиме. Иерусалим не упоминался в декларации, в ней не оговаривались границы Палестины, которая тогда не являлась самостоятельной административной или политической единицей. Это упущение впоследствии привело к разной интерпретации декларации и многочисленным спорам.
(обратно)78
Данциг (ныне Гданьск) после Первой мировой войны получил статус вольного города и находился под управлением Лиги Наций. Однако территории, дававшие доступ к Данцигу, отошли Польше. Хотя бо́льшую часть населения города составляли немцы, Польше было предоставлено ведение иностранных дел Данцига и управление железнодорожным сообщением, также Польша свободно пользовалась данцигскими водными путями, доками и т. д. Позже Лига Наций дала Польше разрешение разместить в Данциге свое вооружение, которое охраняли польские же солдаты. В 1939 году Германия потребовала от Польши возвращения города и предоставления к нему пути. Польша, рассчитывая на поддержку Франции и Англии, отказала Германии.
(обратно)79
Островные обезьяны – прозвище англичан у немцев.
(обратно)80
Весной 1939 года президент США Франклин Рузвельт, возмущенный экспансионистской политикой Германии, отправил обращение к Гитлеру, в котором призвал воздержаться от нападения на малые страны. В ответ Гитлер выступил с речью, ставшей одной из самых знаменитых в его карьере. Сотни радиостанций транслировали ее по всему миру. Гитлер последовательно разобрал обращение Рузвельта, аргументированно разбив большинство утверждений американского президента и мастерски обойдя неудобные для себя моменты. Он напомнил, что после подписания Версальского договора случилось уже 14 военных конфликтов, и ни в одном Германия не участвовала. Сами же США в это время осуществили 26 «насильственных интервенций». Комментируя просьбу Рузвельта дать гарантии ненападения на 31 страну, Гитлер напомнил, кем в данный момент были оккупированы Сирия и Палестина, упомянутые в списке, а также обратил внимание на курьезное упоминание Ирландии, заметив, что сам ирландский премьер-министр де Валер «не обвиняет Германию в притеснении Ирландии, а обвиняет Англию в постоянно совершаемой против его страны агрессии». Гитлер подчеркнул, что Штатам следовало бы начинать с себя: «Свобода самой Северной Америки была завоевана не за столом переговоров, не там решался конфликт между Севером и Югом. Я уже не говорю о многочисленных сражениях, предшествовавших полному покорению Североамериканского континента». Под конец Гитлер вновь вернулся к Германии: «Когда-то я получил власть в стране, которая лежала в дымящихся руинах… Я одолел хаос в Германии, вернул порядок, восстановил экономику, развил транспорт, начал строительство дорог… Я вернул на родину миллионы немцев, живших в притеснениях и нищете… И все это, мистер Рузвельт, без единого выстрела, никакого кровопролития… Ваша задача, мистер Рузвельт, по сравнению с моей куда проще. Вы… с самого начала оказались у руля одной из крупнейших и богатейших стран мира…» Речь имела оглушительный пропагандистский успех. После этого многие мировые издания подчеркнули справедливость требований Германии относительно Данцига, посчитав, что Германия лишь пытается восстановить свою целостность.
(обратно)81
Национал-социалистический союз учителей (1927–1945) – общественная организация под началом НСДАП, в которую входили воспитатели детских садов, школьные учителя и преподаватели университетов. Союз отвечал за формирование политико-мировоззренческой ориентации всех педагогов в духе национал-социализма.
(обратно)82
Круппы – знаменитая династия немецких сталепромышленников.
(обратно)83
Через пять месяцев после Мюнхенского соглашения Гитлер (в нарушение подписанных договоренностей) оккупировал и оставшуюся территорию Чехии, провозгласив там протекторат Богемии и Моравии. В отличие от Судет, там проживали в основном этнические чехи, но протекторат стал автономной нацистской территорией, которую немецкое правительство считало частью Великогерманского рейха. Свое вмешательство Германия объяснила стремлением восстановить порядок в регионе, который чехи якобы были не в состоянии поддерживать. Все важные посты оказались тут же заняты представителями Германии, все политические партии, кроме нацистской, запрещены, местное население – подвергнуто жесткому нормированию, поскольку часть производства была переориентирована на снабжение немецких вооруженных сил.
(обратно)84
Во время англо-бурской войны (1899–1902) британцы основали в Южной Африке сеть концентрационных лагерей, в которых держали бурское мирное население для предотвращения помощи партизанам. В основном там содержались женщины и дети. Так британские солдаты пытались психологически воздействовать на их мужей и отцов, участвовавших в войне. Условия в этих лагерях были такими, что только детей от голода и болезней погибло более 22 000. Во время Первой мировой войны британцы продолжали использовать концентрационные лагеря уже на территории Соединенного Королевства, в которые отправляли немцев, австрийцев, проживавших в Британии, ирландских граждан, заподозренных в неверности короне, и т. д.
(обратно)85
Неточная цитата Отто фон Бисмарка: «Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов».
(обратно)86
Соломон Аш (1907–1996) – польский и американский психолог (эмигрировал в США в 1920 году), автор экспериментов, посвященных различным изменениям в поведении или мнении человека, попавшего под влияние или давление со стороны другого человека или группы людей.
(обратно)87
Стэнли Милгрэм (1933–1984) – американский психолог, провел серию экспериментов в области подчинения авторитету. Изначально Милгрэм планировал отправиться в командировку в Германию, чтобы провести эксперименты с немецкими участниками, так как был уверен, что именно этой нации свойственна необъяснимая склонность к повиновению. Однако после первых тестов в США в 1963 году стало ясно, что тратиться на поездку в Германию нет смысла: он сразу получил повиновение в избытке и понял, что национальность тут не важна. Впоследствии эксперимент был проведен в ряде европейских стран уже другими специалистами (в Германии, Нидерландах, Испании, Италии, Австрии и Иордании), и везде результаты были одинаковыми. Исследования Милгрэма вызвали волну критики из-за вопроса их этичности.
(обратно)88
Эксперимент проведен в Гавайском университете в Маноа в начале 1970-х годов на вечернем курсе по психологии. Преподаватель озвучил возможные проблемы общества, если в нем вдруг появится много людей с физическими и психическими недостатками. Он намеренно использовал сухую научную терминологию и ссылки на научные исследования. Студентам предлагалось подумать над процедурами, которые бы помогли «оздоровить общество», и заполнить анкеты. В анкете 90 % студентов согласились, что выживание «полноценных» важнее выживания «неполноценных», 91 % согласились, что в «чрезвычайных ситуациях справедливо устранять тех, кто представляет опасность для блага общества», 89 % выбрали фармацевтические средства как «самые гуманные и эффективные методы устранения». Лишь 6 % студентов отказались отвечать.
(обратно)89
Нападение на радиостанцию в Гляйвице (или «Гляйвицкая провокация») – инсценировка нападения поляков на немецкую радиостанцию, организованная Гейдрихом по указанию Гитлера и проведенная 31 августа 1939 года с целью оправдания нападения Германии на Польшу.
(обратно)90
Франц Гальдер (1884–1972) – начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта в 1938–1942 годах.
(обратно)91
Фольксдойче – этнические германцы, которые жили за пределами старого рейха. Во время Второй мировой войны одно из управлений СС осуществляло программу их переселения на оккупированные восточные территории. Программой руководил Гиммлер, назначенный рейхскомиссаром по расселению германской расы. В рамках кампании по «онемечиванию» новых территорий он приказал провести экспроприацию собственности и имущества неарийцев в пользу немцев. Переселившись, фольксдойче бесплатно получили в свое пользование дома, мастерские, фермы, предметы мебели и одежду, ранее принадлежавшие полякам и евреям.
(обратно)92
Король Кристиан X (1870–1947) – король Дании с 1912 по 1947 год, король Исландии с 1918 по 1944 год. Не имея возможности противостоять силам вермахта и столкнувшись с угрозой бомбардировок их военно-воздушных сил, которые могли последовать в случае непринятия немецкой «защиты», Кристиан X совместно со своим правительством капитулировали 9 апреля 1940 года. Оккупация Дании продолжалась до 5 мая 1945 года.
(обратно)93
Поль-Анри Спаак (1899–1972) – премьер-министр Бельгии (1938–1939, 1946, 1947–1949).
(обратно)94
Король Бельгии Леопольд III согласился на капитуляцию вопреки мнению своего правительства. В итоге бельгийское правительство без своего короля продолжило борьбу в изгнании. Для союзников эта капитуляция явилась полной неожиданностью. Споры по поводу решения короля длились и после войны – как бы то ни было, в условиях конституционной демократической монархии Леопольд обязан был согласиться с решением своего правительства. После войны Леопольд III почти пять лет провел в Швейцарии, пока в Бельгии не провели референдум, на котором 57 % бельгийцев все-таки высказались за возвращение опального короля. Однако, вернувшись, он был вынужден отречься от трона в пользу своего старшего сына, так как был настолько непопулярной фигурой в родной стране, что недовольства могли вылиться в гражданскую войну.
(обратно)95
Хейнц Гудериан (1888–1954) – генерал-полковник германской армии (1940), генерал-инспектор бронетанковых войск (1943), начальник Генерального штаба сухопутных войск (1945).
(обратно)96
Дюнкеркская операция – в мае 1940 года британский экспедиционный корпус был окружен в районе порта Дюнкерк и неизбежно был бы уничтожен немцами, но немецкое командование получило неожиданный приказ остановиться. Британское командование воспользовалось этой возможностью и тут же начало эвакуацию своих войск. Все имевшиеся суда были направлены к Дюнкерку, чтобы вызволить английских солдат. Перед началом операции англичане рассчитывали спасти самое большее 45 000 человек, но было эвакуировано 338 000 военнослужащих, а также более 90 000 солдат других стран союзной коалиции. В итоге англичанам удалось сохранить свой экспедиционный корпус, что делало возможным продолжение противостояния. Потери относились прежде всего к технике, которую пришлось бросить практически всю. Многие историки сходятся во мнении, что это предопределило ход войны. Немецкая же пресса преподнесла своим гражданам события в Дюнкерке как триумф.
(обратно)97
Вильгельмина (1880–1962) – королева Нидерландов с 1890 по 1948 год. В мае 1940 года, отказавшись подчиниться требованиям немецкой стороны, покинула страну и возглавила в Лондоне правительство в изгнании.
(обратно)98
Эдуард VIII (1894–1972) – король Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов на протяжении девяти месяцев в 1936 году. Отрекся от престола ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон. После отречения получил титул герцога Виндзорского. Выступал против вмешательства во внутренние дела Германии. После отречения с женой посетил Германию, где лично встретился с Гитлером. После начала войны Эдуард дал интервью португальскому изданию, в котором явно прослеживались его пораженческие настроения. Тогда британское правительство отправило бывшего короля на Багамские острова, где он был назначен губернатором.
(обратно)99
Как дела? (англ.)
(обратно)100
Зондеркоманда – особое подразделение заключенных, которые работали в крематориях. Сопровождали узников в газовую камеру, затем извлекали трупы, обыскивали в поисках ценностей, вырывали золотые зубы, сжигали тела в печах или рвах. Членов зондеркоманд выбирали из наиболее крепких новичков, прибывавших в лагерь. Никому не сообщали заранее, какая работа их ожидает. Некоторые не выдерживали и кончали жизнь самоубийством. Создание подобных команд было инициировано руководством лагерей, так как охранники не выдерживали психологического напряжения, занимаясь этой работой. Сразу после войны отношение к членам зондеркоманд было противоречивым, многие обвиняли их в пособничестве нацистам. Не путать с зондеркомандами в составе айнзацгрупп СС, действовавших на восточных территориях в рамках выполнения карательной политики Третьего рейха.
(обратно)101
Включена в Федеральный список экстремистских материалов. – Прим. ред.
(обратно)102
Конкордат 1933 года – договор, заключенный 20 июля 1933 года между нацистской Германией и Римско-католической церковью. Соглашение декларировало свободу церкви в Германии в решении внутренних вопросов, поддерживало католическое образование и церковный брак, позволяло священникам служить в госпиталях, тюрьмах и других государственных учреждениях. Церковь, в свою очередь, обязалась распустить все католические политические организации. Этот шаг рассматривался Святым престолом как защитная мера в период активных нацистских репрессий. Однако скоро стало ясно, что никакой защиты соглашение не несет: множество священников были арестованы, закрывались католические организации и журналы. Политика нацистов нарушила фактически все пункты конкордата.
(обратно)103
Вагон Фоша, также «Компьенский вагон», «вагон перемирия». Железнодорожный вагон, который принадлежал французскому маршалу Фердинанду Фошу и в котором 11 ноября 1918 года в лесу близ города Компьеня было подписано Первое компьенское перемирие между Францией и другими союзниками с одной стороны и капитулировавшей Германией – с другой. Подписание завершило боевые действия Первой мировой войны. Место было названо поляной Перемирия. Через 22 года, в июне 1940-го, французские войска были разбиты армией Третьего рейха. По приказу Гитлера в музейном здании на поляне Перемирия проломили стену, чтобы извлечь знаменитый вагон. В нем французы вынуждены были подписать Второе компьенское перемирие, означавшее фактическую капитуляцию Франции. Потом вагон доставили в Берлин, где он был выставлен на всеобщее обозрение.
(обратно)104
Намек на Шаббат – седьмой день недели в иудаизме, субботу – день, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы. В древние времена наказанием за нарушение покоя в субботу была смертная казнь.
(обратно)105
Люфтваффе (нем. Luftwaffe) – военно-воздушные силы в составе вооруженных сил Германии. Главнокомандующим люфтваффе был Герман Геринг (9 марта 1935 – 23 апреля 1945 года).
(обратно)106
«Т-4» (от нем. "Aktion Tiergartenstraße 4", «Операция Тиргартенштрассе, 4») – секретная программа по стерилизации, а потом по физическому уничтожению людей с психическими отклонениями, умственно отсталых и имеющих наследственные заболевания. Впоследствии под действие программы попали нетрудоспособные лица (инвалиды и болеющие более пяти лет). Реализация программы проходила в центрах «смерти из милосердия». Несмотря на попытки ответственных лиц скрыть деятельность программы от населения, масштабы ее были таковы, что вскоре о ней стало известно, и это вызвало общественное недовольство.
(обратно)107
8 февраля 1942 года, после внезапной гибели Фрица Тодта, Альберт Шпеер, личный архитектор Адольфа Гитлера, был назначен на освободившуюся должность рейхсминистра вооружений и военного производства. Произошло это к удивлению и самого Шпеера, и всей политической и военной верхушки нацистской Германии. За свою деятельность на этом посту Альберт Шпеер был приговорен военным трибуналом в Нюрнберге к 20 годам заключения в тюрьме Шпандау.
(обратно)108
СССР ратифицировал Женевское соглашение только 10 мая 1954 года, когда бо́льшая часть военнопленных уже была отпущена. Гаагские соглашения были ратифицированы еще позже – 7 марта 1955 года, хотя именно Россия (еще тогда царская) была инициатором первой Международной конференции в Гааге в мае 1899-го, посвященной правовым нормам гуманного обращения с военнопленными. Отказавшись сразу ратифицировать Женевскую конвенцию, СССР как правопреемник Российской империи также не подтвердил свою ратифицирующую подпись и под Гаагской конвенцией. Таким образом, советские военнопленные не попадали под действие этих соглашений. Впоследствии этот факт использовался нацистами, чтобы оставить советских пленных без защиты и контроля со стороны Международного Красного Креста и других организаций, которые помогали пленным западных стран. Но даже те соглашения, которые СССР ратифицировал (например, соглашение Женевской конвенции о раненых и больных), немцы игнорировали. Уже в ходе войны нарком иностранных дел В. М. Молотов в циркулярном сообщении от 27 апреля 1942 года заявил, что СССР присоединился к Гаагской конвенции де-факто.
(обратно)109
Франц Цирайс (1905–1945) – штандартенфюрер СС, комендант концентрационного лагеря Маутхаузен.
(обратно)110
Карл Кох (1897–1945) – штандартенфюрер СС, комендант концентрационных лагерей Заксенхаузен (июль 1936 – июль 1937 года), Бухенвальд (июль 1937 – сентябрь 1941 года), Майданек (сентябрь 1941 – август 1942 года).
(обратно)111
Альберт Видман (1912–1986) – унтерштурмфюрер СС, немецкий химик, работал в программе «Т-4».
(обратно)112
Альфред Плётц (1860–1940) – немецкий психиатр. Ввел термин «расовая гигиена». Согласно его теории, разделение людей на высшую расу и низшие элементы и недопустимость скрещивания между ними позволит улучшить расовую чистоту немцев. Представителей высшей расы следовало поддерживать, а воспроизводство низших элементов предотвращать. Нацистский режим активно использовал идеи Плётца в своей пропаганде и в обосновании программы «Т-4» и «окончательного решения еврейского вопроса».
(обратно)113
«Сент-Луис» – лайнер, на котором произошло «Плавание обреченных». В мае 1939 года корабль вышел из порта Гамбурга, на борту находились 930 еврейских беженцев. Добравшись до берегов Кубы, корабль простоял на рейде четыре дня, пытаясь получить разрешение зайти в порт, но кубинские власти потребовали за предоставление убежища пассажирам полмиллиона долларов. Не получив денег, Куба отдала приказ лайнеру покинуть свои территориальные воды, в противном случае корабль был бы атакован силами кубинского военного флота. Отказом принять беженцев ответили и США. Капитан принял решение направить корабль обратно в Гамбург. В последний момент еврейская благотворительная организация «Джойнт» добилась, чтобы пассажирам «Сент-Луиса» было разрешено сойти на берег в других европейских странах: 287 человек согласилась принять Великобритания, 224 – Франция, 214 – Бельгия и 181 – Нидерланды. Но спустя год немецкие войска оккупировали страны Западной Европы, и пассажиры «Сент-Луиса» снова оказались в их власти. Войну пережило около 680 участников того плавания.
(обратно)114
Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями от 14 июля 1933 года. Этот закон предусматривал принудительную стерилизацию определенных категорий граждан с целью обеспечения чистоты генофонда немецкого народа и предотвращения рождения потомства с возможными генетическими заболеваниями. Решение о принудительной стерилизации принималось специальным судом, состоящим из двух психиатров и одного судьи.
(обратно)115
Ниско – город в Польше.
(обратно)116
Мадагаскарский проект – планы по переселению евреев на Мадагаскар. Идея эта была не оригинальна. В 1937 году поляки обратились к французам с просьбой помочь им в деликатном вопросе – переселить куда-нибудь три миллиона евреев. Рабочая группа, созданная для решения этой задачи, подчеркивала еврейскую перенаселенность Польши, превышение их рождаемости над польской и их более высокое материальное положение. Франция откликнулась на просьбу, вспомнив о своих владениях у побережья Африки. Вскоре на Мадагаскар отправилась польская комиссия, чтобы оценить, сколько евреев Польша сможет туда отправить. Но в ходе поездки стало ясно, что на Мадагаскаре в силу малого количества плодородных земель нет возможности для массового переселения. От проекта отказались. Позже идея вернулась к жизни в штабе Гиммлера.
(обратно)117
Рейхсгау (нем. Reichsgau, «имперский округ») – с 1939 по 1945 год административная единица Третьего рейха, созданная на присоединенных к Германской империи территориях.
(обратно)118
Во время немецкой оккупации польский город Лодзь был переименован в Лицманштадт (1940–1945).
(обратно)119
Артур Грайзер (1897–1946) – обергруппенфюрер СС, гауляйтер рейхсгау Вартеланд.
(обратно)120
Гау – изначально в нацистской Германии так обозначались партийные округа, а гауляйтерами называли руководителей региональных отделений нацистской партии. С устранением остальных партий гау постепенно превратились из единицы партийного управления территорией в единицу административно-хозяйственную, соответственно возросло и их число. После 1945 года название «гау» перестало употребляться в официальных текстах.
(обратно)121
Альберт Форстер (1902–1952) – обергруппенфюрер СС, гауляйтер рейхсгау Данциг – Западная Пруссия.
(обратно)122
Синти и рома – этнические группы цыган.
(обратно)123
Adolph Saurer AG (1903–1982) – швейцарская компания, производившая вышивальные и текстильные машины, грузовики и автобусы под торговыми марками Saurer и Berna. Компания основана Францем Заурером.
(обратно)124
Ганс Каммлер (1901–1945) – руководитель Строительного бюро СС, отвечал за строительные работы и поставки рабочей силы из концентрационных лагерей, руководил строительством подземных заводов по производству истребителей. Отвечал за ракетную программу Третьего рейха.
(обратно)125
Ундервуд, адлер – названия пишущих машинок, производимых одноименными компаниями.
(обратно)126
27 мая 1942 года в пражском пригороде Либень в результате диверсионной операции «Антропоид», подготовленной британской спецслужбой и чехословацким правительством в изгнании, Рейнхард Гейдрих был тяжело ранен Йозефом Габчиком и Яном Кубишем. Несмотря на все усилия нацистских врачей, 4 июня Гейдрих скончался. После его смерти нацисты начали кампанию жесточайшего террора против чехов.
(обратно)127
Дитер Вислицени (1911–1948) – штурмбаннфюрер СС, работал под руководством Адольфа Эйхмана в Центральном имперском управлении по делам еврейской эмиграции.
(обратно)128
Александр Мах (1902–1980) – министр внутренних дел Словакии (1940–1945). Выступал за тесное сотрудничество с Германией. Был ответственным за депортацию евреев.
(обратно)129
Войтех Тука (1880–1946) – премьер-министр Словакии (1939–1944). Возглавлял радикальное крыло Словацкой народной партии.
(обратно)130
Йозеф Тисо (1887–1947) – словацкий римско-католический священник, президент Первой Словацкой республики (1939–1945). Несмотря на то что открыто конфликтовал с пронемецким правительством Войтеха Туки, тем не менее был солидарен с ним в отношении еврейского вопроса. 15 мая 1942 года подписал закон о депортации евреев.
(обратно)131
Усташи – фашистская националистическая организация. В апреле 1941 года встала во главе только что созданного при поддержке стран «оси» Независимого государства Хорватия. Существовала до мая 1945-го. Основателем и лидером был Анте Павелич.
(обратно)132
Густав Рихтер (1912–1997) – штурмбаннфюрер СС, уполномоченный по делам евреев в составе немецкого посольства в Бухаресте.
(обратно)133
Йон Антонеску (1882–1946) – маршал, премьер-министр и кондуэктор Румынии в 1940–1944 годах. Организовал депортацию около 40 000 румынских евреев в нацистские концлагеря, конфисковав при этом все их имущество. Позднее санкционировал аресты евреев на присоединенной к Румынии советской территории.
(обратно)134
Альфред Розенберг (1893–1946) – министр Германии по делам оккупированных восточных территорий с июля 1941 по май 1945 года.
(обратно)135
Барон Манфред фон Киллингер (1886–1944) – посол Германии в Бухаресте.
(обратно)136
Артур Зейсс-Инкварт (1892–1946) – обергруппенфюрер СС, рейхскомиссар Нидерландов в 1940–1945 годах.
(обратно)137
Видкун Квислинг (1887–1945) – глава норвежского правительства во время оккупации Норвегии германскими войсками. Национал-социалист, коллаборационист.
(обратно)138
Фридрих Паулюс (1890–1957) – генерал-фельдмаршал, командующий Шестой армией, окруженной под Сталинградом. 30 января 1943 года в последней радиограмме Гитлер приказал обороняться «до последнего солдата и последнего патрона» и сообщил, что присуждает Паулюсу звание фельдмаршала, добавив, что «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Фактически это означало требование самоубийства Паулюса в случае поражения. На следующий день Фридрих Паулюс был взят советскими войсками в плен.
(обратно)139
Речь о П. Я. Чаадаеве (1794–1856). Приведена неточная цитата из его первого «Философического письма», опубликованного в журнале «Телескоп» (1836, № 15). После анонимной публикации автора признали умалишенным, запретив ему впредь печататься.
(обратно)140
Атебрин – одно из названий устаревшего препарата мепакрин, обладавшего в основном противопаразитарным действием. Использовали также для лечения малярии, красной волчанки, кожного лейшманиоза, псориаза. Менее активен, чем современные лекарственные средства, кроме того, вызывает окрашивание кожи и слизистых оболочек в желтый цвет. В настоящее время практически не применяется.
(обратно)141
Комедия окончилась! (итал.)
(обратно)142
Карл Дёниц (1891–1980) – гроссадмирал, командующий подводным флотом Германии (1939–1943), главнокомандующий военно-морским флотом (1943–1945). С 30 апреля по 23 мая 1945 года – глава государства и главнокомандующий вооруженными силами нацистской Германии.
(обратно)143
Эггерт Реедер (1894–1959) – группенфюрер СС, глава военной администрации при штабе главнокомандующего в оккупированных Бельгии и Северной Франции.
(обратно)144
Вернер Бест (1903–1989) – обергруппенфюрер СС, немецкий уполномоченный в оккупированной Дании.
(обратно)145
Терезиенштадт (Терезинское гетто) – концлагерь, располагавшийся на территории бывшего гарнизонного города Терезина в Чехии. В отличие от остальных нацистских концлагерей, был известен более мягкими условиями заключения: в нем действовали синагоги и христианские молитвенные дома, имелись лекционные залы, выпускались журналы. Среди узников было много ученых, литераторов, композиторов, художников, врачей и политиков.
(обратно)146
«Адлон» – фешенебельный отель в центре Берлина. Построен в 1907 году в районе Доротеенштадт на бульваре Унтер-ден-Линден, недалеко от Бранденбургских ворот. Имел, помимо всего прочего, собственное бомбоубежище для гостей и персонала, оборудованное по стандартам отеля класса люкс.
(обратно)