| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Сказки французских писателей (fb2)
 - Сказки французских писателей (пер. Александр Александрович Смирнов (филолог, переводчик),Нора Галь (Элеонора Гальперина),Михаил Давидович Яснов,Наталия Самойловна Мавлевич,Гораций Аркадьевич Велле, ...) (Антология детской литературы - 1988) 11106K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гийом Аполлинер - Даниэль Буланже - Марсель Эме - Анатоль Франс - Раймон Кено
- Сказки французских писателей (пер. Александр Александрович Смирнов (филолог, переводчик),Нора Галь (Элеонора Гальперина),Михаил Давидович Яснов,Наталия Самойловна Мавлевич,Гораций Аркадьевич Велле, ...) (Антология детской литературы - 1988) 11106K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Гийом Аполлинер - Даниэль Буланже - Марсель Эме - Анатоль Франс - Раймон Кено
СКАЗКИ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ


ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА В XX ВЕКЕ
Жанр литературной сказки зародился во французской литературе уже довольно давно, но и поныне к нему обращаются писатели, развивая и обогащая его, приспосабливая для выражения современных идей. Литературные сказки могут быть веселыми и печальными, трогательными, поэтичными или насмешливыми, сатирически заостренными, никогда при этом не бывая скучными: в этом секрет их притягательности для читателей разных возрастов. Сказки полны буйной фантазии, забавных и нелепых, комичных в своей нелепости выдумок, бросающих вызов рутине повседневной жизни. Они привлекают особой добродушно-ироничной манерой повествования, которая — и в этом удивительное свойство сказки — оказывается одинаково пригодной как для фарсовой шутки, так и для назидания. Создавая миры, где волшебные силы вторгаются в реальную жизнь, писатели будят в нас творческую фантазию, воспитывают умение любить и ценить мечту.
Сказка — одна из самых древних форм народного творчества — вдохновляет писателей с самых давних времен. М. Горький, например, замечал, что уже древнеримский писатель Апулей (род. ок. 124 г.) заимствовал сюжет своего знаменитого романа «Золотой осел» из сказки.
Во французской литературе средневековья и Возрождения, как в духовной, так и в светской, можно назвать немало произведений, в которых использованы сказочные мотивы.
Начиная с XVI века французскую литературу отличает свободное, более свободное, чем в литературах других европейских стран, обращение с фольклорной традицией. Достаточно вспомнить навеянные фольклором, но весьма далеко отошедшие от своих сказочных предков — наводящих ужас людоедов — образы великанов из романа Рабле (1494–1553) о Гаргантюа и Пантагрюэле.
И все же для большинства читателей история французской литературной сказки (то есть рассказанной конкретным автором и несущей на себе печать его видения мира) начинается со «Сказок моей матушки Гусыни…» (1699) Ш. Перро (1628–1703), куда вошли среди прочих «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода» — классические, ставшие хрестоматийными сказки, созданные на основе международных фольклорных сюжетов, зарегистрированных впоследствии в известном «Указателе сказочных сюжетов по системе А. Аарне» (1929).
Писатели заимствовали сюжеты для сказок не только из фольклора, но и из литературы: национальной и мировой. Очень популярным источником сказочных сюжетов была, например, книга итальянского писателя раннего Возрождения Боккаччо (1313–1375) «Декамерон»: из нее черпали сюжеты и Б. Деперье (ок. 1500–1543 или 1544), и Жан де Лафонтен (1621–1695), и Ш. Перро. Не были обойдены вниманием и рыцарские романы, и произведения античного искусства. Так, Лафонтен по-своему рассказал в «Любви Психеи и Купидона» (1669) историю Амура и Психеи из авантюрно-сказочного романа Апулея «Золотой осел».
Кроме сказок, сюжеты которых имели отчетливые фольклорные соответствия или конкретную литературную традицию, были еще сказки, рожденные одним лишь писательским воображением. К ним можно отнести «Рике с хохолком» (1696) Катрин Бернар (1662–1712) (позднее эту сказку переработал Ш. Перро, заменив печальный конец на более привычный счастливый).
Но к какому бы сюжету — фольклорному, литературному или оригинальному — ни обращались авторы сказок, их персонажи всегда отмечены чертами французского национального характера, всегда оказываются выразителями того «галльского духа», который так привлекал Г. Гейне. «Франция, — писал он, — неподходящая почва для привидений. Французское привидение — какое противоречие в этих словах! В слове «привидение» заключено так много одинокого, неприветливого, немецкого, молчаливого, а в слове «французский» — так много общительного, любезного, французского, болтливого!»[1]
Особого расцвета авторская сказка достигает во Франции в XVIII столетии — «золотом веке сказки»[2], по определению А. Франса. Именно тогда, в век Просвещения, выделилась и получила самостоятельное развитие философская сказка (или философская повесть, как ее еще называют), достигшая вершин в творчестве Вольтера (1694–1778). А. Франс заметил как-то, что «Кандид» Вольтера «намаран в три дня, а будет жить вечно»[3]. Не возьмемся судить с точки зрения вечности, но вот уже более двухсот лет «Задиг» (1747), «Кандид» (1759), «Простодушный» (1767), «Белый бык» (1773), так же как другие его философские сказки, пользуются любовью читателей и привлекают писателей, вдохновляя их на работу в этом жанре. Например, сказка А. Франса «Рубашка» (1909), несомненно, написана в традиции вольтеровских философских сказок. Если у Вольтера явственно обнаруживается сатира на придворную жизнь времен Людовика XV, то под пером А. Франса известный сказочный сюжет о больном короле, которого может вылечить только рубашка счастливого человека, превращается в едкую сатиру на французское общество конца XIX — начала XX века.
В XVIII веке литературная сказка отразила общее для всех французов увлечение Востоком, стимулированное появлением переводов арабских сказок «Тысяча и одна ночь» (1704–1717). Жак Казот (1719–1792), вошедший в мировую литературу как автор фантастического романа «Влюбленный дьявол» (1772), составил два сборника волшебных сказок, навеянных восточным фольклором: «Тысяча и одна глупость» (1742) и «Продолжение тысячи и одной ночи» (1788–1789).
В начале XIX века, в период становления в искусстве романтизма, усилился интерес писателей к фольклору, который признан был тогда важным элементом национальной культуры. Не всегда такое усиление интереса побуждало их к созданию новых литературных сказок, иногда писателей влекла другая цель: сохранить в неприкосновенности и донести до потомства древние образцы народного творчества. Следуя этой цели, в 30-е годы Ж. Санд предложила читателям собранные ею сказки Берри[4], а Ж. де Нерваль — сказки провинции Валуа; оба писателя намеренно избрали себе скромную роль «сказителей».
Литературные, авторские сказки появлялись в это время реже, чем в XVIII веке, но эволюция жанра не прекращалась. Она продолжена была в творчестве Ш. Нодье (1780–1844), создавшего цикл «Фантазии и легенды» (1838), куда вошли три сказки: «Фея хлебных крошек», «Бобовое сокровище и Цветок горошка» и «Четыре талисмана». По ироничному обращению с фольклорной традицией — вольности, к которой Ш. Нодье — тонкий знаток и ценитель фольклора — прибегнул сознательно, они близки к современной сказке. Писатель остроумно пародировал фольклорные каноны, включал в сказки реалии современной ему действительности и литературные реминисценции.
К жанру литературной сказки обращался и А. Доде (1840–1897). В его «Письмах с моей мельницы» (1869) написанная в лучших традициях народной сказки «Козочка господина Сегена» (история этой козочки очень похожа на всем нам известную историю серого козлика — того самого, который жил-был у бабушки) соседствует с «Легендой о человеке с золотым мозгом», больше напоминающей философскую сказку.
В XX веке, принесшем с собою жестокие общественные катаклизмы, две мировые войны, атомные бомбардировки и невиданный прогресс машинной цивилизации, разительные перемены произошли в искусстве и литературе, в частности резко усилился процесс ломки, смешения границ жанров. Этот процесс, естественно, затронул и литературную сказку, которая отразила размывание жанровых границ и смешение форм, при этом она ослабила свои связи не только с фольклорными, но и с литературными предками.
Писатели, чьи произведения вошли в предлагаемый вниманию читателей сборник, брали сюжеты своих сказок либо непосредственно из фольклора, либо из существующих литературных его переработок; реже они сочиняли их сами, ориентируясь на сказочную традицию. Причем по способу следования образцам литературные сказки можно разделить на стилизованные «под фольклор» и пародирующие, сатирически переосмысляющие исходные формы (таких большинство). Современные авторы отнюдь не отказываются от найденных мастерами жанра удачных приемов: подобно своим предшественникам, они вводят в сказку литературные реминисценции, анахронизмы, помещают в стародавние времена реалии нашего века и даже переносят действие в современность.
Рассказывая стилизованную в духе волшебных сказок и рыцарских романов историю маленькой Батильды, по вине злых фей лишившейся слуха («Хранитель Ломского леса», 1971), Веркор сокрушается, что, родившись в незапамятные времена, когда живы еще были духи леса, она на всю жизнь должна была остаться немой: ведь «специальных-то школ, как сейчас, и в помине не было!» «Как сейчас» Веркора не укладывается уже во временные структуры, свойственные фольклорной волшебной сказке. В сказке М. Эме «В лунном свете» истории про фей, помогающих влюбленным соединиться, иронически переосмысляются. Добрая фея попала в наш век, где многое кажется ей странным, даже вызывает раздражение: и жандарм, донимающий ее придирками, и юноша, безудержно похваляющийся своим шестицилиндровым автомобилем, обогнавшим колесницу феи, и то, что счастью влюбленных теперь мешают не темные силы зла, а собственное их упрямство, невежество и тщеславие.
Изощренно сочетается литературная и сказочная традиции в «Чтении» (1969) Д. Буланже: в руки героя попадает сказка, отступающая от устоявшегося стереотипа истории про фею и влюбленных. На этот раз фея призвана помочь двум не терпящим друг друга молодым людям исполнить самое заветное их желание: никогда больше не встречаться. Героя увлекает возможность разгадать имя таинственного «дивного» существа, которое вмешалось некогда в судьбу «антивлюбленных», и получить таким образом право на исполнение своего желания. Это ему почти удается, но в самый напряженный момент повествование вновь, как и во вставной сказке, отклоняется от привычной схемы, герой забывает магическое имя, мелькнувшее в его сознании, поэтому никогда не явится на его зов «волшебный помощник».
В «Маленьком принце» (1943) А. де Сент-Экзюпери тоже угадывается традиционный сюжет волшебных сказок о влюбленном принце, вынужденном из-за несчастной любви покинуть родной кров, но и здесь сюжет иронически переосмыслен: принц, сотворенный воображением Сент-Экзюпери, — совсем еще ребенок, он страдает не из-за прекрасных глаз какой-нибудь принцессы, а из-за капризов цветка, а потому заведомо невозможно окончить его историю веселой свадьбой. В своих скитаниях маленький принц встречается не со сказочными чудовищами, а с людьми, околдованными, словно злыми чарами, эгоистичными и мелочными страстями.
Иногда писатели пародируют не какой-то определенный тип сказок, а конкретное «классическое» произведение конкретного автора.
Классическую сказку Ш. Перро по-своему пересказывает в «Сказке о молодом волке» (1954) Кр. Пино: в его пародии молодой волк, повстречав девочку в красной шапочке, тотчас вспомнил подвиг своего славного предка и загорелся желанием его повторить. Но современная бабушка не та, что в былые времена: это крепкая пожилая женщина, ей оказалось по силам выстоять в поединке с волком, из которого она приготовила аппетитный паштет.
Г. Аполлинеру в сказке «Король Артур, король в прошлом, король в грядущем» (1914) материалом для забавной пародии, изобилующей, в традициях литературной сказки, анахронизмами (действие там происходит, между прочим, 4 января 2105 года), послужили рыцарские романы артуровского цикла.
Ирония пронизывает и «Сказку на ваш вкус» (1973) Р. Кено — причудливый перечень привычных сказочных ходов, порядок которых можно менять по своему усмотрению, получая всякий раз новую микросказочку.
Классическая сказка Ш. Перро «Синяя Борода» вдохновила А. Франса на создание якобы основанного на подлинных документах жизнеописания сеньора, «который справедливо прославился тем, что был женат семь раз подряд», при этом сеньор у него оказался невинной жертвой интриг и дурных склонностей своих жен. В другой его пародии на классическую сказку того же автора — «Истории герцогини де Сиконь и г-на де Буленгрена…» (1909), представленной читателям как продолжение истории Спящей Красавицы, описана горестная судьба двух придворных, случайно оказавшихся в свите усыпленной принцессы. Столетний сон лишил их всего: родных, друзей, состояния, и после пробуждения им уготована участь бездомных бродяг. В этих сказках использованы литературные приемы, к которым уже в XIX веке прибегал Ш. Нодье: в них введены реалии современной писателю жизни, они построены на игре ассоциаций, которая расширяет границы восприятия сказок, заставляет воспринимать их в русле определенной литературной традиции. Обилие имен, отсылающих нас к истории Франции и Древнего Рима, многочисленные упоминания героев легенд и народных преданий помогают в формировании эстетического переживания, обогащают и усиливают его образами, рожденными памятью.
Сказки А. Франса имеют еще одну особенность: в них очень сильно критическое начало — то качество, которое некоторые исследователи кладут в основу классификации сказок, выделяя сатирические сказки в совершенно особый тип. В его произведениях ирония часто служит сатирическому обличению, иногда ее сменяет откровенный сарказм; не случайно сам он назвал сказки сборника «Синяя Борода и другие чудесные рассказы» «жестокими».
Позднее к теме жестокости и даже абсурдности мира обратится в своем творчестве Б. Виан. «Вселенная Виана», открывающаяся перед нами в его сказках, как и запечатленная в сказках А. Франса, утратила бы силу эстетического воздействия, не будь ее восприятие подкреплено всем культурным опытом читателя: ведь сама возможность почувствовать пародию опирается на знакомство с оригиналом.
Один из исследователей творчества писателя справедливо назвал законы, по которым развивается сюжет в его произведениях, «поэтикой лубка»; фольклорным предком его сказок являются веселые «небывальщины», а мир, созданный его воображением, — это мир гротеска, в котором реальное переплетается с карикатурным и смешное смыкается с трагическим. В «Водопроводчике» (1949) описан не реальный жизненный эпизод, а его фантастическая фикция. В «Печальной истории» (поем. 1970) пародируется одновременно и рождественская сказка со счастливым для героини концом (печальным он оказался для героя, но… «к каждому ли кто-нибудь поспевает в нужную минуту?»), и жития святых, поскольку герои носят легендарные, «обязывающие» имена праведников.
Если у Б. Виана гротеск и пародия выступают как равноправные художественные способы отражения действительности, то в «Хронике Баламутских островов» (1952) Ж. Превера (восходящей, как и сказки Виана, к фольклорным «небывальщинам») гротеск преобладает. История строительства моста, который должен был соединить Великий Континент с маленьким Ничегостровом, одним из тех Баламутских островов, где «мир и покой навевали дрему и счастье разгуливало по острову, как по собственному дому», где жили беззаботные туземцы, ловившие рыбу на крючки из чистого золота, чуть не приняла для этих самых туземцев трагического оборота, — ведь только воистину сказочная удача помогла им освободиться из пут могущественного акционерного общества.
В сказках М. Эме про Дельфину и Маринетту, предназначенных, как уверяет писатель, для всех детей от 4 до 75 лет, действие развивается по законам, близким законам бытовой народной сказки. Корова Бодунья имеет такой же зловредный нрав, как фольклорная коза-дереза («Коровы»), глупый солдат, меняя коня на барана, а потом и вовсе на деревянную лошадку, позволяет дурачить себя, как мужик на базаре («Баран»), животные, подобно сказочным волшебным помощникам, выручают сестренок, вместо них выполняя порученную им работу («Коробка с красками»). Иные из сказок похожи на басни, мораль которых должны вывести сами читатели: таковы истории про свинью, пожелавшую стать необыкновенной красавицей («Павлин»), про ленивого и неблагодарного слепого и добрую собаку («Собака»), про то, как разгневался кот — повелитель дождей («Кошачья лапа»), про горькие плоды просвещения («Волы») и про то, что радости диких животных не похожи на радости домашних («Олень и собака»). Все эти сказки написаны в ироничной манере, полны мягкого юмора.
В XX веке не остались без продолжения и традиции философской сказки. Кроме «Рубашки» А. Франса, о которой уже шла речь в статье, к таким сказкам можно отнести «Возмущение Тай Пу» (1913) А. де Ренье и «Оскар и Эрик» (1960) М. Эме.
Подобно притче и басне, философская сказка всегда содержит определенно выраженную моральную идею. Так, в сказке Ренье, стилизованной под «экзотический» восточный фольклор, утверждается мысль о том, что самое страшное преступление совершает убивающий красоту, а М. Эме в своей сказке «Оскар и Эрик» говорит о волшебной силе искусства, способного провидеть то, что недоступно еще опыту: художник в далекой северной стране рисует несуразные растения, состоящие из медвежьих ушей с иглами или чешуйчатых свеч с пучком листьев на макушке. За это соотечественники прозвали его Безумным. Когда же его брат-моряк привозит из кругосветного плавания кактусы и пальмы, все с удивлением обнаруживают, что они в точности такие, как растения на полотнах художника.
Если в XVIII веке французские сказочники открыли для себя фольклор восточных народов, то честь открытия и освоения африканского фольклора принадлежит писателям XX века. К стилизациям под этот фольклор следует отнести сказки Б. Сандрара «Ветер» (1928) и «Бывает-не-бывает» (1928), созданные им на основе древнейшего вида сказок — этиологических рассказов, то есть рассказов о происхождении всего, что есть на земле. Стилизована под африканский фольклор и сказка Р. де ла Биша «Дорога Какао» (1954).
Превосходно стилизованы под народные сказки о животных истории, рассказанные М. Верите, и далеко отошли от фольклорных источников необычные даже по форме — выстроенные в виде диалогов — сказки о животных С. Г. Колетт. Герои писательницы — кот Неженка-Кики и бульдог Пес-Тоби — весьма критически относятся к своим хозяевам: «двуногие» имеют множество привычек, делающих общение с ними не всегда желанным и приятным для животных. Образы их рождают в читателе не фольклорные, а скорее литературные ассоциации: в памяти оживают глубокомысленные беседы, которые вели между собой гофмановские кот Мурр и черный пудель Понто.
В сказках нашего времени получила развитие и традиция так называемых назидательных рассказов, ведущих свое происхождение от древних мифов и достигших особой популярности в средние века. В них описывалось животное или растение, появившееся на свет в результате чудесного превращения, и приводилась связанная с этим событием легенда. Так, в сказке М. Ноэль «Золотые башмачки» (1949) говорится о возникновении нежного цветка, который по-русски зовется «венериным башмачком». К этой же традиции может быть отнесена сказка Р. Кузена о превращении поэта в могучее дерево. Первая сказка представляет собой последовательную стилизацию под фольклорный образец, вторая, действие которой отнесено к недавнему прошлому, в меньшей степени ориентирована на сказочный канон.
Специального разговора заслуживают сказки, имеющие двойное истолкование: события описаны в них таким образом, что их можно с одинаковым основанием отнести и ко сну, и к яви: герой сказки Кр. Пино «Грот кокеток» (1954), совершивший путешествие в пещеру тысячи огней, куда в наказание за кокетство волшебные силы помещали жестокосердных красавиц, «так никогда и не узнал, видел он все это наяву или во сне».
Сказки, в которых даны две версии одних и тех же событий (причем одна из них исключает вмешательство сверхъестественных сил), имеют в европейской литературе собственную историю, достаточно вспомнить в этой связи хотя бы «Золотой горшок» Гофмана (1776–1822), где автор предоставляет читателю самому решить, явилась ли золотая змейка Серпентина студенту Ансельму на самом деле или только пригрезилась ему во сне. В сказке Л. Лакомб «Большая белая молния» (1959), как и в сказке Гофмана, отчетливо различимы два плана повествования: план бытовой, даже слегка приземленной действительности — жизнь героя на острове — и встреча его со сказочными существами, которая, согласно одной из двух предлагаемых читателю версий, могла произойти и во сне.
Сказки, которые вошли в эту книгу, очень разные, и хочется верить, что читатель, увлеченный царящей в них атмосферой забавной шутки, литературной игры, остроумной пародии или поэтичного вымысла, обязательно отыщет среди них «сказки на свой вкус».
Н. И. ПОЛТОРАЦКАЯ
СИДОНИ-ГАБРИЕЛЬ КОЛЕТТ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЖИ
Неженка-Кики — ангорский полосатый кот.
Пес-Тоби — бульдог с ухоженной шерстью.
Он, Она — менее важные господа.
Залитое солнцем крыльцо. Час послеобеденного отдыха. Пес-Тоби и Неженка-Кики лежат на разогретом камне. Воскресная тишина. Однако Пес-Тоби не спит, его беспокоят мухи и слишком тяжелый обед. По-лягушачьи волоча свой распластанный зад, он подползает на брюхе к Неженке-Кики, неподвижному клубку полосатой шерсти.
Пес-Тоби. Ты спишь?
Неженка-Кики. (Тихое мурлыканье…)
Пес-Тоби. Ты еще жив? Вот уж распластался! Ты похож на снятую с кота шкурку.
Неженка-Кики (умирающим голосом). Оставь…
Пес-Тоби. Ты не болен?
Неженка-Кики. Оставь меня. Я сплю. Я уже не чувствую своего тела. Какая мука жить с тобой рядом. Я поел, сейчас два часа… поспим.
Пес-Тоби. Не могу. У меня словно камень в желудке. Он опускается, но так медленно. К тому же эти мухи, мухи!.. Как только увижу хотя бы одну, у меня глаза вылезают из орбит. И как это мухам удается? Я весь превращаюсь в челюсти со страшно оскаленными зубами — послушай, как они щелкают! — а эти проклятые твари ускользают от меня. О, мои бедные уши! О, мое нежное темно-бурое брюшко, мой воспаленный нос!.. Видишь? Вот прямо на кончике носа!.. Что делать? Я скашиваю глаза изо всех сил… Сейчас две мухи? Нет, одна. Нет, две…
Я подбрасываю их, как кусочек сахара, а хватаю воздух… Не могу больше. Я ненавижу солнце, и мух, и вообще все!..
Неженка-Кики. (Сел, глаза у него поблекли от сна и света. Он стонет.) Все-таки ты разбудил меня! Ты этого хотел, не так ли? Весь сон прошел. А я едва чувствовал, как моего густого меха касаются ножки тех назойливых мух, что ты ловишь. Их легкое, нежное прикосновение заставляло меня иногда вздрагивать и морщить гладкую шелковистую травку, в которую я одет… Но ты во всем несдержан; твоя плебейская радость бьет через край, твоя притворная боль стонет. Что и говорить, южанин!
Пес-Тоби (с горечью). Ну если ты проснулся только для того, чтобы сказать мне это!..
Неженка-Кики (поправляя). Если ты меня разбудил.
Пес-Тоби. Мне было не по себе, я ждал помощи, ободряющего слова…
Неженка-Кики. Я не знаю слов, помогающих пищеварению. И подумать только, ведь из нас двоих именно у меня находят мерзкий характер! Но посмотри на себя, сравни! Жара тебя утомляет, голод сводит с ума, от холода ты леденеешь…
Пес-Тоби(обиженно). Я — тип повышенной чувствительности.
Неженка-Кики. Скажи просто: тип.
Пес-Тоби. Нет, этого я не скажу. А ты — чудовищный эгоист.
Неженка-Кики. Может быть. Ни Двуногие, ни ты ничего не понимаете в эгоизме, в эгоизме Котов. Вы называете им, все смешивая в кучу, и инстинкт самосохранения, и целомудренную сдержанность, и чувство собственного достоинства, и усталое смирение оттого, что вы не способны постичь нас. Пес, хоть и не слишком благородный, но все-таки лишенный предвзятости, может быть, ты меня лучше поймешь? Кот — это обитатель дома, а не игрушка. По правде говоря, не пойму, что за времена наступили! Разве только Двуногие, Он и Она, имеют право грустить, радоваться, лакать из тарелок, ворчать, показывать всем свое переменчивое настроение? У меня тоже бывают капризы, грусть, плохой аппетит, минуты мечтательного уединения, когда я отрешаюсь от мира…
Пес-Тоби (прилежно внимая). Я слушаю тебя, но понимаю с трудом, потому что ты изъясняешься сложно, трудно для моего разумения. Ты меня удивляешь. В Их ли правилах противоречить твоим переменчивым настроениям?
Ты мяукнешь — тебе открывают дверь. Ты ляжешь на бумаге — священной бумаге, по которой Он царапает, — Он отодвигается и — о, чудо! — оставляет тебе запачканную страницу. Ты разгуливаешь, сморщив нос, резко, как маятником, размахивая хвостом, ищешь, по-видимому, как бы нашкодить, — Она наблюдает за тобой, смеется, а Он объявляет: опустошительный поход. Так где же основания для упреков?
Неженка-Кики (притворно). Я не упрекаю. Впрочем, психологические тонкости тебе совершенно недоступны.
Пес-Тоби. Не говори так быстро. Мне нужно время, чтобы понять… Мне кажется, что…
Неженка-Кики (лукаво). Не спеши — от этого может пострадать твое пищеварение.
Пес-Тоби(не чувствуя иронии). Ты прав. Сегодня мне трудно изъясняться. Так вот: кажется, тебя лелеют куда больше, чем меня, а между тем жалуешься именно ты.
Неженка-Кики. Собачья логика! Чем больше мне дают, тем больше я требую.
Пес-Тоби. Это плохо! Неделикатно.
Неженка-Кики. Нет, я имею право на все.
Пес-Тоби. На все? А я?
Неженка-Кики. У тебя, кажется, ни в чем нет недостатка.
Пес-Тоби. Ни в чем? Не знаю. В самые счастливые минуты мне так хочется расплакаться, что останавливается дыхание и мутнеет в глазах… Сердце щемит в груди. Если бы знать в эти тягостные мгновения, что все живое любит меня, что нигде в мире нет несчастной собаки за дверью и что никогда не случится ничего плохого…
Неженка-Кики (насмешливо). И тогда происходит что-то плохое?
Пес-Тоби. А, тебе это известно! Именно тогда неотвратимо появляется Она с желтым пузырьком, в котором плавает эта мерзость… Ты знаешь что — касторка! Бесчувственная, извращенная, Она крепко держит меня между коленями, разжимает мне зубы…
Неженка-Кики. Сжимай их сильнее.
Пес-Тоби. Но я боюсь сделать Ей больно. И вот мой трепещущий от страха язык чувствует эту мерзкую липкую жидкость. Я давлюсь, отплевываюсь. По моему несчастному лицу пробегают судороги агонии, и нет конца этой пытке… А потом, ты видел, я грустно тащусь с опущенной головой, слушая, как противно булькает касторка у меня в животе, тащусь в сад скрыть свой позор…
Неженка-Кики. Ты так плохо его скрываешь!
Пес-Тоби. Дело в том, что я иногда не успеваю.
Неженка-Кики. Когда я был маленьким, Она как-то раз захотела прочистить меня касторкой. Я так Ее оцарапал и укусил, что больше Она за это не принималась. В какой-то момент Ей показалось, что Она держит на коленях сущего дьявола. Я извивался ужом, исторгал пламя, у меня стало в тысячу раз больше когтей и зубов, и я исчез, как по мановению волшебной палочки.
Пес-Тоби. Я бы не посмел. Видишь ли, я люблю Ее. И настолько, что прощаю Ей даже пытку купания.
Неженка-Кики (заинтересованно). Вот как? Что же ты чувствуешь при этом? Расскажи. Меня в дрожь бросает лишь при виде того, что Она с тобой делает в воде.
Пес-Тоби. Увы! Выслушай и пожалей меня. Иногда, выйдя из цинковой ванны, облаченная только в свою нежную, лишенную шерсти кожу, которую я почтительно лижу, Она не сразу надевает свои шкуры из белья и одежды. Она добавляет горячей воды, бросает туда коричневый кирпичик, от которого пахнет дегтем, и говорит: «Тоби!» И этого достаточно: моя душа уже расстается с телом. Ноги подкашиваются. Что-то сверкает на воде, танцует и слепит, какая-то картинка в форме изломанного окна. Она хватает мое несчастное покорное тело и погружает туда… Боги! С этого мгновения я в полном беспамятстве. Вся моя надежда только в Ней, я впиваюсь в Нее глазами, в то время как что-то теплое плотно обволакивает меня, словно кожа вокруг моей кожи…
Мылкий кирпичик, запах дегтя, вода, которая попадает в нос и затопляет уши. А Она возбуждается, весело скребет меня, кряхтит, смеется… Наконец приходит спасение, Она вытаскивает меня за загривок, а я отчаянно бью лапами по воздуху, ища точку опоры; потом шершавое полотенце, купальный халат, в котором я устало наслаждаюсь возвращением к жизни…
Неженка-Кики. (Взволнован до глубины души.) Успокойся.
Пес-Тоби. Еще бы! От одного рассказа об этом… А сам ты так насмешливо-любопытен к моим несчастьям… Разве я не видел однажды, как тебя повалили на туалетный столик, и Она, вооружившись губкой, склонилась над тобой…
Неженка-Кики. (Сильно смущен, бьет хвостом.) Старая история! Запачкались мои пушистые штаны. Она захотела их почистить. Я убедил Ее, что губка причиняет мне жестокую боль.
Пес-Тоби. Какой же ты лгун! И Она поверила?
Неженка-Кики. Гм… не совсем. Я сам виноват. Опрокинутый на спину, беззащитный, я лежал животом вверх, с глазами, наполненными ужасом и всепрощением, как агнец на алтаре. Через пушистые штаны я почувствовал легкую прохладу… и больше ничего… Меня охватил ужас, я испугался, что меня лишат мужественности… Мои непрерывные стоны усиливались, затем слабели — ведь тебе известна мощь моего голоса! Затем снова усиливались, как шум моря; я стал подражать крику бычка, ребенка, которого секут, влюбленной кошки, ветру, гудящему под дверью, мало-помалу опьяняясь собственным криком… Да так, что когда Она уже давно прекратила осквернять меня холодной водой, я все еще стонал, глядя в потолок, а Она бестактно смеялась и кричала: «Ты лжив, как женщина!»
Пес-Тоби (убежденно). Да, это неприятно.
Неженка-Кики. Я сердился на Нее целых полдня.
Пес-Тоби. О, ты мастер дуться. А я не умею. Я забываю оскорбления.
Неженка-Кики (насмешливо-невозмутимо). И ты лижешь руку, которая наносит тебе удар. Известное дело!
Пес-Тоби (простодушно). Я лижу руку, которая… Да, именно так, как ты говоришь. Красивое выражение.
Неженка-Кики. Оно не мое. Ты не страдаешь от избытка достоинства. Право, мне часто стыдно за тебя. Ты всех любишь, покорно выслушиваешь грубые окрики. Твоя душа банальна и благообразна, как городской сад.
Пес-Тоби. Это вовсе не так, невоспитанный Кот. Ты, считающий себя непогрешимым, заблуждаешься насчет проявлений моей вежливости. Что же, ты на самом деле хочешь, чтобы я рычал на Его друзей, Ее друзей? На людей хорошо одетых, с которыми я незнаком, но которые знают мое имя и добродушно треплют меня за уши?
Неженка-Кики. Я ненавижу незнакомые лица.
Пес-Тоби. Я их тоже не люблю, что бы ты там ни говорил. Я люблю Ее и Его.
Неженка-Кики. А я люблю Его… и Ее.
Пес-Тоби. О, я уже давно догадался, кого ты предпочитаешь. Вы питаете друг к другу тайную симпатию.
Неженка-Кики. (Улыбается таинственно-отрешенно.) Симпатию. Да. Тайную, целомудренную и глубокую. Он редко разговаривает, все скребет, как мышка, по бумаге. Ему я отдал свое гордое сердце, драгоценное кошачье сердце. А Он без слов подарил мне свое. Этот обмен сделал меня счастливым и сдержанным, и иногда, влекомый властным и прихотливым инстинктом, который делает нас, Котов, соперниками женщин, я испытываю на Нем свою власть.
Когда мы одни, я навостряю, как чертенок, уши, чтобы он посмотрел, как я прыгну на Его бумагу-для-царапанья, как я стучу лапами — «там-там-там» — по Его разбросанным письмам и перьям, чтобы послушал, как я мяукаю, требуя свободы: «Гимн дверной ручке», — смеется Он, или еще: «Стон узника». Но только к Нему одному обращен нежный взор моих чарующих глаз, прикованных к Его склоненной голове до тех пор, пока Его взгляд не встретится с моим в таком долгожданном и восхитительном слиянии душ, что я со сладостным стыдом опускаю веки… А Она… Она слишком суетится, часто толкает меня, раскачивает в воздухе, схватив за передние и задние лапы, нервно гладит меня, громко смеется надо мной, слишком похоже передразнивает мой голос.
Пес-Тоби. (Взволнован от возмущения.) По-моему, тебе трудно угодить. Конечно, я Его люблю, Он добр. Чтобы не ругать меня, Он старается не видеть моих прегрешений. Но Она! По-моему, самое прекрасное в мире, доброе и непостижимое существо. Звук Ее шагов чарует меня, Ее изменчивый взгляд наполняет меня то счастьем, то грустью. Она подобна Судьбе и не знает сомнений! Даже муки от Ее руки… Знаешь, как Она меня дразнит?
Неженка-Кики. Жестоко.
Пес-Тоби. Не жестоко, а утонченно. Я никак не могу предугадать. Сегодня утром Она наклонилась ко мне, будто хотела сказать мне что-то, приподняла мое обвислое ухо и так пронзительно крикнула, что у меня все зазвенело в голове…
Неженка-Кики. Ужас!
Пес-Тоби. Хорошо Она поступила? Или плохо? Я и теперь точно не знаю. Это вызвало во мне нервное возбуждение… Чуть ли не каждый день ее фантазия требует, чтобы я делал «рыбку»: Она поднимает меня, сжимает мне бока так, что я задыхаюсь и мой рот безмолвно раскрывается, как у карпа на берегу…
Неженка-Кики. Вполне узнаю Ее.
Пес-Тоби. Вдруг я чувствую себя свободным и живым, живым только благодаря чуду — только Ее милости! Какой прекрасной мне кажется тогда жизнь! Как нежно я хватаю ртом Ее опущенную руку, подол Ее платья!
Неженка-Кики (презрительно). Хороша забава!

Пес-Тоби. Все хорошее и плохое приходит ко мне от Нее… В Ней — и жестокие мучения, и надежное прибежище. Когда, испуганный, я бросаюсь к Ней и сердце моё готово выпрыгнуть из груди, как нежны Её руки и свежи Её волосы на моем лбу!
Я — Ее «черныш», Ее «песик-Тоби», Ее «душка»… Чтобы успокоить меня, Она садится на землю и становится такой же маленькой, как и я, ложится на спину, и я пьянею, видя прямо перед собой Ее лицо с растрепанными волосами, которые так вкусно пахнут сеном и зверем! Как тут удержаться? Мою душу захлестывают страстные чувства, я тычусь в Нее горячим носом, ищу, нахожу и покусываю розовую мочку уха — Ее уха! Ей щекотно, и Она кричит: «Тоби! Это ужасно! На помощь! Этот пес съест меня!»
Неженка-Кики. Здоровые радости, грубые и простые… А потом ты отправляешься обхаживать кухарку.
Пес-Тоби. А ты кошечку с фермы…
Неженка-Кики (сухо). Перестань, пожалуйста, это касается только меня… и кошечки.
Пес-Тоби. Прекрасная победа! И тебе не стыдно? Семимесячная кошечка!
Неженка-Кики (возбужденно). Незрелый плод, лесная ягодка, поверь! И никто ее у меня не отнимет. Она стройна, как жердочка, обвитая горошком.
Пес-Тоби (про себя). Старый проказник!
Неженка-Кики. Высокая и стройная на своих длинных лапках, неуверенная поступь девственницы. Тяжелый труд на полях, где она охотится на мышей, землероек, даже на куропаток, огрубил ее молодые мускулы, слегка омрачил ее детское личико…
Пес-Тоби. Она некрасивая.
Неженка-Кики. Нельзя сказать — некрасивая! Скорее странная: козья мордочка с розовым носиком, с ослиными ушками на крестьянский лад, с широко расставленными глазами цвета потемневшего золота, которыми она часто так пикантно косит… Как резво она убегает от меня, принимая свое целомудрие за испуг! А я, со своей стороны, прохожу медленно, почти безразлично, и ее поражает моя великолепная полосатая шуба. Она сама придет! К моим ногам, влюбленная кошечка! Отбросит всякие предрассудки и расстелется предо мной, как белый шарф!..
Пес-Тоби. В общем, можно понять. А я здесь скорее равнодушен к любовным приключениям. Физическая нагрузка… обязанности сторожа… Я вовсе не думаю об этой безделице…
Неженка-Кики. (Про себя.) Безделица! Подумаешь, коммивояжер!
Пес-Тоби. (Искренне.) И потом, признаюсь тебе, я такой маленький… Так вот, это может показаться невероятным невезением, но это, однако, правда: во всей округе я встречаю лишь молодых великанш.
Пожалуй, сука с фермы, огромная дьяволица-дворняга с желтыми глазами, и подпустила бы меня, как она подпускает любого. Ну и бесстыдница!.. Хотя славная девица, добрая душа, хорошо пахнет! И этот усталый и озорной шарм, голодные взгляды ласковой волчицы… Увы! Я — такой низкорослый… Знаком я и с соседской догиней, безмятежной и головокружительной, как высокая гора; с овчаркой, которая всегда спешит — служба; с нервной легавой, которая может неожиданно укусить, но взор ее так много обещает… Увы, увы! Лучше мне об этом не думать. Слишком утомительно. Возвращаться усталым и неудовлетворенным, трястись всю ночь в лихорадке. Хватит. Я люблю… Ее и Его, преданно и страстно, и это чувство возвышает меня до Них, оно к тому же поглощает и мое время, и мое сердце.
Кот, мой презрительный друг, которого я, однако, люблю, и который любит меня! Время послеобеденного отдыха кончается. Не отворачивайся. Твое особое целомудрие старательно прячет то, что ты называешь слабостью, а я называю любовью. Ты думаешь, я ничего не вижу? Сколько раз, возвращаясь с Ней домой, я видел, как при моем приближении светлела и улыбалась твоя треугольная мордочка. Но пока открывалась дверь, ты успевал снова надеть свою кошачью маску, красивую японскую маску с раскосыми глазами… Ведь ты не станешь этого отрицать?
Неженка-Кики (решительно делая вид, что не слышит). Кончается время послеобеденного отдыха. Косая тень от грушевого дерева растет на гравии. Весь сон разогнали разговорами. Ты забыл про мух, про резь в животе, про жару, которая маревом дрожит над лугами. Прекрасный жаркий день клонится к закату. Воздух уже приходит в движение и доносит до нас запах сосен, чьи стволы плачут светлыми слезами…
Пес-Тоби. Вот Она. Оставив плетеное кресло, Она вытянула вверх грациозные руки, и в движении Ее платья я читаю обещание прогулки. Видишь Ее, за кустами роз? Она срывает ногтями листик лимонного дерева, мнет его и вдыхает запах. Я в Ее власти. Даже с закрытыми глазами я угадываю Ее присутствие…
Неженка-Кики. Я вижу Ее. Спокойную и мягкую… до поры до времени. И я точно знаю, что Он, оставив бумаги, сразу пойдет за Ней; Он выйдет и позовет Ее: «Где ты?» — и устало сядет на скамейку. Ради Него я вежливо встану и подойду к Нему, чтобы поточить когти об Его штанину.
Мы молча будем созерцать закат, счастливые и похожие друг на друга. Запах липы станет приторно-сладким, а тем временем мои черные глаза провидца широко раскроются и прочтут в воздухе таинственные Знаки. Там, за острой вершиной горы, вскоре зажжется розовое пламя, воздушный розовый шар, холодно светящийся в пепельно-синей ночи, сверкающий кокон, из которого покажется ослепительное лезвие месяца, рассекающего облака. А потом придет пора ложиться спать. Он посадит меня на плечо, и я засну (ибо сейчас не сезон любви) на Его постели, у Его ног, которые не тревожат мой сон. А ранним утром, помолодевший и с легким ознобом в теле, я сяду лицом к солнцу, в серебряном нимбе утренней росы, воистину похожий на Бога, каким я когда-то и был[5].
ПУТЕШЕСТВИЕ
В купе первого класса расположились Неженка-Кики, Пес-Тоби, Она и Он. Поезд несется к далеким горам, к летней свободе. Пес-Тоби на поводке, он поднимает к окну беспокойный нос. Неженка-Кики молча сидит в закрытой корзине у Его ног, под Его надежной охраной. Он уже разложил по купе множество газет. Она о чем-то мечтает, склонив голову на спинку дивана, и мысли Ее устремляются к самой любимой Ею горе, где стоит низкий домик, утопающий в винограднике и виргинском жасмине.
Пес-Тоби. Как быстро катится этот экипаж! И кучер не тот, что обычно. Я не видел лошадей, но от них идет черный дым, и они очень плохо пахнут. Скоро ли мы приедем, о, ты, что безмолвно мечтаешь и не смотришь на меня?
Никакого ответа. Пес-Тоби нервничает и сопит.
Она. Тсс!..
Пес-Тоби. Я почти ничего не сказал. Скоро приедем?
Он поворачивается к Нему, который в это время читает, и осторожно трогает лапой Его колено.
Он. Тсс!..
Пес-Тоби (смирившись). Не везет мне. Никто не хочет со мной разговаривать. Мне немножко скучно, к тому же я еще плохо знаю, что это за экипаж. Я устал. Меня разбудили рано, и я забавлялся, бегал по всему дому.
На кресла надели чехлы, укутали лампы, скатали ковры; все изменилось, стало белым, тревожным, мрачно запахло нафталином. Я чихал под каждым креслом, глаза все время слезились, и я скользил по голому паркету, поспевая за белыми передниками служанок. Они суетились вокруг разбросанных чемоданов, и их необычное рвение определенно, говорило мне о каких-то чрезвычайных событиях… В последнюю минуту, когда Она, вся разгоряченная от движения, крикнула: «Ошейник Тоби! Кота в корзину!» — как раз, когда Она это произнесла… мой товарищ исчез. Это было нечто неописуемое. На Него было страшно смотреть, Он чертыхался и стучал тростью по паркету вне себя от ярости, что не усмотрели за его Кики. Она звала: «Кики!» То просила, то угрожала; две служанки, пытаясь обмануть Кота, принесли пустые тарелки, оберточную бумагу из мясной лавки… Я решительно поверил, что мой товарищ Кот покинул этот мир! И вдруг все увидели его — он взобрался на самый верх книжного шкафа и презрительно смотрел на нас своими зелеными глазами. Она подняла руки: «Кики! Сейчас же спускайся! Из-за тебя мы опоздаем на поезд!» Он и не думал спускаться, а у меня закружилась голова, глядя на него, — он стоял так высоко, топтался, крутился вокруг себя, пронзительно мяукал, выражал невозможность исполнить приказ. А Он все волновался и повторял: «Боже мой, он упадет!» Но Она скептически улыбнулась, вышла и вернулась с хлыстом в руках… Хлыст щелкнул только два раза — «клак-клак!» — и произошло, я думаю, чудо: Кот спрыгнул на паркет мягче и эластичнее, чем клубок шерсти, с которым мы играем. Я бы разбился, падая с такой высоты.
С тех пор он в этой корзине… (Подходя к корзине.) Тут есть маленькое отверстие… Я вижу его… Кончики усов — как белые иголки… О! Какой взгляд! Отойдем… мне страшновато. Кота трудно запереть как следует… Он, должно быть, страдает. А что, если с ним ласково поговорить?… (Он зовет его очень вежливо.) Кот!
Неженка-Кики. (Звериный рык.) Р-р-р-р…
Пес-Тоби (отступает на шаг). О! Ты сказал дурное слово. У тебя страшное лицо. Что-нибудь болит?
Неженка-Кики. Убирайся! Я — мученик… Убирайся, говорю тебе, или я испепелю тебя своим огненным дыханием!
Пес-Тоби (простодушно). Почему?
Неженка-Кики. Потому что ты свободен, потому что я в этой корзине, потому что корзина в этом мерзком экипаже, где меня трясет, а Их безмятежность меня просто выводит из себя.
Пес-Тоби. Хочешь, я пойду посмотрю, что делается за окном, а потом все расскажу тебе?
Неженка-Кики. Мне все ненавистно.
Пес-Тоби. (Сходил посмотреть и вернулся.) Ничего не видно…
Неженка-Кики (с горечью). И на том спасибо.
Пес-Тоби. Я ничего не видел из того, что можно было бы легко описать. Какая-то зелень, и пролетает так быстро и близко перед нами, что, кажется, хлещет по глазам. Ровное поле поворачивается, маленькая колокольня с острым верхом бежит так же быстро, как наш экипаж… Потом поле цветущего клевера ударило мне в глаза своей краснотой. Земля провешивается под ногами или мы поднимаемся, не пойму. Там, далеко внизу, я вижу зеленые лужайки, усыпанные, как звездами, белыми ромашками.
Неженка-Кики(с горечью). Или кусками сургуча, или еще чем-нибудь.
Пес-Тоби. Тебе неинтересно?
Неженка-Кики. (Мрачно смеется.) Ха! Спроси у несчастного…
Пес-Тоби. У кого?
Неженка-Кики (все более мелодраматично, хотя не очень уверенно) …у несчастного, сидящего в бадье с кипящим маслом, приятно ли ему! Мои мучения — духовные. Я переживаю одновременно унижение, заточение, тьму, заброшенность и тряску.
Поезд останавливается. Служащий на платформе что-то объявляет: «Ауа, ауа-уа, эуа-у… Уэн!»
Пес-Тоби (сам не свой). Кто-то кричит! Случилось несчастье! Бежим!
Подняв морду, он бросается к двери и отчаянно скребет ее.
Она (спросонья). Тоби, ты мне надоел.
Пес-Тоби (в крайнем возбуждении). О, непостижимая, как ты можешь спокойно сидеть? Разве ты не слышишь эти крики? Они затихают… Несчастье отступило. Хотел бы я знать…
Поезд трогается.
Он (отложив газеты). Этот зверь хочет есть.
Она (вполне проснувшись). Ты думаешь? Я тоже. Но Тоби поест очень мало.
Он (с тревогой). А Неженка-Кики?
Она (категорическим тоном). Неженка-Кики дуется. Сегодня утром он спрятался. Я ему дам еще меньше.
Он. Он молчит. Ты не боишься, что он болен?
Она. Нет, просто обижен.
Неженка-Кики. (Как только речь зашла о нем.) Мяу!
Он (нежно и заботливо). Идите ко мне, красавец Кики, идите сюда, мой милый затворник, вы получите кусочек холодного ростбифа и белого куриного мяса.
Он открывает корзину-темницу. Неженка-Кики осторожно высовывает свою плоскую змеиную головку, затем появляется его полосатое тело, которое медленно, медленно, так, что кажется, конца ему не будет, вылезает из корзины…
Пес-Тоби (любезно). А вот и ты, Кот! Ну, приветствуй свободу!
Неженка-Кики молча лижет свою взъерошенную шелковистую шерстку.
Пес-Тоби. Я сказал тебе, приветствуй свободу. Так положено. Всякий раз, когда открывают какую-нибудь дверь, надо бегать, прыгать, крутиться волчком и визжать.
Неженка-Кики. Надо? Кому надо?
Пес-Тоби. Нам, Собакам.
Неженка-Кики (сидя с достоинством). Может быть, мне еще надо и лаять? Насколько я знаю, у нас всегда были разные правила поведения.
Пес-Тоби (обиженно). Не буду настаивать. Как тебе нравится наш экипаж?
Неженка-Кики. (Тщательно обнюхивает.) Ужасный. Впрочем, обивка подходящая, чтобы поточить когти.
И он тотчас же принимается точить когти об обивку сидений.
Пес-Тоби (про себя). Если бы это делал я…
Неженка-Кики. (Продолжая свое занятие.) Мммм… Как это грубое серое сукно гасит мою ярость! Сегодня с самого утра мир в чудовищном возмущении, а Он, Он, которого я люблю и который боготворит меня, не встал на мою защиту. Меня так унизительно толкало, трясло, сколько раз пронзительные свистки резали мой слух… Мммм! Как приятно ослабить нервное напряжение и представить себе, что терзаешь когтями волокнистую и кровоточащую плоть врага… Мммм… Попробую подушку! Подниму как можно выше лапы в знак крайней дерзости!
Она. Слушай, Кики, может быть, хватит?
Он (восхищенно и снисходительно). Оставь его. Он точит коготочки.
Неженка-Кики. Он вступился за меня. Я прощаю Его. Но раз мне позволяют, я больше не хочу рвать подушку… Когда я выйду отсюда? Не потому что мне страшно. Они оба и Пес тут, у них обычное выражение лиц… У меня рези в животе.
Он зевает. Поезд останавливается, служащий на платформе кричит: «А-а-а, уа… ауа-уа, оа-а…»
Пес-Тоби (вне себя). Кричат! Еще какое-то несчастье! Бежим!
Неженка-Кики. Господи, как несносен этот Пес! Ну какое ему дело до того, что где-то несчастье? Впрочем, я в это не верю. Это кричат люди, а ведь они кричат лишь ради удовольствия слышать свой голос…
Пес-Тоби (успокоившись). Мне хочется есть. О ты, от которой я жду всего, будем ли мы есть? В этих чужих краях уж и не знаешь, который час, но сдается мне…
Она. Всем обедать!
Она достает приборы, с хрустом ломает румяный хлеб…
Пес-Тоби. (Жует.) То, что Она дала мне, было так вкусно, что оказалось слишком мало. Сразу растаяло во рту, и следа не осталось…
Неженка-Кики. (Жует.) Это белое куриное мясо. Мур-р… мур-р… Ну хватит! Я невольно мурлыкаю! Не следует этого делать. Чего доброго, подумают, что я смирился с этой поездкой… Буду есть медленно, с разочарованным и непримиримым видом, будто лишь для того, чтобы не умереть с голоду…
Она. (Животным.) Дайте и мне поесть! Я тоже люблю куриное мясо и листья зеленого салата с солью…
Он (с тревогой). Но как мы посадим этого Кота обратно в корзину?
Она. Не знаю, потом придумаем.
Пес-Тоби. Уже все? Я съел бы в три раза больше. Да, Кот, для мученика у тебя неплохой аппетит.
Неженка-Кики. (Лжет.) Меня измучили огорчения. Подвинься немножко, теперь я хочу спать или хоть попытаться заснуть. Быть может, благостный сон перенесет меня в дом, который я покинул, на расшитую цветочками подушку, которую Он мне подарил… «Нет ничего лучше родины!»[6] Ярко раскрашенные ковры для того, чтобы радовать глаз! Огромная китайская ваза с маленькой пальмой, молодые побеги которой я поедаю; глубокие кресла — под ними я прячу мой клубок шерсти, чтобы потом неожиданно найти его. Пробка на ниточке, подвешенная к дверной ручке; изящные безделушки на столе для того, чтобы моя шаловливая лапка разбила какую-нибудь хрустальную вещицу…Столовая — храм! Прихожая, полная тайны, откуда я, никем не видимый, наблюдаю за теми, кто входит и выходит… Узкая лестница, где шаг молочницы звучит для меня как благовест… Прощайте, меня уносит неотвратимая судьба… быть может, навсегда… Ах, это слишком грустно, вся эта красота меня сильно растрогала!
С мрачным видом он начинает старательно умываться. Поезд останавливается. Служащий на перроне кричит: «Аа-а… уэн… ауа-уа…»
Пес-Тоби. Кричат: случилось несча… А, черт возьми, мне надоело.
Он (озабоченно). У нас пересадка через десять минут. Как быть с Котом? Он ни за что не захочет обратно в корзину.
Она. Посмотрим. А что, если туда положить мяса?
Он. Или же лаской…
Они приближаются к опасному зверю, и оба говорят.
Он. Кики, мой хороший Кики, иди ко мне на колени или, как ты это любишь, на плечо. Ты там задремлешь, и я осторожно положу тебя в корзину, ведь она с такими большими просветами, и в ней мягкая удобная подушечка… Иди, прелесть моя…
Она. Послушай, Кики, надо же все-таки понимать жизнь. Тебе нельзя так оставаться. Мы должны сделать пересадку, придет страшный служащий и будет говорить всякие вещи, оскорбительные для тебя и всего твоего рода. Впрочем, тебе лучше подчиниться, иначе я задам тебе трепку…
Но, прежде чем Ее рука коснулась священного меха, Кики встал, потянулся, выгнул спину, чтобы показать свою розовую пасть, направился к открытой корзине и улегся в ней, восхитительный в своем оскорбительном спокойствии. Он и Она с изумлением смотрят друг на друга.
Пес-Тоби (как всегда некстати). Я хочу пипи…
УЖИН ЗАПАЗДЫВАЕТ
Гостиная в загородном доме. Конец летнего дня. Неженка-Кики и Пес-Тоби спят неглубоким сном, уши у них насторожены, а веки слишком плотно сжаты. Неженка-Кики открывает свои виноградного цвета, почти горизонтально расположенные глаза и, зевая, раскрывает страшную, как у маленького дракона, пасть.
Неженка-Кики (высокомерно). Ты храпишь.
Пес-Тоби. (Который на самом деле не спал.) Нет, это ты.
Неженка-Кики. Вовсе нет. Я мурлыкаю.
Пес-Тоби. Это одно и то же.
Неженка-Кики. (Не соизволит спорить.) Слава богу, нет! (Молчание.) Мне хочется есть. Не слышно, чтобы там расставляли тарелки. Разве не подошло время ужинать?
Пес-Тоби. (Поднимается и потягивается на широко расставленных передних лапах, зевает и высовывает язык с загнутым, как на старинном гербе, кончиком.) Не знаю. Мне хочется есть.
Неженка-Кики. Где Она? Почему ты не крутишься вокруг Ее юбки?
Пес-Тоби. (В смущенье грызет когти.) Я думаю, Она собирает в саду мирабель[7].
Неженка-Кики. Желтые шарики, что падают на уши? Знаю. Значит, ты Ее видел? Я уверен, что Она тебя отчитала… Что ты там еще наделал?
Пес-Тоби. (Стесняясь, отворачивает свою морщинистую морду симпатичной жабы.) Она мне велела вернуться в гостиную, потому что… потому что я тоже ел мирабель.
Неженка-Кики. Так тебе и надо. У тебя отвратительные человечьи привычки.
Пес-Тоби. Слушай, я-то не ем тухлую рыбу!
Неженка-Кики. Ты лижешь более отвратительные вещи.
Пес-Тоби. Ну что, например?
Неженка-Кики. Да это… на дороге… ффу!
Пес-Тоби. Я понимаю. Это называется «гадость».
Неженка-Кики. Ты, должно быть, что-то путаешь.
Пес-Тоби. Нет. Как только я ее чую, эту великолепную, безупречно выложенную кучку, Она бросается, размахивая зонтиком, и кричит: «Фу! Гадость!»
Неженка-Кики. Тебе не стыдно?
Пес-Тоби. Отчего? Эти цветы на дороге нравятся моему тонкому нюху, моему изощренному вкусу. А вот чего я никак не пойму, так это твое дикое веселье при виде дохлой лягушки или той травки, как ее?…
Неженка-Кики. Валерьяна.
Пес-Тоби. Вполне может быть… Трава нужна для очищения желудка.
Неженка-Кики. Я не думаю, как ты, только об экскрементах. Валерьяна… Тебе никогда не понять… Я видел, как однажды Она опустошила бокал вина, зловонной жидкости с опасно прыгающими в ней пузырьками, так вот, после этого Она смеялась и бредила, как и я после валерьяны… А дохлая лягушка, настолько дохлая, что уже похожа на сафьян в форме сухой лягушки, — это подушечка, пропитанная редкостным мускусом, которым я хотел бы и сам благоухать…
Пес-Тоби. Ты красиво говоришь… Но Она тебя ругает и говорит, что после этого от тебя дурно пахнет, и Он так считает.
Неженка-Кики. Они оба — всего лишь Двуногие. А ты, несчастное существо, подражаешь им и принижаешь себя. Стоишь на задних лапах, носишь пальто, когда идет дождь, ешь — фи! — мирабель и эти крупные зеленые шары, которые враждебные руки деревьев роняют на меня, когда я прохожу под ними…
Пес-Тоби. Это яблоки.
Неженка-Кики. Возможно. Она их срывает и бросает тебе вдоль аллеи с криками: «Лови, Тоби! Лови!» И ты, как сумасшедший, бросаешься за ними — с высунутым языком и выпученными глазами, задыхаясь от бега…
Пес-Тоби. (Насупившись и положив морду на лапы.) Каждый находит свое удовольствие, где может.
Неженка-Кики. (Зевая, обнажает острые, как иглы, зубы, розовое и сухое бархатное нёбо.) Мне хочется есть. Ужин, конечно, запаздывает. Не сходишь ли ты за Ней?
Пес-Тоби. Я не смею. Она мне запретила. Она с большой корзиной там, в глубине ложбины. Роса падает и мочит Ее ноги, а солнце заходит. Но ведь ты Ее знаешь: Она садится на мокрую траву и неподвижно смотрит перед собой, можно подумать, что заснула; или ляжет на живот и следит, посвистывая, за муравьем в траве; а то начнет звать синиц да соек, а они ни за что не подлетают. Она несет тяжелую лейку, из которой льются тысячи ледяных серебряных струек — от их вида меня бросает в дрожь, — они льются на розы или в каменные корытца с деревянным дном. Я наклоняюсь над ними, чтобы увидеть, как мне навстречу приближается голова бульдога, и чтобы выпить отражение листьев, но Она тянет меня назад за ошейник: «Тоби, это — вода для птичек!» Она раскрывает ножик и чистит орехи, пять, десять, сто орехов и забывает о времени. И так без конца.
Неженка-Кики (насмешливо). А ты что делаешь все это время?
Пес-Тоби. Я… Конечно, жду Ее.
Неженка-Кики. Восхищаюсь тобой!
Пес-Тоби. Иногда, сидя на корточках, Она яростно скребет землю, трудится в поте лица, а я кручусь вокруг, радуясь знакомому мне и полезному занятию. Но слабый нюх ее обманывает. Она разрывает ложные норы, где я не чую ни крота, ни мышки с розовыми лапками. Кто разъяснит мне Ее намерения? Но вот Она откидывается назад, потрясая какой-то травиной с волосатыми корнями, и кричит: «Попалась, негодница!» Я ложусь на влажную землю и дрожу. Или прижимаюсь носом — Она говорит «рыльцем» — к земле, чтобы распознать на ней непонятные запахи. Вот ты, например, можешь распознать три, а то и четыре похожих запаха, как бы переплетающихся, растворяющихся один в другом: запах крота, запах пробежавшего зайца, запах укрывшейся птицы?
Неженка-Кики. Да, могу. Мой нос все знает. Он у меня маленький, правильный, широкий и нежный, с замшевым кончиком, прикосновение травинки или легкий дымок щекочут его так, что я чихаю. Он не старается распознать запах кротов, перемешанный с запахом… зайцев, ты говоришь? Мой нос — Она говорит: «такой прелестный бархатный носик» — может целыми минутами упиваться запахом кошечки, оставшимся в зарослях кустарника…
У меня очаровательный нос. Не было ни дня с тех пор, как мои глаза увидели свет, чтобы я не услышал какого-либо лестного для меня мнения о нем. А у тебя… шершавый «трюфель»[8]. И как смешно он ходит! Вот я тебе говорю, а он в это время…
Пес-Тоби. Мне хочется есть. Не слышно звона посуды.
Неженка-Кики. Твой «трюфель» так и ходит и еще больше морщинит твою грубую морду…
Пес-Тоби. Она так нежно говорит: «его квадратная мордочка, его морщинистый трюфель»!
Неженка-Кики. …а ты думаешь только о еде.
Пес- Тоби. Но ведь это твой пустой желудок стонет, бранит меня.
Неженка-Кики. У меня очаровательный желудок.
Пес-Тоби. Да нет — нос, ты же сам сказал.
Неженка-Кики. Желудок тоже. Где ты еще найдешь такого гурмана и выдумщика, такой крепкий и одновременно деликатный желудок. Он переваривает рыбьи кости, острые куриные косточки, но от несвежего мяса его буквально выворачивает наизнанку.
Пес-Тоби. Именно — буквально. У тебя всегда бурное несварение желудка.
Неженка-Кики. Да, тогда весь дом взволнован. При первых же позывах рвоты меня охватывает глубокое отчаяние, кажется, что земля уходит из-под ног. С глазами навыкате, я поспешно проглатываю обильную и солоноватую слюну и в то же время невольно издаю крики чревовещателя… И вот, как у рожающей кошки, мои бока начинают ходить ходуном, а потом…
Пес-Тоби (брезгливо). Продолжение, если можно, ты расскажешь после ужина.
Неженка-Кики. Мне хочется есть. Но Он-то где?
Пес-Тоби. Там, в своем кабинете. Царапает по бумаге.
Неженка-Кики. Да, как всегда. Это игра. Двуногие вечно забавляются одним и тем же. Я пробовал не раз деликатно царапать, как Он, по бумаге. Но удовольствие это длится недолго, и я предпочитаю газету, разорванную на мелкие клочки, которые шуршат и взлетают. Между тем на Его столе есть маленький горшочек, и с тех пор, как довольно безрассудное любопытство заставило меня обмакнуть в него лапу, я не могу без отвращения нюхать фиолетовую тинистую жидкость в нем. Видишь эту аристократическую и сильную лапу с мохнатой шерсткой между пальцами — признак чистоты породы? Так вот, на этой лапе целую неделю оставалось синеватое пятно с мерзким запахом стального ножа, изъеденного кислым соком…
Пес-Тоби. А для чего этот маленький горшочек?
Неженка-Кики. Наверно, Он пьет из него.
Молчание.
Пес-Тоби. Она не возвращается. Только бы Она не потерялась, как я однажды в Париже!
Неженка-Кики. Я хочу есть.
Пес-Тоби. Я хочу есть. Что сегодня на ужин?
Неженка-Кики. Я видел куру. Она глупо кричала на кухне и обливалась кровью. Напачкала на полу больше, чем кошка и даже собака, а ее, однако, никто не стегал. Но Эмили отправила ее в огонь, чтобы проучить. Я чуть-чуть лизнул кровь…
Пес-Тоби (зевая). Курятина… У меня текут слюнки и губы дрожат. Она мне скажет: «Кость!» — и бросит мне ее.
Неженка-Кики. Как ты плохо говоришь! Вот Он скажет: «Косточку — котику!»
Пес-Тоби. Да нет же, уверяю тебя, Она говорит: «Кость!»
Неженка-Кики. Он говорит лучше, чем Она.
Пес-Тоби. (Ему трудно судить.) Да?… Скажи мне, у птиц вкус курятины?
Неженка-Кики (глаза которого внезапно загораются синим огнем). Нет… вкуснее, ведь это — живое. Ты чувствуешь, как все похрустывает у тебя на зубах, и потом — эта трепещущая птица, ее теплые перышки и маленький вкусный мозг…
Пес-Тоби. Фу, ты мне противен. Мне вообще не по себе от всякой мелкой живности, когда она шевелится, а к тому же птички — безобидные существа.
Неженка-Кики (сухо). Напрасно ты так думаешь. Они безобидные только тогда, когда их ешь. Это — шумные, самонадеянные, глупые существа, годные только в пищу… Ты знаком с двумя сойками?
Пес-Тоби. Не очень.
Неженка-Кики. Две сойки из рощицы. Ох уж мне они!.. Когда я прогуливаюсь, хохочут до упада — «тяк-тяк!» — потому что на шее у меня колокольчик… Как я ни старался держать голову неподвижно и мягко ступать, колокольчик звенит, а эти два создания на макушке ели прыскают от смеха… Попадись они мне в лапы!..
Он прижал уши и вздыбил шерсть на спине.
Пес-Тоби (задумчиво). Бывает, я положительно не узнаю тебя. Беседуешь с тобой спокойно, и вдруг ты весь ощетинишься, как ершик для чистки бутылок. Мило играешь с тобой, тявкнешь тебе сзади: «гав-гав!» — только ради смеха, и вдруг неизвестно почему, может быть, потому, что мой нос задел твою пушистую шерсть, которая оттопыривается, как галифе, и вот ты уже — дикий зверь, весь так и кипишь от ярости и бросаешься на меня, как чужой пес! Разве нельзя назвать это плохим характером?
Неженка-Кики (загадочно, с почти закрытыми глазами). Отнюдь! Просто характером! Кошачьим характером. Именно в такие минуты раздражения я сильно чувствую унизительное положение, в какое поставили меня и всю мою породу. Я вспоминаю о временах, когда жрецы в длинных льняных хитонах обращались к нам, склонившись в поклоне и робко пытаясь постичь нашу певучую речь. Так знай же, Пес, что мы не изменились! Вероятно, больше всего я похож на себя в те дни, когда меня всё оскорбляет — резкое движение, грубый смех, грохот двери, твой запах, непостижимая дерзость, с который ты позволяешь себе дотрагиваться до меня, носиться кругами вокруг меня…
Пес-Тоби (терпеливо, про себя). Он явно не в духе.
Неженка-Кики (вздрагивая). Ты слышал?
Пес-Тоби. Да, это дверь на кухню. А сейчас дверь в столовую. И ящик с ложками… Наконец, наконец-то! А-а. (Он зевает.) Нет мочи терпеть. Но где, же Она? Гравий на дорожке не скрипит, скоро наступит темнота.
Неженка-Кики (иронически). Сбегай за ней.
Пес-Тоби. А Он? Обычно Он тревожится, спрашивает: «Где Она?» А сейчас царапает по бумаге. Должно быть, выпил всю фиолетовую воду из своего мутного горшочка. (Он старательно потягивается всем телом, сначала на передних ногах, потом на задних.) Ах, какую легкость я чувствую в себе и пустоту в желудке. Сейчас будем есть. Вдохни восхитительный запах из-под двери! Давай поиграем!
Неженка-Кики. Нет.
Пес-Тоби. Беги, а я — за тобой, не бойся — не трону.
Неженка-Кики. Нет.
Пес-Тоби. Почему?
Неженка-Кики. Не хочется.
Пес-Тоби. Ну какой ты скучный! Смотри, я прыгаю, прижимаю, как лошадка, голову к груди, пытаюсь схватить себя за обрубок хвоста, верчусь, верчусь… Боги! Комната кружится… Нет, хватит.
Неженка-Кики. Что за несносное существо!
Пес-Тоби. Сам несносное! Берегись, я буду нападать на тебя, как Она, когда весела и кричит: «Съем кота!»
Неженка-Кики. (Продолжая лежать, поднимает перед вертящимся Тоби лапу с когтями; снизу на лапе розовые и черные пятнышки, как у колючего цветка.) Только посмей!
Пес-Тоби (в исступленном восторге). И посмею! Гав! Гав! Съем кота! Съем кота!
Неженка-Кики, выведенный из себя, вскакивает, фыркает и цепляется за ковровую скатерть на столе. Скатерть медленно сползает. Лампа и безделушки падают на пол. Оба зверя испуганно затихают и заползают под кресло в ожидании возмездия.
Он. (Появляется на пороге кабинета, с ручкой, как с удилами, во рту.) Черт возьми! Что это еще такое? Этот несчастный зверинец все здесь перевернул вверх дном. Где Госпожа? Что за дом! Здесь никогда вовремя не поужинаешь… (и т. д. и т. п.)
Оба виновника, знающие о безобидности таких вспышек гнева, распластались, как пара домашних тапок на полу, переглядываются и молча смеются за бахромой кресла. Открывается дверь в сад. Входит Она с корзинкой, полной мускатной мирабели. Ее волосы падают на глаза, руки в липком сладком соке. Она опешила при виде разгрома.
Она. О! Они опять подрались! Боже, что за негодные звери! (Без убеждения в голосе.) Я их отдам, я их продам, я их убью…
Оба зверя ползут к Ней на животе с видом чрезмерной приниженности и говорят одновременно.
Неженка-Кики. Мр-р… мр-р… Вот и ты, уже очень поздно. Это Тоби напал на меня… Это он все разбил. Я думаю, истощение довело его до безумия. Как вкусно от тебя пахнет травой и сумерками. Ты сидела на тимьяне и на богородичной травке. Иди же… Скажи Ему, твоему Хозяину, чтобы он отнес меня к мясу, которое уже пережарилось. Ты разрежешь куру очень быстро, не так ли? Ты оставишь мне жареную кожицу? Если ты пожелаешь, я протяну к тарелке сложенную ложечкой лапку, которая умеет собирать самые маленькие крошечки и донести их до рта тем человеческим движением, которое вас так смешит, Его и Тебя. Иди…
Пес-Тоби. У-у-уй… у-у-у… Вот и ты! Наконец, наконец-то! Мне так скучно без тебя! Ты обрекла меня на изгнание, ты не ласкала меня. Эта лампа сама упала. Иди же… Я очень хочу есть. Но я с радостью соглашусь не ужинать, если ты пожелаешь всегда брать меня с собой, куда бы ты ни пошла, даже в сумерки, от которых мне грустно: я пойду за тобой счастливым, ни на миг не отводя носа от края твоей короткой юбки…
Она (обезоружена и к тому же безразлична к разгрому). Посмотри, что за красавцы!
АНАТОЛЬ ФРАНС
СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ
(На основании подлинных документов)
I
О пресловутой личности, в просторечии именуемой Синей Бородой, высказывались мнения самые различные, самые странные и самые ошибочные. Пожалуй, наиболее спорно мнение, гласящее, что этот дворянин олицетворяет собой солнце. Это усердно пыталась доказать лет сорок назад некая школа сравнительной мифологии[9]. Ее представители утверждали, что семь жен Синей Бороды — не что иное, как зори, а его шурья — утренние и вечерние сумерки, тождественные с Диоскурами, освободившими похищенную Тезеем Елену[10].Тем, кто склонен этому верить, мы напомним, что весьма ученый библиотекарь города Ажена, Жан-Батист Перес, в 1848 году с мнимой убедительностью доказал, что Наполеона никогда не было на свете и что вся история якобы великого полководца на самом деле — солнечный миф. Вопреки всем домыслам самых изобретательных умов, не подлежит сомнению, что Синяя Борода и Наполеон подлинно существовали.
Столь же слабо обоснована гипотеза, отождествляющая Синюю Бороду с маршалом де Рэ[11], удавленным, по приговору суда, на мосту в Нанте 26 октября 1440 года. Не вдаваясь, как это делает Соломон Рейнак[12], в исследование вопроса, действительно ли маршал содеял все те преступления, за которые был предан смерти, или же, быть может, его гибели способствовали богатства, на которые зарился алчный король, можно с уверенностью сказать, что его жизнь нисколько не похожа на жизнь Синей Бороды; этого достаточно, чтобы не смешивать их друг с другом и не считать их одной и той же личностью. Шарль Перро[13], около 1660 года стяжавший немалую славу составлением первого жизнеописания этого сеньора, который справедливо прославился тем, что был женат семь раз подряд, изобразил его отъявленным злодеем, законченным образцом непревзойденной жестокости. Дозволено, однако, усомниться если не в добросовестности историка, то уж, во всяком случае, в достоверности сведений, которыми он пользовался. Возможно, он с предубеждением относился к своему герою. Это был бы отнюдь не первый пример того, как историк или поэт по своему произволу порочит тех, кого изображает. Если образ Тита[14] кажется нам прикрашенным, то, наоборот, изображая Тиберия[15], Тацит[16], по-видимому, сильно очернил его. Макбет, которому легенда и Шекспир приписывают тягчайшие преступления, на самом деле был король справедливый и мудрый. Он не убил предательски старика короля Дункана. Дункан еще молодым был разбит наголову в большом сражении, и на другой день его тело нашли в местности, называемой «Лавкой оружейника». По приказу короля Дункана было умерщвлено несколько родственников Грухно, жены Макбета. В правление Макбета Шотландия благоденствовала: он покровительствовал торговле, и горожане видели в нем своего защитника, подлинного «короля городов». Знать, возглавлявшая кланы, не простила ему ни победы над Дунканом, ни того, что он заботился о простолюдинах. Представители знати умертвили его и обесчестили память о нем. После его смерти доброго короля Макбета знали уже только по рассказам его врагов. Гений Шекспира укоренил их злостные наветы в сознании человечества. Я давно уже подозревал, что Синяя Борода стал жертвой такой же роковой случайности. Рассказ о событиях его жизни в том виде, в каком он дошел до меня, отнюдь не удовлетворял ни мою любознательность, ни ту потребность в логике и ясности, которая непрестанно меня снедает. Размышляя об этом жизнеописании, я наталкивался на непреодолимые трудности. Меня так усиленно старались уверить в жестокости этого человека, что я поневоле усомнился в ней.
Эти предчувствия меня не обманули. Мои интуитивные догадки, вытекавшие из некоторого знания природы человека, волею судьбы превратились в уверенность, основанную на неопровержимых доказательствах. Я нашел в Сен-Жан-де-Буа, у одного каменотеса, некоторые документы, касающиеся Синей Бороды, в том числе его приходно-расходную книгу и анонимное ходатайство о привлечении к суду его убийц, которому, по причинам мне неизвестным, не дали хода. Эти документы полностью укрепили меня в убеждении, что Синяя Борода был добр и несчастен и что память о нем искажена гнусной клеветой. Тогда я счел своим долгом дать правдивое описание его жизни, нимало не обольщаясь, однако, надеждой на успех подобного начинания. Я знаю, эта попытка реабилитации будет встречена молчанием и предана забвению. Разве может бесстрастная голая правда восторжествовать над обманчивым очарованием лжи?
II
Около 1650 года в своем поместье между Компьенем и Пьерфоном проживал богатый дворянин по имени Бернар де Монрагу; его предки некогда занимали наипочетнейшие должности в королевстве, но сам он жил вдали от двора, в мирной безвестности, обволакивавшей тогда все то, что не привлекало к себе взоров короля. Его замок Гийет изобиловал ценной мебелью, золотой и серебряной утварью, коврами, гобеленами, которые он держал под спудом в кладовых; прятал он свои сокровища отнюдь не из страха, что они могут пострадать от повседневного употребления; напротив, он был щедр и любил пышность. Но в те времена сеньоры обычно вели в провинции жизнь весьма простую, ели за одним столом со своей челядью и по воскресеньям плясали с деревенскими девушками. Однако в некоторых случаях они устраивали блистательные празднества, сильно разнившиеся от серых будней. Поэтому им нужно было иметь в запасе много красивой мебели и великолепных ковров, что г-н де Монрагу и делал.
Его замок, построенный во времена готики, отличался присущей ей суровой простотой. Массивные башни, макушки которых были снесены во время смут, раздиравших королевство в правление покойного короля Людовика[17], придавали ему вид унылый и мрачный. Внутри он являл более приятное зрелище. Комнаты были убраны на итальянский лад, а большая галерея нижнего этажа была богато украшена лепкой, живописью и позолотой.
В одном из концов этой галереи находилась комната, которую обычно называли «малым кабинетом». У Шарля Перро она именуется только так. Нелишне знать, что эту комнату называли также «кабинетом злосчастных принцесс», так как некий флорентинский художник изобразил на ее стенах трагические истории Дирки, дочери Солнца, привязанной сыновьями Антиопы к рогам быка; Ниобеи, оплакивающей на горе Сипил своих детей, пронзенных стрелами богов; Прокриды, подставляющей грудь под дротик Кефала[18]. Изображения были как живые, и порфировые плиты, которыми был выложен пол, казались окрашенными кровью этих несчастных женщин. Одна из дверей комнаты выходила на ров, совершенно высохший.
Конюшня помещалась в роскошном здании, расположенном неподалеку от замка. Там насчитывалось шестьдесят стойл для лошадей и двенадцать сараев для золоченых карет. Но очаровательным местопребыванием замок являлся благодаря окружавшим его лесам и ручьям, где можно было вволю насладиться рыбной ловлей и охотой.
Многие жители этого края знали г-на де Монрагу только под именем Синей Бороды, ибо в народе его иначе не называли. Действительно, борода у него была синяя, но это был только синий отлив, и именно от густой черноты борода его казалась синей. Не следует представлять себе г-на де Монрагу в устрашающем облике трехглавого Тифона[19], которого мы видим в Афинах усмехающимся в свою тройную бороду цвета индиго. Мы будем гораздо ближе к истине, если сравним владельца замка Гийет с теми священниками или актерами, чьи свежевыбритые щеки отсвечивают синевой. Г-н де Монрагу не подстригал бороду клином, как его дед, состоявший при дворе короля Генриха II [20], не отращивал ее веером, как его прадед убитый в сражении при Мариньяно[21]. Подобно г-ну де Тюренну[22], он носил усики и крохотную бородку а ла Мазарини; щеки его казались синими; но, что бы там ни говорили, эта особенность не безобразила доброго сеньора и не вызывала страха. Она только усугубляла мужественность его облика и если и придавала ему несколько свирепый вид, то женщин это нисколько не отпугивало. Бернар де Монрагу был очень красивый мужчина, высокий, широкоплечий, осанистый и дородный, но неотесанный и в лесу чувствовавший себя вольготнее, нежели в парадных спальнях знатных дам и в светских гостиных. Однако, правду сказать, он нравился женщинам меньше, чем должен был бы при таком сложении и таком богатстве. Причиной тому была его робость, именно робость, а не борода. Его неудержимо влекло к женщинам — и вместе с тем они внушали ему неодолимый страх. Он столь же боялся их, сколь и любил.
Вот источник и основная причина всех его бедствий. Увидев женщину в первый раз, он скорее согласился бы умереть, чем заговорить с нею, и, как бы она ему ни нравилась, он в ее присутствии хранил мрачное молчание; о его чувствах говорили только его глаза, которыми он вращал самым ужасающим образом. Эта робость была причиной всяческих злоключений, а главное — препятствовала ему сближаться с женщинами скромными и честными и оставляла его беззащитным против посягательств женщин наиболее предприимчивых и дерзких. Робость погубила его.
Сирота с малых лет, г-н де Монрагу из-за этого странного, необоримого ощущения стыда и страха отверг одну за другой несколько выгодных и весьма почётных партий и женился на девице Колетте Пассаж, которая поселилась в этом краю совсем недавно, сколотив немного деньжат тем, что водила по городам и деревням королевства медведя, плясавшего на площадях. Он любил ее всеми силами души и тела. Нужно быть справедливым — она могла нравиться: крепкая, полногрудая девушка, с лицом еще довольно свежим, хотя загорелым и обветренным. Первое время она поражалась и восхищалась тем, что стала вельможной дамой; ее сердце, отнюдь не злое, было чувствительно к нежной заботе супруга столь знатного рода и мощного сложения, являвшегося для нее самым послушным слугой и самым пылким любовником. Но спустя несколько месяцев она начала тосковать по прежней бродячей жизни. Среди величайшей роскоши, окруженная вниманием и лаской, она знала одно лишь удовольствие — навещать спутника своих скитаний в подвале, где он томился с цепью на шее, с кольцом в носу; заливаясь слезами, она целовала его в глаза. При виде ее печали г-н де Монрагу и сам загрустил, и его грусть еще усиливала тоску Колетты. Учтивость и неистощимая предупредительность ее супруга претили несчастной женщине. Однажды утром, когда г-н де Монрагу проснулся, Колетты не оказалось возле него. Тщетно искал он ее по всему замку. Дверь в «кабинет злосчастных принцесс» была отворена. Оттуда-то Колетта и убежала куда глаза глядят вместе со своим медведем. Несметное множество гонцов было разослано во все стороны на поиски Колетты Пассаж, но она исчезла бесследно.
Г-н де Монрагу еще оплакивал её, когда, по случаю храмового праздника в Гийет, ему довелось поплясать с Жанной де ла Клош, дочерью компьенского судьи. Он влюбился в эту девушку и сделал ей предложение, которое тотчас же было принято.
Она питала страсть к вину и потребляла его весьма неумеренно. За несколько месяцев эта страсть настолько овладела ею, что Жанна стала неузнаваема: пьяная образина на бурдюке.
Самое худшее было то, что это чудовище, совершенно взбесившись, без устали носилось по залам и лестницам замка, вопя, чертыхаясь, икая, извергая блевотину и ругательства на все, что ей ни встречалось. Г-н де Монрагу изнемогал от ужаса и отвращения. Но затем он призывал все свое мужество и столь же настойчиво, как и терпеливо, пытался исцелить свою супругу от столь гнусного порока. Просьбы, увещания, мольбы, угрозы — он все пускал в ход. Все было напрасно. Он не давал ей вина из своих погребов — она доставала окольными путями какое-то пойло, от которого пьянела еще омерзительнее.
Чтобы отвратить ее от столь любимой ею влаги, он положил в бутылки с вином полынь. Ей показалось, что он хочет ее отравить, она бросилась на него и на целых три дюйма всадила ему в живот кухонный нож. Он чуть не умер от раны, но врожденная кротость не изменила ему и тут. «Она скорее заслуживает сожаления, чем порицания», — говорил он себе. Как-то раз дверь в «кабинет злосчастных принцесс» забыли запереть, и Жанна де ла Клош вбежала туда в исступлении, как обычно; увидев женщин, изображенных на стенах в трагических позах, при последнем издыхании, она вообразила, что они живые, и в смертельном страхе убежала из замка, вопя: «На помощь! Убивают!» Услыхав голос Синей Бороды, погнавшегося за ней и окликавшего ее, она в беспамятстве бросилась в пруд и утонула. С трудом верится, однако доподлинно известно, что ее супруг по своему мягкосердечию искренне сокрушался о ее смерти.
Спустя полтора месяца после этого несчастного случая он без пышных церемоний женился на Жигонне, дочери своего фермера Треньеля. Она ходила в деревянных башмаках, и от нее несло луком. Впрочем, Жигонна была недурна собой, если не считать того, что она косила на один глаз и прихрамывала. Как только сеньор сочетался с ней браком, она начисто позабыла, что пасла гусей, и, преисполнясь безумного тщеславия, стала бредить блеском и величием. Парчовые наряды казались ей недостаточно пышными, жемчужные ожерелья — недостаточно красивыми, рубины — недостаточно крупными, позолота на каретах — недостаточно яркой, пруды, леса, нивы — недостаточно обширными. Синяя Борода, никогда не страдавший избытком честолюбия, сильно огорчался гордыней своей супруги.
По своему простодушию он никак не мог решить, она ли не права, стремясь возвыситься, он ли не прав, оставаясь скромным. Он готов был упрекать себя в излишнем смирении, шедшем вразрез с непомерными притязаниями подруги его жизни, и в своем душевном смятении то старался внушить ей, что земными благами следует пользоваться умеренно, то, разгорячась, пускался в погоню за счастьем, нередко приводившую его на край гибели. Он был мудр, но супружеская любовь побеждала в нем мудрость. Жигонна думала только о том, чтобы блистать в свете, быть принятой при дворе и стать возлюбленной короля. Не достигнув этого, она с досады стала чахнуть, захворала желтухой и умерла. Синяя Борода похоронил ее, стеная и рыдая, и воздвиг ей великолепный памятник.
Добрый сеньор, подавленный таким неизменным злосчастьем в семейной жизни, быть может, не избрал бы себе новой супруги, но его самого избрала своим супругом девица Бланш де Жибоме, дочь кавалерийского офицера, у которого было только одно ухо — второго он, по его словам, лишился на королевской службе. Она была очень умна и пользовалась этим, чтобы обманывать мужа. Она наставляла ему рога со всеми окрестными дворянами и действовала так хитро, что изменяла ему в его собственном замке, чуть ли не у него на глазах, а он ничего не замечал. Бедняга Синяя Борода, правда, чуял неладное, но не знал, что именно. К несчастью для Бланш, она, всячески изощряясь в том, чтобы дурачить своего супруга, недостаточно старалась дурачить своих любовников, иначе говоря — скрывать от них, что она одним изменяла с другими. Однажды дворянин, которого она любила в минувшие дни, застал ее в «кабинете злосчастных принцесс» в обществе дворянина, которого она любила в тот день; разъярясь, бывший любовник пронзил ее своей шпагой. Спустя несколько часов кто-то из слуг нашел несчастную, уже бездыханную, и страх, внушаемый «малым кабинетом», еще возрос.
Бедняга Синяя Борода одновременно узнал и о своем многократном бесчестье, и о трагической смерти своей супруги, и первое из этих несчастий не смогло утешить его во втором. Он любил Бланш де Жибоме так страстно, так самозабвенно, как ни одну из ее предшественниц — ни Жанну де ла Клош, ни Жигонну Треньель, ни даже Колетту Пассаж. Узнав, что Бланш непрестанно его обманывала и теперь уже никогда больше его не обманет, он впал в отчаяние, с течением времени не ослабевавшее, а становившееся все горше.
Наконец эти страдания стали невыносимы; он занемог так тяжко, что опасались за его жизнь.
Безуспешно применив всевозможные снадобья, врачи объявили больному, что исцелить его может только брак с молоденькой девушкой. Тут Синяя Борода вспомнил о своей двоюродной сестре, юной Анжель де ла Гарандин; он рассудил, что ее охотно отдадут за него, так как она бесприданница. На ней он остановил свой выбор главным образом потому, что она слыла глуповатой и не искушенной в житейских делах. Обманутый умной женщиной, он надеялся, что глупая будет ему верна. Он женился на мадемуазель де ла Гарандин — и убедился, что его предположения были ошибочны. Анжель была кротка, Анжель была добра, Анжель его любила; по природе она не была склонна грешить, но самый неискусный соблазнитель мог в любое время вовлечь ее в грех. Достаточно было сказать ей: «Сделайте то-то и то-то, иначе вас замучают дьяволята. Войдите вот сюда, иначе вас съест оборотень» или же: «Закройте глаза и примите это вкусное лекарство» — и тотчас дурочка удовлетворяла все вожделения негодяев, хотевших от нее того, чего вполне естественно было от нее хотеть, ибо она была премиленькая. Г-н де Монрагу, которого эта дурочка обманывала и бесчестила не меньше, если не больше, чем Бланш де Жибоме, имел вдобавок несчастье знать об этом, так как Анжель была слишком простодушна, чтобы скрывать от него что бы то ни было. Она говорила ему: «Сударь, вот что мне сказали; сударь, вот что со мной сделали; сударь, вот что у меня взяли; сударь, вот что я видела; сударь, вот что я ощутила». И своей бесхитростной откровенностью она причиняла злосчастному сеньору невообразимые муки. Он стойко переносил их. Правда, он не раз говорил этому невинному созданию: «Вы просто гусыня» — и влеплял ей затрещины. С этих затрещин и начались те позорившие имя Синей Бороды толки о его жестокости, которым уже не суждено было умолкнуть. Однажды нищенствующий монах, проходивший мимо замка Гийет в то время, как г-н де Монрагу охотился на вальдшнепов, увидел г-жу Анжель, мастерившую юбочку для своей куклы. Убедившись, что она столь же глупа, сколь красива, добрый монах увез ее на сво`м осле, уверив, что в лесной чаще ее ждет архангел Гавриил, который подарит ей подвязки, унизанные жемчугом. Полагают, что ее съел серый волк, ибо о ней больше не было ни слуху ни духу.
Как случилось, что после столь печального опыта Синяя Борода решился вступить в брак?
Это можно понять, только памятуя, какую власть прекрасные глаза имеют над благородным сердцем. Наш достойный дворянин встретил в одном из соседних замков, куда был вхож, юную сиротку знатного происхождения, которую звали Алиса де Понтальсен; лишившись по вине жадного опекуна всего своего состояния, она задумала уйти в монастырь. Услужливые друзья взялись отговорить ее от этого намерения и убедить ее принять предложение г-на де Монрагу. Она была на диво хороша. Синяя Борода, мечтавший испытать в ее объятиях неизъяснимое блаженство, и на сей раз обманулся в своих чаяниях. Эта супруга доставила ему горести, которые ввиду его мощного сложения должны были быть для него намного чувствительнее всех неприятностей, испытанных им в предшествующих браках. Алиса де Понтальсен упорно отказывалась претворить в реальность брачный союз, который заключила по доброй воле. Тщетно г-н де Монрагу упрашивал ее по-настоящему стать его женой; она не уступала ни мольбам, ни слезам, ни настояниям, уклонялась от самых невинных ласк своего супруга, опрометью убегала от него и запиралась в «кабинете злосчастных принцесс», где проводила целые ночи в страхе и одиночестве. Никто никогда не узнал подлинной причины ее поведения, столь противного всем законам божеским и человеческим. Его объясняли тем, что у г-на де Монрагу была синяя борода; но все сказанное нами выше о пресловутой бороде сеньора делает это предположение малоправдоподобным. Впрочем, о таких вещах трудно судить. Чтобы забыться, он с каким-то неистовством охотился, загоняя собак, лошадей, доезжачих. Но когда он, вконец утомленный, измученный, возвращался в замок, ему достаточно было увидеть мадемуазель де Понтальсен, чтобы силы вернулись к нему, а страдания — возобновились. Наконец, дойдя до полного отчаяния, он начал хлопотать в Риме о расторжении брака, являвшегося чистейшей фикцией, и на основании канонического права добился развода, предварительно сделав ценный подарок святейшему отцу.
Если г-н де Монрагу выпроводил мадемуазель де Понтальсен учтивейшим образом, не сломав свою палку о ее спину, а оказывая ей все то внимание, на которое женщины имеют право, то потому лишь, что у него была гордая душа и благородное сердце, и еще потому, что над собой он властвовал так же безраздельно, как над своим замком. Но он поклялся, что отныне ни одно существо женского пола не войдет в его покои. Счастьем для него было бы, если б он сдержал эту клятву!
III
Прошло несколько лет с тех пор, как г-н де Монрагу учтиво выпроводил свою шестую жену, и во всей округе сохранилось лишь смутное воспоминание о бедствиях, постигших достойного сеньора в его семейной жизни. Никто не знал, что сталось с его женами, и по вечерам в деревне об их судьбе рассказывали побасенки, от которых волосы становились дыбом; одни им верили, другие — нет. Около того времени в замке Ламотт-Жирон, в двух лье по прямой от замка Гийет, поселилась немолодая вдова, г-жа Сидони де Леспуас. Откуда она приехала, кто был ее муж — этого никто не знал. Шла молва, что он занимал какие-то должности в Савойе или в Испании; кое-кто утверждал, что он умер в Вест-Индии; некоторые люди полагали, что у его вдовы огромные поместья, другие в этом сомневались. Как бы там ни было, Сидони де Леспуас жила на широкую ногу и приглашала в Ламотт-Жирон всю окрестную знать. У нее были две дочери; старшая Анна, тонкая бестия, засиделась в девицах; Жанна, младшая, была на выданье; под видом весьма невинным она скрывала ранний житейский опыт. У г-жи де Леспуас было еще и двое сыновей, из коих одному исполнилось двадцать лет, другому — двадцать два. Красивые, статные парни. Один из них служил в драгунах, другой — в мушкетерах. Поскольку я видел его офицерский патент, я могу сказать, что второй был не просто мушкетер, а черный мушкетер. Когда он шел пешком, это не было заметно, ибо черные мушкетеры отличались от серых не цветом мундира, а только мастью своих коней. И те и другие мушкетеры носили камзолы голубого сукна с золотым галуном. Что касается драгун — их узнавали по меховым шапкам, украшенным хвостом, изящно спадавшим на ухо. О драгунах шла дурная слава, как явствует из песенки:
В обоих драгунских его величества полках не сыскать было второго такого распутника, бездельника и негодяя, как Ком де Леспуас. По сравнению с ним его брат мог сойти за честного парня. Игрок и пьяница, Пьер де Леспуас нравился женщинам и удачно играл в карты; женщины и карты были единственными источниками доходов, которые он признавал.
Г-жа де Леспуас, их матушка, вела в Ламотт-Жирон пышный образ жизни только для того, чтобы пускать пыль в глаза всем окружающим. На самом деле у нее не было ни гроша, и даже зубы она себе вставила в долг.
Наряды, обстановка, кареты, лошади и слуги — все было взято ею напрокат у парижских ростовщиков, грозившихся все это у нее отобрать, если ей в ближайшее время не удастся выдать одну из дочерей замуж за какого-нибудь богатого сеньора, и почтенная Сидони с минуты на минуту ждала, что останется догола раздетой в опустошенном доме. Стараясь как можно скорее найти зятя, она тотчас возымела виды на г-на де Монрагу, так как мигом сообразила, что он простодушен, кроток, легко даст себя обманывать и, несмотря на суровый, мрачный вид, весьма влюбчив. Дочери, посвященные в ее планы, при каждой встрече бросали на беднягу взгляды, разившие его в самое сердце. Он очень быстро поддался могущественным чарам обеих сестер. Презрев свои клятвы, он, одинаково восхищаясь обеими, только о том и думал, как бы жениться на той или другой из них. После некоторого промедления, вызванного не столько колебаниями, сколько робостью, он в парадной карете приехал в Ламотт-Жирон и изложил свое дело г-же де Леспуас, предоставив ей самой рассудить, какую из дочерей она даст ему в жены. Г-жа* Сидони учтиво заверила его в глубочайшем своем уважении и позволила ему ухаживать за той из девиц, которая ему больше приглянется.
— Сумейте понравиться, сударь, — сказала она ему на прощанье, — я первая буду рада вашему успеху.
Чтобы познакомиться поближе, Синяя Борода пригласил Анну и Жанну де Леспуас с их матерью, братьями и множеством дам и кавалеров на две недели в замок Гийет. Прогулки чередовались с охотой и рыбной ловлей, игры и танцы — с роскошными полдниками и другими увеселениями на вольном воздухе. Молодой сеньор, шевалье де ла Мерлюс, которого привезло с собой семейство де Леспуас, устраивал облавы на оленей. У Синей Бороды были лучшие охотничьи стаи и лучшие егеря во всей округе. Дамы усердно состязались с мужчинами в преследовании оленя. Его не всегда настигали, но, гонясь за ним, охотники и их спутницы разбредались по лесу парами, затем ненадолго собирались все вместе, опять исчезали и опять плутали. Шевалье де ла Мерлюс чаще всего исчезал вместе с Жанной де Леспуас; под вечер все возвращались в замок возбужденные своими похождениями и довольные ими. Понаблюдав за сестрами несколько дней подряд, г-н де Монрагу отдал предпочтение младшей, Жанне, более свеженькой, хотя это отнюдь не значило, что она была менее испорчена.
Он открыто выказывал свое предпочтение, да ему и незачем было таиться, так как намерения он питал самые честные; к тому же притворство было ему не по нраву; он ухаживал за девицей как умел; говорил он с непривычки мало, но зато подолгу смотрел на нее, ужасающе вращая глазами, и из глубины его души вырывались такие вздохи, что казалось — перед ними не устоит и могучий дуб. Иногда он разражался хохотом, от которого дрожала посуда и дребезжали стекла. Из всего общества он один не замечал, что шевалье де ла Мерлюс постоянно увивается вокруг младшей дочери г-жи де Леспуас, а если и замечал, то не усматривал в этом ничего дурного. Его опыт по части женщин был слишком скуден, чтобы внушить ему подозрительность, и он не сомневался в предмете своей привязанности. Моя бабушка говаривала, что опыт в жизни никого ничему не учит и человек всегда остается таким, каким был. Мне думается, что она рассуждала здраво, и правдивая история, которую я здесь воспроизвожу, подтверждает ее слова.
Синяя Борода обставлял эти празднества необычайно пышно. С наступлением сумерек на лужайке перед замком вспыхивало множество смоляных факелов, а столы, за которыми прислуживали лакеи, наряженные фавнами, и деревенские красотки, наряженные дриадами, ломились от яств, изготовленных из всего самого лакомого, что только поставляют поля и леса. Музыканты непрерывно услаждали слух прекрасной музыкой. К концу ужина являлись школьный учитель с учительницей, сопровождаемые деревенской детворой; они читали вслух стихи, сочиненные в честь г-на де Монрагу и его гостей, а звездочет в остроконечном колпаке подходил к дамам и по линиям руки предсказывал им их будущие увлечения. По распоряжению Синей Бороды слуги потчевали вином всех его вассалов, и он собственноручно оделял вином и мясом семьи окрестных бедняков.
В десять часов вся компания, опасаясь вечерней прохлады, удалялась в парадные апартаменты замка, ярко освещенные множеством свечей. Там были расставлены столы для всевозможных игр: сражались на бильярде, играли в шахматы и в кости, в ландскнехт, реверси, в шарики, а также в турнике, портик, брелан, гока, триктрак, бассет и кальбас. Синей Бороде никогда не везло во всех этих играх, каждый вечер он проигрывал огромные суммы. Утешением в столь упорном злосчастье ему могло служить лишь то, что все три дамы де Леспуас неизменно были в выигрыше. Младшая, Жанна, всегда ставившая свою ставку на карту шевалье де ла Мерлюс, загребала золотые горы.
Оба сына г-жи де Леспуас также выигрывали немалые деньги в реверси и бассет, и в самых что ни на есть азартных играх фортуна более всего благоприятствовала им. Игра затягивалась до поздней ночи; участники этих великолепных празднеств почти совсем не спали и, как говорит автор первой биографии Синей Бороды, «ночи напролет забавлялись всякими озорными проделками».
Эти часы были для многих самыми сладостными, так как в укрытии мрака те, кого влекло друг к другу, под предлогом веселых шалостей уединялись в глубоких альковах. Шевалье де ла Мерлюс рядился то чертом, то привидением, то оборотнем и пугал спящих, но все его проказы кончались тем, что он прокрадывался в спальню Жанны де Леспуас. Доброго г-на де Монрагу тоже не забывали в этих играх. Сыновья г-жи де Леспуас сыпали ему в постель едкий порошок, заставлявший его немилосердно чесаться, и жгли в его покоях какие-то снадобья, распространявшие удушливую вонь; или же они ставили на притолоку двери в его спальню кувшин с водой, и незадачливый сеньор, отворяя дверь, неминуемо опрокидывал кувшин себе на голову. Словом, они не упускали случая сыграть с ним какую-нибудь злую шутку; гостей г-на де Монрагу это развлекало, а сам он все переносил с обычной своей кротостью.
Он сделал предложение, которое г-жа де Леспуас приняла, хотя, по ее словам, сердце у нее разрывалось при мысли, что ее дочери выйдут замуж. Свадьбу сыграли в Ламотт-Жироне с неслыханной пышностью. Мадемуазель Жанна, красивая, как никогда, была с головы до ног облечена в дорогие французские кружева, ее прическа состояла из несметного множества мелких локонов. На ее сестре Анне было зеленое бархатное платье, расшитое золотом. Их почтенная матушка щеголяла в платье из золотистой парчи, отделанном черной синелью, и в уборе из жемчугов и бриллиантов. Г-н де Монрагу нацепил на черный бархатный кафтан все свои крупные бриллианты. У него был очень благородный вид, а простодушная радость, выражавшаяся в его лице, приятно контрастировала с отливавшим синевой подбородком и мужественной осанкой. Разумеется, братья невесты тоже были разодеты в пух и прах; но всех ослепительнее сиял шевалье де ла Мерлюс, явившийся в розовом бархатном кафтане, расшитом жемчугом.
Как только празднество кончилось, евреи-ростовщики, ссудившие семейству де Леспуас и сердечному дружку новобрачной все эти прекрасные одежды и драгоценности, забрали их и на почтовых увезли обратно в Париж.
IV
Целый месяц г-н де Монрагу был счастливейшим из людей. Он обожал свою жену и считал ее ангелом чистоты. А была она отнюдь не такая; но люди куда более опытные, чем бедняга Синяя Борода, и те обманулись бы точь-в-точь как он, настолько эта особа была хитра и коварна; к тому же она неукоснительно следовала советам своей матушки, самой прожженной негодяйки во всем французском королевстве. Эта почтенная особа поселилась в замке Гийет вместе со своей старшей дочерью Анной, обоими сыновьями, Пьером и Комом, и шевалье де ла Мерлюсом, столь же неразлучным с г-жой де Монрагу, как если бы он был ее тенью. Это несколько раздражало простака-мужа, которому хотелось постоянно быть наедине со своей супругой; но он не огорчался дружеским расположением Жанны к молодому дворянину, так как она уверила его, что шевалье де ла Мерлюс — ее молочный брат.
Шарль Перро рассказывает, что спустя месяц после женитьбы Синяя Борода был вынужден отлучиться из дому на шесть недель по важному делу; но, по-видимому, Перро не знал подлинных причин этого путешествия, и возникло подозрение, что оно было лишь уловкой, которою, как водится, воспользовался ревнивый муж, дабы застать жену врасплох. В действительности все было совсем иначе: г-н де Монрагу поехал в округ Перш, чтобы вступить во владение наследством своего кузена д’Утарда, героически погибшего в сражении при Дюнах[23]: пушечное ядро убило его наповал в ту минуту, когда он играл в кости на опрокинутом барабане.
Перед отъездом г-н де Монрагу попросил супругу во время его отсутствия развлекаться как можно усерднее.
— Пригласите ваших подружек, сударыня, — сказал он ей, — катайте их в карете по окрестностям, веселитесь и ублажайте себя вкусной едой.
Он отдал ей ключи замка, подчеркивая этим, что в его отсутствие она является единственной и полновластной хозяйкой всего поместья Гийет.
— Вот, — сказал он ей, — ключи от двух главных кладовых; вот ключ от хранилища золотой и серебряной утвари, которою не пользуются в обиходе; вот ключ от железных шкафов, где у меня хранится золото и серебро; вот ключи от ларчиков с драгоценностями, и вот ключ, который подходит ко всем комнатам замка. А вот этим ключиком отпирается дверь в тот кабинет, что в конце большой галереи нижнего этажа. Открывайте все, расхаживайте повсюду.
Шарль Перро утверждает, что г-н де Монрагу прибавил:
— Но в «малый кабинет» я вам запрещаю входить, запрещаю строго-настрого, и если вам вздумается его отпереть, моему гневу не будет предела.
Передавая эти слова, биограф Синей Бороды, в ущерб истине, без всякой проверки принимает версию, пущенную дамами де Леспуас после того, как некое событие совершилось. Г-н де Монрагу сказал совсем другое. Вручая супруге ключ от «малого кабинета» — иначе говоря, от «кабинета злосчастных принцесс», о котором нам уже неоднократно приходилось упоминать, он выразил пожелание, чтобы дорогая его Жанна не входила в комнату, представлявшуюся ему роковой для его семейного счастья. И впрямь — в эту комнату прокралась его первая жена, лучшая из всех, чтобы убежать из замка вместе со своим медведем; в этой комнате Бланш де Жибоме без счета обманывала его со всякими дворянами; и, наконец, порфировые плиты пола были обагрены кровью преступницы, которую он обожал. Разве всего этого не было достаточно, чтобы для г-на де Монрагу с мыслью о «малом кабинете» соединялись ужасные воспоминания и зловещие предчувствия?
Слова, с которыми он обратился к Жанне де Леспуас, выражали чувства и желания, волновавшие его душу. Мы воспроизводим их буквально.
«У меня нет тайн от вас, сударыня, и я считаю, что нанес бы вам кровное оскорбление, если бы не передал в ваши руки всех ключей жилища, которое принадлежит вам. Следовательно, вы можете входить в «малый кабинет» совершенно так же, как и во все другие комнаты замка; но прошу вас — послушайтесь моего совета, не отпирайте его! Вы премного меня обяжете этим, ибо у меня с ним связаны горестные воспоминания, независимо от моей воли порождающие во мне мрачные предчувствия. Я был бы в отчаянье, если б с вами случилось несчастье или если б я навлек на себя вашу немилость; простите, сударыня, эти опасения, к счастью неосновательные, и благоволите усмотреть в них выражение моей трепетной нежности и моего неусыпного о вас попечения».
Сказав это, добрый сеньор поцеловал супругу и на почтовых отправился в округ Перш.
«Соседки и подружки, — повествует далее Шарль Перро, — не стали ждать, пока за ними послали гонцов, а сами отправились к новобрачной; уж очень им не терпелось увидеть все сокровища ее замка.
Они тотчас принялись осматривать покои, и кладовые, и гардеробные, одни красивее и богаче других; при этом они без умолку превозносили счастье своей подруги и замирали от зависти к ней».
Все историки, писавшие на эту тему, прибавляют, что осмотр этих сокровищ нисколько не веселил г-жу де Монрагу — уж очень ей хотелось поскорее отпереть «малый кабинет». Это сущая правда, и, как говорит все тот же Перро, «любопытство так сильно ее донимало, что она, не приняв во внимание, сколь неучтиво покидать гостей, спустилась туда по винтовой лесенке, притом с такой поспешностью, что раза два или три чуть было не свернула себе шею». Это установленный факт. Но никто никогда не сообщал, что она так спешила в это укромное местечко только потому, что там ее ждал шевалье де ла Мерлюс.
С тех пор как Жанна поселилась в замке Гийет, она каждый день, а то и два раза в день, встречалась в «малом кабинете» с молодым дворянином, никогда не пресыщаясь этими свиданиями, так мало приличествовавшими новобрачной. Сомневаться в том, какого свойства были отношения между Жанной и шевалье де ла Мерлюсом, не приходится; эти отношения отнюдь не были честны, отнюдь не были невинны. Увы! Если бы г-жа де Монрагу посягнула только на честь своего супруга, она, несомненно, навлекла бы на себя хулу последующих поколений, но самый суровый моралист нашел бы для нее извинения; он привел бы в пользу молодой женщины нравы того времени, пример, подаваемый Парижем и двором, бесспорное воздействие дурного воспитания, коварные советы, преподанные развратной матерью, ибо г-жа Сидони де Леспуас потворствовала шашням дочери. Мудрецы простили бы ей эту вину, слишком сладостную, чтобы заслуживать суровой кары. Ее проступки показались бы слишком заурядными, чтобы счесть их за великие прегрешения, и все рассудили бы, что она вела себя ничуть не хуже других женщин. Но Жанна не удовлетворилась посягательством на честь своего супруга: она не убоялась посягнуть и на его жизнь.
«Малый кабинет», называемый также «кабинетом злосчастных принцесс», и был тем местом, где Жанна де Леспуас, г-жа де Монрагу, сговорилась с шевалье де ла Мерлюсом убить своего любящего, верного мужа. Позднее она заявила, что, войдя в кабинет, увидела висевшие там трупы убитых женщин, запекшейся кровью которых были окрашены плиты пола, догадалась, что перед ней — шесть несчастных жен Синей Бороды, и поняла, какая участь ее ожидает.
В таком случае весьма возможно, что она приняла изображения женщин на стенах за изуродованные трупы — галлюцинация, вполне сравнимая с теми, что преследовали леди Макбет. Но более чем вероятно, что она заранее все это измыслила, дабы впоследствии рассказом об этом страшном зрелище очернить своего супруга и тем самым оправдать его убийц. Гибель г-на де Монрагу была предрешена. Письма, лежащие передо мной, не оставляют у меня сомнений в том, что г-жа Сидони де Леспуас участвовала в этом заговоре. Относительно ее старшей дочери можно с уверенностью сказать, что она являлась его душой. В этой семейке Анна де Леспуас была самым злым существом. Чуждая слабостей, порождаемых чувствительностью, она среди разврата, царившего в доме Леспуас, оставалась целомудренной. Она отказывала себе в чувственных наслаждениях не потому, что считала их слишком низменными, а потому, что истинное наслаждение ей доставляла только жестокость. Братьев своих, Пьера и Кома, она вовлекла в это злое дело обещанием каждому из них доставить командование полком.
V
Теперь нам остается восстановить на основании подлинных документов и надежных свидетельств картину самого жестокого, самого коварного и самого подлого из всех семейных преступлений, память о которых дошла до наших дней. Убийство, все обстоятельства которого мы здесь изложим, можно сравнить только с убийством Гильома де Флави [24], умерщвленного в ночь на 9 марта 1449 года своей женой Бланш д’Овербрек, молодой, хрупкой женщиной, и ее сообщниками — побочным сыном г-на д’Орбандаса и цирюльником Жаном Бокийоном. Они задушили Гильома де Флави подушкой, размозжили ему голову поленом и перерезали ему горло, словно теленку. Но Бланш д’Овербрек доказала, что муж твердо решил ее утопить, тогда как Жанна де Леспуас предала в руки гнусных злодеев супруга, нежно ее любившего. Мы расскажем это дело так сжато, как только возможно.
Синяя Борода возвратился несколько раньше, чем предполагалось. Это обстоятельство навело на ошибочное предположение, будто г-н де Монрагу, терзаясь лютой ревностью, хотел захватить свою жену врасплох. Отнюдь нет! Веселый и доверчивый, он если даже задумал сделать ей сюрприз, то приятный. Его нежность, доброта, радостный и спокойный вид должны были бы смягчить самые жестокие сердца. Шевалье де ла Мерлюс и вся гнусная семейка де Леспуас усмотрели в этом лишь возможность с меньшей опасностью для себя самих посягнуть на его жизнь и завладеть его богатствами, еще приумноженными наследством кузена. Молодая жена встретила его с улыбкой; она позволила себя расцеловать и увести в супружескую спальню, где добрый простак вкусил полное блаженство. На другое утро она вернула ему связку ключей, которую он ей доверил, уезжая. Но там не оказалось ключа от «кабинета злосчастных принцесс», обычно называвшегося «малым кабинетом». Синяя Борода кротко попросил жену вернуть ключ; некоторое время Жанна медлила под различными предлогами, но затем исполнила просьбу мужа.
Здесь возникает вопрос, разрешить который невозможно, не переходя из тесного круга исторических исследований в беспредельные просторы философии. Шарль Перро безоговорочно утверждает, что ключ от «малого кабинета» был волшебным, а сие означает, что то был ключ заколдованный, магический, наделенный свойствами, противоречащими законам природы, во всяком случае тем, какие существуют в нашем представлении. И у нас нет никаких доказательств того, что Перро заблуждался. Здесь уместно вспомнить правило, преподанное моим прославленным учителем, г-ном дю Кло де Люном, членом Института[25]:
«Когда появляется сверхъестественное, историк не должен его отвергать». Поэтому я ограничусь тем, что приведу по поводу этого ключа единодушное мнение всех историков, писавших о Синей Бороде в давние времена. Все они утверждают, что ключ был волшебный. Это очень веское свидетельство. Впрочем, этот ключ — далеко не единственное изделие рук человеческих, обладавшее сверхъестественными свойствами. Предание изобилует рассказами о волшебных мечах. У короля Артура[26] был волшебный меч. Волшебным, по неопровержимому свидетельству Жана Шартье[27], был и меч Жанны д’Арк[28]; в доказательство прославленный летописец приводит тот факт, что, когда лезвие меча сломалось, куски воспротивились тому, чтобы их соединили вновь, и все усилия самых искусных оружейников были тщетны. В одном из своих стихотворений Виктор Гюго[29] упоминает «ступеньки лесенок волшебных, что под ногами вьются, пляшут». Многие писатели допускают даже существование людей-волшебников, способных оборачиваться волком. Мы не намерены оспаривать верования, столь прочно укоренившиеся, и не беремся решать, был ли или не был ключ «малого кабинета» волшебным, а предоставляем читателю самому уяснить себе наше мнение по этому вопросу, ибо наша сдержанность не означает, что мы не составили себе суждения, и поэтому заслуживает похвалы. Но когда мы читаем, что этот ключ был запачкан кровью, мы снова чувствуем себя в своей сфере, вернее сказать — в сфере нашей юридической компетенции, где мы снова становимся судьями, полномочными расследовать факты и обстоятельства и на основании их выносить приговор. Мы не так слепо подчиняемся авторитету текстов, чтобы поверить этому. Ключ не был запачкан кровью. В «малом кабинете» действительно пролилась кровь, но очень давно. Была ли она смыта, засохла ли — крови на ключе не могло быть, и то, что в своем смятении преступная супруга приняла за кровавое пятно на железе, было лишь отблеском зари, еще румянившей небосвод. Как бы то ни было, г-н де Монрагу, взглянув на ключ, догадался, что его жена побывала в «малом кабинете», — ведь он сразу заметил, что сейчас ключ был чище, блестел гораздо ярче, чем когда он его вручил ей; отсюда он сделал вывод, что этот блеск вызван частым употреблением. Это сильно его огорчило, и он, скорбно улыбаясь, сказал молодой жене:
— Дорогая, вы входили в «малый кабинет». Как бы это не привело к печальным последствиям для вас и для меня! Эта комната оказывает гибельное влияние, от которого я хотел вас уберечь! Если бы оно сказалось на вас, я был бы безутешен. Простите меня, но ведь любовь располагает к суеверию.
Как только он это сказал, юная г-жа де Монрагу, хотя она никак не могла испугаться Синей Бороды, ибо в его словах и голосе выражались только печаль и любовь, — юная г-жа де Монрагу завопила благим матом: «На помощь! Убивают!»
То был условленный знак; услышав его, шевалье де ла Мерлюс и сыновья г-жи де Леспуас должны были броситься на Синюю Бороду и пронзить его своими шпагами.
Но явился один только шевалье де ла Мерлюс, которого Жанна заранее спрятала тут же в спальне, в шкафу; когда он с обнаженной шпагой в руке бросился на г-на де Монрагу, тот стал в оборонительную позицию.
Жанна в ужасе убежала и в галерее столкнулась со своей сестрой Анной, не стоявшей, как гласит предание, на башне, — ведь макушки башен были снесены еще по приказу кардинала Ришелье[30]. Анна де Леспуас старалась ободрить своих братьев: бледные, дрожащие, они не решались пойти на такое отчаянное дело. Жанна кинулась к ним и стала молить: «Скорее! Скорее! Братья, спасите моего возлюбленного!» Тогда Пьер и Ком подбежали к Синей Бороде; тот меж тем успел обезоружить шевалье де ла Мерлюса, повалил его на пол и коленом придавил ему грудь. Предательски подкравшись сзади, братья пронзили его шпагами и долго еще кололи после того, как он испустил дух.
У Синей Бороды не было наследников. Все его богатства перешли к его жене. Часть их она дала в приданое сестре своей Анне, еще некоторую часть употребила на то, чтобы купить каждому из братьев чин капитана, а все остальное взяла себе и вышла замуж за шевалье де ла Мерлюса, ставшего, как только он разбогател, вполне порядочным человеком.
ИСТОРИЯ ГЕРЦОГИНИ ДЕ СИКОНЬ И Г-НА ДЕ БУЛЕНГРЕНА, ПРОСПАВШИХ СТО ЛЕТ ВМЕСТЕ СО СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕЙ
Currite ducentes sub tegmina, currite, fusi.
Cat.[31]
I
История Спящей Красавицы хорошо известна; о ней имеются превосходные повествования в прозе и в стихах. Я не собираюсь рассказывать ее заново. Но, ознакомившись с несколькими неизданными мемуарами того времени, я нашел в них ряд занимательных подробностей о короле Клоше[32] и королеве Сатин, дочь которых проспала сто лет, а также о разных придворных, разделивших с принцессой ее сон. Я имею в виду поделиться с читателями тем, что показалось мне наиболее интересным в открытых мною материалах.
После нескольких лет замужества королева Сатин подарила королю-супругу девочку, получившую имена Павлы-Марии-Авроры. Торжеством крестин руководил обер-церемониймейстер, герцог дез Уазон, согласно положению, относившемуся еще к эпохе императора Гонория и до того изъеденному крысами и покрытому плесенью, что в нем совершенно невозможно было разобраться.
В те времена еще водились волшебницы, и наиболее знатные из них имели доступ ко двору. Семь волшебниц были приглашены в крестные матери принцессы: королева Титания[33], королева Маб[34], мудрая Вивиана[35], ученица Мерлина в искусстве волшебства, Мелюзина, историю которой написал Жан Аррасский[36], каждую субботу обращавшаяся в змею (но крестины происходили в воскресенье) Уржела[37], белая Анна Бретонская[38] и Мург, увлекшая Ожье Датчанина в Авалонские края[39].
Они явились во дворец в платьях цвета небес, солнца, луны и нимф, с головы до ног сверкая алмазами и жемчугами. В то время как собравшиеся рассаживались за столом, вошла старенькая, неприглашенная волшебница, по имени Алкуина.
— Не гневайтесь, сударыня, что вы не были включены в число приглашенных на это торжество, — сказал ей король, — мы считали вас заколдованной или умершей.
Волшебницы, конечно, могли и умереть, раз они старились. Они все в конце концов умерли, и каждому известно, что Мелюзина сделалась в аду судомойкой. Силой колдовства их можно было заключить в магический круг, в дерево, в куст, в камень или обратить в статую, в лань, в голубку, в табуретку, в кольцо или туфлю. Но в действительности волшебницу Алкуину не пригласили вовсе не потому, что считали ее заколдованной или умершей: ее присутствие на торжестве было признано нарушением этикета. Госпожа де Ментенон[40] могла без всякого преувеличения сказать, что «даже в монастырях не существует такой строгости, какой дворцовый этикет подчиняет великих мира сего». Согласно высочайше выраженной воле обер-церемониймейстер, герцог дез Уазон, воздержался от приглашения волшебницы Алкуины, так как у нее недоставало одного дворянского поколения, чтобы быть допущенной ко двору. На представление своих министров о том, что крайне важно сохранить добрые отношения с этой мстительной и могущественной волшебницей, которая неминуемо обратится во врага, если ее исключат из числа приглашенных на празднество, король решительно отвечал, что, раз она недостаточно родовита, он не может ее пригласить.
Этот злополучный монарх был еще больше рабом этикета, нежели его предшественники. Его упорное желание подчинять важнейшие государственные интересы и самые неотложные обязательства малейшим требованиям давно устаревшего церемониала не раз наносило крупный ущерб монархии и подвергало королевство страшным опасностям. Отказываясь поступиться требованиями этикета ради знаменитой и грозной, хоть и недостаточно родовитой волшебницы, Клош подвергал свою династию опасностям и ущербу, которые легко было предвидеть и следовало бы немедленно предотвратить.
Взбешенная презрительным отношением, которое ей пришлось претерпеть, старая Алкуина наделила принцессу Аврору зловещим даром. Пятнадцати лет от роду, прекрасное, как божий день, царственное дитя должно было умереть от роковой царапины, причиненной ей веретеном — орудием вполне невинным в руках смертных женщин, но грозным, когда три старые Парки[41] накручивают и наматывают на него нити наших судеб и волокна наших сердец.
Семь волшебниц — крестных матерей могли смягчить приговор Алкуины, но не были в силах его отменить, и участь молодой принцессы была определена следующим образом: «Аврора уколется веретеном; она не умрет от этого, но впадет в столетний сон, от которого ее разбудит королевич».
II
Король и королева с мучительным беспокойством выспрашивали у всех ученых и умных людей их мнение о приговоре, поразившем принцессу в ее колыбели, особенно у непременного секретаря Академии наук господина Жербруа и лейб-акушера королевы, доктора Гастинеля.
— Господин Жербруа, разве можно проспать сто лет? — спросила Сатин.
— Государыня, — отвечал академик, — известен ряд примеров более или менее продолжительного сна, и некоторые из них я могу привести вашему величеству. Эпименид Кносский[42] родился от любви смертного и нимфы. Ещё ребенком он был отправлен своим отцом Досиадом пасти стада на горах. Когда полдневный зной раскалил землю, Эпименид прилег отдохнуть в темной прохладной пещере и погрузился в сон, продолжавшийся пятьдесят семь лет. Он изучал свойства растений и, по словам одних, умер ста пятидесяти четырех, а по словам других — двухсот девяноста девяти лет от роду.
Рассказ о семи спящих эфесцах передан Феодором и Руфином[43] в рукописи, скрепленной двумя серебряными печатями. Вот вкратце главные события, изложенные в рассказе. В 25 году по рождестве Христовом семь чиновников императора Деция, принявших христианство, роздали свое имущество бедным, укрылись на горе Келионе, и все семеро уснули в пещере. Они были найдены там епископом Эфесским в царствование Феодора — цветущими, как розы. Они проспали сто сорок четыре года.
Фридрих Барбаросса[44] спит еще до сих пор. В склепе, под развалинами замка, в чаще дремучего леса, спит он за столом, вокруг которого семь раз обвилась его борода. Он проснется, чтобы разогнать воронье, каркающее окрест горы.
Таковы, государыня, величайшие сонливцы, память о которых сохранила история.
— Это все исключительные случаи, — возразила королева. — А вам, господин Гастинель, не случалось при ваших занятиях медициной видеть людей, спящих сто лет?
— Таких людей я никогда не видел, государыня, и не рассчитываю когда-нибудь увидеть, — ответил акушер, — зато я наблюдал любопытные случаи летаргии, о которых, если вашему величеству угодно, могу доложить. Десять лет назад некая девица Жанна Кайу, поступившая в больницу Отель-Дье, проспала шесть лет без перерыва. Я сам имел случай наблюдать девицу Леониду Монтосьель, которая уснула в первый день пасхи шестьдесят первого года, а проснулась на первый день пасхи через год.
— Господин Гастинель, может ли острие веретена причинить укол, вызывающий столетний сон? — спросил король.
— Это маловероятно, государь, — ответил г-н Гастинель, — но в области патологии никогда нельзя с уверенностью сказать: «Так будет, а так не будет».
— Можно еще припомнить Брюнхильду, которая укололась колючкой[45], уснула и была разбужена Сигурдом, — сказал г-н Жербруа.
— Есть тоже и Замарашка, — промолвила первая статс-дама королевы, герцогиня де Сиконь, и пропела вполголоса[46]:
— Что с вами, Сиконь? — спросила королева. — Вы поете?
— Простите, ваше величество, — ответила герцогиня. — Это против заклятья.
Король распорядился об издании указа, которым под страхом смертной казни воспрещалось кому бы то ни было прясть и даже держать у себя веретено. Все подчинились. В деревнях все еще говорили: «Куда веретено, туда и нитка». Но это говорилось только по привычке. Веретена скрылись.
III
При слабовольном короле Клоше его первый министр, г-н де ла Рошкупе, был полноправным правителем государства; он уважал народные верования, как уважали их все великие государственные деятели: Цезарь был верховным жрецом, Наполеон добился от папы помазания на царство. Г-н де ла Рошкупе признавал могущество волшебниц. Он не был скептиком, не был маловером. Он не оспаривал пророчества семи крестных матерей. Но, не имея возможности его изменить, он о нем и не беспокоился. Его характеру было свойственно не тревожиться о бедах, которым он не мог помочь. К тому же предсказанное событие, по-видимому, ожидалось вовсе не так скоро. Г-н де ла Рошкупе обладал зоркостью государственного мужа, а государственные мужи никогда не видят дальше текущего момента. Я имею в виду наиболее проницательных и прозорливых из них. И наконец, если даже предположить, что королевская дочь в один прекрасный день заснет на сто лет, то это, с его точки зрения, было делом чисто семейным, раз салический закон[47] устраняет женщин от наследования престола.
У него, как он говорил, и без того было «хлопот полон рот». Банкротство, отвратительное банкротство, висело над страной, угрожая народу разорением и бесчестием. Голод свирепствовал, и миллионы несчастных ели вместо хлеба глину. В тот год бал в Гранд-Опера был блистателен, как никогда, а маскарадные костюмы прекраснее, чем когда-либо.
Крестьяне, ремесленники, торговцы и фигурантки несказанно печалились о роковом заклятии, которым Алкуина наделила ни в чем не повинную принцессу. В противоположность им вельможи, стоявшие близко ко двору, и принцы королевской крови проявляли по отношению к этому заклятию полное равнодушие. Были также деловые люди и люди науки, которые не верили в приговор, вынесенный волшебницами, по той причине, что не верили в самих волшебниц. К их числу принадлежал и статс-секретарь по финансовым делам г-н де Буленгрен. Тот, кто удивится, что он не верил в волшебниц, хотя неоднократно видел их, тот не представляет себе, до чего может дойти скептицизм у человека, склонного к рассуждениям. Вскормленный Лукрецием, насквозь пропитанный учениями Эпикура и Гассенди[48], г-н де Буленгрен часто выводил из терпения г-на де ла Рошкупе, рисуясь своим холодным неверием.
— Если не для себя самого, то хоть для окружающих будьте верующим, — говорил ему первый министр. — А по правде сказать, бывают минуты, дорогой Буленгрен, когда я думаю: кто же из нас двух более доверчив в отношении волшебниц? Я о них никогда не думаю, а вы только о них и говорите.
Господин де Буленгрен нежно любил герцогиню де Сиконь, жену французского посла в Вене, первую статс-даму королевы, женщину тонкого ума, принадлежавшую к верхам аристократии, несколько сухую, несколько расчетливую и проигрывавшую в фараон свои доходы, земли и последнюю сорочку. Она была благосклонна к г-ну де Буленгрену и не уклонялась от отношений, в которые ее вовлекал отнюдь не темперамент, а уверенность, что они соответствуют ее положению в свете и полезны для ее дел. Искусство, с которым поддерживалась эта связь, свидетельствовало об их хорошем вкусе и об изяществе господствовавших нравов; эта связь нисколько ими не скрывалась, и тем самым решительно исключалось подлое лицемерие. Вместе с тем они проявляли в своих отношениях такую сдержанность, что даже самые строгие люди не могли порицать их.
Герцогиня ежегодно проводила некоторое время в своих поместьях, и тогда г-н де Буленгрен поселялся в простеньком домике, соединявшемся с замком его подруги тропинкой, которая пролегала вдоль болотистого заросшего пруда, оглашаемого по ночам кваканьем лягушек.
И вот, как-то вечером, когда последние отблески солнца обагряли стоячие воды болота, статс-секретарь по финансовым делам увидел на перекрестке трех кружившихся в пляске молодых волшебниц; они держались за руки и пели:
Волшебницы окружили вельможу, и их тонкие, легкие силуэты быстро завертелись вокруг него. Их лица в сумеречном вечернем освещении были светлы и неясны; их волосы сверкали, как блуждающие огоньки.
Они до тех пор пели свое:
пока ошеломленный, чуть не падавший статс-секретарь не запросил пощады.
Тогда самая красивая из них сказала, разъединяя хоровод:
— Сестрицы, отпустите господина де Буленгрена; он направляется в замок поцеловать свою милую.
Он пошел своей дорогой, так и не узнав волшебниц, распорядительниц судеб, но чуть подальше увидел трех сгорбленных старух, которые шли ему навстречу с котомками и клюками. Лица их напоминали три яблока, испеченных в золе, а сквозь лохмотья проглядывали кости, больше покрытые грязью, нежели мясом и кожей. Тощие пальцы их босых ног были непомерно длинны и напоминали позвонки воловьего хвоста.
Едва его завидев, старухи издали стали ему улыбаться и посылать воздушные поцелуи, а когда поравнялись с ним, преградили ему путь, называли его своей крошкой, сокровищем, сердечком, осыпали ласками, от которых он не мог уклониться, потому что, как только он пробовал бежать, они вонзали ему в тело острые крючья своих пальцев.
— Какой красавчик, какая прелесть! — вздыхали они.

Они долго и исступленно домогаются его любви. Наконец, убедившись, что им не разжечь его чувств, застывших от омерзения, они осыпают его бранью, нещадно бьют костылями, валят наземь, топчут, и когда он уже окончательно подавлен, разбит, обессилен, недвижим, младшая из них, которой по меньшей мере восемьдесят лет, присаживается над ним на корточки, подбирает юбку и орошает его отвратительной жидкостью. Он почти задыхается; тотчас же две другие, заменив первую, поливают несчастного дворянина столь же зловонной струей. Наконец старухи удаляются, посылая ему на прощанье: «Покойной ночи, мой Эндимион! До свиданья, мой Адонис! Прощай, мой Нарцисс![49]», а он лежит в обморочном состоянии.
Когда он пришел в себя, сидевшая возле него жаба выводила обворожительные трели, и рой мошек плясал в лучах луны. Он с великим трудом поднялся и, прихрамывая, завершил свой путь.
Но и на этот раз г-н де Буленгрен не узнал волшебниц, распорядительниц судеб.
Герцогиня де Сиконь ожидала его с нетерпением.
— Вы очень запоздали, мой друг.
Он ответил, целуя ей ручку, что с ее стороны чрезвычайно любезно так попрекать его. И извинился, сославшись на легкое недомогание.
— Буленгрен, — сказала герцогиня, — сядьте сюда.
И она призналась ему, что охотно приняла бы из собственной королевской шкатулки подарок в две тысячи экю, которые возместили бы обиды, нанесенные ей судьбой, потому что ей за последние полгода ужасно не везло в фараон.
Она добавила, что дело не терпит отлагательств, а потому Буленгрен тотчас же написал г-ну де ла Рошкупе, прося его об отпуске необходимой суммы.
— Ла Рошкупе будет счастлив исхлопотать для вас эти деньги, — сказал он. — Он весьма обязательный человек и любит оказывать услуги друзьям. Добавлю, что он много талантливей, чем обычно бывают королевские любимцы. У него есть и охота и способность к делам; ему только не хватает философского отношения к жизни. Он верит в волшебниц, полагаясь в этом на свидетельство своих чувств.
— Буленгрен, — сказала герцогиня, — от вас воняет кошками.
IV
Ровно семнадцать лет протекло со дня вынесения волшебницами приговора. Королевская дочь была прекрасна, как звезда. Король и королева жили со своим двором в летней резиденции Потерянных Вод. Надо ли рассказывать, что тогда произошло? Известно, как принцесса Аврора, бегая однажды по замку, забрела на самую верхушку одной из его башен, где проживавшая в чердачной комнатке одинокая старушка сидела за прялкой. Она ничего не слышала о королевском запрете держать у себя веретена.
— Что это вы делаете, милая бабушка? — спросила принцесса.
— Пряду, моя красавица, — ответила старушка, не знавшая ее в лицо.
— Ах, как славно! — воскликнула принцесса. — Как вы это делаете? Позвольте мне попробовать, не выйдет ли и у меня, как у вас.
Не успела она взяться за веретено, как уколола себе руку и упала без чувств («Сказки» Перро, издание Андре Лефевра, с. 86).
Когда королю Клошу доложили, что приговор волшебниц осуществился, он приказал уложить спящую принцессу в голубой зале на лазурную постель, расшитую серебром.
Взволнованные и подавленные придворные стали выжимать из себя слезы, усиленно вздыхали и принимали горестный вид. Повсюду плелись интриги; сообщали, что король увольняет своих министров. Зрела черная клевета. Ходили слухи, что королевская дочка уснула от зелья, изготовленного герцогом де ла Рошкупе, и что г-н де Буленгрен его сообщник.
Герцогиня де Сиконь взобралась по маленькой лесенке к своему старому приятелю; она застала его в ночном колпаке улыбающимся — он в это время читал «Невесту короля Гарба»[50]. Сиконь рассказала ему о происшедшем и о том, что принцесса лежит в летаргическом сне на голубой атласной постели.
Статс-секретарь внимательно выслушал ее.
— Надеюсь, друг мой, что вы не усматриваете во всем этом хотя бы намека на волшебство, — сказал он.
Ибо он не верил в волшебниц, невзирая на то что три древние и достопочтенные представительницы их замучили его своей любовью, избили клюками и до самых костей промочили зловонной жидкостью, чтобы доказать ему свое существование. В том-то и заключается слабая сторона экспериментального метода, примененного этими дамами, что эксперимент действует только на наши чувства, свидетельство которых всегда может быть опровергнуто.
— Дело не в волшебницах! — воскликнула Сиконь. — Несчастный случай с ее высочеством может иметь самые неприятные последствия и для вас и для меня. Его не преминут приписать бездарности, а может быть, даже и злонамеренности министров. Как знать, до чего может дойти клевета. Вас уже обвиняют в скаредности. Уверяют, будто вы, следуя моим корыстным советам, отказались платить стражникам злополучной молодой принцессы. Более того! Поговаривают о черной магии и порче. Надо предотвратить опасность. Покажитесь во дворце, иначе вы пропали.
— Клевета — бич нашего мира, — сказал Буленгрен, — она погубила величайших людей. Всякий, кто честно служит своему монарху, должен уплатить дань этому ползающему и летающему чудовищу.
— Буленгрен, — сказала герцогиня, — одевайтесь!
И, сорвав с него ночной колпак, она бросила его на кровать. Минуту спустя они уже были в передней того покоя, где почивала Аврора, и присели на скамье в ожидании разрешения войти.
Между тем, узнав, что веление судеб свершилось, крестная мать принцессы, волшебница Вивиана, с великой поспешностью прибыла в Потерянные Воды и, чтобы подобрать штат придворных для крестницы ко дню ее пробуждения, коснулась своей палочкой всего, что находилось в замке: «ключниц, фрейлин, горничных, дворян, лакеев, дворецких, поваров, поварих, рассыльных, стражей,' швейцаров, пажей, выездных лакеев; она также дотронулась до всех лошадей на конюшнях, до конюхов и до сторожевых псов на заднем дворе, дотронулась и до крошки Пуфф, собачки принцессы, лежавшей рядом с ней на постели. Даже вертела с нанизанными на них куропатками и фазанами и те погрузились в сон» («Сказки» Перро, с. 87).
А Сиконь и Буленгрен тем временем ждали, сидя рядышком на скамейке.
— Буленгрен, — шепнула герцогиня в самое ухо своему старому другу, — неужели все это происшествие не кажется вам подозрительным? Не думаете ли вы, что за всем этим таится интрига братьев короля, имеющая целью отречение бедного монарха от престола? Все знают, что он любящий отец… Естественно, что они надеются ввергнуть его в отчаянье…
— Возможно, — ответил статс-секретарь. — Во всяком случае, в этом деле нет никакого волшебства. Одни только деревенские кумушки еще могут верить в россказни про Мелюзину.
— Замолчите, Буленгрен, — воскликнула герцогиня. — Нет ничего противнее скептиков. Это наглецы, они издеваются над нашей простотой. Я ненавижу вольнодумцев; я верю в то, во что надо верить, но в данном случае я подозреваю гнусную интригу…
В то самое мгновение, когда Сиконь произносила эти слова, волшебница Вивиана коснулась обоих своей палочкой и усыпила их вместе с остальными.
V
«За четверть часа вокруг всего парка выросло такое множество больших и маленьких деревьев, столько переплетающихся между собой колючих кустов и терновника, что ни зверь, ни человек не мог бы пройти через эту чащу; остались видны только одни верхушки замковых башен, да и то лишь очень издалека» («Сказки» Перро, с. 87–88).
Единожды, дважды, трижды, пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, девяносто и сто раз замкнула Урания[51] кольцо Времени, а Красавица со своим двором и Буленгрен рядом с герцогиней на скамеечке у дверей опочивальни все еще продолжали спать.
Воспринимаем ли мы время как один из модусов единой субстанции, определяем ли его как одну из форм чувствующего «я» или как абстрактное состояние внешнего мира, воспринимаем ли мы его просто как закон, как нечто вытекающее из соотношений реальных величин, — мы вправе утверждать, что век есть некоторый промежуток времени.
VI
Всем известно, чем окончилось волшебство и как, по завершении ста земных оборотов, принц, покровительствуемый волшебницами, проложил себе путь через очарованный лес и добрался до самого ложа, на котором почивала принцесса. То был немецкий князек с хорошенькими усиками и толстыми ляжками, в которого принцесса, едва успев проснуться, сразу же влюбилась по уши и с такой стремительностью последовала за ним в его маленькое княжество, что даже не успела сказать ни словечка своим приближенным, проспавшим вместе с ней в течение ста лет.
Ее первая статс-дама была этим сильно растрогана и воскликнула, преисполненная восхищения:
— Узнаю кровь моих королей!
Одновременно с принцессой и со всем штатом ее приближенных проснулся и Буленгрен рядом с герцогиней де Сиконь.
Он еще протирал себе глаза, когда подруга спросила его:
— Буленгрен, вы спали?
— Вовсе нет, — ответил он, — вовсе нет, друг мой.
Он говорил искренне. Проспав без сновидений, он не заметил, что спал.
— Я не спал, и в доказательство могу вам в точности повторить все, что вы мне сейчас говорили, — ответил он.
— И что же я вам говорила?
— Вы мне сказали: «Я подозреваю гнусную интригу»… Весь маленький двор был немедленно распущен; каждый по мере возможности должен был озаботиться своим устройством и экипировкой. Буленгрен и Сиконь наняли у правителя замка колымагу XVII века, запряженную клячей, уже весьма старой в момент ее погружения в столетний сон, и приказали отвезти себя на станцию Потерянных Вод, где сели в поезд, доставивший их через два часа в столицу королевства. Все, что они видели, и все, что слышали, вызывало у них великое удивление. Но не прошло и четверти часа, как запас их удивления истощился, и ничто больше не стало их поражать. Сами они никого не интересовали. Их история была для всех совершенно непонятной; она не возбуждала никакого любопытства, ибо наш ум не привлекает ни то, что для него слишком ясно, ни то, что чересчур темно. Буленгрен, разумеется, отнюдь не отдавал себе отчета в том, что с ним произошло. Но, когда герцогиня говорила, что все случившееся противоестественно, он ей отвечал:
— Друг мой, позвольте вам заметить, что у вас крайне искаженное представление о физическом мире. На свете нет ничего противоестественного.
У них уже не было ни родных, ни друзей, ни имущества. Им не удалось отыскать местонахождение их жилищ. На имевшиеся при них небольшие деньги они купили гитару и стали петь на улицах. Этим зарабатывали они себе на пропитание. Сиконь по ночам проигрывала в карты в ночных кабачках все полученные за день гроши, а Буленгрен, сидя за стаканом подогретого вина, тем временем разъяснял завсегдатаям, сколь нелепо верить в волшебниц.
РУБАШКА
То был молодой пастух, небрежно раскинувшийся в луговой траве и услаждавший свое одиночество игрой на свирели…
У него силой отняли одежду, однако…
Пьер Ларусс, Большой словарь,ст. «Рубашка». Т. IV, с. 5, стб. 4
ГЛАВА I
Король Христофор, его управление, образ жизни, болезнь
Христофор V был неплохим королем. Он в точности соблюдал законы представительного правления и никогда не противился воле палат. Эта покорность давалась ему довольно легко, ибо он заметил, что, в то время как для достижения власти имеется несколько способов, для сохранения ее не существует даже двух возможностей, как не существует двух видов обращения с нею; что его министры, каковы бы ни были их происхождение, принципы, мысли и чувства, все управляют одинаково и что, вопреки некоторому, чисто внешнему различию, они с успокоительной точностью повторяют друг друга. Вследствие этого он без колебания привлекал к делам всех, на кого ему указывали палаты, отдавая, однако, предпочтение революционерам, ибо они проявляют власть с большим рвением.
Сам он занимался преимущественно внешней политикой. Он часто совершал дипломатические поездки, обедал и охотился со своими кузенами-королями и хвалился, что он лучший министр иностранных дел, о котором только можно мечтать. В делах внутреннего управления он старался по мере возможности применяться к текущим невзгодам.
Он не был ни особенно любим, ни особенно уважаем своим народом, и это обеспечивало ему драгоценное преимущество никогда не разочаровывать. Избавленный от бремени народной любви, он не боялся утратить популярность, что неизбежно для каждого, кто ею пользуется.
Королевство его было богато. Промышленность и торговля процветали, не выходя, однако, за пределы, могущие обеспокоить соседние народы. Состояние его финансов вызывало общее восхищение. Прочность его кредита казалась непоколебимой; коммерсанты говорили о ней с восторгом, с любовью, с глазами, влажными от слез умиления. Некоторая доля славы падала тут и на короля Христофора.
Крестьяне возлагали на него ответственность за плохие урожаи; но последние бывали редко. Плодородие почвы и терпение земледельцев обогащали страну плодами, хлебом, вином и стадами. Фабричные рабочие непрерывными и буйными требованиями пугали буржуазию, видевшую в короле своего защитника от социальной революции; сами же рабочие не могли его свергнуть, так как были слабы, да и не чувствовали к этому никакой склонности, не видя для себя пользы от его падения. Он не облегчал их участи, но и не ухудшал ее, с таким расчетом, чтобы они всегда были угрозой и никогда не были опасностью.
Этот монарх мог вполне положиться на свое войско: оно было проникнуто прекрасным духом. Войско всегда проникнуто прекрасным духом, ибо принимаются все меры к его сохранению; такова первая задача государства. Ведь достаточно войску утратить бодрость, духа — и правительство будет немедленно свергнуто. Король Христофор покровительствовал религии. По правде сказать, он не был особенно набожен и, чтобы не вступать в противоречие с верой, придерживался спасительного правила никогда не вникать в ее догматы. Он отстаивал обедню в дворцовой часовне и с полным уважением и благосклонностью относился к своим епископам, в числе которых было три-четыре ярых приверженца папы, постоянно наносивших королю оскорбления. Низость и раболепство его судей вызывали в нем непреодолимое отвращение. Он не постигал, как могут его подданные сносить столь несправедливое правосудие; но судьи искупали свою постыдную снисходительность к сильным беспощадной суровостью к слабым. Их строгость успокаивала расчетливые умы и обязывала к уважению.
Христофор V заметил, что его действия либо вовсе не приводят ни к каким результатам, либо приводят к результатам обратным тем, каких он ожидал. Поэтому он действовал мало. Ордена и всякого рода отличия были его лучшим орудием управления. Он наделял орденами своих противников, тем самым одновременно уничижая и удовлетворяя их.
Королева подарила ему трех сыновей. Она была безобразна, сварлива, скупа и скудоумна, но народ, знавший о том, что король-относится к ней пренебрежительно и изменяет ей, осыпал ее похвалами и знаками уважения. Изведав множество женщин всех званий и состояний, король преимущественно придерживался общества г-жи де ла Пуль[52], близость с которой вошла у него в привычку. В женщинах его больше всего привлекала новизна, но новая женщина уже перестала быть для него новинкой, и однообразие перемен тяготило его. С досады он возвращался к г-же де ла Пуль, и то «уже виденное», что нагоняло на него тоску в женщинах, которых он видел впервые, значительно легче воспринималось им в старой подруге. Однако и она немало надоела ему. Случалось, что, выведенный из терпения ее пресным однообразием, он пытался несколько видоизменить ее, переодевал ее то тиролькой, то андалуской, то капуцином, то драгунским капитаном, то монахиней, и все же ни на минуту не переставал возмущаться ее бесцветностью.
Его основным занятием была охота, наследственная функция королей и принцев, воспринятая ими от первобытных людей, — древняя необходимость, ставшая развлечением, — работа, которую великие мира сего обращают в удовольствие. Без работы нет и удовольствия. Христофор V охотился шесть дней в неделю.
Однажды он сказал в лесу своему обер-шталмейстеру Катрфею:
— Тяжелое занятие — травля!
— Зато после нее вам будет приятно отдохнуть, государь, — ответил шталмейстер.
— Раньше мне нравилось уставать и после этого отдыхать, Катрфей, — тяжело вздохнул король. — Теперь я не испытываю удовольствия ни от того, ни от другого. Во всяком занятии я чувствую пустоту безделья, а отдых утомляет меня, как изнурительный труд.
После десяти лет царствования без революций и войн, признанный наконец подданными за ловкого политика и возведенный в звание посредника между королями, Христофор V уже не ведал, что такое радость.
Он погрузился в глубокое уныние и нередко говаривал:
— Черная пелена заслоняет от моих взоров мир, а под хрящами ребер я чувствую скалу, на которой водружается тоска.
Он терял сон и аппетит.
— Я уже не могу есть, — жаловался он г-ну де Катрфею, сидя за столом перед золоченым прибором. — Увы! Я жалею не о радостях вкусного стола — этими радостями я никогда не наслаждался, ведь они неведомы ни одному королю. У меня самый плохой стол во всем моем королевстве. Только люди простого звания хорошо едят; богатые держат поваров, а повара обворовывают и отравляют их. Лучшими поварами считаются те, которые больше всех воруют и отравляют, а у меня первые повара в Европе. Между тем я от природы лакомка и не хуже всякого другого сумел бы оценить по достоинству вкусный кусок, если бы мне это позволило мое положение.
Он жаловался на боль в пояснице и на тяжесть в желудке, чувствовал слабость, страдал одышкой и сердцебиениями. Отвратительные приливы горячей испарины подступали к его лицу.
— Я чувствую глухую, постоянную, ровную боль, входящую в привычку, а временами меня пронизывают молниеносные приступы потрясающей боли, — говорил он. — Отсюда — мое оцепенение, отсюда — моя смертельная тоска.
У него бывали головокружения; он страдал помрачением зрения, мигренями, судорогами, спазмами и прострелами, от которых не мог перевести дыхания.
Два лейб-медика, доктор Сомон и профессор Машелье, установили неврастению.
— Неотчетливо выраженное болезненное состояние! — сказал доктор Сомон. — Носологически[53] недостаточно определившаяся сущность и именно поэтому трудно уловимая…
Профессор Машелье прервал его:
— Назовем лучше такую болезнь истым патологическим Протеем[54]; как Старец Морей, она под действием врачебного ухода беспрестанно видоизменяется, облекаясь в самые странные, самые грозные формы: то это ястреб желудочной язвы, то — змей воспаления почек; то она внезапно явит желтый лик разлития желчи, то обнаружит румяные щеки чахотки, то судорожно вцепится в горло страшной дланью удушительницы, вызывая мысль о перерождении сердца; она призрак всех болезней, угрожающих человеческому телу, пока она не поддастся воздействию медицины и, признав себя пораженной, не пустится в бегство, приняв свой истинный облик — обезьяны болезней.
Доктор Сомон был красив, изящен, обаятелен и любим дамами, в которых он любил самого себя. Элегантный ученый, великосветский врач, он умел находить аристократические начала даже в слепых кишках и брюшинах и строго считался с социальным различием, отделяющим одну женскую матку от другой. Профессор Машелье, маленький, толстый, короткий, вылепленный в виде горшка, безудержный говорун, был значительно большим фатом, чем его коллега Сомон. Притязания у него были те же, но ему было трудно их оправдать. Лейб-медики питали друг к другу взаимную ненависть. Но, заметив, что их встречные нападки только наносят им обоюдный ущерб, они поддерживали видимость искреннего согласия и полного единомыслия: не успевал один высказать ту или иную идею, как другой тотчас же присваивал ее себе. При взаимном неуважении к способностям и талантам другого, они не боялись обмениваться мнениями, зная, что ничем не рискуют, ибо ничего не потеряют и не выиграют от этого обмена, раз эти мнения ограничены областью медицины. Болезнь короля сначала не внушала им опасений. Они рассчитывали, что за время лечения больной сам справится с болезнью и что это будет поставлено им в заслугу. Они единодушно предписали строго размеренную жизнь (Quibus nervi dolent Venus inimica)[55]: тонический режим, движения на свежем воздухе, умеренная гидротерапия. Сомон, с одобрения Машелье, предписал применение сернистых углеродов и хлористого метила; Машелье, с согласия Сомона, рекомендовал препараты опия, хлорал и бромистые составы.
Но протекло несколько месяцев, а в состоянии здоровья короля видимого улучшения все еще не было; в скором же времени страдания его обострились.
— Мне кажется, — сказал однажды Христофор V, возлежа в кресле, — мне кажется, что целый крысиный выводок грызет у меня внутренности, в то время как отвратительный карлик, подземный дух в красном колпаке, плаще и штанах, спустившись в мой желудок, врубается в него мотыгой и глубоко вскапывает его.
— Государь, — сказал доктор Сомон, — это боль симпатическая[56].
— Но она мне крайне антипатична, — ответил король. Профессор Машелье вмешался в разговор:
— Ни желудок, ни кишечник вашего величества не больны, государь, и если они все же причиняют вам боль, то это, как мы говорим, по симпатии с вашим солнечным сплетением; его бесчисленные, смешавшиеся и перепутавшиеся нервные разветвления, подобные добела раскаленным платиновым нитям, рвут во все концы кишечник и желудок вашего величества.
— Неврастения — истый патологический Протей… — начал было Машелье.
Но король отпустил их обоих.
— Государь, — сказал по их уходе начальник королевской канцелярии г-н де Сен-Сильвен, — посоветуйтесь с доктором Родриго.
— Да, государь, — подхватил г-н де Катрфей, — прикажите позвать доктора Родриго. Ничего другого не остается.
В ту пору доктор Родриго приводил в изумление весь мир. Его видели почти одновременно во всех странах земного шара. Он так много брал за визиты, что даже миллиардеры признавали его ценность. Что бы ни думали его собратья со всего света о его познаниях и его характере, они с уважением говорили об этом человеке, поднявшем докторский гонорар до еще не слыханной высоты; многие восхваляли его методы лечения, считая, что сами владеют ими и умеют применять их, хоть и за более умеренную плату; это сильно способствовало распространению его мировой славы. Но так как доктор Родриго не любил применять при лечении лабораторные препараты и аптекарскую продукцию и так как он никогда не придерживался установленных формул, его методы лечения озадачивали своей странностью и были неподражаемо оригинальны.
Господин де Сен-Сильвен никогда не пользовался услугами доктора Родриго и тем не менее питал к нему абсолютное доверие и веровал в него, как в бога.
Он стал умолять короля, чтобы тот повелел пригласить доктора-чудотворца. Но мольбы его были напрасны.
— Я привык иметь дело с Сомоном и Машелье, — сказал Христофор V, — я знаю их; мне известно, что они ни на что не способны, а на что способен Родриго, я не знаю.
ГЛАВА II
Лекарство доктора Родриго
Король никогда особенно не любил своих лейб-медиков. После же полугодовой болезни они стали ему совершенно невыносимы; стоило ему издалека завидеть прекрасные усы, венчающие победоносную улыбку доктора Сомона, или пару черных пучков, приклеенных к голове Машелье, он тотчас же начинал скрежетать зубами и испуганно отворачивался.
Однажды ночью он выбросил за окно их снадобья, пилюли и порошки, наполнявшие комнату приторным унылым запахом. Он не только совершенно перестал выполнять их распоряжения, но даже всячески старался выворачивать наизнанку все, что они ему предписывали: он лежал пластом, когда рекомендовалось усиленное движение; суетился, когда был предписан полный покой; наедался, когда была назначена диета; воздерживался от пищи, когда доктора настаивали на усиленном питании, и выказывал столь необычную пылкость, что г-жа де ла Пуль просто не верила свидетельству своих чувств и думала, что грезит. И все-таки он не поправлялся, — так непреложна истина, что медицина — искусство обманчивое и что ее предписания, в каком бы смысле люди их ни воспринимали, всегда одинаково тщетны. От медицины королю не становилось хуже, но и не делалось лучше.
Многочисленные и разнообразные недуги не давали ему покоя. Он жаловался, что в мозгу у него расположился целый муравейник и что эта предприимчивая и воинственная колония роет там галереи, хоромы и склады, переносит туда провизию и материалы, кладет миллиарды яичек, вскармливает детей, выдерживает осады, ведет и отражает атаки и дает отчаянные сражения. Он уверял, будто слышит хруст тонкого, жесткого вражеского панциря, который перекусывают стальные челюсти победителя.
— Прикажите вызвать доктора Родриго, государь, — сказал г-н де Сен-Сильвен. — Он вас вылечит.
Но король пожал плечами и в минуту слабости и малодушия снова потребовал прописанные ему снадобья и возобновил диету. Он прекратил визиты к г-же де ла Пуль и начал старательно принимать пилюли азотнокислых солей аконитина[57], которые тогда только что входили в моду и переживали пору лучезарной молодости. Последствием этого лечения и воздержания явился такой припадок удушья, что язык высунулся у него изо рта, а глаза вылезли из орбит. Его постель ставили стоймя, как стенные часы, и его налитое кровью лицо выступало на ней в виде багрового циферблата.
— Бунт сердечного сплетения в полном разгаре, — промолвил профессор Машелье.
— Сильнейшее возбуждение, — подтвердил доктор Сомон.
Господин де Сен-Сильвен счел уместным снова напомнить о докторе Родриго, но король заявил, что не нуждается в лишнем враче.
— Государь, — возразил Сен-Сильвен, — доктор Родриго не врач.
— Вот как? — воскликнул Христофор V. — Ваши слова, господин де Сен-Сильвен, располагают меня в его пользу и вызывают в нем симпатию. Он не врач? Кто же он в таком случае?
— Государь, он — ученый, он — гений, открывший неслыханные свойства материи в состоянии излучения; он применяет эти свойства в медицине.
Но король голосом, не допускающим возражений, предложил секретарю никогда больше не напоминать ему об этом шарлатане.
— Ни за что, — сказал он, — ни за что я его не приму. Ни за что!
Христофор V провел лето довольно сносно. В обществе г-жи де ла Пуль, переодетой матросиком, он совершил морскую прогулку на яхте водоизмещением двести тонн. Он дал на ней завтрак одному президенту республики, одному королю и одному императору и в согласовании с ними обеспечил общий мир на земле. Это вершительство народных судеб нагоняло на него ужасную тоску, но он нашел в каюте г-жи де ла Пуль старенький роман во вкусе белошвеек и прочитал его с захватывающим интересом, подарившим ему на несколько часов восхитительное забвение окружающей действительности. Словом, если не считать мигреней, невралгических болей, ревматизма и отвращения к жизни, он чувствовал себя удовлетворительно. Осень вернула его к прежним пыткам. Он переносил ужасные муки человека, который до пояса как бы обложен льдом, а выше поясницы охвачен пламенем. Но еще больший ужас и еще более дикий страх внушали ему совершенно необъяснимые ощущения и неописуемые состояния. От некоторых из них, говорил он, волосы дыбом встают у него на голове. Его терзало малокровие, слабость его возрастала с каждым днем, но страдания его не ослабевали.
— Сен-Сильвен, — сказал он однажды утром после скверно проведенной ночи, — вы несколько раз говорили мне о докторе Родриго. Распорядитесь, чтобы его вызвали.
Доктор Родриго в это время значился на мысе Доброй Надежды, в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Тотчас же были посланы в этих направлениях каблограммы[58] и радиограммы. Не прошло и недели, как король уже настойчиво требовал доктора Родриго. В последующие дни он поминутно справлялся: «Когда же наконец приедет доктор Родриго?» Королю почтительно докладывали, что его величество не такой пациент, которым можно пренебречь, и что Родриго путешествует с невероятной быстротой. Но ничего не могло успокоить нетерпеливого больного.
— Он не приедет, — вздыхал король. — Вот увидите, он не приедет!
Телеграмма из Генуи известила, что Родриго занял каюту на пароходе «Пруссия». Три дня спустя всемирно знаменитый доктор, предварительно нанеся своим коллегам Сомону и Машелье нагло-снисходительные визиты, явился во дворец.
Он был моложе и красивее доктора Сомона, с осанкой более гордой и благородной. Из уважения к природе, которой он во всем следовал, он носил длинные волосы и бороду и походил на тех древних философов, которых Греция увековечила в мраморных изваяниях.
Осмотрев короля, он сказал:
— Государь, врачи, рассуждающие о болезнях, как слепые о красках, утверждают, что у вас неврастения или истощение нервной системы. Но если бы эти врачи и постигли сущность вашего недуга, они все равно не могли бы его излечить, ибо органическая ткань может быть восстановлена только теми же средствами, которые употребила природа при ее создании, а средств этих врачи не знают. Каковы же средства, каковы приемы, имеющиеся в распоряжении природы? Она не пользуется ни рукой, ни инструментом; она изощренна, она остроумна; для возведения своих самых мощных, самых грандиозных творений она использует мельчайшие частицы материи, атомы и протилы. Из неосязаемого тумана создает она глыбы скал, растения, металлы, животных и людей. Каким способом? С помощью притяжения, тяготения, испарения, проницаемости, всасывания, просачивания, капиллярности, сродства, взаимного влечения. И малую песчинку она создает не иначе, чем создала Млечный Путь: мировая гармония одинаково царит как в том, так и в другом; и то и другое существуют только благодаря колебанию составляющих его частиц, и это колебание — их музыкальная, влюбленная и вечно волнующаяся душа. Нет никакой разницы в построении небесных светил и построении пылинок, которые пляшут в солнечном луче, пронизывающем эту комнату, и малейшая из этих пылинок не менее изумительна, чем Сириус, ибо основа чудесного всех тел во Вселенной — это то бесконечное малое, из которого они образованы и которым они живут.
Вот как работает природа. Из неуловимого, неосязаемого она извлекла обширный мир, доступный восприятию наших чувств, взвешиваемый и измеряемый нашим рассудком; то, из чего она создала нас самих, — тоже меньше чем дуновение. Будем же действовать, как она, при помощи невесомого, неосязаемого, неуловимого, через любовное притяжение и тончайшую проницаемость. Таков основной принцип. Как применить его к нашему случаю? Как снова вернуть жизнь истощенным нервам — вот что подлежит нашему рассмотрению. Но прежде всего, что такое нервы? Если мы попросим кого-нибудь определить это понятие, то любой физиолог, да что я говорю — даже какой-нибудь Машелье или Сомон, и те нам его дадут. Что такое нервы? Нити, волокна, идущие от головного и спинного мозга и распределяющиеся по всем частям тела для передачи воспринятых извне раздражений и для воздействия на органы движения. В них, следовательно, заключены восприятие и движение. Этого совершенно достаточно, чтобы понять составляющую их основную сущность, чтобы выявить их природу; каким бы словом мы ни определили ее, она однородна с тем, что в мире ощущений мы называем радостью, а в мире нравственном — счастьем. Там, где найдется атом радости или счастья, там же найдется и вещество — восстановитель нервов. А когда я говорю — атом радости, я имею в виду материальный предмет, совершенно определенное вещество, тело, способное принять все четыре состояния — твердое, жидкое, газообразное и излучаемое, — тело, атомный вес которого можно совершенно точно установить. Радость и печаль, которым от начала всех начал подчинены люди, животные и растения, имеют совершенно реальное содержание; они материальны, потому что они духовны, потому что природа едина в своих трех разновидностях: движении, материи, духе. Дело, таким образом, только за тем, чтобы получить достаточное количество атомов радости и с помощью просачивания и кожного всасывания ввести их в организм. Поэтому я прописываю вам носить рубашку счастливого человека.
— Как! — воскликнул король. — Вы хотите, чтобы я носил рубашку счастливого человека?
— На голом теле, государь! Чтобы ваша высохшая кожа втягивала в себя частицы счастья, выделенные потовыми железами счастливого человека через поры его благоденствующей кожи.
Вам, конечно, известна работа, выполняемая кожей: она вдыхает и выдыхает, она производит непрерывный обмен с окружающей ее средой.
— Это и есть прописываемое мне лекарство, господин Родриго?
— Государь, это самое рациональное средство. Наука не дает мне ничего более подходящего. Незнакомые с природой, неспособные ей подражать, наши горе-аптекари изготовляют лишь самое ограниченное количество лекарств, и лекарства эти всегда опасны, но отнюдь не всегда полезны. Не умея изготовлять медикаменты, мы вынуждены брать их в готовом виде, например пиявки, горный климат, морской воздух, минеральные воды, молоко ослицы, шкуру дикой кошки и испарину, проступившую на теле счастливого человека… Разве вы не знаете, что сырая картошка, если ее носить в кармане, успокаивает ревматические боли? Вам не нравятся натуральные лечебные средства; вам нужны лекарства искусственные или химические, разные снадобья; вам нужны капли и порошки; значит, порошки и капли принесли вам много пользы?…
Король извинился и обещал выполнить предписание.
Доктор Родриго, уже подойдя к двери, обернулся.
— Прикажите ее предварительно слегка подогреть, — сказал он.
ГЛАВА III
Гг. де Катрфей и де Сен-Сильвен ищут счастливого человека в королевском дворце
Спеша надеть на себя рубашку, сулящую излечение, Христофор V приказал позвать обер-шталмейстера г-на де Катрфея и начальника королевской канцелярии г-на де Сен-Сильвена и поручил им как можно скорее добыть требуемую рубашку. Было решено, что предмет своих поисков они сохранят в строжайшей тайне. Действительно, можно было опасаться, что стоит только публике узнать, какого рода лекарство требуется королю, как множество несчастных и именно наиболее обездоленных и преследуемых всякими невзгодами станет предлагать свои рубашки в надежде на получение награды. Опасались также, как бы анархисты не подослали рубашек отравленных.
Королевские приближенные решили, что им легко удастся добыть лечебное средство доктора Родриго, не выходя за пределы дворца, и поместились у круглого оконца, в которое были видны проходившие придворные. У всех, кого они видели, были вытянутые, изможденные лица; черты их отчетливо отражали страдания; всех их снедало желание получить назначение, орден, привилегию или чин.
Но, спустившись в парадные залы, Катрфей и Сен-Сильвен увидели спящего в кресле г-на дю Бокажа. Уголки его рта были вздернуты до самых скул, ноздри широко раздуты, округлые щеки сияли точно два солнца, дыхание было гармонично, живот ритмически и безмятежно вздымался, улыбка сияла на лице; весь он — от лоснящейся макушки до веерообразно растопыренных пальцев на широко раздвинутых ногах, обутых в легкие туфли, — излучал радость.
— Нам нечего больше искать, — сказал Катрфей, пораженный этим зрелищем. — Как только он проснется, мы попросим у него рубашку.
Но тут спящий протер себе глаза, потянулся и уныло огляделся по сторонам. Углы его рта стали постепенно опускаться, щеки начали заметно опадать, а веки обвисли, как белье, развешанное в окне бедняка; из груди его вырвались жалобные вздохи, и все в нем уже выражало скуку, сожаление и разочарование.
Узнав начальника королевской канцелярии и обер-шталмейстера, он воскликнул:
— Ах, господа, я только что видел прекрасный сон! Мне снилось, будто король обратил мое бокажское поместье в маркизат. Увы, это только сон, и я отлично знаю, что у короля совершенно иные намерения.
— Пойдем дальше, — сказал Сен-Сильвен. — Уже поздно; нельзя терять времени.
Они встретились в галерее с одним из пэров королевства, удивлявшим людей силой своего характера и глубиной ума. Даже враги не могли ему отказать в бескорыстии, прямоте и мужестве. Было известно, что он пишет воспоминания, и каждый льстил ему, надеясь занять на страницах этих мемуаров достойное место в глазах потомства.
— Возможно, что он счастлив, — сказал Сен-Сильвен.
— Спросим его, — сказал Катрфей.
Они подошли к вельможе, обменялись несколькими словами и, наведя разговор на тему о счастье, задали ему интересовавший их вопрос.
— Меня не тешат ни богатства, ни почести, — ответил им пэр, — и даже самые законные и естественные привязанности, заботливое внимание семьи и радости дружбы не заполняют моего сердца. У меня только одна страсть — благо народа, и это самая несчастная из всех страстей, самый мучительный из всех видов любви.
Я был у власти: я отказался поддержать ценою народных средств и ценою крови наших солдат военные затеи, предпринятые кучкой пиратов и торгашей ради их личного обогащения и грозившие стране разорением; я не принес ни нашего флота, ни армии в жертву поставщикам и пал под тяжестью клеветы всех этих мошенников, которые под гром рукоплесканий безмозглой толпы упрекали меня в том, будто я изменил священным заветам и славе моей родины. Никто не поддержал меня против этих разбойников высокого полета. Когда я вижу безграничную глупость и подлость народа, мне становится жаль монарха. Слабость короля приводит меня в отчаяние; убожество великих мира сего — зрелище, внушающее мне отвращение; неспособность и недобросовестность министров, невежество, низость и продажность народных представителей и ошеломляют и бесят меня. Чтобы облегчить муки, испытываемые в течение дня, я по ночам занимаюсь их описанием и таким образом извергаю горечь, которой полнится мое сердце.
Катрфей и Сен-Сильвен откланялись благородному пэру и, пройдя несколько шагов по галерее, очутились лицом к лицу с маленьким человечком, очевидно горбатым, так как спина его возвышалась над головой. Человек жеманничал и принимал картинные позы.
— К этому нам бесполезно обращаться, — сказал Катрфей.
— Как знать, — промолвил Сен-Сильвен.
— Поверьте мне, я с ним хорошо знаком, — возразил шталмейстер, — я поверенный его сердечных тайн. Он доволен и преисполнен собой и имеет на то полное основание. Этот горбун — баловень женщин. Дамы придворные и дамы городские, дамы света и дамы полусвета, кокетки и актрисы, недотроги и ханжи, первые гордячки и красавицы — все у его ног. На их ублаготворение он тратит здоровье и жизнь и, став меланхоликом, несет на себе тяжелое бремя того самого счастья, которое он им доставляет.
Солнце садилось, и, так как стало известно, что король сегодня уже не выйдет, последние придворные стали покидать дворец.
— Я охотно отдал бы свою собственную рубашку, — сказал Катрфей. — Я смело могу утверждать, что у меня счастливая натура. Я всегда доволен, ем и пью с аппетитом, отменно сплю. Люди удивляются моему цветущему виду и находят приятным мое лицо, поэтому и на внешность свою я не жалуюсь.
Но в мочевом пузыре я чувствую постоянную тяжесть и жар, и это портит мне жизнь. Сегодня утром из меня вышел камень величиной с голубиное яйцо. Боюсь, что моя рубашка не принесет пользы королю.
— Я бы охотно отдал ему свою, — сказал Сен-Сильвен, — но у меня свой камень — жена. Я женился на самом безобразном и самом злющем создании, когда-либо существовавшем на свете, и хотя будущее, как известно, в руках божьих, я смело добавляю — на самом злющем и самом безобразном, которое когда-либо будет существовать, ибо повторное воспроизведение такого экземпляра столь маловероятно, что его надо считать практически невозможным. На такую шутку природа два раза не решится…
И, отбросив эту тягостную тему, он воскликнул:
— Катрфей, друг мой, мы с вами действуем безрассудно. Не при дворе и не среди сильных мира сего следует нам искать счастливого человека!
— Вы рассуждаете, как философ, — возразил Катрфей, — вы выражаетесь языком босяка Жан-Жака[59]. Вы не правы. В королевских дворцах и в домах аристократов имеется столько же счастливых и достойных счастья людей, как в литературных кабачках и в харчевнях, где собираются чернорабочие. Нам только потому сегодня не удалось их найти под этими лепными потолками, что было уже поздно и что нам просто не повезло. Пойдемте к вечернему игорному столу королевы, и там мы, наверное, найдем то, что ищем.
— Искать счастливого человека возле игорного стола! — воскликнул Сен-Сильвен. — Это то же самое, что искать жемчужное ожерелье в поле, засаженном репой, или правдивое слово — на устах государственного мужа!.. Сегодня вечером бал у испанского посла, там будет весь город. Отправимся на бал, и мы без труда снимем с кого-нибудь хорошую и вполне приличную рубашку.
— Мне не раз случалось снимать рубашку со счастливой женщины, — промолвил Катрфей. — Я делал это не без удовольствия. Но счастье бывало кратковременным. Я вам это рассказываю вовсе не из хвастовства — право, тут хвастаться нечем — и не для того также, чтобы вызвать в памяти минувшие радости; они ведь могут еще повториться, ибо, вопреки тому, что гласит народная мудрость, всем возрастам свойственны одни и те же утехи. У меня совершенно иное намерение, гораздо более серьезное и благое, имеющее прямое отношение к возложенному на нас поручению; мне хочется поделиться с вами только что зародившейся, у меня мыслью. Не думается ли вам, Сен-Сильвен, что, прописывая королю рубашку счастливого человека, доктор Родриго воспользовался термином «человек» в широком, родовом смысле этого слова, охватывающем все человечество и исключающем понятие пола, и что он одинаково имел в виду как женскую, так и мужскую рубашку? Лично я склонен думать именно так, и если ваша точка зрения совпадает с моей, мы могли бы значительно расширить границы наших поисков и более чем вдвое увеличить шансы на успех, потому что в таком изящном, цивилизованном обществе, как наше, женщины счастливее мужчин: мы для них делаем больше, чем они для нас. Расширив таким образом нашу задачу, мы могли бы, Сен-Сильвен, поделить ее между собой. Я, например, мог бы, начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра, приступить к поискам счастливой женщины, в то время как вы стали бы искать счастливого мужчину. Согласитесь, друг мой, что женская рубашка — вещь весьма деликатная. Мне однажды довелось держать в руках рубашку, которая легко проходила через кольцо; она была из батиста тоньше паутины. А что скажете вы, мой друг, о рубашке, которую одна французская дама времен Марии Антуанетты[60] проносила в продолжение всего бала в своей прическе? Мне кажется, что мы с вами заслужили бы благоволение короля, нашего повелителя, если бы поднесли ему тонкую батистовую рубашку с прошивками, кружевными воланами и славными розовыми лентами в виде бантиков на плечах, — рубашку легкую как дыхание и благоухающую ирисом и любовью.
Но Сен-Сильвен решительно восстал против такого толкования формулы доктора Родриго.
— Вдумались ли вы как следует в то, что говорите, Катрфей? — воскликнул он. — Женская рубашка доставила бы королю только женское счастье, которое сделало бы его несчастным и опозорило бы его. Я сейчас не буду, Катрфей, входить в обсуждение, кто более способен быть счастливым — мужчина или женщина. Ни место, ни время нам этого не позволяют: пора обедать. Физиологи наделяют женщину большей чувствительностью, нежели наша; но все это отвлеченные, общие места, скользящие поверх голов и никого не затрагивающие. Не знаю, в самом ли деле наше хорошо воспитанное общество создано скорее для женского, чем для мужского счастья, как вы это себе, по-видимому, представляете. По моим наблюдениям, в нашем кругу женщины не воспитывают детей, не ведут хозяйства, ничего не знают, ничего не делают и умирают от усталости. Блистая, они расходуют себя — это участь свечи. Не знаю, так ли уж она завидна. Но не в этом дело. Может быть, наступит день, когда будет только один пол; может быть, их будет три или даже больше. В таком случае половая мораль будет значительно богаче, сложнее и многообразней. Пока что у нас только два пола; в каждом из них имеется много от другого: много мужского в женщине и много женского в мужчине. Все же они отличаются друг от друга, и у каждого своя природа, свой нрав, свои законы, свои радости и печали. Если вы привьете нашему королю женское понятие о счастье, с каким равнодушием он будет тогда взирать на г-жу де ла Пуль!.. И, может быть, вследствие обуявшей его ипохондрии и слабости он в конце концов даже опорочит честь нашей славной родины. Не этого ли вы хотите, Катрфей? Обратите внимание в картинной галерее королевского дворца на историю Геркулеса, вытканную на гобелене, и посмотрите, что случилось с этим героем, исключительно неудачливым по части рубашек5[61]: надев из прихоти рубашку Омфалы, он с той поры только и знал, что прясть шерсть. Такова участь, которую ваша неосторожность готовит нашему славному монарху.
— Ну, будем считать, что я ничего не сказал, и прекратим этот разговор, — согласился обер-шталмейстер.
ГЛАВА IV
Иеронимо
Здание испанского посольства сверкало в темноте ночи. Отблески его огней золотили облака. Огненные гирлянды, окаймлявшие аллеи парка, придавали изумрудную прозрачность и блеск соседней листве. Бенгальские огни румянили небо поверх высоких темных деревьев. Легкий ветерок уносил сладострастные звуки невидимого оркестра. Нарядная толпа приглашенных заполняла открытую лужайку: фраки сновали в тени; военные мундиры сияли лентами и орденами; светлые контуры грациозно скользили по траве, влача за собой волны аромата.
Увидя двух влиятельных государственных мужей — председателя совета и его предшественника, — беседовавших у подножия статуи Фортуны, Катрфей решил было к ним подойти. Но Сен-Сильвен отговорил его.
— Оба они несчастны, — сказал он. — Один не может утешиться, что утратил власть, другой трепещет, как бы ее не утратить. И честолюбие их тем более достойно презрения, что и тот и другой в частной жизни более независимы и сильны, чем в высокой должности, которую они могут удержать лишь при условии унизительного и позорного подчинения прихотям палат, слепым народным страстям и корысти финансистов. То, чего они так горячо домогаются, не более как облаченное в пышные одежды унижение. Ах, Катрфей, довольствуйтесь своими псарями, лошадьми и собаками и не добивайтесь власти над людьми.
Они двинулись дальше. Едва успели они пройти несколько шагов, как были привлечены взрывом смеха, доносившегося из близлежащего боскета. Войдя в него, они под сенью ветвей увидели толстого, небрежно одетого человека, развлекавшего своей болтовней многочисленных слушателей, которые жадно ловили каждое слово, слетавшее с его губ, и не сводили глаз с его нечеловеческого лица, словно вымазанного винным отстоем и напоминавшего античного сатира. То был Иеронимо, самый знаменитый и единственный во всем королевстве популярный человек. Он говорил безудержно, весело, красно, не скупясь на остроты, нанизывал один на другой анекдоты, то занятные, то менее удачные, но всегда вызывавшие смех. Он рассказывал, что некогда в Афинах совершилась социальная революция[62], имущество было поделено и женщины поступили в общественную собственность, но что очень скоро некрасивые и старые начали жаловаться на общее пренебрежение и что в угоду им был издан закон, обязавший мужчин проходить через их объятия, прежде чем получить право на обладание молоденькими и хорошенькими; он с озорным смехом описывал комические супружества, забавные любовные сцены и испуг юношей при виде этих гноеглазых и сопливых любовниц, с носами и подбородками, словно созданными для того, чтобы раскалывать между ними орехи. Потом он принялся рассказывать множество сальных, непристойных анекдотов про немецких евреев, про попов, про крестьян — целый ворох потешных, увлекательных побасенок.
Иеронимо был изумительным оратором. Когда он начинал говорить, все в нем от ног и до головы говорило вместе с ним, и никогда еще изощренность речи ни у одного оратора не достигала такой полноты. То серьезный, то игривый, то величавый, то придурковатый, он владел всеми видами красноречия, и тот же человек, что здесь, под зеленым шатром, как истый комедиант, развлекал балагурством праздных слушателей и самого себя, накануне вызывал в палате депутатов своим могучим голосом неудержимые крики и рукоплескания, бросая в дрожь министров, ввергая в трепет публику на трибунах, и откликами своих речей будоражил всю страну. Ловкий в неистовстве и расчетливый в самых страстных порывах, он, не ссорясь с властью, возглавил оппозицию и, ведя работу в низах, вращался в среде аристократии.
Его называли человеком своего времени. На самом же деле он был человеком своего часа: ум его всегда приноравливался к данному моменту и месту. Он думал всегда «кстати»; его грубое, банальное дарование соответствовало банальности обывателей; его чудовищная посредственность сводила на нет все низкое и все высокое, окружавшее его: на виду оставался только он. Уже одно его здоровье должно было обеспечить его счастье; оно было так же прочно и так же несокрушимо, как и его душа. Большой мастер выпить, большой любитель всякого мяса как в виде жаркого, так и во всех прочих видах, он всегда пребывал в веселом настроении духа и забирал себе львиную долю земных благ. Слушая небылицы толстяка, Катрфей и Сен-Сильвен смеялись вместе с остальными и, подталкивая друг друга локтем, косились на его рубашку, обильно закапанную соусами и винами недавней веселой трапезы.
Посланник некоего заносчивого народа, торговавшийся с королем Христофором о цене его дружбы, в надменном одиночестве пересекал в это время лужайку. Он подошел к великому человеку и слегка ему поклонился. Иеронимо мгновенно преобразился: ясная и мягкая серьезность, величественное спокойствие разлились по его лицу, и приглушенные раскаты его голоса усладили ухо посланника благороднейшей ласковостью речи. Вся его поза выражала понимание внешней политики, духа конгрессов и конференций; все в нем, включая галстук веревочкой, топорщившуюся грудь рубашки и штаны, сшитые точно на слона, каким-то чудом сразу восприняло дипломатическое достоинство и посольскую внешность.
Приглашенные слегка отстранились, и две именитые особы долго и дружески беседовали, подчеркивая свою близость, которая привлекла внимание и вызвала многочисленные комментарии политиков и министерских дам.
— Иеронимо станет министром иностранных дел, стоит только ему этого захотеть, — говорил один.
— Как только он им станет, он засунет короля в карман, — молвил другой.
А австрийская посланница, наведя на него лорнет, проговорила:
— Молодой человек не без способностей, он далеко пойдет!
По окончании беседы Иеронимо прошелся по саду со своим верным, неразлучным Жобеленом, похожим на цаплю с совиной головой.
Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер последовали за ним.
— Его-то рубашка нам и нужна, — тихо сказал Катрфей. — Но отдаст ли он нам ее? Он социалист и борется с правительством короля.
— Ну так что же! Он человек не злой и не глупый, — возразил Сен-Сильвен. — Он не должен желать перемены, раз он в рядах оппозиции. На нем не лежит никакой ответственности, положение его прекрасно: он должен им дорожить. Хороший оппозиционер — всегда консерватор, Или я ничего в этом деле не смыслю, или этому демагогу было бы весьма неприятно чем-нибудь досадить королю. Надо только с умением взяться за дело, и рубашка будет в наших руках. Он поведет с королевским двором точно такую же игру, какую вел Мирабо[63]. Надо только, чтобы он был уверен в сохранении тайны.
Пока они вели этот разговор, Иеронимо, сдвинув шляпу набок и поигрывая тросточкой, прогуливался по саду и изливал свое веселое настроение в неприхотливых шутках, веселом смехе, балагурстве, выкриках, плохих остротах, непристойных, грязных каламбурах и раскатистых руладах. Между тем шагах в пятнадцати впереди него шел законодатель мод и кумир молодежи герцог Онский; повстречавшись со знакомой дамой, он очень просто приветствовал ее коротким, сдержанным, но не лишенным грации жестом. Трибун окинул его внимательным взглядом и, сразу помрачнев и задумавшись, опустил увесистую руку на плечо своего голенастого друга.
— Жобелен, я отдал бы свою популярность и десять лет жизни за умение носить фрак и разговаривать с женщинами, как этот шалопай, — сказал он.
Вся веселость слетела с него. Он шел теперь, угрюмо понурив голову, и без всякого удовольствия разглядывал свою тень, которую насмешливая луна бросала ему в ноги в виде синего болванчика.
— Что он сказал?… Он, конечно, пошутил? — с тревогой спросил Катрфей.
— Он был правдив и серьезен, как никогда, — ответил Сен-Сильвен. — Он обнажил перед нами язву, которая точит его. Иеронимо не может утешиться, что лишен аристократизма и элегантности. Нет, он не счастлив. За его рубашку я не дам и гроша.
Время уходило, и поиски не обещали быть легкими. Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер решили каждый самостоятельно продолжать изыскания и сговорились встретиться во время ужина в маленькой жёлтой гостиной, чтобы поделиться достигнутыми результатами. Катрфей опрашивал преимущественно военных, вельмож и крупных землевладельцев, не пренебрегая и опросом женщин. Более проницательный Сен-Сильвен пробовал читать в глазах финансистов и пытался прощупывать дипломатов.
Они встретились в назначенный час, усталые, с вытянутыми физиономиями.
— Я видел одних лишь счастливцев, — сказал Катрфей, — но счастье у всех испорчено. Военные сохнут от желания получить крест, чин или добавочное содержание. Преимущества и почести, доставшиеся их соперникам, гложут им печень. Я видел, как одни стали желтее кокоса, а другие позеленели, словно ящерицы, узнав, что генерал де Тентий возведен в достоинство герцога Коморского. А один из них стал совсем багровым: его хватил апоплексический удар. Наши дворяне дохнут в своих поместьях столько же от скуки, сколько и от хлопот; в вечных тяжбах с соседями, обираемые судейскими, они влачат свою гнетущую праздность среди забот.
— Я нашел не больше вашего, — сказал Сен-Сильвен. — А особенно удивляет меня противоположность причин и многообразие поводов, вызывающих человеческие страдания. Я видел князя Эстельского, страдающего от измены жены, но не потому, чтобы он ее сильно любил, а потому, что эта измена задевает его самолюбие; герцога Мовера я видел страдающим от того, что жена ему не изменяет и тем самым не дает ему возможности восстановить его расстроенное состояние. Этого одолевает избыток детей; того приводит в отчаяние их отсутствие. Я встретил горожан, мечтающих о жизни в деревне, и деревенских жителей, только о том и помышляющих, как бы обосноваться в городе. Я выслушал признания двух очень почтенных людей: один из них неутешен оттого, что убил на дуэли человека, отбившего у него любовницу; другой в отчаянии, что дал промах по своему сопернику.
— Я никогда не подумал бы, что столь трудно найти счастливого человека, — вздохнул Катрфей.
— А может быть, мы не так взялись за дело? — заметил Сен-Сильвен. — Мы ищем наугад, без всякой системы, мы даже как следует не знаем, чего ищем. Мы точно не определили, что такое счастье. Необходимо его определить.
— Мы понапрасну потеряли бы время, — ответил Катрфей.
— Простите, — возразил Сен-Сильвен, — когда мы его определим, то есть ограничим, уточним, закрепим во времени и пространстве, нам будет значительно легче.
— Не думаю, — сказал Катрфей.
Однако они все же решили посоветоваться по этому поводу с самым ученым человеком во всем королевстве, с директором королевской библиотеки г-ном Шодзэгом.
Солнце уже взошло, когда они вернулись во дворец. Христофор V провел скверную ночь и нетерпеливо требовал целительную рубашку. Они извинились за задержку и взобрались на четвертый этаж, где г-н Шодзэг принял их в обширном зале, содержащем в себе восемьсот тысяч печатных и рукописных томов.
ГЛАВА V
Королевская библиотека
Усадив их возле себя, библиотекарь широким жестом указал на множество книг, расставленных по четырем стенам, от пола и до самого потолка.
— Вы слышите? Слышите страшный шум, который они производят? У меня от него лопаются барабанные перепонки. Они говорят все зараз и на всех языках. Они спорят обо всем: о боге, о природе, о человеке, о времени, о числе и пространстве, о познаваемом и непознаваемом, о добре и зле, они все изучают, все оспаривают, все утверждают, все отрицают. Они умствуют и безумствуют. Среди них есть легкомысленные и серьезные, веселые и унылые, многоречивые и лаконичные; многие из них говорят для того, чтобы ничего не сказать, отсчитывают слоги и подбирают звуки на основе законов, происхождение и смысл которых им самим совершенно неизвестны: это наиболее самодовольные из всех. Имеются среди них и суровые, угрюмого склада, размышляющие только о предметах, окончательно лишенных всякой осязаемости и изъятых из естественной среды; они бьются в пустом пространстве и волнуются в невидимых категориях небытия, и это — самые исступленные, кровожадные спорщики, с яростью отстаивающие свои положения и формулировки. Я уж не говорю о тех, кто пишет историю своего времени или предшествующих времен, ибо этим никто не верит. Всего их собрано здесь восемьсот тысяч душ, но не найдется и двух совершенно одинаково думающих о каком-нибудь предмете, и даже те, которые друг друга повторяют, не могут договориться между собой. Они обычно не знают ни того, что сами говорят, ни того, что сказано другими.
Господа, я сойду с ума, слушая этот всеобщий гомон, как уже сошли с ума все жившие до меня в этом многоголосом зале, за исключением тех, что вошли в него прирожденными идиотами, как, например, мой почтенный коллега господин Фруадефон, который сидит, как вы изволите видеть, против меня и с безмятежным усердием занимается каталогизированием. Он родился простым, и простым остался. Он весь был единым и не стал многообразным, ибо единство не может породить многообразия, и в этом, господа, — напоминаю мимоходом — главное наше затруднение при поисках первопричины явлений: раз причина не может быть единой, она должна быть двойной, тройной, многообразной, а это мы допускаем с большим трудом. У господина Фруадефона простой ум и чистая душа. Он живет каталогически. Он знает названия и внешний вид всех книг, расставленных по этим стенам, и, следовательно, обладает единственным точным познанием, которое можно почерпнуть в любой библиотеке, а так как он ни разу не проникал в содержание книги, то уберегся от вялой неуверенности, от стоустой лжи, от ужасов сомнения, от мук беспокойства — от всех чудовищ, которые чтением порождаются в плодовитом мозгу. Он спокоен и невозмутим, он счастлив.
— Он счастлив! — в один голос воскликнули искатели рубашки.
— Он счастлив, — подтвердил г-н Шозэг, — но он об этом не знает. И возможно, что счастье доступно только при этом условии.
— Увы! — воскликнул Сен-Сильвен. — Жить, не зная, что живешь, — это все равно, что не жить; не знать, что ты счастлив, все равно что не быть счастливым.
Но Катрфей, не слишком полагавшийся на отвлеченные умозаключения и во всех случаях жизни доверявший лишь непосредственному опыту, подошел к столу, за которым среди груды книг в переплетах из телячьей, бараньей и свиной кожи, из сафьяна, тонкого и толстого пергамента и дерева, среди книг, пахнущих пылью, плесенью, крысами и мышами, каталогизировал Фруадефон.
— Господин библиотекарь, — обратился к нему Катрфей, — не откажите в любезности ответить: вы счастливы?
— Книги под таким заглавием я не знаю, — ответил старый каталогизатор.
Безнадежно взмахнув руками, Катрфей вернулся на свое место.
— Представьте себе, господа, — промолвил Шодзэг, — что древняя Кибела[64] несёт на своей цветущей груди господина Фруадефона и они описывают громадную орбиту вокруг солнца, а что солнце мчит господина Фруадефона вместе с землей и со всей ее свитой небесных светил через бездны пространства, к созвездию Геркулеса. Почему? Ни один из собранных вокруг нас восьмисот тысяч томов не может нам этого объяснить. Мы не знаем ни этого, ни всего остального. Господа, мы ничего не знаем. Причины нашего незнания многочисленны, но я убежден, что главная из них кроется в несовершенстве человеческой речи. Смутность наших понятий порождается туманностью слов. Если бы мы больше заботились об уточнении терминов, с помощью которых мы рассуждаем, наши мысли были бы отчетливей и уверенней.
— Что я вам говорил, Катрфей? — торжествующе воскликнул Сен-Сильвен. И он обратился к библиотекарю: — Ваши слова, господин Шодзэг, чрезвычайно меня радуют. И я теперь вижу, что, явившись к вам, мы избрали правильный путь. Мы пришли вас спросить, что такое счастье? Я задаю этот вопрос от имени его величества.
— Постараюсь ответить вам. Всякое слово должно определяться этимологически по его корню: вы меня спрашиваете, что мы разумеем под словом «счастье»? «Счастье» — «bonheur», или «благополучие», — это благое предзнаменование, благое знамение, уловленное по полету и пению птиц, в противоположность «несчастью», или «злополучию» — «malheur», означающему, как указывает на это само слово, злополучный опыт с птицами.
— Но как узнать, что человек в самом деле счастлив? — спросил Катрфей.
— Путем осмотра цыплят! — ответил библиотекарь. — Это вытекает из самого термина «heur», который происходит от латинского «augurium», что равняется «avigurium»[65].
— Осмотр священных цыплят не производится уже со времени римлян[66], — возразил обер-шталмейстер.
— Но разве счастливый человек не тот, которому благоприятствует судьба, и разве не существует внешних, видимых признаков удачи? — спросил Сен-Сильвен.
— Удача, — ответил Шодзэг, — это то, что хорошо выпадает, а неудача — то, что выпадает плохо; это — игральная кость. Если я вас правильно понял, господа, вы ищете счастливого, удачливого человека, то есть человека, относительно которого у птиц только одни добрые предзнаменования, — человека, которому непрерывно везет в игре.
Этого редкого смертного надо искать среди людей, заканчивающих жизненный путь, и предпочтительно среди уже лежащих на смертном одре — словом, среди тех, кому больше уже не придется опрашивать священных цыплят или бросать игральные кости, — ибо только эти люди могут себя поздравить с неизменной удачей и постоянным счастьем…
Еще Софокл сказал в «Царе Эдипе»:
Эти советы не понравились Катрфею, которому вовсе не улыбалась погоня за счастьем после соборования. Сен-Сильвена тоже не радовала перспектива стаскивать рубашку с умирающих; но так как ум у него был философского склада и не был чужд любознательности, он спросил библиотекаря, знает ли тот какого-нибудь славного старца, в последний раз выбросившего на стол искусно меченные кости.
Шодзэг покачал головой, встал, подошел к окошку и забарабанил по стеклу. Шел дождь; площадь была пустынна. В глубине ее возвышался великолепный дворец, увенчанный военными трофеями: на его фасаде Беллона[68] с гидрой на каске и в чешуйчатом панцире потрясала римским мечом.
— Ступайте в этот дворец, — сказал наконец он.
— Как? — воскликнул изумленный Сен-Сильвен. — К маршалу де Вольмару?
— Ну да! Кто же из смертных счастливее победителя при Эльбрусе и в Башкирии? Вольмар — один из величайших полководцев, когда-либо существовавших на свете, и самый удачливый из всех.
— Это знает весь мир, — сказал Катрфей.
— И никогда этого не забудет, — продолжал библиотекарь. — Маршал Пилон, герцог де Вольмар, появился в те времена, когда земная поверхность уже не была целиком охвачена пожаром народных войн, но он сумел выправить эту неблагодарность судьбы, бросаясь во всеоружии своей воинственности и гениальности во все концы земного шара, где вспыхивали войны. Он с двенадцатилетнего возраста служил в Турции и совершил Курдистанский поход. С той поры он пронес свое победоносное оружие по всему миру. Он с такой дерзкой легкостью четыре раза переходил через Рейн, что старая, обросшая камышами река — разделительница народов — почувствовала себя оскорбленной и униженной. Он еще искуснее, чем маршал Саксонский[69], защищал линию реки Лис[70]; он перешёл через Пиренеи, форсировал устье реки Тахо, раскрыл ворота Кавказа и поднялся вверх по Борисфену[71].
Он то защищал, то нападал на народы Европы и трижды спас свою родину.
ГЛАВА VI
Маршал герцог де Вольмар
Шодзэг велел принести описание походов герцога де Вольмара. Три библиотечных служителя сгибались под тяжестью этой ноши. Не было видно конца атласам, расположенным на столах.
— Вот, господа, Штирийский поход, Пфальцский, Караманийский, Кавказский и поход на Вислу. При помощи квадратиков с хорошенькими флажками диспозиция и передвижение войск на этих картах совершенно точно указаны и план сражения доведен до полного совершенства. Обычно эти планы составляются уже по исходе сражения, и от таланта великих полководцев зависит привести в стройную систему — к вящей их славе — все случайности, даруемые судьбой. Но у герцога де Вольмара все было всегда предусмотрено заранее.
Бросьте взгляд на эту десятимиллиметровую карту знаменитого Башкирского сражения, выигранного Вольмаром у турок. Здесь полнее, чем когда-либо, развернулся его тактический гений. Бой завязался с пяти часов утра; в четыре часа пополудни изнуренные полки Вольмара, израсходовав последние заряды, беспорядочно отступали; один, на подступе к мосту, переброшенному через Алуту[72], бесстрашный маршал, имея в каждой руке по пистолету, собственноручно расстреливал беглецов.
Так руководил он отступлением, когда узнал, что безудержно, панически бегущие вражеские силы стремятся к Дунаю. Он мгновенно перестроил расположение своих войск, бросился в погоню за врагом и окончательно его уничтожил. Эта победа дала ему пятьсот тысяч франков дохода и раскрыла перед ним двери Академии.
Господа, вам вряд ли удастся найти человека более счастливого, чем победитель при Эльбрусе и в Башкирии. Он с неизменным успехом совершил четырнадцать походов, выиграл шестьдесят крупных сражений и трижды спас от окончательного разгрома признательное отечество. Величественный старец живет увенчанный славой и почестями, в богатстве и покое, уже давно превзойдя обычный срок человеческой жизни.
— Да, этот человек, без сомнения, счастлив, — сказал Катрфей. — Как по-вашему, Сен-Сильвен?
— Попросим у него аудиенцию, — ответил начальник королевской канцелярии.
Их ввели во дворец, и они прошли через вестибюль, где возвышалась конная статуя маршала.
На цоколе ее были начертаны следующие гордые слова: «Благодарной родине и восхищенному миру завещаю двух своих детищ — Эльбрус и Башкирию». Мраморные ступени парадной лестницы, расходившейся двумя полудугами, поднимались вдоль стен, украшенных воинскими доспехами и знаменами; на широкую площадку выходили двери с орнаментами в виде военных трофеев и пылающих гранат, увенчанные тремя золотыми венками, поднесенными спасителю отечества герцогу де Вольмару королем, парламентом и народом.
Застыв от избытка почтительности, Сен-Сильвен и Катрфей остановились перед закрытыми дверями; мысль о герое, отделенном от них только дверью, приковывала их к порогу, и они не смели предстать перед такой славой.
Сен-Сильвен вспомнил о медали, отчеканенной в память Эльбрусского сражения, на которой изображен маршал, венчающий голову крылатой Победы, при следующей великолепной надписи: «Victoria Caesarem et Napoleonem coronavit; major autem Volmarus coronat Victoriam»[73], — и прошептал:
— Как велик этот человек!
Катрфей схватился обеими руками за сердце, бившееся с такой силой, что готово было разорваться.
Не успели они прийти в себя, как услышали пронзительные крики, которые исходили, казалось, из глубины покоев и постепенно приближались к ним. То был женский визг, и он чередовался с шумом ударов, сопровождавшихся слабыми стонами. Вдруг обе створки двери резко распахнулись, и совсем маленький старичок, выброшенный пинком здоровенной служанки, как кукла распластался на ступенях лестницы, покатился вниз головой и, весь разбитый, ушибленный, растрепанный, рухнул в вестибюле к ногам чопорных лакеев. Это был герцог де Вольмар. Лакеи подняли его. Косматая, полуодетая служанка горланила сверху:
— Да бросьте вы его! Этакую дрянь можно трогать только метлой!
И, потрясая бутылкой, продолжала вопить:
— Он вздумал отнимать у меня водочку! По какому такому праву? Ну и катись, старая рухлядь! Очень ты мне нужен, сволочь этакая!
Катрфей и Сен-Сильвен стремительно выбежали из дворца. Уже на площади Сен-Сильвен высказал мысль, что герою не слишком посчастливилось в его последней игре в кости…
— Катрфей, я вижу, что впал в ошибку, — добавил он, — я хотел подойти к делу со строгим, точным мерилом; я был не прав. Наука сбивает нас с толку. Вернемся к здравому смыслу. Только самый грубый эмпиризм дает нужное направление. Будем искать счастье, не пытаясь его определять.
Катрфей разразился бесконечными упреками и бранью по адресу библиотекаря, обзывал его озорником. Особенно негодовал он на то, что вера его теперь окончательно погублена и что культ национального героя унижен и осквернен в его душе. Это очень огорчало его. Но страдания его были благородного свойства, а не подлежит сомнению, что благородные страдания содержат в себе облегчение и, так сказать, свою собственную награду. Они переносятся легче, спокойнее и с меньшим напряжением воли, чем страдания, порожденные себялюбием и корыстью. Было бы несправедливо желать иного положения вещей. Поэтому душа Катрфея в скором времени оказалась достаточно свободной, а ум его достаточно ясным, чтобы заметить, что капли дождя падают на его шелковую шляпу и что от этого она теряет блеск. Это вызвало у него тяжелый вздох:
— Еще одна пропавшая шляпа!
Он был когда-то военным и служил королю в качестве драгунского поручика. Вот почему он надумал следующее: отправился в издательство Генерального штаба, что на Военном плацу, на углу улицы Больших Конюшен, и купил там карту королевства и план столицы.
— Никогда не следует выступать в поход, не имея карты, — сказал он. — Беда только в том, что сам черт в ней не разберется! Вот наш город и его окрестности. С чего же нам начать? С севера или с юга, с востока или запада? Замечено, что все города разрастаются на запад. Может быть, это надо принять за указание, которым не следует пренебрегать? Возможно, что жители западных кварталов, защищенные от коварных восточных ветров, отличаются лучшим здоровьем, наделены более ровным нравом и счастливее остальных. Или же лучше начать с прелестных холмов, что высятся по берегам реки, в десяти милях к югу от города?
Здесь в это время года живут все наиболее состоятельные семьи. А, что ни говорите, счастливца все-таки надо искать среди счастливых.
— Я не враг общества, Катрфей, и не противник общественного благоденствия, — ответил начальник королевской канцелярии. — Я буду с вами говорить о богатых, как честный человек и добрый гражданин. Богатые достойны глубокого уважения и любви; увеличивая свое собственное богатство, они содержат государство и, благотворя помимо своей воли, кормят множество людей, работающих для сохранения и приумножения их состояния. Ах, как пре* красно, как почтенно, как восхитительно частное богатство! Как должен его оберегать, поддерживать и окружать всевозможными льготами мудрый законодатель, и как несправедливо, вероломно, бесчестно, как противно самым священным правам и законнейшим интересам, как пагубно для казны всякое притеснение частного богатства. Вера в доброту богатых — общественный долг. Сладостно верить в их счастье! Идемте, Катрфей!
ГЛАВА VII
О зависимости между богатством и счастьем
Решив начать обход с наилучшего и богатейшего — с Жака Фельжин-Кобюра, которому принадлежат целые горы золота, алмазные россыпи и моря нефти, они долго брели вдоль стен его парка, заключавших в себе обширные луга, леса, фермы и деревни. Но едва подходили они к каким-нибудь воротам, как их отсылали к другим. Устав от этого непрерывного странствования взад и вперед, вправо и влево и заметив рабочего, который дробил камни на дороге, возле решетчатых ворот, украшенных гербами, они спросили его, не здесь ли следует пройти, чтобы попасть к г-ну Фельжин-Кобюру, которого они желали бы повидать.
Человек с трудом распрямил свою тощую спину и обратил к ним изможденное лицо, прикрытое сетчатыми очками.
— Жак Фельжин-Кобюр — это я, — сказал он.
Видя их изумление, он добавил:
— Я дроблю камни: это мое единственное развлечение.
И, снова согнувшись, он ударил молотом по булыжнику, расколовшемуся с сухим треском.
Они двинулись дальше, и Сен-Сильвен сказал:
— Он слишком богат. Он подавлен своим состоянием. Это несчастный человек.
После этого Катрфей намечал отправиться к сопернику Жака Фельжин-Кобюра, королю железа Жозефу Машеро; его совсем новенький замок угрожающе щетинился на соседнем холме зубчатыми башнями и стенами, которые были испещрены бойницами и усеяны сторожевыми вышками.
Но Сен-Сильвен отговорил его:
— Вы видели его портрет, — у этого человека жалкий вид. Мы знаем из газет, что он святоша, живет бедняком, проповедует евангелие ребятишкам и поет псалмы в церкви. Отправимся лучше к князю де Люзансу. Этот, по крайней мере, настоящий аристократ, умеющий пользоваться своим богатством. Он чужд деловой суеты и не бывает при дворе. Он садовод-любитель, и у него лучшая картинная галерея в королевстве.
О них доложили. Князь де Люзанс принял их в своем кабинете антиков, где можно было увидеть лучшую из греческих копий Афродиты Книдской[74], произведение истинно Праксителева резца, исполненное женственного очарования. Богиня казалась еще влажной от морской воды. В шкафчике из розового дерева, некогда принадлежавшем госпоже де Помпадур[75], хранились прекраснейшие образцы греческих и сицилийских золотых и серебряных медалей. Князь, тонкий знаток этого дела, сам составлял их описание. Его лупа еще лежала на витрине гемм — яшм, ониксов, халцедонов и сардониксов, вмещавших на пространстве величиною с ноготь смело схваченные отдельные фигуры и великолепно скомпонованные группы. Он любовно взял со стола маленького бронзового фавна, чтобы гости полюбовались прелестью его очертаний и покрывавшей его патиной. И речь его была достойна шедевра, которому он давал пояснение.
— Я жду, — сказал он, — прибытия партии старинного серебра, чаш и кубков, превосходящих, по слухам, клады Гильдесгейма и Боско-Реале[76]. Я сгораю от нетерпения их увидеть. Господин де Кейлюс[77] не знал большего наслаждения, чем распаковывание ящиков. Я его вполне понимаю.
Сен-Сильвен улыбнулся.
— Однако я слышал, дорогой князь, что вы сведущи и во всех прочих видах наслаждений.
— Вы мне льстите, господин де Сен-Сильвен. Но я полагаю, что искусство доставлять себе удовольствие — первое из всех искусств и что остальные ценны только тем, что содействуют ему.
Он провел гостей в картинную галерею, где дружно царили серебристые тона Веронезе, янтарь Тициана, красные отливы Рубенса, рыжеватые краски Рембрандта и серо-розовые оттенки Веласкеса[78], где красочные аккорды различных палитр сливались в единую победную гармонию. Скрипка, забытая в кресле, дремала перед портретом худой черноволосой дамы с желтовато-смуглым цветом лица и гладкими бандо на ушах; на лице ее выделялись большие карие глаза. То был портрет незнакомки, по чьим очертаниям ласково прошла влюбленная и уверенная рука Энгра[79].
— Признаюсь вам в своей слабости, — сказал князь де Люзанс. — Иногда, оставшись один, я играю на скрипке перед этими картинами, и у меня создается иллюзия, что я перелагаю в звуки гармонию красок и линий. Перед этим портретом я пытаюсь передать смелую ласковость рисунка и в конце концов безнадежно опускаю смычок.
Одно из окон было обращено в парк. Князь и его гости вышли на балкон.
— Какой чудный вид! — воскликнули Катрфей и Сен-Сильвен.
Террасы, уставленные статуями, померанцевыми деревьями и вазами с цветами, спускались широкими отлогими ступенями к просторной лужайке, окаймленной грабовыми аллеями, и к фонтанам, брызжущим белыми струями воды из раковин тритонов и из урн со склонившимися над ними нимфами. Справа и слева целое море зелени простиралось спокойными волнами вплоть до далекой реки, которая извивалась серебристой нитью среди тополей, под грядою холмов, окутанных розовой дымкой.
Только что улыбавшийся князь теперь озабоченно всматривался в какую-то точку обширной и прекрасной панорамы.
— Труба!.. — пробормотал он изменившимся голосом, указывая пальцем на фабричную трубу, которая дымила на расстоянии не менее двух километров от парка.
— Труба? Да ее совсем не видно, — сказал Катрфей.
— А я только ее и вижу, — ответил князь. — Она мне портит весь этот вид, она мне портит всю окружающую природу, она портит мне всю жизнь. И этому несчастью нечем помочь. Она принадлежит какому-то акционерному обществу, которое не желает ни за какие деньги продать фабрику. Я все испробовал, чтобы как-нибудь замаскировать трубу; из этого ничего не вышло. Я от нее болен.
И, вернувшись в залу, князь тяжело опустился в кресло.
— Нам следовало это предвидеть, — сказал Катрфей, усаживаясь в экипаж. — Он из породы утонченных: он несчастен.
Прежде чем приняться за дальнейшие поиски, они ненадолго присели в садике трактирчика, расположенного на вершине горы, откуда были видны живописная долина и светлая извилистая река с овальными островками. Не падая духом от двух предыдущих неудач, они не теряли надежды найти счастливого миллиардера. Им оставалось посетить в этой местности еще с дюжину миллиардеров, и в их числе были г-н Блох и г-н Потике, барон Нишоль, крупнейший промышленник королевства, и маркиз де Грантом, едва ли не самый состоятельный из всех, принадлежащий к именитейшему, столь же славному, сколь и богатому роду.
За соседним столиком сидел за чашкой молока длинный худой человек, согбенный почти пополам и дряблый, как тюфяк; его белесоватые глаза сползли до самой середины щек, нос опустился на верхнюю губу. Человек этот казался убитым горем и скорбно рассматривал ноги Катрфея.
После двадцатиминутного созерцания он мрачно и решительно встал со своего места, подошел к обер-шталмейстеру и сказал, извинившись за назойливость:
— Разрешите, сударь, задать вам один вопрос, для меня крайне важный. Сколько вы платите за ботинки?
— Несмотря на странность вопроса, я не вижу основания, почему бы на него не ответить, — сказал Катрфей. — Я заплатил за эту пару шестьдесят пять франков.
Незнакомец долго рассматривал поочередно то свою ногу, то ногу собеседника и самым внимательным образом сравнивал оба башмака. Потом, весь бледный, взволнованно спросил:
— Вы сказали, что уплатили за эти башмаки шестьдесят пять франков. Вы твердо в этом уверены?
— Разумеется.
— Подумайте о том, что вы говорите, сударь!
— Однако вы презабавный башмачник! — проворчал Катрфей, начиная терять терпение.
— Я не башмачник, — с кроткой покорностью ответил незнакомец, — я маркиз де Грантом.
Катрфей поклонился.
— Я так и предчувствовал, — продолжал маркиз, — увы, я опять обворован! Вы платите за башмаки шестьдесят пять франков, а я — за совершенно такие же — девяносто. Дело не в цене, она не имеет для меня никакого значения, но мысль, что меня обворовывают, для меня совершенно невыносима. Я вижу, я чувствую вокруг себя одну только бесчестность, одно лицемерие, ложь и обман, и мне становится отвратительно мое богатство, совращающее всех, кто со мной соприкасается, — слуг, управляющих, поставщиков, соседей, друзей, женщин, детей, и я из-за него всех их ненавижу и презираю.
Мое положение ужасно. Я никогда не уверен в честности стоящего передо мной человека. И мне самому смертельно противно и стыдно принадлежать к человеческой породе.
И маркиз снова накинулся на чашку молока, горестно причитая:
— Шестьдесят пять франков! Шестьдесят пять франков!
В это время с дороги послышались жалобы и всхлипывания, и королевские посланные увидели плачущего старика, которого сопровождали два рослых ливрейных лакея.
Это зрелище привело их в волнение. Но трактирщик с видом полного безразличия пояснил им:
— Не обращайте внимания. Это наш известный богач, барон Нишоль!.. Он сошел с ума, воображая, что разорился, и плачет об этом с утра до вечера.
— Барон Нишоль! — воскликнул Сен-Сильвен. — Еще один из числа тех, у кого вы хотели попросить рубашку, Катрфей!
Эта последняя встреча побудила их отказаться от дальнейших поисков целительной рубашки среди первых богачей королевства. Недовольные итогом поисков и опасаясь дурного приема во дворце, они принялись упрекать друг друга в допущенных ими оплошностях.
— И как вам могло прийти в голову, Катрфей, отправиться к этим людям с иною целью, чем изучение их уродств… Их нравы, мысли, чувства — все в них больное и ненормальное. Это просто чудовища.
— Как! Не вы ли мне говорили, Сен-Сильвен, что богатство — добродетель, что наша обязанность — верить в доброту богатых, что сладостно верить в их счастье? Но будьте осмотрительны — богатство богатству рознь. Когда знать беднеет, а всякий сброд начинает обогащаться, — это признак разрушения государства, это конец всему.
— Катрфей, мне очень неприятно вам это говорить, но вы не имеете ни малейшего представления о современном государственном устройстве. Вы не понимаете эпохи, в которой живете. Но ничего! Не пощупать ли нам сейчас золотую середину? Как вы думаете? Было бы, мне кажется, разумно побывать завтра на приеме у столичных дам как дворянских, так и буржуазных кругов. Мы вдоволь там наглядимся на разного рода людей, и мне кажется, лучше начать с дам из более скромной среды.
ГЛАВА VIII
В салонах столицы
Так они и поступили. Прежде всего они посетили салон г-жи Суп, жены макаронного фабриканта, фабрика которого находилась где-то на севере. Они застали супругов Суп крайне опечаленных тем, что они не вхожи в салон г-жи Эстерлен, жены владельца металлургического завода и члена парламента. Они отправились к г-же Эстерлен и застали ее, а равно и г-на Эстерлена, в глубоком огорчении от того, что они не вхожи в салон г-жи дю Коломбье, жены пэра королевства и бывшего министра юстиции. Они отправились к г-же дю Коломбье и застали пэра и его супругу в великом бешенстве из-за того, что им не удается попасть в интимный круг королевы.
Визитеры, встреченные ими в этих столь различных домах, были не в меньшей степени опечалены, огорчены или взбешены. Их терзали болезни, сердечные невзгоды и денежные заботы. Имущие, опасаясь потерь, были еще несчастнее, чем неимущие. Безвестные хотели выдвинуться, известные — продвинуться еще дальше. Большинство было удручено работой, а те, кому было нечего делать, страдали от скуки, еще более удручающей, чем работа. Некоторые скорбели чужою скорбью, страдали страданиями любимой жены или любимого ребенка. Многие чахли от несуществующей, но предполагаемой болезни или от страха ею заболеть.
Незадолго до этого в столице вспыхнула эпидемия холеры, и некий финансист, по слухам, из боязни заразы и невозможности найти достаточно надежное убежище, покончил с собой.
— Хуже всего, что все эти люди, не довольствуясь действительными невзгодами, которые градом сыплются им на голову, еще окунаются в болото воображаемых невзгод, — говорил Катрфей.
— Воображаемых невзгод не существует, — отвечал Сен-Сильвен. — Все невзгоды реальны, раз мы их испытываем, и призрак страдания есть страдание действительное.
— И все-таки я бы очень хотел, чтобы камни, величиной с утиное яйцо, выходящие у меня вместе с мочой, были бы призраками, — возразил Катрфей.
И на этот раз Сен-Сильвену снова пришлось заметить, что люди часто огорчаются по самым разнообразным и даже противоположным поводам.
В салоне г-жи дю Коломбье он поочередно побеседовал с двумя высокообразованными, просвещенными и умными людьми, которые с помощью различных оборотов, произвольно придаваемых собственным мыслям, поведали ему о тяжком нравственном недуге, снедающем их. Беспокойство и того и другого было связано с состоянием общественных дел, но поводы для беспокойства были диаметрально противоположные. Г-н Бром жил в непрестанной боязни какой-нибудь перемены. Пребывая в атмосфере устойчивости, благополучия и полного спокойствия, которыми наслаждалась страна, он опасался возмущений и страшился всеобщего переворота. Он не мог без трепета развернуть газеты; он каждое утро ожидал найти в них известия о волнениях и мятежах. При таком настроении духа самое незначительное событие и самое обыкновенное происшествие вырастали в его глазах в симптом революции, становились предвестником общего катаклизма. Всегда чувствуя себя накануне мировой катастрофы, он жил под гнетом вечного ужаса.
Господина де Сандрика мучило страдание совершенно иного порядка, более странное и более редкое. Покой докучал ему, нерушимость общественного порядка выводила его из терпения, мирное состояние казалось ему отвратительным, незыблемость человеческих и божеских законов наводила на него смертельную тоску. Он втайне призывал хоть какую-нибудь перемену и, притворяясь, будто боится катастроф, страстно желал их. Этот добрый, ласковый, приветливый и гуманный человек не представлял себе иных радостей, чем разгром его родной страны, земного шара, Вселенной, и выискивал даже в мире планет наличие какого-нибудь столкновения или потрясения. Он бывал разочарован, подавлен, печален и хмур, когда язык прессы и внешний вид улиц свидетельствовал о невозмутимом спокойствии народа, — и тем острее страдал от этого, что, зная людей и обладая деловым опытом, прекрасно сознавал, как силен в народах дух консерватизма, традиций, подражательности и послушания и каким ровным и медленным темпом движется общественная жизнь.
На том же приеме у г-жи дю Коломбье Сен-Сильвен отметил другое печальное явление, еще более распространенное и более значительное.
В одном из уголков небольшой гостиной мирно и негромко беседовали председатель Гражданского суда де ла Галисоньер и директор Зоологического сада Лярив-дю-Мон.
— Признаюсь вам, мой друг, — говорил де ла Галисоньер, — мысль о смерти меня убивает. Я непрестанно думаю о ней, я смертельно ее боюсь. Страшит меня не сама смерть — смерть это пустяки, — а то, что следует за ней, — будущая жизнь. Я верю в нее; я убежден, я уверен в своем бессмертии. Разум, инстинкт, наука, откровение — все говорит мне о существовании нетленной души, все мне доказывает, что сущность, происхождение и удел человеческий именно таковы, как изображает их церковь.
Я христианин: я верю в вечные муки; страшная картина этих мук непрерывно преследует меня; ад меня пугает, и этот страх, превосходящий все остальные чувства, лишает меня надежды и всех душевных сил, необходимых для спасения, — он ввергает меня в отчаяние, он сулит мне вечное осуждение, которого я так боюсь. Страх быть навеки проклятым — мое проклятие; ужас перед будущим адом — мои теперешний ад; и, еще живой, я уже заранее претерпеваю загробные муки. Нет пытки, подобной моей, а она с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом все мучительнее терзает меня, ибо каждый день, каждое мгновение приближают меня к тому, чего я так страшусь. Моя жизнь — это агония, полная ужаса и смертельной тоски.
Говоря это, председатель суда потрясал руками, точно хотел отмахнуться от неугасимого пламени, которое уже чувствовал вокруг себя.
— Я завидую вам, дорогой друг, — воскликнул г-н Лярив-дю-Мон. — В сравнении со мной вы счастливы; меня тоже терзает мысль о смерти, но как эта мысль непохожа на вашу и насколько она ужаснее! Моя научная работа, мои наблюдения, мои постоянные занятия сравнительной анатомией и тщательные исследования строения материи вполне убедили меня в том, что слова «душа», «разум», «бессмертие», «невещественность» обозначают только физические явления или отрицание этих явлений, что конец жизни является и концом нашего сознания, — словом, что смерть подводит окончательный итог нашему существованию. Нет слова, которое могло бы определить то, что следует за жизнью, ибо употребляемое нами для этого слово «небытие» — лишь знак отрицания, поставленный перед природой в целом. Небытие — это бесконечное «ничто», и это «ничто» объемлет нас. Мы из него выходим и возвращаемся в него; мы между двумя «ничто» — как скорлупка, плавающая в море. «Небытие» — это нечто невозможное, но очевидное, оно не постигается, но оно существует. Несчастье человека — и несчастье его и преступление — заключается в том, что он до всего этого додумался. Остальные животные этого не знают, и нам следовало бы тоже навсегда оставаться в неведении. Быть и перестать быть! Ужас этой мысли вздымает волосы на моей голове; мысль эта не покидает меня. То, что не будет, портит мне и уродует то, что есть, и небытие уже заранее сводит меня на нет. Отвратительная нелепость! Но я уже чувствую, я вижу, как небытие прикасается ко мне.
— Я более вашего достоин сожаления, — возразил г-н де ла Галисоньер. — Каждый раз, как вы произносите это коварное и восхитительное слово «небытие», сладость его, как подушка — больного, ласкает мою душу и нежит меня обещанием покоя и сна.
Но Лярив-дю-Мон с ним не согласился.
— Мои страдания мучительнее ваших, так как и рядовой человек примиряется с мыслью о вечном аде, а для того, чтобы быть неверующим, требуется недюжинная душевная сила. Религиозное воспитание и мистические настроения внушили вам страх перед человеческой жизнью и ненависть к ней. Вы не только христианин и католик, вы — янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль[80]. А я люблю жизнь, здешнюю, земную жизнь, такой, как она есть, жизнь со всей ее поганью. Я люблю ее, грубую, гнусную и топорную; я люблю ее, мерзкую, нечистоплотную и гнилую; я люблю ее, тупую, глупую и жестокую; я люблю ее во всей ее непристойности, во всем позоре, во всем безобразии, с ее скверной, с ее уродствами и зловонием, с ее развратом и ее заразой. Когда я чувствую, что она от меня ускользает, что она бежит от меня, я дрожу, как последний трус, я схожу с ума от отчаяния.
По воскресеньям и праздничным дням я сную по людным кварталам, вмешиваюсь в катящуюся по улицам толпу, ныряю в сборища мужчин, женщин и детей, теснящихся вокруг бродячих певцов или перед ярмарочными балаганами; я трусь о грязные юбки, о засаленные куртки, я упиваюсь острыми запахами пота, волос и дыхания. Мне представляется, что в этой жизненной сутолоке я дальше от смерти. Я слышу голос, говорящий мне: «Я одна тебя излечу от страха передо мной; ты устал от моих угроз — я одна тебя успокою». Но я не хочу! Не хочу!
— Увы, — вздохнул председатель суда, — если мы в этой жизни не вылечимся от болезней, терзающих наши души, то смерть не принесет нам покоя.
— А больше всего меня бесит, — продолжал ученый, — что, когда мы с вами оба умрем, у меня даже не будет удовлетворения вам сказать: «Вот видите, ла Галисоньер, я был прав — ничего нет». Я не смогу похвастаться перед вами своей правотой, а вы так никогда и не узнаете о своем заблуждении. Какою ценой достается нам мысль! Вы несчастны, друг мой, потому что ваша мысль шире и могущественнее мысли животных и большинства людей. А я несчастнее вас, потому что моя мысль вдохновеннее вашей.
Катрфей, уловивший обрывки этого разговора, не особенно ему удивился.
— Это все горести духа, — сказал он, — они, может быть, и мучительны, но мало распространены. Меня больше тревожат страдания обыденного характера — телесные недуги и уродства, сердечные невзгоды и безденежье: именно они затрудняют наши поиски.
— Кроме того, — заметил Сен-Сильвен, — эти два субъекта уж чересчур настойчиво добиваются от своих учений, чтобы они ввергли их в пучину несчастья. Если бы ла Галисоньер обратился к какому-нибудь доброму отцу иезуиту, тот очень скоро успокоил бы его, а Лярив-дю-Мону следовало бы знать, что можно быть безбожником, сохраняя безмятежность духа, как Лукреций[81], или наслаждаясь этим, как Андре Шенье[82]. Пусть почаще вспоминает стих Гомера: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный»[83], и пусть согласится примкнуть в один прекрасный день к своим учителям, философам древности, гуманистам Возрождения, современным ученым и многим другим «превосходнейшим смертным». «Умирают Парис и Елена», — говорит Франсуа Вийон[84].
«Все мы смертны», — говорит Цицерон[85].
«Мы все умираем», — говорит женщина, чью мудрость восхваляет Священное писание во второй Книге Царств.
ГЛАВА IX
Счастье быть любимым
Они отправились обедать в королевский парк, элегантное место прогулок, являющееся в столице короля Христофора тем же самым, чем является в Париже Булонский лес, в Брюсселе — Камбра, в Лондоне — Гайд-парк, в Берлине — Тиргартен, в Вене — Пратер, в Мадриде — Прадо, во Флоренции — Кашины, в Риме — Пинчо. Устроившись на свежем воздухе, среди блестящей толпы обедающих, они принялись блуждать взглядом по большим дамским шляпам, усаженным цветами и перьями, по этим передвижным шатрам наслаждения, колыхающимся приютам любви, голубятням, уготовленным для слета всех желаний.
— Я думаю, что предмет наших поисков находится здесь, — сказал Катрфей. — Мне, как и всякому человеку, случалось быть любимым. Сен-Сильвен, это — счастье! И я еще сейчас себя спрашиваю, не единственное ли это счастье, доступное людям? И хотя я таскаю в себе мочевой пузырь, в котором больше камней, чем в тележке, выезжающей из каменоломни, — бывают все-таки дни, когда я влюблен, словно мне двадцать лет.
— А я женоненавистник, — ответил Сен-Сильвен. — Я не могу простить женщинам, что они принадлежат к тому же полу, что и моя жена. Я знаю, что все они не так глупы, не так злы и не так уродливы, как она, но достаточно и того, что у них есть нечто общее с ней.
— Бросьте, Сен-Сильвен. Говорю вам: то, что мы с вами ищем, находится здесь, и нам стоит только протянуть руку, чтобы его получить.
И, указывая на чрезвычайно красивого мужчину, одиноко сидевшего за столиком, Катрфей добавил:
— Вы знаете Жака де Нависеля? Он нравится женщинам, он нравится каждой из них. Это и есть счастье — или я в нем ничего не смыслю!
Сен-Сильвен согласился проверить. Они предложили Жаку де Нависелю объединиться за одним столом и, обедая, запросто разговорились с ним. Путем долгих обходов и внезапных вылазок, атакуя его и с фронта и с флангов, прибегая то к намекам, то прямо в открытую они раз двадцать осведомились, счастлив ли он, но так ничего и не добились от собеседника, изящная речь и обворожительное лицо которого не выражали ни радости, ни печали. Жак де Нависель охотно с ними беседовал и казался вполне откровенным и естественным; он даже пускался в признания, но последние только плотнее окутывали его тайну и усиливали ее непроницаемость. Конечно, он был любим. Но был ли он счастлив или несчастен от этой любви? После обеда, когда подали фрукты, королевские инквизиторы уже утратили надежду что-нибудь об этом узнать. Вконец обескураженные, они еще немного поговорили уже совсем впустую и кстати поговорили о самих себе: Сен-Сильвен — о своей жене, а Катрфей — о своем фундаментальном камне, предмете, сближавшем его с Монтенем[86]. За ликерами было рассказано немало разных анекдотов: про г-жу Берий, ускользнувшую из отдельного кабинета, перерядившись пирожником, с плетеной корзиной на голове; про генерала Дебоннера и баронессу Бильдерман; про министра Визира и г-жу Серес, подобно Антонию и Клеопатре растворивших в поцелуях целое царство, — и много других старых и новых историй. Жак де Нависель рассказал восточную сказку.
— Некий молодой багдадский купец, — сказал он, — лежа однажды утром в постели, вдруг почувствовал себя страстно влюбленным и громкими возгласами высказал пожелание быть любимым всеми женщинами. Услышавший это джинн явился перед ним и сказал: «Твое желание отныне исполнено. Начиная с сегодняшнего дня ты будешь любим всеми женщинами». Обрадованный молодой купец тотчас же соскочил с постели и, в чаянье разнообразных и неисчерпаемых удовольствий, вышел на улицу.

Не успел он пройти несколько шагов, как отвратительная старуха, цедившая вино у себя в погребе, прониклась к нему пылкой любовью и стала посылать ему через люк воздушные поцелуи. Он гадливо от нее отвернулся, но старуха за ногу втащила его в погреб и продержала там взаперти в продолжение двадцати лет.
Жак де Нависель заканчивал эту сказку, когда подошедший метрдотель доложил ему, что его ожидают. Он встал и с поникшей головой и сумрачным взглядом направился к чугунным воротам парка, где его, в двухместной карете, поджидала особа довольно терпкого вида.
— Он нам рассказал собственную историю, — сказал Сен-Сильвен. — Молодой багдадский купец — это он сам.
Катрфей ударил себя по лбу.
— Мне же ведь говорили, что его стережет страшный дракон! Совсем про это забыл!
Они поздно возвратились во дворец, не имея при себе иной рубашки, кроме своих собственных, и застали короля Христофора и г-жу де ла Пуль льющими горючие слезы под звуки сонаты Моцарта.
От постоянного общения с королем г-жа де ла Пуль впала в меланхолию и предалась мрачным мыслям и нелепейшим страхам. Она воображала, что ее кто-то преследует, и считала себя жертвой ужаснейших козней: она жила в вечной боязни быть отравленной и заставляла своих горничных пробовать каждое кушанье, подаваемое к столу. Ужас перед смертью и жажда самоубийства преследовали ее. Душевное состояние этой дамы, с которой король делил плачевные дни, сильно ухудшало его собственное состояние.
— Художники — злосчастные виновники чудовищной напраслины, — говорил Христофор V. — Они наделяют плачущих женщин трогательной красотой и являют нашему взору украшенных слезами Андромах, Артемид, Магдалин и Элоиз[87]. У меня есть портрет Адриенны Лекуврер в роли Корнелии[88], орошающей слезами прах Помпея: она обворожительна. Но едва примется плакать госпожа де ла Пуль, как лицо ее перекашивается, нос краснеет и она становится такой безобразной, что можно испугаться.
Этот несчастный государь, живший только мечтой о целебной рубашке, разразился горячими упреками по адресу Катрфея и Сен-Сильвена за их нерадение, за неспособность и неудачливость, имея, вероятно, в виду, что хотя бы одно из этих трех обвинений окажется справедливым.
— Вы, как и мои доктора Машелье и Сомон, хотите меня уморить.
Но для тех это естественно, это их ремесло, а от вас я все-таки ожидал иного. Я рассчитывал на вашу сообразительность и преданность. Я вижу, что ошибся. Вернуться с пустыми руками! И вам не стыдно? Неужели так трудно было исполнить возложенное на вас поручение? Разве так мудрено найти рубашку счастливого человека? Если вы не способны даже на это, на что же вы тогда вообще годитесь? Нет! Можно рассчитывать только на самого себя. Это верно относительно простых людей, а относительно королей в особенности. Я сейчас же сам отправлюсь на поиски рубашки, которую вы не сумели разыскать.
И, сбросив халат и ночной колпак, он потребовал, чтобы ему подали одеться.
Катрфей и Сен-Сильвен попытались его удержать:
— Государь, в вашем состоянии! Какая неосторожность!
— Государь, уже первый час!
— Вы, очевидно, полагаете, что счастливые люди ложатся спать вместе с курами? — сказал король. — Или в моей столице уже нет увеселительных мест? Нет в ней ночных ресторанов? Мой начальник полиции распорядился закрыть все ночные притоны, но разве они все-таки не открыты? Да мне и не придется рыскать по клубам. То, что мне требуется, я найду на улице, на скамейках бульваров.
Кое-как одевшись, Христофор V перешагнул через г-жу де ла Пуль, корчившуюся в конвульсиях на полу, стремглав скатился с лестницы и пронесся бегом через сад. Ошеломленные Катрфей и Сен-Сильвен молча следовали за ним в некотором отдалении.
ГЛАВА X
Не в самозабвении ли счастье?
Достигнув большой дороги, шедшей вдоль королевского парка и затененной старыми вязами, король заметил молодого, изумительно красивого человека, прислонившегося к дереву и с восторгом созерцавшего звезды, которые разукрасили безоблачное небо своими яркими и таинственными знаками. Легкий ветерок шевелил его вьющиеся волосы, отблеск небесных огней сверкал в его глазах.
«Я нашел!» — подумал король.
Он приблизился к улыбающемуся и столь удивительно прекрасному молодому человеку, и тот слегка вздрогнул при его приближении.
— Мне жаль прерывать ваши грезы, сударь, — сказал король, — но вопрос, с которым я хочу к вам обратиться, имеет для меня жизненное значение. Не откажите ответить человеку, который в свою очередь может оказаться вам полезным и сумеет вас должным образом отблагодарить. Сударь, вы счастливы?
— Да, я счастлив.
— Но, может быть, для полноты вашего счастья чего-нибудь недостает?
— Ничего. Конечно, так было не всегда. Я, как все, испытал отвращение к жизни и, может быть, испытал его значительно острее большинства людей. Это мучительное чувство не было следствием ни моего особого положения, ни каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, а исходило от причин, общих для всего человечества и всего, что дышит здесь, на земле. Я познал великую тревогу: теперь она окончательно рассеялась. Я вкушаю полный покой, сладостное ликование: все во мне — довольство, безмятежность и глубокое удовлетворение; неизреченная радость пронизывает все мое существо. Вы застаете меня, сударь, в прекраснейшее мгновение моей жизни, и раз судьба столкнула меня с вами, я призываю вас в свидетели моего счастья. Я наконец свободен, я наконец избавлен от страхов и ужасов, преследующих людей, от пожирающего их честолюбия, от их обманчивых, безумных надежд. Я выше всякой случайности, я ускользаю от двух непобедимых врагов человека — пространства и времени. Я могу пренебречь судьбой. Я владею безусловным счастьем и сливаюсь с божеством. И это блаженное состояние — мое собственное достижение; оно следствие принятого мною решения, до того разумного, благого, прекрасного, добродетельного и действенного, что выполнение его обожествляет меня…
Я купаюсь в радости, я восхитительно опьянен. Я совершенно сознательно и с полным пониманием произношу величественные слова, в которых выражены всяческие опьянения, восторги и очарования: «Я достиг самозабвения!»
Он взглянул на часы.
— Пора! Прощайте!
— Сударь, еще одно слово. Вы можете меня спасти… Я…
— Спасется только тот, кто последует моему примеру. Здесь мы должны расстаться. Прощайте!
И шагом героя, юношески бодрой походкой, незнакомец устремился в чащу леса, окаймлявшего дорогу.
Не внимая его словам, Христофор последовал за ним. Пробираясь в чащу, он услышал звук выстрела, подался вперед, раздвинул ветви и увидал молодого счастливца, распростертого на траве, с виском, пробитым пулей, и револьвером, еще зажатым в правой руке.
От этого зрелища король упал в обморок. Подбежавшие Катрфей и Сен-Сильвен привели его в чувство и отнесли во дворец. Христофор навел справки о молодом человеке, который у него на глазах обрел безнадежное счастье. Он узнал, что то был наследник богатой и знатной семьи, что одаренность его равнялась его красоте и что судьба неизменно благоприятствовала ему.
ГЛАВА XI
Сигизмунд Дукс
На следующий день, проходя пешком по улице Конституции в поисках целебней рубашки, Катрфей и Сен-Сильвен встретили выходившую из музыкального магазина графиню де Сесиль. Они проводили ее до экипажа.
— Господин де Катрфей, почему вас не было видно вчера в клинике профессора Кийбефа? И вас также, господин де Сен-Сильвен? Напрасно вы не пришли, было очень интересно. На пятичасовую операцию, прелестное удаление яичника, профессор Кийбеф пригласил элегантнейшее общество, целую толпу и в то же время только самых изысканных людей. Были цветы, красивые туалеты, музыка; подавали мороженое. Профессор был на редкость изящен и грациозен. Он велел сделать снимки для кинематографа.
Катрфей не был особенно удивлен этим описанием. Он знал, что профессор Кийбеф совершает операции в обстановке роскоши и удовольствия. Он попросил бы у него рубашку, если бы за несколько дней перед этим не застал прославленного профессора в неутешном горе из-за того, что ему не пришлось оперировать двух модных знаменитостей: германского императора, которому профессор Хильмахер только что вырезал кисту, и карлицу из Фоли-Бержер, которая проглотила сотню гвоздей, но не хотела, чтобы ей вскрывали желудок, а отпивалась касторкой.
Остановившись у витрины музыкального магазина, Сен-Сильвен предался созерцанию бюста Сигизмунда Дукса и громко воскликнул:
— Вот тот, кого мы ищем! Вот он — счастливый человек!
С бюста, очень похожего, глядели правильные и благородные черты — одно их тех гармонических и полных лиц, которые напоминают земной шар. Хотя и облысевший и уже старый, великий композитор имел столь же обворожительный, сколь и величественный вид. Его голова округлялась наподобие церковного купола, но несколько грузный нос был посажен с любовью и отнюдь не духовной устойчивостью; подстриженная борода не скрывала мясистых губ и похотливого вакхического рта. Это было совершенно точное изображение гения, создававшего самые благочестивые оратории и самую страстную, самую чувственную оперную музыку.
— Как могли мы не вспомнить про Сигизмунда Дукса? — продолжал Сен-Сильвен. — Он с такой полнотой наслаждается своей славой, что сумел из нее извлечь все преимущества, и он ровно настолько безумен, что не чувствует стеснительности и скуки высокого положения. Как могли мы забыть о самом одухотворенном и чувственном из гениев, счастливом, как бог, спокойном, как животное, сочетающем в своих бесчисленных любовных похождениях изысканнейшую деликатность с самым грубым цинизмом?
— Да, — согласился Катрфей, — это богатый темперамент. Его рубашка может быть весьма полезна его величеству. Идемте же за ней.
Их ввели в зал, обширный и гулкий, как зал кафешантана. Орган, приподнятый на высоту трех ступеней, закрывал часть стены своим корпусом с бесчисленными трубами. Сигизмунд Дукс, в шапочке дожа и в парчовой мантии на плечах, был занят импровизацией, и звуки, рождавшиеся из-под его пальцев, волновали души присутствующих и расплавляли их сердца. На трех ступенях, затянутых темно-красной материей, корчилось у его ног множество распростертых женщин. Иные роскошные, иные очаровательные — длинные, тонкие, гибкие, как змеи, или полные, с могучими формами, массивно-пышные, все одинаково прекрасные от любви и желания, все пламенные и разомлевшие. А в зале, составляя одну сплошную трепещущую толпу, колыхалось сборище молодых американок, финансистов-евреев, дипломатов, танцовщиц, певиц, католических, англиканских и буддийских священников, чернокожих принцев, фортепьянных настройщиков, газетных репортеров, лирических поэтов, театральных антрепренеров, фотографов, мужчин, переодетых женщинами, и женщин, переодетых мужчинами, — сдавленных, перемешанных, сплющенных в одно обожающее целое, поверх которого, забравшись на колонны, сидя верхом на канделябрах, подвесившись к люстрам, трепыхались молодые, юркие, благоговеющие поклонники.
Вся эта толпа пребывала в упоении: это называлось закрытым утренним концертом.
Орган умолк. Туча женщин окутала маэстро; иногда он полувыступал из нее, как яркое небесное светило, потом снова окунался в нее. Он был ласков, кокетливо-вкрадчив, сладострастен и скользок. Любезный, в меру фатоватый, великий, как мир, и крошечный, как амурчик, он при каждой улыбке обнажал ряд младенческих зубов, скрытых за седой бородой, и говорил всем женщинам простые, изящные вещи, от которых они приходили в восторг, тут же забывая сказанное, — до того оно было легко: поэтому обаяние его слов, усиленное таинственностью, сохранялось во всей своей полноте. Так же приветлив и ласков был он и с мужчинами и, увидав Сен-Сильвена, трижды с ним облобызался и сказал ему, что горячо его любит. Начальник канцелярии не стал терять времени попусту: он от имени короля попросил у маэстро две минуты для секретного разговора и, объяснив в общих чертах, какое важное поручение возложено на него, сказал:
— Маэстро, дайте мне вашу руб…
Он тут же запнулся, видя, как внезапно исказились черты Сигизмунда Дукса.
Шарманка замолола на улице польку «Жонкиль». И с первых же ее тактов лицо великого человека покрылось бледностью. Эта полька «Жонкиль», пользовавшаяся в тот год огромным успехом, была сочинена жалким, полуграмотным, бездарным трактирным скрипачом по фамилии Букен. А маэстро, увенчанный сорока годами славы и любви, не мог допустить, чтобы малая толика похвал перепала на долю Букена; он это принимал как нестерпимое оскорбление. Сам бог ведь ревнив и огорчается человеческой неблагодарностью. Стоило Сигизмунду Дуксу услышать несколько тактов польки «Жонкиль», и ему становилось дурно. Он резко покинул Сен-Сильвена, толпу обожателей и великолепное стадо разомлевших женщин, бросился к себе в уборную и извергнул полный таз желчи.
— Он достоин жалости, — вздохнул Сен-Сильвен.
И, потянув Катрфея за фалды, вышел из дома несчастного музыканта.
ГЛАВА XII
Является ли порок добродетелью?
Целых четырнадцать месяцев с утра до вечера и с вечера до утра сновали они по городу и его окрестностям, безуспешно наблюдая, высматривая и опрашивая. Король, с каждым днем терявший силы и имевший теперь представление о трудности предпринятых розысков, приказал министру внутренних дел учредить чрезвычайную комиссию, возглавляемую господами Катрфеем, Шодзэгом, Сен-Сильвеном и Фруадефоном, и, снабдив эту комиссию неограниченными полномочиями, обязать ее приступить к тайному дознанию о счастливых людях, живущих в королевстве. Следуя указанию министра, начальник полиции предоставил в распоряжение членов комиссии своих наиболее расторопных агентов, и в скором времени счастливые люди стали разыскиваться в столице с таким же рвением и горячностью, как разыскиваются в других странах преступники и анархисты. Стоило только какому-нибудь гражданину прослыть счастливым, как о нем немедленно доносили, и он попадал под негласное наблюдение полиции. По два полицейских агента ночью и днем шаркали грузными, подбитыми железом башмаками под окнами всех лиц, заподозренных в благополучии. За светским человеком, взявшим себе ложу в театр, тотчас же начинали присматривать. Владелец скаковой конюшни, у которого лошадь выигрывала приз, брался на заметку. Полицейский чиновник, сидевший в конторе каждого дома свиданий, отмечал посетителей. Вследствие сделанного господином начальником полиции наблюдения, что добродетель приносит людям счастье, все крупные благотворители, основатели богоугодных учреждений, щедрые жертвователи, покинутые и верные жены, граждане, отличившиеся самоотверженными поступками, герои и мученики — все были тоже переписаны и подвергнуты самому тщательному допросу.
Этот надзор тяготел над всем городом, но решительно никто не знал его причин. Катрфей и Сен-Сильвен никому не рассказывали о поисках благодетельной рубашки вследствие уже упомянутого опасения, как бы честолюбивые и корыстные люди, прикинувшись вполне благополучными, не подсунули королю рубашки якобы счастливой, а на самом деле насквозь пропитанной горестями, печалями и заботами. Чрезвычайные меры, принятые полицией, вызывали тревогу среди высших классов общества, и в городе отмечалось некоторое брожение.
Несколько весьма уважаемых дам оказались скомпрометированными, вследствие чего последовал ряд скандалов.
Комиссия собиралась каждое утро в королевской библиотеке под председательством г-на Катрфея, в соприсутствии государственных советников для особых поручений гг. Тру и Бонкаси. Она рассматривала в каждом заседании в среднем до полутора тысяч дел. Проработав в течение четырех месяцев, комиссия не уловила даже признака счастливого человека.
— Увы! — воскликнул г-н Бонкаси в ответ на сетования председателя Катрфея. — Пороки вызывают страдания, а у всех есть пороки.
— У меня их нет, — воскликнул г-н Шодзэг, — и это ввергает меня в отчаяние. Жизнь без пороков — сплошное томление, уныние и тоска. Порок — единственное развлечение, доступное нам в этом мире: порок расцвечивает существование, это соль души, это искра ума. Да что я говорю, порок — единственное своеобразие, единственная творческая сила человека: это — попытка вооружить природу против природы, возвеличить царство человека над царством животных, дать место человеческому созиданию взамен созидания безыменного, выделить мир сознательный из всеобщей бессознательности. Порок — единственное достояние, действительно принадлежащее человеку, его естественное наследие, его истинное мужество и добродетель в буквальном смысле слова, ибо латинское «virtus» — «доблесть, добродетель» — производное от слова «vir» — «человек, муж».
Я пробовал обзавестись пороками: из этого ничего не вышло; тут требуется особое дарование, особая природная склонность. Напускной порок — уже не порок.
— Постойте! А что вы называете пороком? — спросил Катрфей.
— Я называю пороком привычное предрасположение к тому, что большинство людей признает за нечто ненормальное и дурное, то есть индивидуальную нравственность, индивидуальную силу, индивидуальную добродетель, красоту, мощь, дарование.
— Ну вот и прекрасно! — воскликнул советник Тру. — Главное — между собой договориться.
Но Сен-Сильвен стал горячо опровергать точку зрения библиотекаря.
— Не говорите о пороках, раз у вас их нет, — сказал он. — Вы не знаете, что это такое. У меня они есть, у меня их несколько. И я вас уверяю, что получаю от них значительно меньше удовлетворения, чем неприятностей.
Нет ничего тягостнее порока. Волнуешься, горячишься, выбиваешься из сил, чтобы как-нибудь его удовлетворить, а как только он удовлетворен, испытываешь безграничное отвращение.
— Вы так не говорили бы, — возразил Шодзэг, — если бы у вас были красивые пороки — благородные, гордые, властные, возвышенные, в самом деле доблестные. У вас же только маленькие, трусливые пороки, чванливые и смешные. Нет, сударь, вас никак не причислишь к великим хулителям богов.
Сначала Сен-Сильвен почувствовал себя обиженным такими словами, но библиотекарь доказал ему, что в них нет ничего оскорбительного. Сен-Сильвен милостиво с ним согласился и спокойно и твердо высказал следующее соображение:
— Увы, порок, как добродетель, и добродетель, как и порок, связаны с усилием, принуждением, борьбой, трудом, работой, истощением. Поэтому-то мы все и несчастны.
Но председатель Катрфей стал жаловаться, что у него скоро лопнет голова.
— Не будем вдаваться в рассуждения, господа, — сказал он, — мы к этому не приспособлены.
И закрыл заседание.
Из этой комиссии счастья вышло то же самое, что выходит из всех парламентских и внепарламентских комиссий, назначаемых во все времена и во всех государствах: она ничего не решила и, прозаседав пять лет, распалась, не приведя ни к каким результатам.
Король не поправлялся. Чтобы окончательно его доконать, неврастения принимала, как Старец Морей, разные обличья — одно ужаснее другого. Король жаловался, что все его органы блуждают, непрестанно передвигаются в его теле и переносятся на несвойственные им места: почка — в гортань, сердце — в икру, кишки — в нос, печень — в горло, мозг — в живот.
— Вы не можете себе представить, как тягостны эти ощущения и какую путаницу вносят они в мои мысли, — пояснил он.
— Государь, — отвечал Катрфей, — мне это тем легче понять, что в дни молодости живот мой нередко поднимался до самых мозгов, и нетрудно себе представить, какой оборот это придавало моим мыслям. Мои математические занятия немало от этого пострадали.
Чем хуже чувствовал себя Христофор, тем настойчивее требовал он прописанную ему рубашку.
ГЛАВА XII
Кюре Митон
— Я снова начинаю думать, что мы только потому ничего не нашли, что плохо искали, — сказал Сен-Сильвен Катрфею. — Я решительно верю в добродетель и верю в счастье. Они неразделимы. Они редки и прячутся от нас. Мы их разыщем под скромными кровлями, в глуши деревень. Я, со своей стороны, стал бы их в первую очередь искать в той горной суровой местности, которую мы считаем нашей Савойей и нашим Тиролем.
В следующие дни они объездили шестьдесят горных деревень, не повстречав ни одного счастливого человека. Все бедствия, терзающие города, наблюдались и в этих деревушках, а грубость и невежество жителей придавали им еще большую остроту. Два главных бича, которыми располагает природа — голод и любовь, — обрушивались здесь на несчастные человеческие существа еще сильнее и чаще. Перед их глазами прошли хозяева-скупцы, мужья-ревнивцы, жены-обманщицы, служанки-отравительницы, работники-убийцы, отцы-кровосмесители и дети, опрокидывающие квашню на голову деда, задремавшего возле очага. Крестьяне находили удовольствие в одном только пьянстве; и даже радости их были грубы, игры их жестоки. Праздники заканчивались кровавыми драками.
Чем больше Катрфей и Сен-Сильвен наблюдали народ, тем больше убеждались они, что нравы его не могут быть ни лучше, ни чище, что скупая земля делает его скупым, что черствая жизнь вызывает в нем черствость и к чужим и к собственным страданиям и что завистливость, жадность, двоедушие, лживость и постоянный взаимный обман являются естественным следствием нищеты и невзгод.
— И как я только мог хоть на одно мгновенье поверить, что счастье ютится под соломенной кровлей? — спрашивал себя Сен-Сильвен. — Это только может быть плодом полученного мною классического образования. В своей административной поэме, названной «Георгики»[89], Вергилий говорит, что земледельцы были бы счастливы, если бы знали о своем счастье. Он, следовательно, признает, что они об этом счастье не знают. На самом же деле Вергилий писал по приказанию Августа, прекрасного управляющего государством, который беспокоился, как бы Рим не остался без хлеба, и поэтому всеми силами стремился как можно гуще заселить деревню. Вергилий знал не хуже всякого другого, что жизнь крестьянина тяжела. Гесиод[90] обрисовал ее в ужасных картинах.
— Можно не сомневаться, что нет такой местности, где бы деревенские парни и девушки не лелеяли мечты устроиться в городе, — сказал Катрфей. — В приморских местностях девушки мечтают о поступлении на консервную фабрику. В каменноугольных районах у парней одно помышление: поскорее спуститься в шахту.
Был в тех горах один человек, выделявшийся среди озабоченных лбов и насупленных лиц своею простодушною улыбкой. Этот человек не умел ни обрабатывать землю, ни управляться со скотиной; он ничего не знал из того, что знают прочие люди, он вел бессмысленные разговоры и с утра до вечера распевал одну и ту же песенку, которую никогда не доводил до конца. Он всем восторгался. Он всегда был вне себя от радости. Его одежда была сшита из разноцветных, причудливо подобранных лоскутов. Ребятишки бегали за ним, преследуя его насмешками; но так как считалось, что он приносит счастье, ему не причиняли зла и подавали ему те пустяки, в которых он нуждался. Это был дурачок Юртепуа. Он кормился у подворотен заодно с собаками и ночевал в сараях.
Видя, что он счастлив, и полагая, что местные жители недаром почитают его носителем счастья, Сен-Сильвен, основательно поразмыслив, разыскал его, чтобы взять у него рубашку. Он застал его в горьких слезах, распростертым на церковной паперти. Юртепуа только что узнал о смерти Иисуса Христа, распятого ради спасения человечества.
Королевские чиновники, спустившись в деревню, где мэр был кабатчиком, пригласили его выпить с ними и спросили, не знает ли он счастливого человека.
— Господа, — ответил им мэр, — поезжайте вон в ту деревню, белые домики которой, прилепившиеся к склону горы, виднеются на той стороне долины, и зайдите к кюре Митону; он примет вас как нельзя лучше, и вы окажетесь в обществе счастливого человека, к тому же вполне достойного своего благополучия. Дорога займет у вас часа два.
Мэр предложил им внаймы лошадей, и после завтрака они тронулись в путь.
На первом перегоне их нагнал молодой человек, ехавший в одном направлении с ними верхом на лучшей, чем у них, лошади. У него было открытое лицо, веселый и довольный вид. Они разговорились.
Узнав, что они направляются к кюре Митону, молодой человек сказал:
— Передайте ему от меня поклон. Сам я еду несколько выше, в Сизере, где живу среди прекрасных пастбищ. Мне не терпится поскорее туда попасть.
Он рассказал, что женат на приятнейшей, лучшей в мире женщине, подарившей ему двух детей, красивых, как день, — мальчика и девочку.
— Я еду из нашего города, — весело продолжал он, — и везу с собой оттуда отличных материй на платья с выкройками и модными картинками, по которым можно судить о готовых нарядах. Алиса — так зовут мою жену — не подозревает о приготовленных подарках. Я отдам ей покупки не развертывая и буду наслаждаться зрелищем, как ее быстрые пальчики станут нетерпеливо развязывать бечевку. До чего она будет рада! Она поднимет на меня восторженные, полные свежей ясности глаза и поцелует меня. Мы очень счастливы. За четыре года, что мы женаты, мы с каждым днем все сильнее любим друг друга. У нас самые сочные луга во всей окрестности. И рабочие наши тоже счастливы: они молодцы и косить и плясать. Приезжайте к нам, господа, как-нибудь в воскресенье: попробуете нашего белого винца и полюбуетесь, как танцуют наши ловкие девушки и сильные парни, которым ничего не стоит подхватить девушку и подбросить ее в воздух, как перышко. Наш дом в получасе езды отсюда. Надо свернуть направо между вон теми двумя скалами, что видны в пятидесяти шагах впереди и известны под названием «Ноги серны». Надо миновать деревянный мост, переброшенный через горную речку, и пересечь сосновый лесок, оберегающий нас от северного ветра. Не пройдет и получаса, как я уже буду в кругу своей милой семьи, и мы все четверо порадуемся нашему общему благополучию.
— Надо попросить у него рубашку, — прошептал Катрфей Сен-Сильвену, — я думаю, что она не уступит рубашке кюре Митона.
— И я тоже так думаю, — отвечал Сен-Сильвен.
В то время как они обменивались этими словами, между скалами показался всадник, остановившийся перед спутниками в сумрачном молчании.
— Что случилось, Ульрих? — спросил молодой человек, узнав в нем одного из своих арендаторов.
Ульрих ничего не ответил.
— Несчастье? Да говори же!
— Сударь, ваша супруга, спеша поскорее вас увидеть, решила отправиться вам навстречу. Мост провалился, и она утонула в потоке вместе с детьми.
Расставшись с обезумевшим от горя молодым горцем, они прибыли к кюре Митону и были введены в комнату, одновременно служившую приемной и библиотекой.
На полках из еловых досок стояло до тысячи томов разных книг, а на выбеленных известью стенах были развешаны гравюры с пейзажей Клода Лоррена и Пуссена[91]. Все здесь говорило о культурных и умственных запросах хозяина, малообычных для дома сельского священника. У кюре Митона, человека средних лет, было умное, доброе лицо.
Он расхваливал посетителям, якобы желающим поселиться в этой местности, климат, плодородие и красоту долины. Он угостил их белым хлебом, фруктами, сыром и молоком, после чего повел в очаровательный по свежести и чистоте огород. Шпалерные деревья с геометрической точностью простирали свои ветви по стене, обращенной к солнцу; безукоризненно правильные и богато увешанные плодами кроны фруктовых деревьев стояли на одинаковом друг от друга расстоянии.
— Вам никогда не бывает скучно, господин кюре? — спросил Катрфей.
— Время между занятиями в библиотеке и саду кажется мне коротким, — ответил кюре. — Как бы спокойно и безмятежно ни протекала моя жизнь, она все же деятельна и трудолюбива. Я справляю службы, навещаю больных и неимущих, исповедую прихожан и прихожанок. У бедных созданий не слишком длинный перечень грехов; не жаловаться же мне на это? Но перечисляют они их подолгу. Мне нужно приберечь немного времени на подготовку к проповедям и урокам закона божьего: уроки даются мне особенно трудно, хотя я и веду их уже более двадцати лет. Так страшно говорить с детьми: они верят всему, что им ни скажешь. У меня имеются и часы развлечения. Я много гуляю. Прогулки у меня всегда те же, и вместе с тем они бесконечно разнообразны. Вид природы меняется с каждым временем года, с каждым днем, каждым часом, каждой минутой; он всегда различен, всегда нов. Я с приятностью провожу долгие осенние вечера в обществе старых друзей — аптекаря, сборщика податей и мирового судьи. Мы музицируем. Моя служанка Морина замечательно жарит каштаны; мы лакомимся ими. Что может быть вкуснее каштанов со стаканом белого вина?
— Сударь, — обратился Катрфей к славному кюре, — мы на службе его величества. Мы надеемся услышать от вас признание, имеющее огромное значение и для нашей страны и для всего мира. От этого зависит здоровье, а может быть и жизнь, нашего монарха. Вот почему мы просим простить нас за вопрос и, не считаясь с его необычностью и нескромностью, ответить на него совершенно откровенно и без всяких недомолвок. Вы счастливы, господин кюре?
Господин Митон взял Катрфея за руку, крепко ее сжал и едва слышно проговорил:
— Моя жизнь — сплошная пытка. Я живу в непрерывном обмане. Я не верую.
И две слезы скатились по его щекам.
ГЛАВА XIV И ПОСЛЕДНЯЯ
Счастливый человек
Понапрасну изъездив в течение целого года все королевство, Катрфей и Сен-Сильвен прибыли в замок Фонбланд, куда король приказал себя доставить, чтобы подышать свежим лесным воздухом. Они застали его в подавленном состоянии, приводившем в отчаяние двор.
Никто из приглашенных не жил в этом замке, бывшем не более как охотничьим домом. Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер поселились в деревне и, пользуясь лесной тропинкой, ежедневно являлись к государю. На пути им часто попадался маленький человечек, живший в лесу, в дупле большого платана. Его звали Муском. Плоское лицо, выступающие скулы и широкий нос с совершенно круглыми отверстиями ноздрей отнюдь не красили его. Но квадратные зубы, сверкавшие между красными губами, которые часто раскрывались от смеха, придавали красочность и приятность его дикому лицу. Никто не знал, как ему удалось завладеть большим дуплистым платаном, но он устроил себе в нем чистенькую комнатку, снабженную всем необходимым. По правде сказать, ему нужно было немного. Он жил лесом и прудом, и жил совсем не плохо. Неопределенность положения прощалась ему благодаря его услужливости и умению угодить людям. Когда дамы из замка катались в экипажах по лесу, он подносил им в собственноручно сплетенных ивовых корзинах сотовый мед, землянику и горько-сладкие ягоды дикой вишни. Он всегда охотно подпирал плечом увязшую телегу и помогал убирать сено, когда угрожала непогода. Нисколько от этого не уставая, он делал больше всякого другого. Сила и проворство были у него недюжинные. Он ломал голыми руками челюсти волку, ловил на бегу зайца и лазил по деревьям, как кошка. Он мастерил для забавы детей тростниковые дудочки, маленькие ветряные мельницы и героновы фонтаны[92]. Катрфею и Сен-Сильвену часто приходилось слышать на деревне: «Счастлив, как Муск». Эта поговорка поразила их; однажды, проходя под большим платаном, они увидели Муска: он забавлялся с молодым мопсом и казался таким же довольным, как и собака. Им вздумалось спросить его, счастлив ли он.
Муск не смог им ответить, так как никогда не размышлял о счастье. Они в самых общих чертах и самым простым языком объяснили ему, что оно собой представляет. И тогда, немного подумав, Муск ответил, что счастлив.
Тут Сен-Сильвен бурно воскликнул:
— Муск, мы тебе предоставим все, что тебе вздумается — золото, дворец, новые сапоги, все, что ты захочешь, — дай нам свою рубашку.
На добродушном лице Муска отразилось не сожаление и не разочарование — чувства эти были ему недоступны, — а великое изумление. Он без слов показал, что не может предоставить просимого. У него не было рубашки.
АНРИ ДЕ РЕНЬЕ
ВОЗМУЩЕНИЕ ТАЙ ПУ
После того как Тай Пу, совершив одиннадцать положенных поклонов и три коленопреклонения, занял подобающее его рангу первого министра место на шелковой подушке на последней ступеньке императорского трона, император Хо Хей сказал ему:
— Выслушай меня, о Тай Пу! Я видел сон. Этой ночью мне явился бог подозрения. Я отчетливо видел его два лика с двойной косой и отчетливо слышал его голос. Вот что прошептал он мне на ухо: «Бесспорно, твой министр Тай Пу добродетельный и ученый советник. Это мудрейший человек в твоем государстве и тончайший ум во всем Китае. Он верно служит твоей славе. Но убежден ли ты, что он питает всю ту любовь, какая полагается, к твоей небесной особе? Уверен ли ты, что нет в мире вещи, которую бы он предпочел тебе? На твоем месте я бы подверг его какому-нибудь испытанию, чтобы измерить глубину его преданности». Так говорил хитроумный бог. Что думаешь ты, о Тай Пу, об этих ночных словах?
Желтое лицо Тай Пу расплылось в широкой улыбке. Все черты его, от косых глаз до извилистого рта, выразили столь чистую радость, что император должен был бы успокоиться. Тем не менее, шепот таинственного голоса продолжал звучать в его памяти, пока Тай Пу говорил:
— Великий и славный государь, двуликий бог прав, и твой смиренный слуга Тай Пу готов дать тебе доказательство любви и покорности, какое ты сочтешь нужным от него потребовать.
Его жизнь и жизнь его близких принадлежат тебе. Располагай ими по твоей прихоти. У Тай Пу нет других желаний, кроме твоих, нет иной воли, кроме твоей.
Император Хо Хей подумал с минуту.
— О Тай Пу, я благодарю тебя за то, что ты мне таким образом предлагаешь рассеять сомнения, которые лукавое божество зародило в уме моем. Они изгладятся в памяти моей, если ты принесешь мне завтра отрубленную голову твоего старого отца. Тогда, о Тай Пу, я поверю любви твоей.
Тай Пу молча поднялся с желтой подушки и распростерся ниц перед императором. На следующий день он принес Хо Хею истребованный дар.
Но бог подозрения продолжал мучить императора. Хо Хей вновь омрачился, и когда однажды Тай Пу осведомился о причине печали своего повелителя, тот ему ответил:
— О Тай Пу, ночной посетитель снова явился. Недавно ночью, после того как я привел ему доводы, тебе известные, он принялся смеяться и воскликнул: «О, простодушный император, попроси у Тай Пу голову его любимой супруги, прекрасной Кьянг Си, и ты увидишь, что она ему дороже твоего спокойствия». Так говорил требовательный дух. Что думаешь ты, о Тай Пу, о его отравленных словах?
Император поставил на лаковый поднос тонкую фарфоровую чашку, в которой дымился божественный чай. Тай Пу допил свою чашку и удалился, не произнеся ни слова.
Через два дня на последнюю ступеньку императорского трона выпала из мешка красного шелка отрубленная голова прекрасной Кьянг Си.
Император Хо Хей сказал своему министру Тай Пу:
— Он опять явился мне этой ночью, но я едва узнал его. Он был лишь бледной тенью, и голос его был так слаб, как голос больного. «Тай Пу сильнее меня, — еле слышно прошептал он. — Он меня победил! Нет государя, которого кто-нибудь любил бы сильнее, чем любит тебя твой верный слуга. И все же я буду вполне убежден лишь тогда, когда он принесет тебе последнюю жертву. У Тай Пу есть от прекрасной Кьянг Си дочь и сын, близнецы. Пусть положит он их две юные головы на весы, и сомненье не будет больше тревожить мой недоверчивый ум». Так говорил бог упрямый. Что думаешь ты, о Тай Пу, о его настойчивых словах?
Тай Пу приложил руки свои к сердцу. Две крупных слезы скатились с морщинистых век на плоские щеки его. В продолжение трех дней он не возвращался во дворец. Лишь под вечер третьего дня посланец принес, в закрытой корзинке, две круглые головки близнецов, которые кривая сабля сняла с их нежных шей.
У Тай Пу был в северном квартале Пекина великолепный дом, окруженный обширными садами. В доме Тай Пу было бесчисленное множество ценных ваз тончайшего фарфора и лепной бронзы. Равным образом Тай Пу собрал у себя со всех концов империи самые дорогие шелковые ткани и редчайшие вышивки. Благородная роспись украшала стены его комнат, число которых равнялось числу дней в году. Среди этих прекрасных предметов, удовлетворенный в своих желаниях, Тай Пу жил счастливо со своим старым отцом, своей добродетельной супругой Кьянг Си и двумя детьми-близнецами. И отсюда исторгла его милость императора, вознесшая его на высшую ступень власти.
Но еще более, чем дом Тай Пу, славились сады его величавостью деревьев, простором вод, причудливостью лестниц и мостиков, сложностью дорожек, симметрией цветников. Тай Пу любил прогуливаться там в ярких халатах и останавливаться у одного пруда, обнесенного зеленым нефритом. Этот пруд, содержавший всевозможных удивительных рыб, различной формы и окраски, был усладой Тай Пу. Там были рыбы, одни похожие на огонь, другие совсем золотые, словно с инкрустированными драгоценными камнями, иные, казалось, сделанные из смеси таинственных металлов. Подвижный блеск их чешуи чаровал взоры Тай Пу, который наслаждался тем, что следил в прозрачной воде это чудесное зрелище.
У этого пруда застал император Тай Пу, погруженного в созерцание. Хо Хей осведомился о его здоровье и сказал ему несколько приветливых слов. Он выразил ему свое восхищение его рыбами. Одна из них особенно привлекла его внимание. Она была такого странного строения и такого необычайного цвета, что император, никогда не видевший ничего подобного, сказал Тай Пу:
— О, Тай Пу, правая рука моей власти и половина моего сердца, я от тебя получил уже слишком многое. Однако я убежден, что ты не откажешься присоединить к прежнему еще эту дивную рыбу. Отошли ее на мою кухню, я хочу узнать, так же ли вкусна она, как красива.
Император Хо Хей, прождавший лишь три дня, чтобы получить головы детей Тай Пу, шесть раз увидел закат солнца, прежде чем Тай Пу исполнил его новое желание. Лишь на утро седьмого дня доложили ему о приходе Тай Пу. Император приказал немедленно впустить его. Тай Пу нес в корзинке чудесную рыбу. Но как только император наклонился, чтобы взять ее за жабры, припадок смеха заставил его схватиться за толстый живот. Рыба была эмалевая и так тонко сделанная, что сходство было полнейшим. Император запрокинулся, чтобы удобнее было смеяться, но внезапно смех его перешел в глухой хрип. Кинжалом, спрятанным в рукаве, Тай Пу пронзил ему горло, из которого хлынул поток крови.
Когда привели Тай Пу к великим мандаринам[93] империи, собравшимся, чтобы судить его преступление, он простер к ним руки, скованные цепями, и сказал следующее:
— О, мудрейшие, славнейшие и возвышеннейшие духом, без страха предстает Тай Пу перед вами. Он знает, что голова его не упадет с его плеч, как упали головы его отца, супруги и детей, ибо вы должны признать, что Тай Пу достоин занять место среди справедливых и мудрых. Когда вы услышите о причине его поступков, вы оправдаете его возмущение и разобьете его цепи.
Тай Пу помолчал с минуту, затем продолжал:
— Узнайте же вы, о разумеющие, что, если я убил моего старого отца ради повиновения приказу императора и сохранения его милости, то потому, что дозволяется предпочесть власть добродетели. Если я убил мою жену, прекрасную Кьянг Си, то потому, что не запрещается предпочесть власть чувству любви. Если я пожертвовал моими детьми, то потому, что можно предпочесть власть самому себе. Но когда император потребовал от меня прекраснейшую из моих рыб, чтобы глупым образом съесть ее, тогда я убил императора, потому что красоту следует предпочесть всему, а рыба моя была созданием совершенной красоты. Такова, о мандарины, была причина возмущения Тай Пу. А теперь решайте его судьбу.
Тай Пу был отпущен в свой дом и свои сады. Императору Хо Хей воздвигли великолепную гробницу, которую можно видеть еще сейчас при выходе из западных ворот Пекина, с крышей, увенчанной гигантской золотой эмалевой рыбой, словно плавающей в реке закатного пурпура.
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР
КОРОЛЬ АРТУР, КОРОЛЬ В ПРОШЛОМ, КОРОЛЬ В ГРЯДУЩЕМ[94]
Блезу Сандрару
4 января 2105 года на улицах Лондона появился Волшебный Рыцарь, Несокрушимый, Блистательный и Великолепный. Прохожие терялись в догадках: «Что за маскарад?», а женщины всех сословий, трепеща с головы до ног, шептали: «О, Прекрасный Странствующий Рыцарь», ибо принимали его за бродячего комедианта.
Прекрасный незнакомец направился прямо в Букингемский дворец[95]. У ворот конные гвардейцы попытались было преградить ему путь, но могучий всадник остановил их одним взглядом, и они пропустили его.
У дверей дворца его спросили:
— Кто вы?
Он ответил:
— Рыцарь с Попугаем.
— Что вы хотите?
— Снять заклятье с этого замка.
В эту минуту королевская дочь, узнав от одной из придворных дам о появлении Волшебного Рыцаря, выглянула из окна и едва не лишилась чувств, увидев паладина. Фрейлине пришлось поддержать госпожу и похлопать ее по ладоням, чтобы та пришла в себя. Очнувшись, принцесса снова посмотрела на Несокрушимого Рыцаря, не веря глазам своим. Внезапно она выскользнула, легкая и грациозная, как пчелка, и кинулась к королю Георгу IX, прозванному в Англии обкапанным, потому что все лицо у него было в веснушках, словно его обмокнули в мешок с отрубями, а во франкоязычных странах из-за неуместной игры слов его называли обкаканным, и сообщила ему о прибытии Волшебного Рыцаря, Несокрушимого, Блистательного и Великолепного.
Король улыбнулся, решив, что это, наверное, какой-нибудь балаганщик, который хочет продемонстрировать свои трюки во дворце, а потому, сказал король, пусть разбираются сами. Но принцесса требовала, чтобы отец пригласил Рыцаря в покои.
В угоду дочери Георг IX уступил. Он позвонил и распорядился привести балаганщика.

Рыцарь с Попугаем предстал перед королем, который сидел в уютном старом кресле, положив ногу на ногу. При виде незнакомца король привстал и спросил:
— Разве вы не шут?
Рыцарь с оскорбленным видом ответил:
— Я ваш король.
Георг IX уже принял боксерскую стойку, но его дочь принцесса подошла, лихо подбоченясь, к Рыцарю и заявила:
— А я буду королевой.
Георг крикнул:
— Держи анархиста!
И со всех сторон на его зов сбежались офицеры, камергеры, пажи и прочая челядь. Среди них был один старый слуга, славящийся своей ученостью, он прочел рыцарских романов не меньше, чем Дон-Кихот.
Увидев Рыцаря, этот старец, не сдержавшись, воскликнул:
— Ужели это Артур?
Король в прошлом.
Король в грядущем.
И тот важно ответил, не выпуская принцессу из целомудренных объятий:
— Я Артур, ваш король, сын Иджерны, брат Утера Пендрагона[96]; некогда у меня был двор в Камелоте. Я воскрес и несколько дней добирался сюда, показываясь лишь крестьянам, принимавшим меня за призрак. В короткий срок, благодаря своим природным способностям, я выучился изъясняться на вашем языке.
Если Артур ни словом не обмолвился о своей супруге Геньевре, то, во-первых, потому, что был вдовцом и сейчас как раз сжимал в объятиях новую невесту, а во-вторых, потому, что королева Геньевра наставляла ему рога.
Георг позвал пажа, и тот бросился исполнять приказ короля. Несколько мгновений спустя в зал ввели врача и оружейника. Георг IX отвел их в сторону и долго что-то говорил им шепотом. Врач, похожий на господина Ж. ка К. п. в роли Томаса Поллока Нажуара[97], и оружейник, лицом напоминающий господина Ф. л…са Ф. н…на[98], подошли затем к Несокрушимому Рыцарю и приветствовали его. Паладин улыбнулся, снял доспехи и позволил врачу с любопытством осмотреть разные части своего могучего тела, в то время как оружейник изучал облекавшие его доспехи. Врач первым повернулся к Георгу IX и после подобающих формул этикета произнес:
— Сир, вне всякого сомнения, этот благородный рыцарь гораздо старше, чем можно вообразить. Я бы не удивился, вздумай он утверждать, что появился на свет раньше Сесостриса[99]. Его плоть древнее, нежели мясо старого-престарого слона, прожившего не одну сотню лет; едва ли отбивная из мамонта, замороженная в вечных льдах на самом севере Сибири, может сравниться по своей достойной всяческого уважения древности с этими восхитительными ягодицами.
И при этих словах он похлопал Рыцаря по заду.
Оружейник был не так многословен.
— Нет сомнения, — сказал он, — что эти доспехи подлинные, правда, должен заметить, сам я изготовил немало подобных, и теперь они красуются на почетном месте в самых прославленных музеях мира. Однако, если этот благородный рыцарь так стар, как утверждает врач, нет оснований сомневаться в том, что и доспехи ему под стать.
В эту минуту принесли ответ на телеграмму, посланную пажем по приказу Георга IX. Прочтя телеграмму шепотом, Георг произнес:
— Телеграмма рассеивает все сомнения. Вот что она гласит: Могила Артура пуста.
Он преклонил колено и сказал:
— Сир, возвращаю вам ваше королевство, чтобы стать вашим смиреннейшим подданным. Вы окажете мне великую честь, сделав мою дочь королевой.
— Это мысль, — сказал Артур, поднимая отрекшегося короля. — Начну с женитьбы.
И пока присутствовавшие кричали: «Ура! Долгие лета королю Артуру! Долгие лета королеве!» — герольды разнесли эту весть по всему Лондону.
Скоро об отречении Георга IX узнали во всем мире. Тем временем Артур женился и провел восхитительную брачную ночь.
Утром, вновь предавшись бессчетное число раз неизъяснимому блаженству, Артур велел позвать портного, который снял с него мерку, чтобы сшить костюм по моде. Как легко догадаться, церемонии коронации в Вестминстере[100] не было, потому что Артур был королем уже много столетий. Но во всех католических соборах, как положено, отслужили молебен за упокой души королевы Геньевры и Лохольта, сына короля Артура, которого он прижил с девицей Лизарой до того, как вступил в брак с королевой. Этому Лохольту не слишком повезло в жизни. Он попытался снять чары с замка Плачевной стражи, но, как и многие другие рыцари, потерпел неудачу. Его вызволил Ланселот[101], но вскоре Лохольт умер от болезни, подхваченной в темнице замка.
Последующие дни король Артур выслушивал придворных историков, вкратце изложивших ему события, происшедшие после его смерти, и жизнь вошла в привычное русло. А в 1914 году, точнее, 1 апреля, когда я пишу эту хронику, в Англии царствует Георг V[102], а во главе III Французской республики стоит месье Раймон Пуанкаре[103], тогда как Поль Фор[104], король поэтов, объезжает самые отдаленные уголки Скифии[105], чтобы посетить своих подданных, а мой друг Андре Билли[106] заливисто храпит, растянувшись на диване у меня в гостиной.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛУШКИ, ИЛИ КРЫСА И ШЕСТЬ ЛЕНИВЫХ ЯЩЕРИЦ
Нигде не упоминалось о том, что произошло с экипажем и свитой Золушки, когда после второго бала при дворе, едва часы начали бить полночь, она потеряла хрустальную туфельку, а подойдя к воротам королевского дворца, уже не нашла там своей кареты.
Фея, крестная Золушки, была столь великодушна, что не стала превращать толстого кучера с пышными усами обратно в крысу, а шестерых ливрейных лакеев — в ящериц, и раз уж она оказала им честь, сохранив человеческое обличье, то заодно оставила выдолбленную тыкву прекрасной золоченой каретой, а шестерых мышей — шестеркой лихих лошадей мышино-серой масти в яблоках.
Но едва часы начали бить полночь, толстому кучеру вдруг пришло в голову, что гораздо выгоднее продать карету и лошадей, чем долгие годы экономить свое жалованье, а шестеро лакеев — отпетых бездельников — охотно войдут в банду, главарем которой он станет, и начнут промышлять грабежом.
И — погоняй, кучер! Не успела Золушка дойти до ворот дворца, как упряжка уже дала тягу. Беглецы задержались только в одном трактире и пока обгладывали индейку да двух пулярок в придачу и опорожняли кувшины с вином, успели продать карету и лошадей трактирщику и получить от него изрядное количество пистолей.

Кроме того, они сменили костюмы и вооружились. Толстый кучер по имени Сминс выбрал для себя несколько необычный наряд. Он сбрил усы и переоделся женщиной — в платье с зеленой атласной юбкой, широкими рукавами и высоким стоячим воротником. В таком виде, не боясь привлечь к себе внимание, он мог командовать своими шестью прохвостами-сообщниками. Покончив с денежными расчетами, они распрощались с трактирщиком и покинули Париж, чтобы, как они говорили, зашибать деньгу на большой дороге.
Мы не последуем за ними по городам и весям, ярмаркам и замкам, где они столь успешно вершили свои подвиги, что всего за семь лет разбогатели, обосновались в Париже и зажили там припеваючи.
За те годы, что Сминс провел переодетый женщиной, он превратился в заядлого домоседа, и потому у него теперь было много свободного времени на размышления и подготовку хитроумных операций, которые осуществляли шестеро бандитов-лакеев-ящериц. Он также выучился грамоте и собрал небольшую библиотеку, где были «Откровения святой Бригитты»[107], «Азбука женских пороков и хитростей», «Столетия» Нострадамуса[108], «Предсказания волшебника Мерлина»[109] и множество других незатейливых книг подобного рода. Сминс пристрастился к чтению и, когда его банда отошла от дел, почти все свое свободное время проводил в домашней библиотеке, читая и размышляя о могуществе фей, о бессилье человеческого разума и всяческих ухищрений и о том, что такое настоящее счастье. Видя, что он безвыходно сидит в своем кабинете, заставленном книгами, его шестеро сообщников, которые называли его между собой не Сминсом, а Крысом, из-за его происхождения они неосознанно почитали это животное, подобно дикарям, чтущим свои тотемы и животных, на них изображенных; так вот, его сообщники в конце концов дали ему прозвище Библиотечный Крыс. Оно быстро прижилось, и уже под таким именем он значился на улице Бюси[110], где проживал; под этим же именем он компилировал свои произведения, правда, не увидевшие свет, но хранящиеся в рукописях в Оксфорде[111].
Оставшееся время он отдавал делу просвещения своих жуликоватых приспешников, и все они вышли в люди. Один стал художником и замечательно преуспел, рисуя портреты красавиц-трактирщиц, второй — поэтом, сочинителем песен, которые третий перекладывал на музыку и исполнял на лютне, четвертый виртуозно плясал сарабанду, принимая множество грациозных и забавных поз, пятый стал прекрасным скульптором и ваял прелестные статуи из топленого свиного сала для витрин колбасных лавок, тогда как шестой, первоклассный зодчий, непрерывно сооружал воздушные замки. Поскольку они были неразлучны и никто в округе так и не проведал об их прошлом, их прозвали Искусства, ибо они воплощали шесть видов искусств: поэзию, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и танец. Можно только изумиться, до чего метки народные прозвища, ведь слово «искусства» звучит по-французски точно так же, как «ящерицы»[112].
Сминс, или Библиотечный Крыс, умер в святости, и четверо его учеников тоже умерли у себя в постели. Поэт Лясерт и музыкант Армонидор[113] пережили остальных, но так плохо вели свои дела, что им пришлось, чтобы не умереть с голоду, снова прибегнуть к ловкости своих рук. Проникнув как-то ночью в Пале Рояль, они вынесли оттуда небольшой сундучок. Вернувшись домой и открыв его, они обнаружили там пару хрустальных башмачков. То были туфельки королевы Золушки, и пока они сетовали на то, что им не повезло с добычей, полицейские, напав на их след, пришли за ними и увели в Гран Шатле[114].
Преступление было столь тяжким и неоспоримым, что они не смели надеяться на помилование.
Тогда они решили сыграть в кости, чтобы тот, кто проиграет, взял всю вину на себя, вызволив другого.
Проигравший — им оказался Армонидор — попросил слова и спас жизнь товарищу, заявив, что просто пригласил его пойти погулять, а тот даже не подозревал об истинной цели их прогулки.
Таким образом, Ласерт вернулся домой и стал сочинять эпитафии друзьям, но он не мог прокормиться своим искусством и через месяц умер, снедаемый тоской.
Что же касается хрустальных башмачков, то, по воле случая, они оказались в Питсбургском музее в Пенсильвании и были внесены в каталог как «Шкатулка дамская (1-я половина XIX века)», хотя в действительности относятся к XVII веку, но такая датировка наводит на мысль, что, вероятно, они и служили шкатулкой в эпоху, указанную питсбургскими археологами.
Но мы будем лишь понапрасну теряться в догадках, если захотим узнать, каким образом хрустальные башмачки Золушки попали в Америку.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Невозможно дать точное представление о посольстве семи лигуров[115], отправленных ко двору Обжиралии, если не упомянуть об усилиях, предпринимавшихся ими, дабы примирить такт и умеренность, столь любезные им во всех обстоятельствах, с вожделением, вызываемым восхитительными яствами, которыми потчевал, их Филен.
Еще в постели, вдыхая сквозь открытые окна вкусные запахи, которыми был напоен воздух королевства, они заспорили, как им поступать. Но Эвридам рассеял все сомнения.
— Мы покажем себя достойными великолепия короля Филена, — воскликнул он, — Сели отведаем прекрасные кушанья, как он того желает, и тем не менее мы соблюдем мудрость, являющуюся нашим правилом, если будем брать не больше трех порций каждого блюда, ибо не следует забывать: мы в стране Обжиралии, где умеренность состоит в том, чтобы обжираться без излишеств. На это надо обратить все наше внимание: нельзя показать себя недостойными репутации гурманов.
Все одобрили мудрые слова Эвридама, и около десяти часов послы вышли из гостиницы. Они несли большой венок из лавра, тимьяна, майорана и розмарина, точно такого же, как тот, что рос на могиле Мальбрука[116], — это превосходная приправа, пригодная для того, чтобы подчеркнуть вкус жаркого из козлятины или баранины.
Они торжественно дошли до Большой площади и возложили венок у подножия памятника, который был воздвигнут г-ну де Монмору[117], не столько как профессору Французского коллежа, коим званием он был облечен при жизни, сколько как гурману и автору теории гадания по жертвенному дыму, или, другими словами, искусства судить людей по дыму от их стряпни. Семь послов Акакия почли своим долгом совершить этот благочестивый поступок, поскольку для них не было секретом, что в Обжиралии психология и право целиком зиждятся на теории гадания по жертвенному дыму. Тот же господин де Монмор говорил наиболее пылким из своих современников:
— Тише, господа, не заглушайте еду!
Отсюда и пошло распространенное в Обжиралии поверье, что существует некоторая аналогия между музыкой и гастрономией и что трапеза сродни оркестру с его аккордами, арпеджио, соло, ансамблями, адажио и фортиссимо.
Выполнив свою благочестивую миссию, послы, принявшие на рассвете лекарство, чувствовали себя свежими и бодрыми, когда в полдень вошли в пиршественную залу, где их ждал король, окруженный присяжными толстунами королевства; кроме того, там присутствовало собрание жрецов и жриц, в которое входили только члены древнейших семей страны; само название их этимологически восходит к имени «Обжиралия», которое в свою очередь проистекает от слов «жир», «жарить» и «жрать». Затем выступила вперед прелестная коллегия Жертвенниц, и посланцы Акакия не могли не отдать должное их очарованию.
Расселись за столом…
— Вот он, современный, подлинно национальный стиль! — сказал вещий Порфирий Эвридаму, когда, отведав холодных и горячих закусок, они принялись осматривать зал, осушая по третьему бокалу греческого вина. Действительно, как архитектура, так и отделка, мебель, столовое серебро, золотая и фарфоровая посуда — все было украшено декоративным орнаментом из желудевых ожерелий, раковин-жемчужниц и колосьев ржи, и повсюду представал взору горевший, как жар, золотой жираф, который красуется на гербе Обжиралии.
В этот момент старший виночерпий Бурдочан поднялся на возвышение и с важным видом возвестил:
— Именем короля, моего повелителя, прошу их высокоизобильные и многовеликолепные превосходительства посланников его величества глубокомудрого короля Акакия, повелителя Лигурии, испить вдоволь вин, которые будут поданы, поскольку в нашей прекрасной стране существует Источник молодости, излечивающий от любых излишеств, и если в нем искупаться, выйдешь из него в полном здравии и помолодевшим лет до двадцати.
Почтенный хлебодар Триптолем, весьма предусмотрительный врач и юрист, разъяснил, сменив виночерпия, что по тем же причинам гости могут отведать все блюда, которые будут им поданы.
Но прекрасный Гефестион, склонившись к уху Эльпенора, признался, что из всех этих питательных блюд он предпочел бы отведать только ветчины «Камбасерес»[118], заметив, что в XIII веке было принято разговляться ветчиной, и следовательно, она вполне пригодна для пиршества по поводу заключения мира, если, конечно, допустимо сравнивать пост и войну, во время которой кровь льется рекой.
Филен, обладавший тонким слухом, услышал его слова и углубился в этот существенный вопрос, доказывая, что война является долгим постом, — это убедительно подтверждается Ограничениями, Продовольственными талонами, Днями лишений и голода, которые человечество переносило не слишком-то терпеливо.
Молоденькие служанки, одна обходительнее другой, подали в числе различных блюд из яиц омлет Льва X[119], имевший большой успех.
Эльпенор, всегда блиставший эрудицией, напомнил, что у египтян был особый способ приготовления яиц: их помещали в пращу и вращали с такой скоростью, что они сваривались от трения о воздух. А римляне, добавил он, предпочитали длинные яйца коротким и особо отличали яйца куропаток и фазанов. Год у них начинался с марта, и на новогодний праздник они дарили друг другу красные яйца в память о Касторе и Полидевке[120].
И тут вышли юноши с приветливыми лицами, чтобы налить пирующим мальвазию, призванную перебить привкус, оставшийся во рту от яиц, поскольку привкус этот мешает распробовать великолепные бургундские и бордоские вина, которые драгоценными и прославленными потоками красного и янтарного цвета немедля оросили это роскошное пиршество.
Речи присутствовавших касались самых жгучих, а порой и самых щекотливых вопросов. Но мы приведем здесь только то, что тихим голосом сказал Леандру Адраст:
— На мой взгляд, нет на свете ничего более разумного, чем великолепие этой трапезы. Цель его, насколько я понимаю, — позволить нам перед отбытием оценить несравненные достоинства Источника молодости, действие которого я, со своей стороны, не прочь был бы испытать на себе.
Тогда Леандр принялся восхищаться его проницательностью и, когда подали горячий пирог из угрей с молоками, напомнил, что древние бретонцы поклонялись угрям, и, лакомясь этими отменными на вкус кельтскими святынями, добавил:
— С другой стороны, я, простите, не могу не отметить странность эрудиции, которой проникнуто это меню. История политики и литературы занимает в нем важное место, но подчас в виде анахронизмов. Жаль: ведь король Филен — самый выдающийся из всех чревоугодников, и его келарь[121] дает нам доказательства его вкуса по части вин.
Затем он сослался на Горация[122], Плиния[123] и Фабия Пиктора[124]. Но Адраст искусно возразил ему, что в данном случае анахронизмы не играют никакой роли. Мол, в том смысле, в каком Леандр употребляет это слово, оно неприложимо к съедобным материям, поскольку кулинарный анахронизм — это не что иное, как грубая ошибка в переменах блюд, скажем, если суп подать в конце ужина, как часто делается в Оверни[125], или начать трапезу с салата, как это принято у каталонцев[126].
— В сущности, — добавил он, — угощаться омлетом Льва X в двадцатом веке — не больший анахронизм, чем видеть в наше время в Париже улицу Версенжеторикса[127], который жил еще до рождества Христова.
— Сдаюсь! — сказал Леандр, когда внесли омара «Сен-Клу»[128], и, чтобы загладить свою неуместную шутку, шепнул Адрасту, потребовав сохранения полной тайны: — Вы знаете, я люблю расспрашивать слуг и служанок. Вот почему я могу открыть вам секрет столь высоких достоинств рыбы, которой нас потчуют.
— Так в чем же дело?
— Король Филен готовит ее сам! — подмигнув, ответил Леандр.
— Что тут удивительного? — возразил Эльпенор, поймавший этот секрет на лету. — Еще Монтень[129] давным-давно сказал: «Великие люди хвастают тем, что умеют готовить рыбу».
Адраст и Леандр улыбнулись, и, поскольку подали рыбную похлебку с чесноком и пряностями под названием «Лакомка», Адрасту пришла в голову мысль прочесть стихи в духе античного эллинизма, в которых Мери[130] перечисляет рыб, идущих на прославленные средиземноморские яства:
Пышный завтрак окончился без помех. Гости воспользовались перерывом, отделявшим его от обеда, для того чтобы посетить наиболее живописные уголки Обжиралии; благодаря самолетам путешествие было очень быстрым.
Обед стал триумфом поваров короля Филена, и Адраст с присущей ему восторженностью не преминул сравнить вдохновение, сквозившее в замысле этого обеда, с вдохновением Ронсара, к которому питал особое почтение. И впрямь, поданные блюда были столь вкусны, что их не зазорно было сравнить с любимым королевским поэтом и главой «Плеяды»[131]. Когда появилось филе из морских языков «Навсикая»[132], король Филен посоветовал:
— Это блюдо ешьте очень горячим и жуйте помедленнее. Затем не откажите себе в двух бокалах сотерна — нектара, словно нарочно созданного для этой амброзии.
Вещий Порфирий молчал, пока не подали молодых красных куропаток под названием «Прекрасная Тулузка»,
— Вот, — воскликнул он, — блюдо, достойное Лукулла[133] и Брийя-Саварена![134]
И, взволнованный до глубины души, он трепетно осушил бокал вина, которое ему только что налили.
Торжественный пир шел своим чередом; внесли крем с земляникой, и тут прекрасный Гефестион встал и обратился к Филену с такими словами:
— Приветствую тебя, король Обжиралии, доблестный властитель, чья слава в мире затмевает славу известнейших военачальников и законодателей!
Какой язык в состоянии достаточно красноречиво прославить это филе из морских языков под названием «Фея Мелюзина»[135], — филе, достойное быть угощением на банкете, которым англичане, наследники Лузиньяна, отмечали взятие Иерусалима британскими войсками, как предсказал Шекспир в первой сцене первого действия драмы «Генрих IV»?
И как описать изысканный вкус отбивных из молодого зайца «Кребийон»[136]?
Но тут, если мне будет дозволено смиренно подать голос, я просил бы, чтобы добавили: «сын», поскольку отец, жестокий и бездарный трагик, недостоин того, чтобы имя его присвоили столь изысканному кушанью! А что сказать о пулярке «Перевозчик»[137]?
И какая честь для этой дичи, которая погибла по вашему приказу и затем съедена нами и окроплена несравненным вином!
А что до перепелок и ортоланов — лучше я о них промолчу. Их высокое предназначение превосходит их достоинства лишь по причине того, что они пойдут в пищу вам, о король Филен!
А легкие закуски? Эти несравненные сокровища столь же воздушны, как те сверкающие драгоценности, что рассыпаются при фейерверке. Пускай их изумительный вкус недолговечен, я навсегда сохраню в душе память о них.
Пока все аплодировали, музыканты выстроились в глубине залы и заиграли «Королевский марш Обжиралии».
После обеда направились в Придворный кинематограф, где был показан фильм, во всех подробностях повествовавший о том, какими способами была спасена от разрушения Священная бутылка[138] во время долгой войны, которая только что кончилась.
Случаи военного или гражданского героизма, проявленного при ее спасении, были столь многочисленны, что, видя их, король Филен решил учредить Орден возлияний, призванный вознаградить эти подвиги. Король посулил этот знак отличия семи посланцам Акакия, которые, бормоча слова благодарности, пытались подавить зевоту, потому что все имеющее отношение к войне наводило на них неодолимую скуку.
Но они вновь оживились, едва оказались на улице, где их выхода ожидали первые красавицы столицы, хотя было уже почти три часа ночи. Дамы устроили гостям овацию на обжиральский манер, то есть выкрикивая: «Приятного аппетита!» — и с воодушевлением проводили их до самой гостиницы.
БЛЕЗ САНДРАР
ВЕТЕР
Когда начинается сухой сезон, все птицы поднимаются у вас на глазах высоко-высоко в небо. Они кружат, они вьются, уносятся ввысь, падают и вновь взлетают, гоняясь друг за другом без устали, без передышки, без толку. Каждое утро они договариваются о встрече в небесах, куда устремляются стаями, резвясь и гомоня наперебой. Но вглядитесь в этот вихрь из крыльев, перьев и оглушительных криков — не яростное ли сражение напоминает вам эта бурная схватка, однако не птицы затеяли ее — ветер, ветер, что несет их и бросает, ветер, что гонит их, что дает силу их крыльям и отнимает ее.
И этот комок, что несется по-над самой землей, вздымая пыль, этот стремительный клубок из трепещущих перьев, — ведь это не страус, а ветер.
Ветер.
Ветер живет на вершине очень высокой горы. Он живет в пещере. Но дома бывает редко, потому что слишком легок на подъем. Что-то постоянно гонит его прочь. Когда он забирается к себе в логово, то оповещает об этом так громко, что кажется, будто его пещера стала обиталищем грома. Не угомониться ему, даже если он на пару дней ненароком задержится дома. Он резвится, он пляшет, скачет ни с того ни с сего, бьет когтями по камню и клювом по скалам, бьет крыльями в дверь пещеры, и далеко вокруг дрожит земля от этих ударов, и крошится камень горы, где живет ветер.
Нет, не думайте, что это он злится или пробует силу. Вовсе нет. Ветер, развлекается. Ветер играет. Вот и все.
А так как ни устали, ни отдыха он не знает, он всегда голоден. Потому он и бродит туда-сюда, то вернется к себе, то вновь уйдет. Но он скорее ветреник, чем лакомка. Он может улететь далеко и принести только крошечное зернышко или бросить его дорогой, чтобы обрушиться с вышины на какой-нибудь блестящий камушек, который он заберет с собой в пещеру. Там у него полно ракушек, камней, блестящих и ненужных предметов, обломок старой подковы и осколок зеркала. Но полакомиться у него в доме нечем, совершенно нечем. Зато на воле он закусит мошкой, выломает из связки банан, вырвет из земли клубень маниоки, раскачает деревья и не подберет упавшие на землю орехи, пройдется по рисовым полям и заглянет в посевы ячменя, поломает маис и раскидает бобы и фасоль. Он рассеян, но глаза его горят от жадности, все надкусит, не поленится — и тут же бросит. Вот почему он всегда голоден.

Сумасброд, он часто забывает, зачем вышел из дома, про все забудет, даже про то, что голоден. Тогда он задумается и скажет: «А что это я кружу здесь, в воздухе?»
И тогда он приходит в ярость, пугает людей и крушит все подряд, и люди прячутся от него по деревням. А когда ему удается перевернуть большую хижину вождя, он успокаивается и взлетает высоко в небо.
И тогда говорят, что он парит над землей.
И вода чуть морщит свой гладкий лоб.
А вы замечали, что у ветра нет тени, даже когда он высматривает что-то под самым солнцем в самый полдень?
Это потому, что он настоящий волшебник. Многоликий волшебник.
Волшебник ветер, сын Луны и Солнца.
Ветер никогда не спит, и никто не знает, когда он шутит, когда дурачится, а когда злится.
Нигде не находит ветер покоя — кружит, тысячу раз возвращается к себе и тысячу раз уходит, и потому ничего не растет около его жилища. Там только камни, камни, пески и снова камни, что вот-вот покатятся куда-то.
Это страшная пустыня, пустыня зноя, пустыня жажды. Но ветер резвится здесь, будто играет с выводком своих птенцов. Однако у него нет птенцов. Он живет совершенно один. И все следы на песке — большие и малые — оставил он сам: вот он прошелся на кончиках крыльев, вот встал на ноги, а вот нарочно вырыл клювом яму, чтобы вы упали. Ищите ветер! Вы ловите его в песчаных барханах, а он уже кинулся в речной поток, вы решили, что поймали его на холмах, — нет, он уже на вершине. Ищите ветер! Он свистит у вас в ушах, он гонит вас на все четыре стороны! Гуляет у вас за спиной, насмехается над вами, мчится в вихре. На кого он похож? Если пойдете по его следу, наткнетесь на черепаху в песке. Это ветер обернулся черепахой. Он забавляется. И черепаха — это его барабан. Слышите, камушки зазвенели на склоне, но это не ящерица, это ветер, все тот же ветер.
Когда ветру наконец становится жарко в своем краю, он улетает далеко и бросается в море. Вы думаете, это выпрыгивают из воды рыбы? Нет, это ветер. Это играет кит? Нет, это ветер. Или, может, это пирога опрокинулась в море? Нет, это ветер. Купальщики? Да ветер же, ветер. Облако?
Капли дождя! Капли дождя!
Сезон дождей начался, друзья!
И это тоже ветер.
Хвала ему.
БЫВАЕТ-НЕ-БЫВАЕТ
Есть на свете страна, где живут только сироты, — страна сирот. Есть на свете народ, и все в нем сироты — народ сирот. Есть на свете король, он правит сиротами — король сирот. И он вовсе не людоед, как большинство королей земли, он мудрец. Ему нет и года, он совсем малыш.
И вот как все это случилось.
Жила маленькая пичуга, не больше королька, она порхала над полянами и пела:
— Тиара-тио!
Когда она пела, все на свете шло своим чередом, потому что такой маленькой пичуге не приходит в голову ничего плохого. Ей ничего не нужно. Ей бы только порхать над полянами и петь:
— Тиара-тио, ндиаро-ндиаро-ндиаро!
Но вот пришел день, когда охотник выследил пичугу, прицелился и натянул тетиву лука. Тут пичуга села на стрелу и говорит:
— Не трогай меня, охотник. Я просто маленькая волшебная пташка. Посмотри, вот здесь прошел слон, а здесь антилопы. Иди за ними, и у тебя будет хорошая добыча.
— Будет, бывает. Но сейчас мне нужна ты, — не соглашался упрямый охотник.
— Послушай, дружок, ты теряешь время, потому что меня ты никогда не получишь, — отвечает пичуга. — Теперь мое имя — Бывает-не-бывает!
И смеха ради пичуга сама дается охотнику в руки.
— Ага! — сказал охотник. — Видишь? Теперь скажи, кто самый сильный?
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! — ответила Бывает-не-бывает. — Это только начало!
— Как, ты еще угрожаешь? Так вот же тебе! — И охотник отрубил пичуге голову.
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! — ответила Бывает-не-бы-вает. — Это только начало!
Тогда охотник ощипал пичугу, но она не умолкала:
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! Это только начало!
— Ну это мы еще посмотрим, — сказал охотник, привязывая пичугу к поясу. — Тебя съедят моя жена и дети.
Охотник возвращается в деревню, а навстречу идет его друг и говорит:
— Твоя жена и дети умерли!
— Кто их убил? — спросил охотник.
— Никто, у них разболелись животы.
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! — сказала тогда Бывает-не-бывает. — Это только начало.
Несчастный охотник ничего не ответил, но как только пришел домой, разрубил пичугу на маленькие кусочки, положил их в горшок и поставил горшок на огонь. А Бывает-не-бывает не умолкает:
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! Это только начало!
Горшок стоял на огне долго, но когда охотник попробовал мясо, оно оказалось таким же твердым, как сырое. А Бывает-не-бывает не умолкает:
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! Это только начало!
Соседки зашли поутру за углями и снова вернулись за ними вечером. Горшок как стоял, так и стоит, огонь пылает. Внутри кто-то неумолчно поет:
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! Я то, что Бывает, и то, чего Не бывает. Но вариться в горшке я не хочу. Это только начало!
Женщины в ужасе убежали, и вскоре вся деревня знала, что у охотника есть говорящий горшок.
Пристыженный охотник понял наконец, что пичугу ему не сварить, и заторопился в лес, чтобы выбросить ее там, где поймал.
О, ужас! Не стало маленькой пичуги, из котелка появился огромный зверь с ужасной пастью. Зверь проглотил охотника, потом поднялся на задние лапы и съел луну.
Стало черным-черно.
Тогда «зверь, который приносит ужас», тронулся в путь. Гром бьет своим хвостом в сто локтей длины тише, чем этот зверь опускает лапы на землю. Когда зверь дошел до леса, то проглотил лес, когда дошел до берега реки, проглотил реку. Не было для зверя преград, всюду зверь проходил. Когда дошел до горы, проглотил гору. Проглотил озеро, потом берег озера, запив болотцами с битыми горшками на дне; и вот зверь очутился у человечьей деревни, а поскольку петухи уже раскрыли было клювы, чтобы поднять тревогу, зверь проглотил всех петухов. Единым духом проглотил петухов. И тогда зверь снова обернулся птицей, но большой птицей, ночной птицей пепельного цвета, она взлетела на баобаб, что рос прямо посреди деревни.
На заре, когда мужчины вышли на улицу, они увидели эту большую ночную птицу, сидящую на баобабе. Глаза у птицы были закрыты, но клюв не закрывался. Птица словно застыла. Только шея у нее то напрягалась, то расслаблялась, и горло гудело, как барабан.
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро!
Стоило птице в первый раз пропеть «ндиаро», домашние животные разбили загоны и всем стадом кинулись к ней в широко раскрытый клюв.
Стоило птице во второй раз пропеть «ндиаро», дома и все, что в них было — горшки, калебасы[139] и котелки, кинулись к ней в широко раскрытый клюв.
Стоило птице в третий раз пропеть «ндиаро», и дети, женщины и мужчины со всем оружием и вещами, обезумев, закрутились в вихре и ринулись к ней в широко раскрытый клюв.
Большая птица всех проглотила, а потом открыла глаза. Пусто было вокруг. Все она съела. Птица спрыгнула с баобаба, чтобы склюнуть кем-то оброненную поварешку. Еще ей попались больная собака, старая скатерть и фазанчик. Птица все проглотила. Уголья еще тлели в золе. Птица их проглотила, все проглотила птица. Дымок еще шел от золы. Птица проглотила дымок. Ничего больше не осталось, да, совсем ничего. Тогда птица взлетела на свой насест и замолкла.
Все замерло.
Вдруг птица услышала какой-то шум, шумок, шумочек. Кто кричит? Кто говорит? Говорит, кричит, шумит?
Птица открыла один глаз.
Это хныкал малыш.
Забыли его. Малыш был совсем голый. Один на свете. И дрыгал ножками.
Птица спрыгнула с баобаба — надо съесть малыша. Но толстый кузнечик затолкал малыша головой в крысиную нору. Птица проглотила кузнечика, но малыша достать не смогла, он забился в глубь норы. Нора была слишком узкой, птице туда клюв не засунуть.
Тогда птица опять взлетела на свой насест и закрыла один глаз, один глаз закрыла, второй — нет.
Все замерло.
О-ля-ля! Топот, стук. Кто работает? Что делает? О-ля-ля!
Птица открыла второй глаз.
Опять малыш. Ему уже три месяца. Он на вершине термитника. Про него забыли. Он совсем голый. Один на свете. И дрыгает ножками.
Птица спрыгнула с баобаба — надо малыша съесть. Но какой-то сильный термит ударил малыша головой и скинул его с термитника. Птица проглотила термита, проглотила термитник, но проглотить малыша не смогла, он закатился под землю. Вход в нору был слишком узкий, не смогла птица просунуть туда свой клюв.
Тогда птица снова взлетела на свой насест и совсем не стала закрывать глаза.
Все замерло.
Дзинь-дон-донк, звенит наковальня, дзинь-дзинь! Что там куют? Кто бьет по наковальне? Дон-дон-донк!
Птица моргнула одним глазом, моргнула другим.
Все тот же малыш. Ему уже шесть месяцев. Он работает в кузнице.
От ярости перья у птицы встали дыбом.
— Как так?
Звенит железо.
— Как так? Как? Среди бела дня?
Вокруг кузницы копошился народец слепых личинок. Тысячи дождевых червей выползали из растрескавшейся земли. Тащили руду, тащили уголь. Целую кучу руды и угля. Целую кучу.
Птица спрыгнула с баобаба. Она принялась сначала за личинок и дождевых червей, но их много, много личинок, много дождевых червей, туго пришлось птице.
Когда она захотела схватить малыша, он спрятался в кузнице. Тогда птица проглотила кузницу. Еле проглотила, полно в кузнице железа, полным-полно больших кусков и стружек, полным-полно.
Когда птица захотела схватить малыша, он спрятался от нее в куче руды и угля. Птица — за ним, но она медленно переставляет ноги, еле-еле. Стала птица склевывать руду, стала склевывать уголь, все проглотила, всю кучу, до крошки, а куча была не маленькая, большая куча.
Когда птица проглотила всю кучу, малыш исчез. Под кучей лежал сундучок, блестел сундучок, как солнце, блестел, слепил глаза птице. Тогда птица проглотила сундучок и заснула.
Есть птице еще хотелось, но живот она уже набила, не взлететь на баобаб с таким набитым животом, и птица улеглась на земле, забылась тяжелым сном.
Спит птица. Все замерло.
Грень-грень-греньс! Крак-кратакрак-греньс!
Опять малыш, это он открывает сундучок.
Малыш открыл сундучок, вылез из сундучка, вылез из него в брюхе у птицы!
Как темно! Пусть будет светло — вжик! Малыш выходит из брюха птицы. Вжик! Большим ножом он распорол ей брюхо. Вжик! Острым ножом распорол брюхо птице, ножом острым как жало. На свободе малыш, он падает на землю головой вперед.
Падает, стукается головой, набивает на лбу шишку.
И начинает плакать.
Вот малыш сидит на земле. Совсем голый. Один на свете. Трет шишку и плачет. Плачет малыш, он один на свете, тоскливо ему, тоскливо, и шишка болит.
И тут он слышит, кричат ему:
— О, король, благодарим тебя!
Кричат ему звери, кричат ему вещи, вышли они из брюха птицы. Леса кричат, горы кричат, и луна, и озеро, и берег озера, и болотце, даже старые разбитые горшки, которые съела птица на дне болотца. Все кричат малышу, возвратившись домой:
— О, король, благодарим тебя!
Вышли быки из брюха птицы, вышел скот, петухи, цесарки, собаки, кошки, деревенские хижины, домашняя утварь — все они выбрались из брюха птицы, все вернулись по домам, все кричат малышу:
— О, король, благодарим тебя!
Вышли мужчины из брюха птицы, старики, юноши, женщины, дети, пленники, воины, пастухи, охотники, все вышли живые-здоровые, все смеются, как ни в чем не бывало. Всё они находят на своих местах: как был дом, так и остался, и не за что людям благодарить малыша.
Видит малыш, опять его забыли, и говорит:
— Благодарю!
Он встает на ножки и забирается в брюхо к птице.

Но вот он уже выходит оттуда, и не один, а с тысячью друзей, с тысячью закованных в латы друзей, солнце горит на их спинах, у одних латы ярко блестят, у других тускло. Друзья поднимаются в воздух, они роятся около самого солнца, сейчас они ринутся вниз на деревню и начнут мучить людей. Замучает людей народец мух, замучает людей народец пчел, народец ос, и ничего им ни от кого не надо. Мух, пчел, ос несметное множество.
А король у них — тот малыш, которому нет еще и года.
Его зовут королем сирот.
Его народ — народ сирот.
Его страна — страна сирот.
Сильно мучают людей сироты. Одно горе с ними.
Бывает такое. — Не бывает.
— Ндиаро-ндиаро-ндиаро! — поет пичужка не больше королька, вьется она в небе над полянами и ловит мух, ловит пчел, ловит ос, ловит, чтобы избавить от них людей.
— Тиара-тио!
ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ
ХРОМЫЕ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ
Тени древних обитателей Земли собраны были вместе в необъятных просторах неба; они передвигались по воздуху, как живые по земле.
И тот, кто прежде был первобытным человеком, говорил себе:
«Нам и нужно-то, понятное дело, всего одну хорошую, просторную пещеру для жилья да несколько камней, чтобы добыть огонь. И ведь что за напасть! Ничего нет твердого, ну совсем ничего, одни призраки, и ничегошеньки больше».
А современный отец семейства бережно вставлял то, что считал своим ключом, в дыру замочной скважины и поворачивал его, будто бы с величайшим усердием закрывая дверь.
«Вот я и дома, — думал он. — День подходит к концу; сейчас поужинаю и начну потихоньку укладываться».
Назавтра он вел себя так, словно за ночь у него отросла борода, и долго намыливал щеки кисточкой для бритья, сделанной из сгустка тумана.
Да, и дома, и пещеры, и двери, и даже лица дородных буржуа, некогда краснощекие, являли собой теперь бледные тени, рожденные воспоминаниями и лишенные всякой материальности, призраки людей, городов, рек и континентов, ибо там, наверху, помещалась небесная Европа со всей Францией: с ее Котантеном и её Бретанью — полуостровами, с которыми она не пожелала расстаться, а также с Норвегией, не растерявшей ни единого фиорда.
В этой части неба отражалось все, что происходило на Земле, будь то даже ремонт мостовой на безвестной улочке.
Можно было наблюдать, как проносятся мимо призраки экипажей различных эпох: кареты праздных королей, тележки и грузовые автомобили, омнибусы и паланкины.
А те, кто не знал иных способов передвижения, кроме ходьбы, не пользовались транспортом и теперь.
Одни до сих пор не верили в электричество, другие предрекали его распространение в скором будущем, третьи же поворачивали воображаемый выключатель, считая, что от этого им лучше видно.
Время от времени некий доносившийся неведомо откуда голос, единственный, который слышался в межзвездных пространствах, вещал каждому словно бы прямо в уши: «Не забывайте, что вы всего лишь тени».
Но смысл этих слов не задерживался в их сознании дольше четырех-пяти секунд, потом все продолжалось так, как если бы ничего не было сказано. Тени снова верили в реальность того, что делали, и следовали своим воспоминаниям.
Они лишены были возможности говорить даже шёпотом.
Но души их были видны насквозь, так что для начала разговора требовалось только расположиться напротив своего собеседника, если так можно выразиться.
Иногда можно было наблюдать, как мать, находясь перед своим малолетним сыном, рассуждала так, словно ему угрожала настоящая опасность:
— Осторожно, а то упадешь и разобьешься.
И, обращаясь к соседке:
— Вчера он вернулся из школы со сбитыми в кровь коленками.
Для того же, чтобы скрыть свои чувства, приходилось убегать со всех ног, по возможности искать уединения. Но у большинства людей возникала привычка не заводить секретов и облекать свои мысли в безупречно любезную форму.
Каждый неизменно пребывал в одном и том же возрасте, однако это не мешало родителям расспрашивать детей, чем те намерены заняться в будущем, и утверждать, будто они сильно, правда же, очень сильно выросли и возмужали, что отрадно отметить. А когда молодые люди целовали друг друга, то не испытывали при этом ни малейшего волнения.
Слепые там видели так же, как все, и им нравилось ходить без палки, но головы у них оставались откинутыми назад, как если бы они опасались препятствия, увы, несуществующего.
И человек, познавший на земле великую любовь, часто переходил с тротуара на тротуар в надежде отыскать свое счастье. (Так делал Шарль Дельсоль, скоро вы в этом убедитесь.)
Иногда, не испытывая от этого ни малейших неудобств, вновь прибывшие вырывали свое сердце — сероватую пульсирующую массу, бросали его под ноги и подолгу разглядывали, потом топтали, а сердце, безропотное и нисколько не пострадавшее, снова чинно занимало свое место в груди человека, лишившегося плоти, человека, которому так и не удалось ни почувствовать боли, ни заплакать.
Все старались ободрить новичков, которые не успели еще освоиться со своей тенью и не осмеливались ни шагнуть, ни поднять руку для приветствия, ни сесть, положив ногу на ногу, ни побежать, ни прыгнуть с разбега или просто так; в общем, делать то, что для старожилов не составляло труда. Они все время озирались по сторонам и ощупывали себя, как будто потеряли бумажник.
«Это пройдет, однажды все кончится».
Кончится однажды.
«У вас нет оснований жаловаться, — говорили им. — Ведь там есть более несчастные, чем вы». И указательным пальцем показывали место, где в этот момент должна находиться Земля, невидимая Земля. Не только малыши, но и новорожденные точно знали, где она, даже когда их внезапно будили среди ночи, чтобы спросить об этом.
Не было слышно ни малейшего звука, а ведь как они напрягали слух! Как впивались глазами в бледные губы мужчин и женщин, как склонялись над колыбелями в надежде, что оттуда донесется какой-нибудь звук!
Они собирались то у одного, то у другого, чтобы послушать избранный музыкальный отрывок, исполняемый на неосязаемой виолончели, или же для того, чтобы каждый, вверившись своей фантазии и вкусу, насладился звучанием камерного квартета, или голосом органа, флейты, или приглушенным из-за дождя шумом ветра в соснах.
Человек, который прежде был великим пианистом, сел однажды за свой призрачный инструмент и пригласил друзей посмотреть, как он играет. Все догадались, что будет исполнять Баха. Думали, что, может быть, благодаря гению исполнителя и композитора удастся что-нибудь услышать.
Окрыленные надеждой, гости прибывали и прибывали со всех сторон. Некоторые считали, что это Бах собственной персоной. Это и в самом деле был он. И он исполнил Токкату и Фугу. С глубоким волнением следили они за игрой музыканта, и каждый верил, что действительно слышит ее. По завершении отрывка все принялись горячо аплодировать, и сразу ясно стало, что ни один звук не нарушил безмолвия. Тогда, понимая, что чуда не произошло, приглашенные поспешили разойтись по домам.
Однако самое большое огорчение Теням доставляло то, что они ничего не могли удержать в руках. Им являлись образы, лишенные субстанции. Хотелось заполучить себе хотя бы обрезок ногтя, волос или корочку хлеба — неважно что, лишь бы оно было осязаемым.
Однажды прохожие, гулявшие там, где, по общему мнению, находилась площадь, увидели длинный ящик из настоящего дерева, по-настоящему белый. Поскольку Теням часто случалось принимать желаемое за действительное, они не сразу поняли всю важность события и решили, что имеют дело с галлюцинацией, с подделкой, более близкой к оригиналу, чем обычно. И каково же было их изумление, когда один упаковщик, известный живостью ума, стал направо и налево втолковывать всем, глядя прямо в глаза сомневающимся, что ящик — из светлой древесины, такой же, как на Земле.
Тогда неисчислимые толпы существ всех времен: готы, козы, волки, вестготы, гунны[140], протестанты, мускусные крысы, лисы и утки, католики, крупноголовые римляне, красавчики вперемежку с романтиками и классиками, с пумами, орлами и божьими коровками — сгрудились вокруг ящика, который они окружили такой давящей тишиной, что она вот-вот готова была лопнуть, не выдержав напряжения[141].
«Что-то изменится, что-то случится! Потому что так дальше продолжаться не может! Раз здесь находится ящик из настоящей светлой древесины, то почему бы солнцу не засиять и не прийти однажды на смену этому свечению, которое проникает сюда неизвестно откуда, всегда ровное, не похожее ни на настоящий день, ни на настоящую ночь, — этой мутной пелене, застилающей небо? Здешнее небо… Да, птицам удается иногда долетать сюда, но надо видеть, как, страдая от удушья, силятся они удержаться в пустоте, и если все же не отступают, то ворох мертвых перьев опадает с них, а сами они падают, падают — целую вечность».
Хотя никто не сумел даже приподнять крышку ящика, более ста тысяч Теней требовали выставить возле него охрану, для того чтобы… точнее, опасаясь, как бы… вернее, потому что… Предположения были самые невероятные, они, как струи эфира, рассеивались в Сахаре неба.
«Не надо спешить, давайте не будем тешить себя напрасными иллюзиями, — говорили те, кто дожил на Земле до преклонного возраста. — Из-за простого ящика, который может еще к тому же оказаться пустым!» * Но надежда поселялась в сердцах. Одна Тень, заявившаяся неизвестно откуда, утверждала, что в следующее воскресенье (хоть и говорили «воскресенье», но иногда возникали серьезные споры о том, действительно ли это было воскресенье) они увидят настоящего быка, и на глазах у всех он будет есть траву, а под конец, возможно, даже услышат его мычание.
— Похоже, это будет красавец, черный, с мелкими белыми пятнышками.
— Что до меня, то я бы предпочел увидеть не быка, а арабского породистого скакуна, пусть бы он покрасовался перед нами ну хотя бы пять минут. Потом я бы веками чувствовал себя счастливым.
— А я посмотрел бы на своего фокстерьера, как он гуляет по деревне в департаменте Сены и Марны вместе со мной.
— Ах, с вами?
Прошел слух, что скоро Тени увидят свои тела такими, какими они были на Земле, с присущим им прежде цветом и весом.
— Послушайте, я уверен, что в один из четырех ближайших дней, рано утром, можно будет наблюдать, как я ходил на службу, как спускался по ступеням станции метро Шатле.
«Увидеть тот день, — думал другой, — когда я бежал со всех ног, и если бы не любезность начальника станции, который задержал немного отправление, то наверняка опоздал бы на поезд до Лиссабона».
Надеялись получить возможность приглашать друзей, чтобы сообща посмотреть, кто как выглядел в день свадьбы или же при получении телеграммы, извещающей о смерти отца, или в какой-нибудь другой день.
— Бросьте, не думайте, что сумеете нас в этом убедить.
— Ну почему же? Я считаю, что такое вполне вероятно. Не может быть, чтобы одно и то же продолжалось всегда. Ну подумайте сами!
— И все из-за одного паршивого ящика из светлого дерева!
— Да этого же более чем достаточно! Вспомните о миллиардах Теней, которые до сих пор лишены были присутствия всякого твердого тела.
Однако никакого нового чуда не произошло, и ящик долгие недели и месяцы пребывал на площади в окружении все менее и менее многочисленной охраны. Наконец он остался один.
Из-за этой великой развенчанной надежды Тени стали избегать друг друга, чтобы скрыть охватившее их тягостное уныние. Никогда еще им не приходилось так страдать от собственной пустоты. Они держались поодиночке, и брат сторонился брата, муж — жены, подруга — своего приятеля.
Шарль Дельсоль не знал, как давно он умер, и уже в полном смысле стал тенью самого себя. Он потерял из виду Маргариту Деренод за несколько дней до своей кончины, и ему неизвестно было, оставалась ли она еще среди живых. Он вспоминал тот день, когда впервые увидел ее в библиотеке Сорбонны. Она сидела напротив. Быстрый, как взмах кисти, взгляд: он заметил, что она брюнетка. Потом, через четверть часа (он изучал философию), другой взгляд, чтобы узнать, какого цвета у нее глаза. Десять минут работы — и последний взгляд: поглядеть на руки молодой девушки. И немного воображения, чтобы свести разрозненные фрагменты в полную жизни картину.
Каждый день он занимал место напротив нее, но ни разу к ней не обратился, потому что был очень робок из-за своей хромоты. Во всяком случае, он всегда спешил уйти первым. Однажды она встала, чтобы сходить за какой-то книгой. Она тоже хромала.
«Раз так, буду смелее», — сказал тогда себе Шарль Дельсоль.
Потом эта мысль показалась ему недостойной ни его, ни ее.
«Теперь я тем более не стану с ней заговаривать», — подумал он.
Маргарите Деренод досадно было чувствовать на себе взгляд этого молчуна. Вдобавок у него был такой вид, словно он хотел вовлечь ее в некий союз хромых!
В один из мартовских дней, когда она слишком сильно распахнула окно, то услышала, как сосед Дельсоля тихо сказал ему:
— Если вам холодно, попросите разрешения закрыть окно. В такой просьбе ничего нет предосудительного, тем более что вы недавно болели.
— Что вы! Я просто задыхаюсь, — сказал он. И не тронулся с места.
Он все же пытался бороться с холодом и начал с того, что постарался удержать остатки тепла, делая кое-какие, почти незаметные, движения: то напрягал мышцы плеча или ног, то потирал грудь просунутой под жилет рукой. Но студентка бросила на него раздраженный взгляд, как будто он мешал ей работать. Тогда он замер в неподвижности и почувствовал, как сама смерть касается его плеча, груди, ног и провозглашает своей добычей. Вернувшись домой, он не нашел в себе сил даже на то, чтобы развести огонь. Спустя три дня он умер.
Оказавшись в поднебесье, Шарль Дельсоль продолжил свои занятия в небесной проекции библиотеки Сорбонны.
Однажды он заметил сидевшую напротив его обычного места Тень, вид которой живо напомнил ему Деренод.
Он подумал: «Все та же привычка брать портфель и с некоторой резкостью открывать его. Но что стало с ее лицом? Она, как и в Париже, носит накидку и, совсем как на Земле, не обращает на меня внимания. Почему же она не распахивает больше окно?» Он забыл, что душа, открытая взглядам, выдает все его мысли, и бледная девушка, приблизившись, спросила его беззвучно, как это выходит у мертвых:
— Скажите, пожалуйста, не потому ли, что в тот день я не закрыла окно…
— О нет! Меня задавило такси.
И он отвернулся, желая утаить правду.
Через несколько дней они уже вместе выходили из библиотеки. Товарищи по учебе про них говорили:
«С чего это они разгуливают тут вдвоем словно парочка влюбленных; нужно охрометь, чтобы додуматься до такого! Как будто здесь из этого что-то может выйти». Хотя объемистый портфель подруги был легче самого легкого пуха, Дельсоль предложил понести его. Она рассмеялась, а он — он говорил вполне серьезно.
Наконец она согласилась отдать портфель, хотя его желание показалось ей немного смешным, особенно для студента, умершего довольно давно и, следовательно, не лишенного опыта.
Но едва он взял портфель, как почувствовал, что тот стал тяжелеть в его руках. И неизъяснимое блаженство начало разливаться по его ладоням, по тому, что было когда-то его руками.
Тело Шарля Дельсоля ещё оставалось бледным, но бледность потеряла мертвенный оттенок, чуть высветилась, стала на вид слегка розоватой, весьма симпатичной, похоже, что чем-то весьма необычной. Ему показалось, будто руки его возрождаются для жизни, и он поспешил спрятать под одеждой два беспокойных отростка, каждый из которых непременно желал обзавестись пятью пальцами.
— Мне кажется, вы сегодня какой-то странный, — подумала Маргарита Деренод. — Уж не заболели ли вы?
— Вы же знаете, что это невозможно.
И когда он отрицательно качнул головой, то ощутил острую боль в запястье, портфель сразу выпал из его рук, и оттуда посыпались настоящие словари Кишера[142] и Гольцера[143], увесистые, с пронумерованными страницами.
В полном потрясении студентка захлопала ресницами, настоящими ресницами земной девушки. И глаза ее вдруг сделались голубыми, как прежде, хотя остальная часть лица все еще лишена была красок жизни. Она застыла на месте, как после неимоверного усилия, потом, очень быстро, у нее появились губы, нос, щеки, чуть более румяные, чем на Земле. И одежда на ней оказалась такая, какую носили девушки в 1919 году, в год ее смерти.
Стоял сухой морозец, и красивые струйки пара от дыхания юноши и девушки повисали в воздухе.
Ничуть не заботясь о Тенях, которые пребывали поблизости, они соединили вновь обретенные губы в долгом поцелуе. Потом, исполненные новых, ликующих сил, направились к площади, где находился ящик из светлого дерева. Открыть его оказалось совсем нетрудно. Достаточно было приподнять крышку руками, не растерявшими прежней ловкости. Они обнаружили там множество предметов, принадлежавших им на Земле, и, главное, карту неба, удивительно понятную и превосходно раскрашенную, которая особенно властно увлекала их в путешествие, потому что оживала и выдавала бесчисленные указания и советы относительно тех мест, где задерживался взгляд молодых людей.
ДИТЯ МОРСКОЙ СТИХИИ
Откуда взялось это плавучее селение?
Кто те моряки, с помощью каких архитекторов выстроили они его посреди Атлантики, поверх морской глади над бездной глубиною шесть тысяч метров? Откуда эта длинная улица с домами из красных кирпичей, настолько выцветших, что они приобрели тускло-серый отлив, и эти крыши, покрытые шифером и черепицей, и эти неизменные убогие лавочки? И откуда ажурная колокольня?
И как могло возникнуть то, что содержало одну лишь морскую воду, а силилось представить себя садом, обнесенным стенами, присыпанными сверху бутылочными осколками, а через стены нет-нет да и перемахнет какая-нибудь рыбка.
Каким образом все держалось устойчиво и даже не раскачивалось волнами?
А откуда появилась девочка в сабо, лет двенадцати, которая, одна-одинешенька, твердым шагом, словно посуху, ходит по сотворенной из воды улице? Это откуда?….
Мы поведаем обо всем, что увидим и узнаем сами. А то, что должно остаться потаенным, потаенным и останется, здесь мы бессильны.
При подходе корабля, еще до того как он появлялся на горизонте, девочку охватывал глубокий сон, а селение погружалось под воду.
Вот почему ни один моряк, даже в подзорную трубу, его ни разу не приметил и до сих пор не подозревает о его существовании.
Девочка думала, что она единственный ребенок на свете. Вот только сознавала ли она, что была ребенком, девочкой?
Ее нельзя было назвать хорошенькой, потому что зубы у нее оказались посажены реже, а нос вздернут больше, чем следовало, но ее красила очень белая кожа с милыми нежнюшками, то есть, я хочу сказать, веснушками. Это хрупкое существо с кроткими, но на редкость лучистыми серыми глазами вас заставляло сердцем и душой проникнуться сочувственным волненьем, рождавшимся из глубины времен.
На улице, единственной в этом маленьком селении, девочка смотрела иногда по сторонам с таким видом, словно ожидала, что вот-вот кто-то помашет ей рукой или кивнет головой в знак приветствия. Такое впечатление возникало при виде ее, неведомо для нее; обманчивое впечатление, ибо ничто здесь не могло случиться и никто не мог явиться в это затерянное селение, готовое в любой момент скрыться под водой.
Чем она жила? Рыбной ловлей? Не похоже. Она брала продукты на кухне, в шкафу и в кладовке, каждые два-три дня там бывало даже мясо. Там же она находила картофель, другие овощи, время от времени появлялись и яйца.
Провизия в шкафах возникала сама собой. И когда девочка ела варенье из банки, то банка все равно оставалась полной, будто до скончания века все должно было сохраняться таким, каким возникло когда-то из небытия.
По утрам полфунта свежего хлеба, завернутого в бумагу, ожидало девочку в булочной на мраморном прилавке, за которым она никогда никого не видела, не видела ни руки, ни даже пальца, пододвигающего ей хлеб.
Она вставала рано, поднимала металлические шторы лавочек (здесь можно было прочесть — «Кафе», там — «Кузнец» или «Булочная», «Галантерея»), распахивала во всех домах ставни, тщательно закрепляла их, чтобы не хлопали при порывах резкого морского ветра, и, смотря по погоде, открывала или нет окна. В нескольких кухнях она разводила огонь, чтобы над тремя-четырьмя крышами вился дымок.
Следуя привычке, она за час до захода солнца начинала закрывать ставни. Потом опускала шторы из гофрированного железа.
Девочка взяла на себя эти заботы, движимая каким-то инстинктом, ежедневным наитием, принуждавшим ее поддерживать порядок во всем. В жаркое время года она вывешивала на окнах то ковры, то белье для просушки, будто любой ценой требовалось добиться, чтобы деревня выглядела обитаемой, причем похожа была на обитаемую как можно больше.
И каждый год ей нужно было подновлять флаг на мэрии, истрепанный непогодой.
По ночам она зажигала свечи или шила при свете лампы. Во многих домах было проведено электричество, и девочка легко и просто обращалась с выключателями.
Однажды она привязала к молотку одной из входных дверей траурный бант. Ей казалось, что это уместный поступок.
Бант оставался там два дня, потом она его убрала.
В другой раз она стала бить в барабан, принадлежащий мэрии, словно хотела сообщить какую-то весть. Ее одолевало нестерпимое желание выкрикнуть что-то, что было бы услышано даже в самых отдаленных уголках моря, но горло ее судорожно сжалось, и из него не вырвалось ни единого звука. От непосильного напряжения лицо ее и шея почернели, как у утопленника. Потом пришлось водворить барабан на обычное место в мэрии: в левом углу, в глубине зала для торжеств.
Девочка взбиралась на колокольню по винтовой лесенке со ступеньками, истертыми тысячью никогда не виденных ею ног. С колокольни, лесенка которой, как думала девочка, насчитывала не меньше пятисот ступенек (на самом деле их было девяносто две), в просветы между желтыми кирпичами лучше всего было любоваться небом. Да еще приходилось заводить башенные часы, поднимая груз с помощью особой ручки, чтобы они правильно отбивали удары каждый час, днем и ночью.
Усыпальница, алтари, каменные святые, раздававшие понятные без слов наставления, чуть слышно поскрипывающие стулья, которые, выстроившись в ряд, ожидали прихожан разных возрастов; алтари, чье золото старилось и желало стариться дальше, — все это и притягивало, и отталкивало девочку, никогда не ступавшую под высокие своды и довольствовавшуюся тем, что приоткрывала иногда, в часы безделья, обитую дверь, чтобы, затаив дыхание, быстрым взглядом окинуть помещение.
В ее комнате в чемодане лежали семейные бумаги, несколько почтовых открыток из Дакара, Рио-де-Жанейро, Гонконга, подписанные «Шарль» или «Ш. Льевенс» и адресованные в Стинвурд (департамент Нор). Дочь морской стихии ничего не знала ни об этих дальних странах, ни о Шарле, ни о Стинвурде.
Еще она хранила в шкафу альбом с фотографиями. На одной из них была запечатлена девочка, очень на нее похожая, и дочь морской стихии часто пристрастно всматривалась в ее черты: ей казалось, что девочка с фотографии все всегда делает правильно, всегда права; она держала в руках обруч. Дочь морской стихии искала такой же повсюду. И однажды решила, что нашла: это был железный обруч от какой-то бочки, но едва она попыталась пробежать с ним по приморской улице, как он закатился далеко в воду.
На другой фотографии маленькая девочка была снята между мужчиной, одетым в матросскую форму, и худощавой принаряженной женщиной. Дочь морской стихии, никогда не видевшая ни мужчины, ни женщины, подолгу, даже в самые глухие часы ночи, когда на вас внезапно, как гром среди ясного неба, нисходит порой озарение, мучилась вопросом, кто эти люди.
Каждое утро она ходила в школу с большим портфелем, в котором лежали тетради, учебники по грамматике, арифметике, истории Франции и географии.
А еще у нее была книга Гастона Бонье (члена Академии, профессора Сорбонны) и Жоржа де Лейанса (лауреата Академии наук): маленький атлас флоры, содержащий перечень самых распространенных, как лечебных, так и ядовитых, растений и восемьсот девяносто восемь рисунков.
Она читала в предисловии:
«В теплое время года совсем нетрудно насобирать большое количество луговых и лесных растений».
История и география, страны, выдающиеся деятели, горы, реки и границы: как разобраться во всем этом той, у кого нет ничего, кроме безлюдной улицы крошечного селения в самом пустынном уголке Океана? Да она и не знала, что находится посреди Океана, того самого, который видела на картах, только однажды эта мысль закралась ей в голову. Но она прогнала ее как безумную и опасную.
Время от времени она с самозабвением слушала невидимую учительницу, записывала некоторые слова, снова слушала и принималась писать, словно под диктовку. Наконец девочка открывала грамматику на странице 60 и надолго замирала, затаив дыхание, над упражнением СLXVIII, которое ей особенно нравилось. Казалось, грамматика воспользовалась им специально для того, чтобы обратиться с вопросами к девочке из океанских просторов:
…вы? …вы думаете? …вы разговариваете? …вы хотите? …нужно обращаться? …происходит? …обвиняют? …вы способны? …вы виновны? …состоит вопрос? …вы получаете этот подарок? Ах! …вы жалуетесь?
(Замените точки подходящими по смыслу вопросительными местоимениями с предлогом или без него.)
Иногда девочка испытывала настоятельное желание записать некоторые фразы. И она это делала с большим усердием.
Вот некоторые из таких фраз.
«Хотите, мы поделим это?»
«Слушайте меня внимательно. Сядьте и не вертитесь, пожалуйста».
«Если бы у меня было хоть немного снега с горных вершин, то день проходил бы быстрее».
«Пена, пена со всех сторон, станешь ли ты, пена, наконец чем-то твердым?»
«Чтобы водить хоровод, нужны по крайней мере трое».
«Это были две тени без голов, которые уходили вдаль по пыльной дороге».
«Ночь, день, день, ночь, облака и летучие рыбы».
«Мне почудилось, что я слышу шум, но это был шум моря».
Бывало и так, что она писала письмо, где сообщала новости о своем поселке и о себе. В начале письма не было обращения, она ни с кем не прощалась, заканчивая его, да и адресат на конверте отсутствовал.
Закончив письмо, она бросала его в море — не для того чтобы от него избавиться, а потому что положено так делать: может быть, в подражание терпящим кораблекрушение, которые, отчаявшись, вверяли волнам последнюю весть о себе, запечатав ее, в последней надежде, в бутылку.
Время не властно было над этим плавучим селением: девочке всегда было двенадцать лет. Напрасно она вертелась в своей комнате возле зеркала, выпячивала грудь, расправляла плечи и вытягивалась во весь рост. Однажды ей надоело быть похожей из-за косичек и гладко зачесанных назад волос на девочку с фотографии, хранящейся в альбоме, она рассердилась на себя и на портрет, нарочно распустила по плечам волосы, надеясь, что от этого изменится ее возраст и она станет старше. Может быть, тогда море вокруг нее изменится тоже, и она увидит, как из пучины выйдут огромные козы с бородами из пены и приблизятся к ней, чтобы получше все рассмотреть.
Но Океан оставался пустынным, и никто не навещал ее, кроме падающих звезд.
В один из дней судьба словно задумала позабавиться, словно решила смягчить свой неумолимый приговор. Настоящее суденышко, окутанное дымом, настырное, как бульдог, и устойчиво держащееся на воде, хотя и было не вполне загружено (широкая красная полоса ватерлинии блестела на солнце), прошло по приморской улице селения, но дома не исчезли под волнами, и девочку не охватил сон.
Как раз наступил полдень. Раздался пароходный гудок, но шум его не слился с боем часов на колокольне. Каждый звук сохранил самостоятельность.
Девочка, которая в первый раз услышала шум, произведенный людьми, кинулась к окну и изо всех сил закричала:
— На помощь!
И замахала в направлении судна своим школьным передничком.
Рулевой даже не повернул головы. Еще один матрос, на ходу выпуская изо рта дым, прошелся по палубе, будто ничего не случилось. Другие матросы продолжали стирать белье, а дельфины расплывались по разные стороны от форштевня[144], уступая дорогу спешащему судну.
Девочка выбежала на улицу, приникла к оставшемуся за кормой следу и так долго не отпускала его, что, когда она поднялась, о судне ничто больше не напоминало, перед нею расстилалась ровная морская гладь, позабывшая обо всем. Вернувшись домой, девочка вдруг поразилась тому, что кричала: «На помощь!» Только теперь до нее дошел истинный смысл этих слов. И смысл этот ее ужаснул. Неужели люди не слышали ее голоса? Или эти моряки были глухи и слепы? Или они еще более жестоки, чем бездна моря?
Тогда к ней подкатила волна, которая всегда с нарочитой сдержанностью располагалась неподалеку от селения. Это была огромная волна, длиной она намного превосходила все другие волны. На гребне у нее были два глаза из пены, совсем как настоящие. Похоже, она многое понимала, но отнюдь не все одобряла. Вздымаясь и опадая сотни раз на дню, она никогда не забывала на одном и том же месте обзавестись парой искусно сотворенных глаз. Иногда, если что-то казалось ей интересным, то можно было видеть, как она на целую минуту застывала в неподвижности с поднятым гребнем, позабыв, что она — волна и должна рождаться заново через каждые семь секунд.
Уже давно эта волна хотела сделать что-нибудь для девочки, но не знала, как за это взяться. Она видела, что судно удаляется, и поняла муку той, кому суждено было остаться. Поддавшись внезапному порыву, волна в молчании повлекла ее, словно на поводу, за собою.
Упав к ее ногам, как падают волны, она с величайшей бережностью накрыла ее и долго не отпускала, стремясь навлечь на нее смерть. И девочка перестала дышать, чтобы помочь волне в этом важном деле.
Не добившись своего, волна подбросила девочку вверх так высоко, что та сделалась не больше чайки, подхватила и стала бросать ее как мячик, а девочка снова и снова падала в пенные хлопья величиною со страусово яйцо.
Наконец, видя, что все напрасно, что ей не удастся даровать девочке смерть, волна, захлебываясь слезами и бормоча извинения, вернула ребенка на прежнее место.
А девочка, на которой не осталось даже следа ушибов, обречена была опять, как прежде, открывать и закрывать ставни, простившись с последней надеждой, и погружаться в морскую пучину, едва лишь возникнет на горизонте мачта какого-нибудь корабля.
Моряки, предающиеся мечтам в просторах моря, опершись локтями о стрингер[145], остерегайтесь подолгу грезить во мраке ночи о любимом лице. В этих совершенно безлюдных пространствах вам грозит опасность вызвать к жизни существо, наделенное всей полнотой человеческих чувств, но не способное ни жить, ни умереть, ни любить и страдающее так, будто живет, любит и всегда находится на грани смерти; существо, бесконечно обездоленное в пустыне вод, как эта дочь Океана, сотворенная однажды мыслью Шарля Льевенса из Стинвурда, палубного матроса четырехмачтового судна «Отважный», который потерял во время одного из своих плаваний двенадцатилетнюю дочь и как-то ночью на 55° северной широты и 35° западной долготы думал о ней долго, с неистовой силой, к великому несчастию этого ребёнка.
АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Леону Верту[146]
Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: этот взрослый — мой самый лучший друг. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу свою книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение:
Леону Верту,
когда он был маленьким.
I
Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку: на картинке огромная змея — удав — глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано:

В книге говорилось: «Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу».
Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок № 1. Вот что я нарисовал:

Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.
— Разве шляпа страшная? — возразили мне.
А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок № 2:

Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 и № 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.
Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.
На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.
Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я показывал ему свой рисунок № 1 — я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает.
Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.
II
Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот шесть лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Надо было исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю.
Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок.
Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:
— Пожалуйста… нарисуй мне барашка!
— А?…
— Нарисуй мне барашка.
Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Начал осматриваться. И вижу — стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает.

Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые внушили мне, что художника из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри.
Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:
— Но… что ты здесь делаешь?
И он опять попросил, тихо и очень серьезно:
— Пожалуйста… нарисуй барашка…
Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию, и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что не умею рисовать.
Он ответил:
— Все равно. Нарисуй барашка.
Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать, — удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:
— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.
И я нарисовал:

Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: — Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого. Я нарисовал:

Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся:
— Ты же сам видишь, это не барашек. Это большой баран. У него рога…
Я опять нарисовал по-другому:

Но он и от этого рисунка отказался:
— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.
Тут я потерял терпение — ведь надо было поскорей разобрать мотор — и нацарапал вот что:

И сказал малышу:
— Вот тебе ящик. А в нем сидит твой барашек.
Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:
— Вот такого мне и надо! Как ты думаешь, много он ест травы?
— А что?
— Ведь у меня дома всего очень мало…
— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.
— Не такого уж маленького… — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка! Мой барашек уснул…
Так я познакомился с Маленьким принцем.
III
Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:
— Что это за штука?
— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.
И я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда малыш воскликнул:
— Как! Ты упал с неба?
— Да, — скромно ответил я.
— Вот забавно!..
И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:
— Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?
«Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!» — подумал я и спросил напрямик:
— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?
Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолет:
— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека…
И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.
Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от его полупризнания о «других планетах». И я попытался разузнать побольше:
— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка?
Он помолчал в раздумье, потом сказал:
— Очень хорошо, что ты дал мне ящик, барашек будет там спать по ночам.
— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.
Маленький принц нахмурился.
— Привязывать? Для чего это?
— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.
Тут мой друг опять весело рассмеялся:
— Да куда же он пойдет?
— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Тогда Маленький принц сказал серьезно:
— Это ничего, ведь у меня там очень мало места.
И прибавил не без грусти:
— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…
IV
Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!
Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, которым даже имен не дали, и среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планету, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251.
У меня есть веские основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид Б-612. Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.
Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а всё потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!
К счастью для репутации астероида Б-612, правитель Турции велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде — и все с ним согласились.
Я вам рассказал так подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков» — и тогда они восклицают: «Какая красота!» Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький принц на самом деле существовал — он был очень, очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот уж конечно существует», — если сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца.
Но если сказать им: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид Б-612», это их убедит и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.
Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так:
«Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга…» Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что это гораздо больше похоже на правду.
Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Слишком больно вспоминать и нелегко мне об этом рассказывать. Вот уже шесть лет, как мой друг вместе с барашком меня покинул. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто — в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю жизнь только и нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я стараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже: на одном рисунке принц у меня чересчур большой, на другом — чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я старею.
V
Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами.
Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:
— Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?
— Да, правда.
— Вот хорошо!
Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил:
— Значит, они и баобабы тоже едят?
Я возразил, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба.
Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:
— Их пришлось бы поставить друг на друга…
А потом сказал рассудительно:
— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.
— Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?
— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.
И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.
На планете Маленького принца, как и на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток: он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый, безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.
— Есть такое твердое правило, — сказал мне после Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.
Если им когда-нибудь придется путешествовать, — сказал он, — это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика…

Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика — вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети! — говорю я. — Берегитесь баобабов!» Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите, отчего в этой книжке нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.
VI
О, Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение — ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро четвертого дня, когда ты сказал:
— Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.
— Ну, придется подождать.
— Чего ждать?
— Чтобы солнце зашло.
Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал:
— Мне все кажется, что я у себя дома!
И в самом деле. Все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень далеко. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты опять и опять смотрел на закатное небо, стоило только захотеть…
— Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!
И немного погодя ты прибавил:
— Знаешь, когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…
— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?
Но Маленький принц не ответил.
VII
На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий:
— Если барашек ест кусты, он и цветы ест?
— Он ест все, что попадется.
— Даже такие цветы, у которых шипы?
— Да, и те, у которых шипы.
— Тогда зачем шипы?
Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заело одну гайку, и я старался ее отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.
— Зачем нужны шипы?
Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц уже не отступался, пока не получал ответа. Неподатливая гайка выводила меня из терпенья, и я ответил наобум:
— Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.
— Вот как!
Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:
— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся…
Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: если эта гайка и сейчас не поддастся, я так стукну по ней молотком, что она разлетится вдребезги. Маленький принц снова перебил мои мысли:
— А ты думаешь, что цветы…
— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.
Он посмотрел на меня в изумлении.
— Серьезным делом?!
Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.
— Ты говоришь, как взрослые! — сказал он.
Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:
— Все ты путаешь… ничего не понимаешь!
Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.
— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный!» — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.
— Что?
— Гриб!
Маленький принц даже побледнел от гнева.
— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом?
А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил? И это, по-твоему, не важно?
Он даже покраснел. Потом снова заговорил:
— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, — этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…» Но если барашек его съест, это все равно как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!
Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Я и думать забыл про злополучную гайку и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на планете — на моей планете по имени Земля, — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит… Я нарисую твоему барашку намордник… Нарисую для твоего цветка броню… я…» Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез…
VIII
Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца всегда росли простые, скромные цветы — у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, непохожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь мак. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка! Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись.
И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:
— Ах, я насилу проснулась… Прошу извинить… Я еще совсем растрепанная…
Маленький принц не мог сдержать восторга:
— Как вы прекрасны!
— Да, правда? — был тихий ответ. — И заметьте, я родилась вместе с солнцем.
Маленький принц конечно догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!
А она вскоре заметила:
— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне…
Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.
Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:
— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!
— На моей планете тигры не водятся, — возразил Маленький принц. — И потом, тигры не едят траву.
— Я не трава, — тихо заметил цветок.
— Простите меня…
— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?
«Растение, а боится сквозняков… очень странно… — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка».
— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла…
Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:
— Где же ширма?
— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!
Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!
Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.
— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх… Они должны бы меня растрогать, а я разозлился…
И еще он признался:
— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.
IX
Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.
Потом Маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в то утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком, ему даже захотелось плакать.
— Прощайте, — сказал он.
Красавица не ответила.
— Прощайте, — повторил Маленький принц.
Она кашлянула. Но не от простуды.
— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постарайся быть счастливым.
И ни слова упрека. Маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?
— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и неважно.
Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым… Оставь колпак, он мне больше не нужен.
— Но ветер…
— Не так уж я простужена… Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.
— Но звери, насекомые…
— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверно, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.
И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:
— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.
Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок…
X
Ближе всего к планете Маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их: надо же найти себе занятие да и поучиться чему-нибудь.
На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном.
— А, вот и подданный! — воскликнул король, увидев Маленького принца.
«Как же он меня узнал? — подумал Маленький принц. — Ведь он видит меня в первый раз!»
Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные.
— Подойди, я хочу тебя рассмотреть, — сказал король, ужасно гордый тем, что может быть для кого-то королем.
Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал… И вдруг он зевнул.
— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, — сказал король. — Я запрещаю тебе зевать.
— Я нечаянно, — ответил Маленький принц, очень смущенный. — Я долго был в пути и совсем не спал…
— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.
— Но я робею… я больше не могу… — вымолвил Маленький принц и густо покраснел.
— Гм, гм… Тогда… тогда я повелеваю тебе то зевать, то…
Король запутался и, кажется, даже немного рассердился.
Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.
«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».
— Можно мне сесть? — робко спросил Маленький принц.
— Повелеваю: сядь! — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.
Но Маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Где же тут царствовать?
— Ваше величество, — начал он. — Можно вас спросить…
— Повелеваю: спрашивай! — поспешно сказал король.
— Ваше величество… где же ваше королевство?
— Везде, — просто ответил король.
— Везде?
Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.
— И все это ваше? — переспросил Маленький принц.
— Да, — отвечал король.
Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.
— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.
— Ну конечно, — отвечал король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.
Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом даже не приходилось бы передвигать стул с места на место! Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля:
— Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца… Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться…
— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?
— Вы, ваше величество, — ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.
— Совершенно верно, — подтвердил король. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.
— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.
— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.
— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.
— Гм, гм, — ответил король, листая толстый календарь, — это будет… гм, гм… сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление.
Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И по правде говоря, ему уже стало скучновато.
— Мне пора, — сказал он королю. — Больше мне здесь нечего делать.
— Останься! — сказал король: он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. — Останься, я назначу тебя министром.
— Министром чего?
— Ну… юстиции.
— Но ведь здесь некого судить!
— Как знать, — возразил король. — Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно…
Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты.
— Но я уже посмотрел! — воскликнул он. — Там тоже никого нет.
— Тогда суди сам себя, — сказал король. — Это самое трудное. Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.
— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц. — Для этого мне незачем оставаться у вас.
— Гм, гм… — сказал король. — Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам.
Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна.
— Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал Маленький принц. — И вообще мне пора.
— Нет, не пора, — возразил король.
Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.
— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты… Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные.
Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.
— Назначаю тебя послом! — поспешно крикнул вдогонку ему король.
И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.
«Странный народ эти взрослые», — сказал себе Маленький принц, продолжая путь.
XI
На второй планете жил честолюбец.
— О, вот и почитатель явился! — воскликнул он, еще издали завидев Маленького принца.
Ведь тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются.
— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Какая у вас забавная шляпа.
— Это чтобы раскланиваться, — объяснил честолюбец. — Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.
— Вот как? — промолвил Маленький принц: он ничего не понял.
— Похлопай-ка в ладоши, — сказал ему честолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец приподнял шляпу и скромно раскланялся.
«Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.
Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.
— А что надо сделать, чтобы шляпа упала? — спросил он.
Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.
— Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он Маленького принца.
— А как это — почитать?
— Почитать — значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.
— Да ведь на твоей планете больше и нет никого! Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною!
— Я восхищаюсь, — сказал Маленький принц, слегка пожав плечами. — Но какая тебе от этого радость?
И он сбежал от честолюбца.
«Право же, взрослые — очень странные люди», — только и подумал он, пускаясь в путь.
XII
На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.
Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок — пустых и полных.
— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.
— Пью, — мрачно ответил пьяница.
— Зачем?
— Чтобы забыть.
— О чем забыть? — спросил Маленький принц, ему стало жаль пьяницу.
— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.
— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.
— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.
И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.
«Да, право же, взрослые — очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь.
ХIII
Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял.
— Добрый день, — сказал ему Маленький принц. — Ваша сигарета погасла.
— Три да два — пять. Пять да семь — двенадцать. Двенадцать да три — пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать да семь — двадцать два. Двадцать два да шесть — двадцать восемь. Некогда спичкой чиркнуть. Двадцать шесть да пять — тридцать один. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один.
— Пятьсот миллионов чего?
— А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов… уж не знаю чего… У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни. Два да пять — семь…
— Пятьсот миллионов чего? — повторил Маленький принц: спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока не получал ответа.
Деловой человек поднял голову.
— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз… вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов…
— Миллионов чего?
Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.
— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.
— Это что же, мухи?
— Да нет же, такие маленькие, блестящие.
— Пчелы?
— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный. Мне мечтать некогда.
— А, звезды?
— Вот-вот. Звезды.
— Пятьсот миллионов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь?
— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность.
— Что же ты делаешь со всеми этими звездами?
— Что делаю?
— Да.
— Ничего не делаю. Я ими владею.
— Владеешь звездами?
— Да.
— Но я уже видел короля, который…
— Короли ничем не владеют. Они только царствуют. Это совсем не одно и то же.
— А для чего тебе владеть звездами?
— Чтобы быть богатым.
— А для чего быть богатым?
— Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.
«Он рассуждает почти как тот пьяница», — подумал Маленький принц. И стал спрашивать дальше:
— А как можно владеть звездами?
— Звезды чьи? — ворчливо спросил делец.
— Не знаю. Ничьи.
— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.
— И этого довольно?
— Ну конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, — значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.
— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — А что же ты с ними делаешь?
— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьезный.
Однако Маленькому принцу этого было мало.
— Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды!
— Нет, но я могу положить их в банк.
— Как это?
— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.
— И все?
— Этого довольно.
«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьезно».
Что серьезно, а что несерьезно — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.
— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы.
Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся что ответить, и Маленький принц отправился дальше.
«Нет, взрослые и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.
XIV
Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал:
«Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».
И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.
— Добрый день, — сказал он. — Почему ты сейчас погасил фонарь?
— Такой уговор, — ответил фонарщик. — Добрый день.
— А что это за уговор?
— Гасить фонарь. Добрый вечер.
И он снова засветил фонарь.
— Зачем же ты опять его зажег?
— Такой уговор, — повторил фонарщик.
— Не понимаю, — признался Маленький принц.
— И понимать нечего, — сказал фонарщик. — Уговор есть уговор. Добрый день.
И погасил фонарь.
Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:
— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтоб выспаться…
— А потом уговор переменился?
— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.
— И как же теперь? — спросил Маленький принц.
— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.
— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!
— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.
— Целый месяц?!
— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!
И он опять засветил фонарь.
Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат. И ему захотелось помочь другу.
— Послушай, — сказал он фонарщику. — Я знаю средство: ты можешь отдыхать, когда только захочешь…
— Мне все время хочется отдыхать, — сказал фонарщик.
Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым.
— Твоя планетка такая крохотная, — продолжал Маленький принц, — ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди… и день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.
— Ну, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете я люблю спать.
— Тогда плохо твое дело, — посочувствовал Маленький принц.
— Плохо мое дело, — подтвердил фонарщик. — Добрый день.
И погасил фонарь.
«Вот человек, — сказал себе Маленький принц, продолжая путь, — вот человек, которого все стали бы презирать — и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон.
Может быть, потому, что он думает не только о себе».
Маленький принц вздохнул.
«Вот бы с кем подружиться, — подумал он еще. — Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих…»
Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!
XV
Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги.
— Смотрите-ка! Вот прибыл путешественник! — воскликнул он, заметив Маленького принца.
Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал!
— Откуда ты? — спросил старик.
— Что это за огромная книга? — спросил Маленький принц. — Что вы здесь делаете?
— Я географ, — ответил старик.
— А что такое географ?
— Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.
— Как интересно! — сказал Маленький принц. — Вот это настоящее дело!
И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты.
— Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть?
— Этого я не знаю, — сказал географ.
— О-о… — разочарованно протянул Маленький принц. — А горы есть?
— Не знаю, — сказал географ.
— А города, реки, пустыни?
— И этого я тоже не знаю.
— Но ведь вы географ!
— Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы.
И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.
— А зачем?
— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.
— А почему?
— Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.
— Я знал одного человека… из него вышел бы плохой путешественник, — сказал Маленький принц.
— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.
— Как проверяют? Идут и смотрят?
— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни.
Географ вдруг пришел в волнение:
— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!
И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.
— Слушаю тебя, — сказал географ.
— Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил Маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться…
— Да, все может случиться, — подтвердил географ.
— Потом, у меня есть цветок.
— Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.
— Почему?! Это ведь самое красивое!
— Потому что цветы эфемерны.
— Как это — эфемерны?
— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.
— Но потухший вулкан может проснуться, — прервал Маленький принц. — А что такое эфемерный?
— Потух вулкан или действует — это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно: гора. Она не меняется.
— А что такое эфемерный? — спросил Маленький принц, ведь, раз задав вопрос, он не отступался, пока не получал ответа.
— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.
— И мой цветок должен скоро исчезнуть?
— Разумеется.
«Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе Маленький принц, — и ей нечем защищаться от мира, у нее только и есть, что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна!»
Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но мужество тотчас вернулось к нему.
— Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа.
— Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация…
И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.
XVI
Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля.
Земля — планета не простая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, конечно, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев — итого около двух миллиардов взрослых.
Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек.
Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете.
Первым выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и в Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке.
И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.
Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.
XVII
Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером двадцать миль в длину и двадцать в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане.
Взрослые вам конечно не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите.
Итак, попав на Землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.
— Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.
— Добрый вечер, — ответила змея.
— На какую это планету я попал?
— На Землю, — сказала змея. — В Африку.
— Вот как. А разве на Земле нет людей?
— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.
Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.
— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Смотри, вот моя планета, прямо над нами… Но как до нее далеко!
— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?
— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.
— А, вот оно что…
И оба умолкли.
— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне все-таки одиноко…
— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее.
— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца…
— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.
Маленький принц улыбнулся.
— Ну разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь…
— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.
И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.
— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды…
Маленький принц не ответил.
— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жесткой как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу…
— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты все время говоришь загадками?
— Я решаю все загадки, — сказала змея.
И оба умолкли.
XVIII
Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках.
— Здравствуй, — сказал Маленький принц.
— Здравствуй, — отвечал цветок.
— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван.
— Люди? Ах да… Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.
— Прощай, — сказал Маленький принц.
— Прощай, — сказал цветок.
XIX
Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы.
— Добрый день, — сказал он на всякий случай.
«Добрый день… день… день…..» — откликнулось эхо.
— Кто вы? — спросил Маленький принц.
«Кто вы… кто вы… кто вы…» — откликнулось эхо.
— Будем друзьями, я совсем один, — сказал он.
«Один… один… один…» — откликнулось эхо.
«Какая странная планета! — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».
XX
Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.
— Добрый день, — сказал он.
Перед ним был сад, полный роз.
— Добрый день, — отозвались розы.
И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.
— Кто вы? — спросил он, пораженный.
— Мы — розы, — отвечали розы.
— Вот как… — промолвил Маленький принц.
И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей Вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!
«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…»
А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза.
Только всего у меня и было, что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух, и может быть, навсегда… Какой же я после этого принц…»
Он лег в траву и заплакал.
XXI
Вот тут-то и появился Лис.
— Здравствуй, — сказал он.
— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.
— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней…
— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!
— Я — Лис, — сказал Лис.
— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…
— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.
— Ах, извини, — сказал Маленький принц.
Но, подумав, спросил:
— А как это — приручить?
— Ты не здешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?
— Людей ищу, — сказал Маленький принц. — А как это — приручить?
— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?
— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?
— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.
— Узы?
— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете…
— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Есть одна роза… наверно, она меня приручила…
— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.
— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц. Лис очень удивился:
— На другой планете?
— Да.
— А на той планете есть охотники?
— Нет.
— Как интересно! А куры там есть?
— Нет.
— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.
Но потом он опять заговорил о том же:
— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…
Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:
— Пожалуйста… приручи меня!
— Я бы рад, — отвечал Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.
— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!
— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.
— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе…
Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.
— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливей. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды.
— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.
— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха.
Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.
— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.
— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…
— Да, конечно, — сказал Лис.
— Но ты будешь плакать!
— Да, конечно.
— Значит, тебе от этого плохо.
— Нет, — возразил Лис. — Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.
Он умолк. Потом прибавил:
— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.
Маленький принц пошел взглянуть на розы.
— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в. целом свете.
Розы очень смутились.
— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас.
Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.
И Маленький принц возвратился к Лису.
— Прощай… — сказал он.
— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни.
— Потому что я отдавал ей все свои дни… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
XXII
— Добрый день, — сказал Маленький принц.
— Добрый день, — отозвался стрелочник.
— Что ты делаешь? — спросил Маленький принц.
— Сортирую пассажиров, — отвечал стрелочник. — Отправляю их в поездах по тысяче человек зараз — один поезд направо, другой налево.
И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала.
— Как они спешат! — удивился Маленький принц. — Чего они ищут?
— Даже сам машинист этого не знает, — сказал стрелочник.
И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд.
— Они уже возвращаются? — спросил Маленький принц.
— Нет, это другие, — сказал стрелочник. — Это встречный.
— Им было нехорошо там, где они были прежде?
— Там хорошо, где нас нет, — сказал стрелочник.
И прогремел, сверкая, третий скорый поезд.
— Они хотят догнать тех, первых? — спросил Маленький принц.
— Ничего они не хотят, — сказал стрелочник. — Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам.
— Одни только дети знают, чего ищут, — промолвил Маленький принц. — Они отдают все свои дни тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут…
— Их счастье, — сказал стрелочник.
XXIII
— Добрый день, — сказал Маленький принц.
— Добрый день, — ответил торговец.
Он торговал самоновейшими пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю — и потом целую неделю не хочется пить.
— Для чего ты их продаешь? — спросил Маленький принц.
— От них большая экономия времени, — ответил торговец. — По подсчетам специалистов, можно сэкономить пятьдесят три минуты в неделю.
— А что делать в эти пятьдесят три минуты?
— Да что хочешь.
«Будь у меня пятьдесят три минуты свободных, — подумал Маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику…»
XXIV
Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды.
— Да, — сказал я Маленькому принцу, — все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику.
— Лис, с которым я подружился…
— Милый мой, мне сейчас не до Лиса!
— Почему?
— Да потому, что придется умереть от жажды.
Он не понял, какая тут связь. Он возразил:
— Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с Лисом.
«Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча…»
Я не сказал этого вслух, только подумал. Но Маленький принц посмотрел на меня — и промолвил:
— Мне тоже хочется пить… Пойдем поищем колодец.
Я устало развел руками: что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь.
Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова Маленького принца, и я спросил:
— Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?
Но он не ответил. Он сказал просто:
— Вода бывает нужна и сердцу…
Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать.
Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал:
— Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно…
— Да, конечно, — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною.
— И пустыня красивая… — прибавил Маленький принц.
Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же тишина словно лучится…
— Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники…
Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме — рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своем он скрывал тайну…
— Да, — сказал я. — Будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.
— Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, — отозвался Маленький принц.
Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже — ничего более хрупкого нет на нашей Земле.
При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами…
Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе: трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит… И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить…
Так я шел… и на рассвете дошел до колодца.
XXV
— Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, — сказал Маленький принц. — Поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, то в другую.
Потом прибавил:
— И все напрасно…
Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но деревни тут нигде не было, и я подумал, что это сон.
— Как странно, — сказал я Маленькому принцу, — тут все приготовлено: и ворот, и ведро, и веревка…
Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии.
— Слышишь? — сказал Маленький принц. — Мы разбудили колодец, и он запел!
Я боялся, что он устанет.
— Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу.
Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики.
— Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться…
И я понял, что он искал!
Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу.
Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.
— На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…
— Не находят, — согласился я.
— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды…
— Да, конечно, — согласился я.
И Маленький принц сказал:
— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.
Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?…
— Ты должен сдержать слово, — мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.
— Какое слово?
— Помнишь, ты обещал… намордник для моего барашка… Я ведь в ответе за тот цветок.
Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся.
— Баобабы у тебя похожи на капусту.
А я-то гордился своими баобабами!
— А у лисицы твоей уши… точно рога! И какие длинные!
И он опять засмеялся.
— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать, разве только удавов снаружи и изнутри.
— Ну, ничего, — успокоил он меня. — Дети и так поймут.
И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.
— Ты что-то задумал и не говоришь мне…
Но он не ответил.
— Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю…
И умолк. Потом прибавил:
— Я упал совсем близко отсюда…
И покраснел.
И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил:
— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к месту, где тогда упал?
Маленький принц покраснел еще сильнее.
А я прибавил нерешительно:
— Может быть, это потому, что исполняется год?…
И опять он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?
— Неспокойно мне… — начал я.
Но он сказал:
— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером…
Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе… Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.
XXVI
Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос.
— Разве ты не помнишь? — говорил он. — Это было совсем не здесь.
Наверно, кто-то ему отвечал, потому что он возразил:
— Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте.
Я зашагал быстрей. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то:
— Ну конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.
До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел.
После недолгого молчания Маленький принц спросил:
— А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?
Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.
— Теперь уходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз.
Тогда я опустил глаза да так и подскочил! У подножия стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты.
Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней.
Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего Маленького принца. Он был белее снега.
— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?
Я развязал его неизменный золотой шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:
— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой…
— Откуда ты знаешь?!
Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!
Он не ответил, он только сказал:
— И я тоже сегодня вернусь домой.
Потом прибавил печально:
— Это гораздо дальше… и гораздо труднее…
Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и однако мне казалось, будто он ускользает, его затягивает бездна и я не в силах его удержать…
Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.
— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник…
И он печально улыбнулся.
Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.
— Ты напугался, малыш…
Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:
— Сегодня вечером мне будет куда страшнее…
И опять меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.
— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься… Но он сказал:
— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад…
— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?
Но он не ответил.
— Самое главное — то, чего глазами не увидишь… — сказал он.
— Да, конечно…
— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.
— Да, конечно…
— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая.
— Да, конечно…
— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю…
И он засмеялся.
— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!
— Вот это и есть мой подарок… это будет как с водой…
— Как так?
— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды.
— Как так?
— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!
И он сам засмеялся.
— И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе станет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю…
И он опять засмеялся.
— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов…
Он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:
— Знаешь… сегодня ночью… лучше не приходи.
— Я тебя не оставлю.
— Тебе покажется, что мне больно… покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.
— Я тебя не оставлю.
Но он был чем-то озабочен.
— Видишь ли… это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит… Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.
— Я тебя не оставлю.
Он вдруг успокоился:
— Правда, на двоих у нее не хватит яда…
В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.
— А, это ты… — сказал он только.
И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.
— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебя покажется, будто я умираю, но это неправда…
Я молчал.
— Видишь ли… это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.
Я молчал.
— Но это все равно что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального…
Я молчал.
Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:
— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться…
Я молчал.
— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников…
И тут он тоже замолчал, потому что заплакал.
— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному. И он сел на песок, потому что ему стало страшно. Потом он сказал:
— Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.
Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:
— Ну… вот и все…
Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.
Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновенье он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки.

XXVII
И вот прошло уже шесть лет… Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи были рады вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им:
— Это я просто устал…
И все же понемногу я утешился. То есть… не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку, ведь, когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов…
Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Вдруг барашек съел розу?
Иногда я говорю себе: нет, конечно нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком…
Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются.
А иногда я говорю себе: бываешь же порой рассеянным… тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью втихомолку выбрался на волю…
И тогда бубенцы плачут.
Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу.
Взгляните на небо. И спросите себя, жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел? И вы увидите — все станет по-другому…
И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!

Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.
Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж конечно догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся…
МАРИ НОЭЛЬ
ЗОЛОТЫЕ БАШМАЧКИ
Знаком ли тебе нежный лесной цветок, который называют золотым, или венериным, башмачком? Этот маленький цветок — желтый. Но у меня на родине его лепестки покрыты пурпурными пятнами. Я спрашивала у моего отца, ботаника, откуда эти пятна, однако даже он не знал, почему у наших золотых башмачков такой цвет. Тогда кормилица поведала мне эту историю.
Как-то раз через большую пустошь позади кладбища, там, где растут одни сорняки — чертополох, кислица да лебеда, в поздний час, когда сорока трещала на обломанной вершине ивы, шла по тропинке нищенка. Вдруг у нее начались родовые схватки, и прямо на лугу она родила девочку. Нищенка завернула ее в юбку, положила на траву, легла рядом и, измученная усталостью, умерла.

Сорока трещала. Той порой одна старуха вела через пустошь козу и остановилась нарвать травы. Коза паслась, а ее хозяйка срезала ножом крестовник да полевицу. И тут под ивой она наткнулась на умершую мать и плачущего ребенка.
— Вот беда! — сказала она. — Господь бог и могильщик позаботятся о матери.
А девочку старуха переложила в передник и унесла с собой.
Говорили, что эта старая женщина была вдовой сапожника.
Но сапожник так давно умер, а она так давно состарилась, и столько лет было ее старой черной косынке, и старой кривой палке, и крючковатому длинному носу, и морщинистому беззубому рту, что никто уже не помнил, был ли на свете этот сапожник.
Старуха ютилась в ветхой хижине, сложенной из серого камня на одной из самых затерянных лесных полян. С ней жили кот, пес, курица, овца, коза, лягушка, ворон, прыгавший перед дверью, да летучая мышь, прилетавшая по вечерам, не говоря о таких домочадцах, как пчелы, мухи, муравьи и пауки, у которых не было имен и которых никто никогда не звал к общему столу.
Прямо перед домом бил родник, а рядом стоял шалаш из ветвей — там сапожник держал когда-то березовую и грабовую стружку, кору, гвозди, один-два топора, большой садовый нож и долото, которым выдалбливал деревянные башмаки.
Внутри хижины было до того темно, что с трудом удавалось разглядеть кровать — да и что это была за кровать! — а очаг пришлось бы разыскивать битый час, кабы не сверчок, который, когда подходила пора разжигать огонь, кричал изо всех сил: «Здесь! Здес-с-сь! Здес-с-с-с-сь!»
Если бы отворить окошко, в доме стало бы посветлей, но до окошка было не добраться: его загораживал огромный тяжеленный шкаф — туда старуха давным-давно убрала поношенные одежки, а ключ потеряла.
В тот вечер, когда вдова принесла домой в переднике новорожденную дочку нищенки, она быстро согрела воды из родника, вымыла ребенка, запеленала, напоила козьим молоком, а затем, собрав в круг всю свою живность, показала девочку и сказала:
— Вот что я сегодня нашла. Это девочка. Нет у нее ни отца, ни матери, ни дома, ни родины, — ничего у нее нет. Назовем же ее Эсперанс, что значит Надежда.
И все животные одобрили это имя.
Шло время… То весна, то лето, то суровая зима. Животные не старели, старуха не молодела, зато маленькая Эсперанс росла, как цветок, и превратилась в юную девушку. Вдова сапожника научила ее прясть шерсть, стирать белье, доить козу, разводить огонь, варить овощи, называть растения, разговаривать со зверями и петь заклички, которые в любое время года могли помочь жаре или ненастью высказать все, что у них накопилось на душе.
Эсперанс хлопотала и напевала. Никто не знал, красива ли она, поскольку старуха была подслеповата, а зеркал в доме не водилось. Но вот однажды, когда девушка стирала в роднике белье, солнце высветило ее отражение.
Эсперанс увидела себя в воде между двух камышинок и надолго застыла над родником. Вернувшись в хижину, она молча опустилась на колени перед огнем, глядя в отворенную дверь на плывущие облака и слушая, как шуршит ветер, пробегая по вересковой заросли.
— Что ты делаешь? — окликнула ее старуха.
— Ничего, матушка. Ветер что-то потерял в вереске, а я теряюсь в догадках, что он там потерял?
Вдруг на верхушке дерева запел невидимый соловей. Эсперанс пригорюнилась. И вдова сказала:
— Кажется, пришло время отворить окно.
Тяжелый платяной шкаф оказался куда легче, чем можно было подумать. Наверное, он был пустым. Старуха сдвинула его за кровать, открыла раму и распахнула ставни, которые хлопнули по стене, один с правой стороны, а другой с левой…
За окном проходила дорога.
Не та настоящая, большая, что знает названия разных городов и стремится вперед между бегущих назад деревьев. Это была заброшенная лесная дорога, которая и сама понятия не имеет, куда ведет, поросшая мхами, папоротником, рапунцелем и розовой наперстянкой; дорога, на которой полным-полно красных улиток, грибов и диких ягод. Правда, она была довольно широка, с двумя твердыми колеями от телег: время от времени пожилые крестьяне ездили по ней за дровами.
Пока Эсперанс разглядывала дорогу, старуха возилась в доме, быть может, открывала шкаф. Она появилась, держа в руках две пары деревянных башмаков — больших черных башмаков для себя и маленьких золотых башмачков для Эсперанс.
— Прощай! — сказала она. — Мне пора в путь. Возьми эти башмаки. Сиди у окна да смотри хорошенько, а когда увидишь свое счастье, надевай их, иди, и ты его догонишь. Но будь внимательна, не ошибись и не побеги невзначай за своей бедой, а то придется тебе гоняться за ней до последнего дня жизни.
— Какие славные башмачки! — вскричала Эсперанс. — Они сверкают, как солнце. До чего они хороши! Кто их сделал?
Никто не отвечал. Старуха исчезла.
Тогда Эсперанс осмотрела башмачки и сверху, и снизу, и со всех сторон. Они сияли, как два желтых цветка, да к тому же были расписаны листьями и переплетенными стеблями, а на самом носке каждого башмачка красовалась бабочка, раскрывшая крылышки, одно побольше, а другое поменьше, — видать, художник прикидывал их на глазок.
Вволю налюбовавшись на башмачки, девушка их примерила. Они показались ей тесноватыми, но она постучала носками по стене, и ноги потихоньку вошли вовнутрь и расположились там с таким удобством, что Эсперанс решила в них остаться, чтобы продлить удовольствие. К тому же лучше обуться загодя, а то счастье застанет врасплох, и опомниться не успеешь. Затем она села у окна и принялась сторожить убегающую вдаль дорогу.
Сначала проходили обычные люди — из тех, что возят зерно или спешат на мельницу за мукой; женщина с корзинкой яиц, старуха с мешком травы, потом солдат.
Солдат шел самым коротким путем на побывку в родную деревню. Но это был не простой солдат. На нем ладно сидел красно-голубой мундир, на рукавах красовались золоченые галуны, на груди — один-два креста… Бравый парень! Погожее майское воскресенье сияло вокруг, и солдат шел, гордо подняв голову и смело глядя вперед. Сверху лились яркие солнечные лучи, повсюду роились деловитые пчелы, и шаги его этим ясным утром звучали так четко и уверенно, словно с рассвета он уже успел завоевать и покорить солнечный свет, лазурь небес, цветы и всю славу наступающего дня. Ах! Он вышагивал, как настоящий принц! «Прекрасная погода… А я-то, я-то каков!.. Вот удача быть таким, как я!» И, шагая без остановки, он сбивал шомполом то сережку на орешнике, то головку одуванчика и перерубал надвое всех попадавшихся ему улиток. Ну чем не удалец? Да, с таким сильным, таким жизнерадостным человеком всякой девушке будет очень весело и надежно. Башмачки Эсперанс задрожали. Но как раз в эту минуту ее домашняя лягушка, которой тоже хотелось подышать утренним майским воздухом, выпрыгнула из мха на порог дома… Крепкое словцо, удар сапогом — и бедная лягушка неподвижно распростерлась у двери. Эсперанс, содрогнувшись, втянула голову в плечи и спряталась как могла за своим веретеном, лишь бы только путник ее не заметил.
Она пряла… Жизнь текла…
На смену весне пришло лето. Началась косовица. Убирали ячмень. Иногда проходил человек с косой, или стадо коров брело по мягкой земле, оставляя на ней глубокие следы… Но вот как-то в полдень зазвенел бубенец, на дороге появилась лошадь, за ней небольшая двуколка, а в двуколке человечек, не молодой и не старый, кругленький, веселый, — он свистел, как дрозд, и радостна нахлестывал вожжами белую лошадку.
У человечка были большие голубые глаза, а сразу под ними — розовый нос картошкой, а еще ниже — пухлые толстенькие руки и толстенький жизнерадостный живот, который при каждом шаге лошади булькал и подпрыгивал на сиденье: плюх! трюх! плюх! трюх!.. плюх-плюх! трюх-трюх! плюх-плюх! трюх-трюх?…
Должно быть, этого человека с детства досыта кормили вкусным наваристым супом.
Позади него в повозке лежали два мешка муки, плетенка масла, свиной окорок, завернутый в холстину, новый большой зонтик голубого цвета в чехле и дорожный сундук, без сомнения набитый одеждой.
Проезжая мимо хижины, путник немного натянул вожжи и крикнул:
— Эй! Здравствуй, красавица!
И Эсперанс вдруг подумала: «Я у него буду есть вкусный наваристый суп». Но едва эта мысль пришла ей в голову, как она почувствовала, что совершенно не голодна. Нет, нет, никогда у нее не хватит духа всю жизнь, трижды в день, а то и чаще, лакомиться этим супом!
— Здравствуйте, сударь! — ответила она.
И принялась за пряжу.
Она все пряла и пряла… Вот и конец сентября. По дороге ни шатко, ни валко тянулись утомленные повозки, осевшие под тяжестью картофеля. На маленькой клумбе еще цвела одна поблекшая роза, однако новые бутоны не распускались. Да и роза эта выглядела такой усталой и обессиленной, что казалось, дохни на нее ненароком ветер, упади на нее солнечный луч, — и она облетит. У нее уже подгнила сердцевина, два лепестка опали, и вся она едва-едва держалась, чтобы не осыпаться и не обломиться до ночи.
И тут послышался стук копыт…
Приближался всадник, но его еще не было видно. Он пел. И песня звучала так нежно, что зябкому осеннему дню показалось, будто ему на плечи набросили теплый плащ радости, под который ни мрак, ни холод никогда уже не смогут пробраться.
Всадник возвращался на родину после долгого путешествия. Был ли он молод? Пригож? Богат? Не знаю. Заметив пряху, он в удивлении остановился.
— Какой мрачный дом, сестричка! Вы здесь живете одна?
— Нет, сударь, — ответила Эсперанс, — у меня есть пес, кот, курица, овца, коза, ворон, была еще лягушка, но беднягу убили.
Сказав это, она обернулась, чтобы взглядом созвать своих животных, но тех не было. Хижина оказалась пустой, покинутой всеми. Сердце Эсперанс сжалось, и она задрожала.
Я не знаю, хороша ли она была собой, — возможно, она была самой красивой девушкой в мире. Не знаю, но, признаться, не думаю. Будь так, путешественник заметил бы это и непременно остался бы с ней. Между тем он сказал:
— Прощайте, сестричка! Я еще должен сегодня немало проехать, меня ждут на большой праздник. Прощайте! Что-то холодно стало. Боюсь, нынешняя зима будет суровой. Если здесь вам покажется неуютно, помните, что у меня в доме, по ту сторону леса, всегда найдется для вас местечко возле огня.
Больше ему нечего было сказать Эсперанс, и он лишь улыбнулся. Конь его снова тронулся в путь.
Всадник оглянулся, улыбнулся еще раз… Он был уже далеко…
— Ах! — сказала Эсперанс. — До чего же мне худо!
И вдруг она бросила веретено на пол и, не прихватив с собой ни одной одежки, не затворив ни окна, ни дверей, пустилась в путь.
Как по-твоему, легко ли девушке догнать коня, который бежит рысью? Но у нее были такие удивительные башмачки, что ей и идти-то не пришлось. Едва она ступила на землю, как дорога заскользила, полетела, и Эсперанс закружилась над ней, подобно листку, уносимому ветром. Цветы смеялись, глядя ей вслед:
— Какая быстрая! Какая легкая! Сразу видно, что у нее нет корней!
А птицы провожали ее, перелетая с ветки на ветку: им хотелось увидеть, что будет там, в конце пути.
А она в погоне за своим счастьем вся дрожала от нетерпения:
— Уж больно он красив, чтобы стать моим женихом. Уж больно богат и удачлив, чтобы стать мне другом. Но я буду его служанкой. Я не скажу ему ни слова, не взгляну на него ни разу, я стану работать на него, буду рядом с ним, буду его охранять, как пес, который всегда подле своего хозяина, я не позволю беде приблизиться к нему. Да!
Я не подпущу ее! И быть может, он улыбнется мне ненароком еще раз. Эта его улыбка — все мое счастье, это к ней я так спешу!
Миновал полдень, Эсперанс все бежала и бежала, а когда до цели уже было рукой подать, начали сгущаться сумерки, и дорога закапризничала. Она загибалась направо, пряталась и внезапно возникала с левой стороны. Всадник то появлялся, то пропадал из глаз. А потом совсем исчез за деревьями. Тогда башмачки налились такой тяжестью, что двигаться стало совсем невмочь. Ноги неуклюже цеплялись одна за другую, уныло, как самые обыкновенные ноги, которые с большим трудом тащатся вперед, а так идти — только время терять.
Сорока насмешничала:
— Куда это ты так? Куда это ты так?…
Потом хихикала:
— Ах-ах-ах! Славный малый! Славный малый!..
И быстро-быстро нашептывала сплетни.
Но сойка ее прервала:
— Враки!
Эсперанс выбилась из сил. Доберется ли она когда-нибудь?
И вот, вконец заплутав, когда, казалось, уже совсем не оставалось ни дневного света, ни отваги, девушка вдруг услыхала, как на одном из самых темных деревьев громко раздалась восхитительная песня, точно из бутона цветок распустился. Это пел соловей. Он исторгал из сердца и возносил в небо звук за звуком. И пока он пел, Эсперанс слышала, как зовет ее улыбка незнакомца и ведет за собой на край света.
Поднялась луна. Дорога опять устремилась вперед и вскоре, как и подобает доброй дороге, остановилась перед постоялым двором. Всадник спешился, отвел коня на конюшню, а сам вошел в дом, надеясь перекусить и отдохнуть.
Когда Эсперанс добралась до постоялого двора, дверь была заперта. Следовало бы постучать, чтоб ей открыли, но из дома доносился громкий шум: мужские и женские голоса, песни, смех, звон стаканов и тарелок. «Большой праздник», — вспомнила Эсперанс слова путника. И с грустью подумала, как она выглядит со стороны: старое серое платье помято, волосы растрепаны, ноги исцарапаны колючим кустарником. Разве посмеет она войти в зал, где так веселятся прекрасные дамы в красивых платьях? Разве можно позорить того, кто ее не приглашал туда, перед его друзьями?…
И она осталась под окном. Пробило полночь, и девушка, задрожав от холода, завернулась в свои светлые волосы, ведь накидку она забыла дома. И не было у нее ни крошки хлеба, и его она не прихватила в дорогу.
Какая стынь на земле, какая стынь в небе, когда минует осенняя полночь! О, эта полночь, которая так легко расправляется с листьями, — и утром они устилают все вокруг, покрытые слезами!
К рассвету Эсперанс так закоченела, что едва могла сложить руки для утренней молитвы. Ее волосы намокли от росы и слез, бледными струйками стекавших на землю. И лицо ее было мокрым-мокро — ведь она проплакала всю ночь, сама того не заметив! А башмачки пребольно сжимали ее сбитые в кровь ноги.
Но чуть свет — клик-клак! — дверь постоялого двора открылась. Эсперанс спряталась за куст орешника и увидела сквозь листву, как путнику привели его коня, свежего и бодрого. Конь напился прохладной воды и позавтракал овсом. Молодой человек вскочил в седло, ноги в стремена — и в путь!
— Вперед, мои башмачки! — вскричала Эсперанс.
И пока она бежала, розовое солнце вышло из-за горы и вся земля засверкала вновь. Вернулось лето, начался волшебный летний день: год потерял его в пору своего расцвета, а она нашла — в самом конце октября, среди кустов, покрытых гроздьями ягод.
Стало припекать. Появились пчелы. Ветер благоухал, как букет цветов, и дышал всеми своими ароматами в лицо юной странницы. Порой, когда она пробегала мимо, то одна, то другая борозда выпускала в небо ликующих куропаток. Какая теплая трава покрывала дорогу! Как было легко по ней бежать! Быть может, узкие башмачки и натерли ноги, но те этого не замечали?
Все утро конь скакал, Эсперанс бежала, как вдруг…
— Приветствую тебя! — вскричал путник. — Вот и ты, родной мой дом! Приветствую тебя!
И он радостно пришпорил коня, заставив его перепрыгнуть через старую изгородь. Но Эсперанс остановилась. Она зашла за куст и кое-как привела себя в порядок, заплела волосы, перевязала светлые косы травинками и ополоснула лицо в маленьком голубом роднике, протекавшем среди камней. Потом она напилась из ладони, растерла в пальцах мяту, чтоб надушиться, и обломила с живой изгороди веточку боярышника, покрытую красными ягодами, дабы придать себе немного достоинства и не оробеть, когда постучится в двери своего счастья.
Потом она перекрестилась и, закрыв глаза, как маленькая пугливая овечка, быстро вбежала во двор.
Путник был там, он стоял под высокой липой и держал за руку красивую темноволосую девушку.
— Добро пожаловать! — сказал он, увидев Эсперанс. — Ты-то нам и нужна, у нас сегодня столько дел! Нынче вечером наша свадьба, а это моя невеста!
Всё в доме было вверх дном, сквозь большие распахнутые двери сновало взад и вперед множество озабоченных людей. Позади дома косили люцерну, и прямо на траве слуги накрывали огромный стол. Здесь же суетились кухарка, булочница, пирожница, подавальщица, куча поварят и одна старая женщина с палкой и ключами, которая всеми распоряжалась. Эта старуха была очень похожа на вдову сапожника.
— Иди, помоги им, сестренка, — сказал жених. — А вечером ты откушаешь свадебного пирога.
Он взял свою суженую, под руку и повел ее к дому. Невеста взошла на самую верхнюю ступеньку крыльца, желая сорвать цветок настурции, что тянулся вверх по стене. Тотчас проказливый ветерок бросился к ней, чтобы позабавиться с завитком ее волос, опустившимся из-за уха на шею, но жених опередил его и быстро прикоснулся губами к темному локону. Девушка тряхнула головой. Он улыбнулся.
Он улыбался… Это была удивительная улыбка, в ней таилось все счастье мира. Но оно принадлежало его невесте, и уже никому другому он не мог его подарить.
Эсперанс хотела было присоединиться к женщинам на лужайке, но ей пришлось присесть на каменную скамью. Башмачки стали такими тяжелыми, причиняли такую боль! Она не могла сделать ни шагу. Ее ноги кровоточили.
— Пойдем, доченька, — сказала старуха.
Эсперанс двинулась за ней, однако ногам было нестерпимо больно. Девушка остановилась.
— Я пришла издалека, — ответила она, — башмаки очень натерли мне ноги.
— Ах, ах! — Старуха засмеялась, будто коза заблеяла. — Ах, ах! Повезло же нам! Мы-то ждали служанку, а тут пришла эта хворая. Ну что ж, отдохни. — Она очертила палкой место на траве. — Вечером тебе придется потрудиться, ложись здесь и поспи.
Эсперанс послушно легла на траву и тут же заснула.
А когда наступил вечер…
Её искали все приглашенные на свадьбу. Но никто так и не смог ее найти. На том месте, где она заснула, цвели два нежных желтых цветка — два маленьких золотых башмачка, запятнанных кровью.
БОРИС ВИАН
ВОДОПРОВОДЧИК
I
Это звонила не Жасмен — она отправилась куда-то за покупками со своим любовником.
И не дядюшка — он умер два года назад. Собака дергает шнурок дважды, а у меня свой ключ. Значит, кто-то еще. Звонок был очень выразительный: весомый, чтоб не сказать веский, нет, скорее полновесный… во всяком случае неторопливый и внушительный.
Слесарь, разумеется. Вошел, через плечо — какая-то нелепая сумка из кожи вымершего травоядного с позвякивающими в ней железками.
— Ванная там, — показал он.
Так, без тени колебания, с ходу, коротко и ясно, он сообщил мне, где в моей квартире находится ванная комната, которую без него я бы еще долго и не подумал искать там, где ей надлежало быть.
Поскольку Жасмен не было, дядя умер, собака дергала звонок два раза (как правило, два), а мои одиннадцать племянников и племянниц играли на кухне с газовой колонкой, — дома в этот час стояща тишина.
Указующий перст долго водил слесаря по квартире и наконец вывел в гостиную. Мне пришлось наставить его на путь истинный и провести в ванную. Я было вошел за ним, однако он остановил меня; не грубо, но с твердостью, присущей лишь мастерам своего дела.
— Без вас справлюсь. А то, чего доброго, хороший новый костюм запачкаете, — сказал он, напирая на слово «новый».
Вдобавок он ехидно улыбнулся, и я молча стал отпарывать висевший ярлык.
Еще одно упущение Жасмен. Но в конце-то концов, ведь нельзя же требовать от женщины, которая с вами незнакома, имени вашего в жизни не слышала, даже и не подозревает о вашем существовании, сама, возможно, существует лишь отчасти, а то и вовсе не существует, — нельзя же требовать от нее аккуратности английской гувернантки Алисы Маршалл, урожденной де Бриджпорт, из графства Уилшир[147]; а я и Алису бранил за постоянную рассеянность. Она возражала мне, что нельзя одновременно воздерживаться от воспитания племянников и срезать ярлыки, и мне пришлось склониться перед этим доводом, чтобы не угодить лбом в притолоку двери из прихожей в столовую, — притолоку, заведомо слишком низкую, о чем я не раз говорил глухому архитектору, нанятому нашим домовладельцем.
Собственноручно выправив непорядок в своем туалете, я на цыпочках тише тихого двинулся к спальне матери Жасмен, которой отдал одну из лучших в квартире комнат, что выходят окнами на улицу, а приходят, когда на них никто не смотрит, с другой стороны, лишь бы не выйти из себя вовсе.
Пора, пожалуй, обрисовать вам Жасмен, хотя бы вчерне (ведь окна здесь всегда зашторены, потому что раз Жасмен нет в природе, то и матери у нее быть не может, как вы сами непременно убедитесь к концу рассказа), — так вот, вчерне, то есть силуэтом, но, правда, в темноте вы все равно ничего не разглядите.
Я прошел через спальню матери Жасмен и осторожно открыл дверь в бильярдную, смежную с ванной. В ожидании возможного прихода слесаря я заранее пробил здесь квадратное отверстие и мог в свое удовольствие следить теперь с этой точки зрения за его священнодействиями. Подняв голову от труб, он увидел меня и поманил к себе.
Пришлось спешно отправиться тем же путем в обратном направлении. По дороге я обратил внимание, что племянники все еще не расправились с газовой колонкой, и испытал (правда, мимолетное, ведь водопроводчик позвал меня, и лучше было не мешкать, а то моя степенность часто кажется чванством) чувство безотчетного, но глубокого презрения к этим трудноломким конструкциям, газовым колонкам. Из буфетной я попал в небольшой холл с четырьмя дверями, одна из которых, не будь она заколочена, вела бы в бильярдную, вторая, тоже забитая, — в спальню матери Жасмен, и четвертая — в ванную. Я закрыл за собой третью и наконец вошел в четвертую.
Слесарь сидел на краю ванны и меланхолично созерцал толстые доски, которые в недавнем прошлом закрывали трубы, — он только что выломал их зубилом.
— Никогда не видел подобной конструкции, — заверил он меня.
— Она старая, — ответил я.
— Оно и видно, — подтвердил он.
— Вот я и говорю, — сказал я.
В том смысле, что потому, мол, и говорю, что точно не знаю, когда она сделана, раз никто этого не знает.
— Некоторые любят поговорить, — заметил он, — а что толку? Но это делал неспециалист.
— Ваша контора. Я помню совершенно точно.
— Тогда я у них не работал. А если бы работал, — сказал он, — то ушел бы.
— Стало быть, так оно и есть, — не возражал я, — раз вы ушли бы, можно считать, что вы там были, поскольку вас бы там не было.
Он принялся ругаться, и от ругани вены на его шее стали похожи на веревки. Он наклонился над ванной, нацелил голос на дно и, добившись мощного резонанса, битый час продолжал в том же духе.
— Ладно, — с трудом переводя дыхание, заключил он, — Что ж, придется все-таки взяться за дело.
Я уже собирался устроиться поудобнее, чтобы наблюдать за его работой, когда слесарь извлек из кожаного футляра огромную сварочную горелку. Потом он достал из кармана склянку и вылил ее содержимое в углубление, заботливо для этого предусмотренное изобретательным изготовителем. Одна спичка — и пламя взметнулось к потолку.
Осиянный голубым светом, водопроводчик склонился, брезгливо изучая трубы горячей и холодной воды, газовую, трубы центрального отопления и еще какие-то, назначение которых мне было неизвестно.
— Самое лучшее, — сказал он, — это все к черту снести и начать с нуля. Но вам придется раскошелиться.
— Ну, раз надо, — сказал я.
Не желая присутствовать при погроме, я на цыпочках удалился. В тот самый момент, когда я закрывал дверь, он повернул вентиль сварочной горелки, и рев пламени заглушил визг собачки дверного затвора, вернувшейся на свое место.
Войдя в комнату Жасмен (эта дверь вначале тоже была заколочена, но, по счастью, не покалечена), я прошел через гостиную, свернул к столовой, откуда уже мог попасть к себе.
Мне не раз случалось заблудиться в квартире, и Жасмен хочет во что бы то ни стало сменить ее, но пусть уж сама ищет другую, раз так упорно возвращается на эти страницы без моего приглашения.
Впрочем, я и сам упорно возвращаюсь к Жасмен просто потому, что люблю ее. Она в этой истории никакой роли не играет и, может быть, вообще никогда не сыграет, если, конечно, я не передумаю, но предвидеть это невозможно, а поскольку решение мое незамедлительно станет известно, чего ради застревать на такой малоинтересной теме, пожалуй, еще менее интересной, чем любая другая, — скажем, разведение крупной рогатой тирольской мушки или доение гладкошерстной травяной вши.
Оказавшись наконец в своей комнате, я уселся возле полированного шкафчика, который давным — без преувеличения — давно превратил в проигрыватель. Манипулируя выключателем, размыкающим блок-схему, замыкание которой приводит в действие электроприбор, я запустил диск; на нем покоилась пластинка, позволявшая с помощью острой иголки выдирать из себя мелодию.
Сумеречные тона негритянского блюза «Deep South Suite»[148] вскоре погрузили меня в любимое летаргическое состояние. Все убыстряющееся движение маятников вовлекло Солнечную систему в усиленное круговращение и сократило длительность существования мира почти на целый день. Так оказалось, что уже половина девятого и я просыпаюсь, встревоженный тем, что не прикасаюсь своими ногами к соблазнительным ножкам Жасмен; увы, она и не ведала о моем существовании. А я жду ее всегда, волосы ее струятся, как вода на солнце, и мне бы хотелось сладо-страшно целовать ее и задушить в своих объятиях, только не в те дни, когда она становится похожей на Клода Фаррера[149].
«Половина девятого, — сказал я себе. — Слесарь, должно быть, умирает с голоду».
Мигом одевшись, я сориентировался в пространстве и пошел в ванную. Ее окрестности показались мне заметно изменившимися, будто претерпели не одно стихийное бедствие. Я тут же понял, что все дело в том, что на привычном месте нет труб, и смирился.
Вытянувшийся вдоль ванны слесарь еще дышал. Я влил ему бульон через ноздри — в зубах у него был зажат кусочек олова.
Едва ожив, он взялся за дело.
— Итак, — сообщил он, — основная работа позади, все разрушено, начинаю с нуля. Как будем делать?
— Делайте как лучше, — сказал я. — Я полностью доверяю вам как специалисту и ни за что на свете не хотел бы малейшим пожеланием сковать вашу инициативу… которая, следовало бы мне добавить, есть исключительное достояние тех, кто входит в сообщество водопроводчиков.
— Полегче, — посоветовал он. — В общем, я понимаю, но школу я окончил давно, и если вы мне будете голову морочить, я с вами разговаривать не смогу. Прямо удивительно, как это образованным надо всех на свете с дерьмом смешать.
— Уверяю вас, я преисполнен почтения к вам и самого высокого мнения обо всем, что вы делаете.
— Ладно, я парень не злой. Вот что: я восстановлю то, что они тут соорудили. Все-таки коллега работал, а слесарь ничего зря делать не станет. Часто говорят: «Вон та труба — кривая». В чем дело, не понимают, и, конечно, у них виноват слесарь. Но если разобраться, то чаще всего на все своя причина. Они думают, что труба кривая, а кривая-то стена. Что до нашего случая, я сделаю в точности, как было. Уверен, все будет в порядке.
Я еле сдержался — все и раньше было в порядке, до его прихода. Но, может быть, я в самом деле был не в курсе. Притча о прямой трубе не шла у меня из головы, и я смолчал.
Мне удалось добраться до своей кровати. Наверху раздавались беспокойные шаги. Люди страшно надоедливы: нельзя, что ли, нервничать, лежа в постели, а не вышагивать нервно из угла в угол? Пришлось признать, что нельзя.
Жасмен неотступно преследовала меня как наваждение, и я проклинал ее мать за то, что она оторвала от меня Жасмен со злосовестностью, которой нет никакого оправдания. Жасмен — девятнадцать, и я знаю, что у нее уже были мужчины, — тем более нет оснований отталкивать меня. Это все материнская ревность. Я пытался найти другую причину, подумать о какой-нибудь бессмысленной пакости, но мне было так мучительно трудно представить себе ее конкретно как нечто компактное, упакованное и перевязанное красной и белой тесемками, что теперь и я на целый абзац потерял сознание. В ванной комнате голубоватое пламя сварочной горелки окаймляло границы моего сна неровно-окисленной бахромой.
II
Слесарь пробыл у меня безвылазно сорок девять часов. Работа еще не была закончена, когда я по дороге на кухню услышал стук во входную дверь.
— Откройте, — сказали из-за двери. — Скорее откройте.
Я отпер и увидел соседку сверху, в глубоком трауре. По ее лицу было видно, что она недавно перенесла большое горе, и с нее буквально текло на ковер. Казалось, она только что из Сены.
— Вы упали в воду? — полюбопытствовал я.
— Простите за беспокойство, — сказала она, — но дело в том, что у меня хлещет вода… Я вызывала водопроводчика, он должен был прийти три дня назад…
— У меня тут один работает. Может, ваш?
— Семеро моих детей утонуло. Только двое старших еще дышат, вода пока доходит им до подбородка. Но если слесарь должен еще поработать у вас, я не хочу мешать.
— Наверно, он ошибся этажом, — ответил я. — Спрошу-ка его для очистки совести. Вообще-то, у меня в ванной все было в порядке.
III
Когда я вошел в ванную, водопроводчик наносил последний штрих, украшая с помощью сварочной горелки голую стену цветком ириса.
— Вот так уже сойдет, пожалуй, — сказал он. — Я все сделал как было, только здесь кое-что еще подварил — это у меня лучше всего получается, а я люблю, когда работа хорошо сделана.
— Тут одна дама вас спрашивает. Вы не этажом выше должны были подняться?
— Это ведь пятый?
— Четвертый.
— Значит, я ошибся, — заключил он. — Я поднимусь к этой даме. Счет вам пришлют из конторы… Да вы не огорчайтесь. В ванной для водопроводчика всегда работа найдется.
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Мутно — желтый фонарь вспыхнул в черной застекленной пустоте — ровно шесть часов. Уен[150] посмотрел в окно и вздохнул. Работа над словоловкой почти не двигалась.
Он терпеть не мог незашторенные окна, но еще больше ненавидел шторы и проклинал тупую косность архитекторов, вот уже которое тысячелетие строящих жилые дома с дырявыми стенами. С тоской он снова углубился в работу: надо было поскорее подогнать крючочки дезинтегратора, разбивающего предложения на слова, прежде чем они будут зафиксированы. Из любви к искусству он усложнил задачу, решив не считать союзы полноценными словами, так как они слишком невыразительны, чтобы претендовать на благородную значимость, поэтому, перед тем как подвергнуть текст фильтрованию, ему приходилось удалять их вручную и ссыпать в коробочку, где кишмя кишели точки, запятые и другие знаки препинания. Операция немудреная, лишенная всякой технической новизны, но требующая известной сноровки. Уен стер себе на этом все пальцы.
Однако не слишком ли он заработался? Уен отложил крохотный золотой пинцет; чуть шевельнув бровью, высвободил зажатую в глазнице лупу и встал. Он вдруг ощутил потребность размяться. Энергия била в нем через край. Было бы неплохо прогуляться.
Едва Уен ступил на тротуар пустынной улочки, как тот предательски ускользнул у него из-под ног, и, хотя Уен уже привык к этой коварной увертливости, она все еще раздражала его. Поэтому он пошел по грязной мостовой с самого краю, где в свете фонарей поблескивали бензинные разводы, следы высохшего ручья сточных вод.
От ходьбы он и правда почувствовал себя лучше: поток свежего воздуха поднимался вдоль носовых перегородок и промывал мозги, стимулируя тем самым отлив крови от извилистого, увесистого и двуполушарного этого органа. Этот естественный процесс каждый раз вновь вызывал восхищение Уена. Благодаря такому неиссякаемому простодушию его жизнь была богаче, чем у других.
Дойдя до конца короткого тупика, он очутился на перекрестке и окончательно зашел в тупик: куда пойти? Ничто не влекло его ни направо, ни налево, поэтому он пошел прямо. Эта дорога вела к мосту, откуда можно посмотреть, какова сегодня вода; хотя, по-видимому, она похожа на вчерашнюю как две капли воды, но ведь видимость — лишь одно из множества ее качеств.
Улочка была так же безлюдна, как и тупик, желтые пятна света на мокром асфальте делали ее похожей на саламандру. Поднимаясь все выше, она вела к горбатому мосту, перегородившему реку, словно жадно разинутая пасть, без устали глотающая воду. Там Уен и собирался примоститься, удобно облокотясь о перила, если, конечно, обе стороны моста будут свободны; если же другие созерцатели уже стоят и глядят в воду, то какой смысл присоединять еще и свой взгляд к этой оптической оргии, в которой взгляды путаются друг с другом. Лучше уж пройти до следующего моста, где никогда никого не бывает, так как оттуда легко свалиться и сломать себе всю жизнь.
Мимо Уена двумя сгустками тьмы бесшумно проскользнула парочка молодых священников в черном; время от времени они укрывались где-нибудь в подворотне и подобострастно целовались. Уен растрогался. Как хорошо, что он вышел прогуляться: на улице иногда увидишь такое, что сразу взбодришься. Он зашагал быстрее и тут же в уме одолел последние трудности в конструкции словоловки, — такие, в сущности, пустячные трудности; небольшое усилие — и их как не бывало, как ветром сдуло, как рукой сняло, как языком слизнуло, — словом, нет как нет.
Прошел генерал, ведя на кожаном поводке взмыленного арестанта, которому, чтобы он не вздумал напасть на генерала, спутали ноги и скрутили руки за головой. Когда арестант упирался, генерал дергал за поводок, и тот падал лицом в грязь. Генерал шел быстро, его рабочий день кончился, и теперь он спешил домой, чтобы поскорее съесть тарелку бульона с макаронными буквами.
Сегодня вечером он, как всегда, сложит свое имя на краю тарелки втрое быстрее, чем арестант, и, пока тот будет пожирать его взглядом, преспокойно сожрет обе порции. Арестанту не повезло: его имя было Йозеф Ульрих де Заксакраммериготенсбург, а генерала звали Поль, но этой подробности Уен не мог знать. Он только отметил, что у генерала изящные лакированные сапоги, и подумал, что на месте арестанта он чувствовал бы себя скверно. Так же, впрочем, как на месте генерала, но арестант своего места не выбирал, чего не скажешь о генерале. И вообще, претендентов на должность арестанта надо еще поискать, а желающих стать ассенизаторами, шпиками, судьями или генералами хоть отбавляй — обстоятельство, свидетельствующее о том, что самая грязная работа, видимо, таит в себе нечто притягательное. Уен с головой ушел в размышления об ущербных профессиях. Нет, в десять раз лучше собирать словоловки, чем быть генералом. Десять, еще, пожалуй, недостаточно большой коэффициент. Ну, да неважно, главное — принцип.
На устоях моста торчали телескопические маяки, они так красиво светились, да к тому же указывали путь судам. Уен отдавал им должное, но сейчас не глядя прошел мимо. Он направлялся прямо к намеченному месту, которое уже было видно. Но вдруг его внимание привлекло нечто удивительное. Над перилами моста вырисовывался до странности низенький силуэт. Уен побежал туда. По ту сторону перил, на покатом карнизе с желобком, призванным облегчить сток осадков, стояла девушка. По-видимому, она собиралась прыгнуть в воду, но никак не могла решиться. Уен облокотился на перила прямо за ее спиной.
— Я готов, — сказал он. — Давайте.
Она обернулась и нерешительно посмотрела на него. Хорошенькая девушка с бежевыми волосами.
— Вот не знаю, с какой стороны лучше броситься: выше или ниже по течению. С одной стороны меня может подхватить течением и разбить об опору. С другой стороны мне помогут водовороты. Но, оглушенная прыжком, я могу потерять голову и уцепиться за опору. И в обоих случаях меня заметят, и я, скорее всего, привлеку внимание какого-нибудь спасителя.
— Это следует обдумать, — сказал Уен, — и серьезность, с которой вы подходите к вопросу, весьма похвальна. Я, разумеется, к вашим услугам и готов помочь вам принять решение.
— Вы очень любезны, — сказала девушка, и ее ярко накрашенные губы тронула улыбка. — А то я уж извелась и запуталась вконец.
— Мы могли бы все детально обсудить где-нибудь в кафе, — сказал Уен. — Без бутылочки я как-то плохо соображаю. Не могу ли я вас угостить? К тому же впоследствии это будет способствовать скорейшему кровоизлиянию.
— С удовольствием, — ответила девушка.
Уен помог ей перелезть обратно на мост и попутно обнаружил соблазнительную округлость наиболее выдающихся и, следовательно, наиболее уязвимых частей ее тела. Он высказал ей свое восхищение.
— Мне бы, конечно, следовало покраснеть, — сказала она, — но ведь вы совершенно правы. Я действительно отлично сложена. Взять хотя бы ноги — вот взгляните.
Она задрала фланелевую юбку, чтобы Уен мог сам составить мнение о форме и ослепительной белизне ее ног.
— В самом деле, — проговорил он, и в глазах у него слегка помутилось. — Ну, что ж, пойдемте выпьем, а когда во всем разберемся, вернемся сюда, и вы броситесь с правильной стороны.
Они ушли рука об руку, нога в ногу, довольные и веселые. Она сообщила, что ее зовут Флавия[151], и этот знак доверия еще усилил его симпатию к ней.
Вскоре, когда они уютно расположились в скромном, жарко натопленном кабачке, куда обычно заглядывали матросы со своими шлюпками, она принялась рассказывать:
— Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли меня дурой, но нерешительность, которую я испытывала, выбирая, с какой стороны прыгнуть и утопиться, мучила меня всегда, и мне надо было хоть раз в жизни преодолеть ее. Иначе я хоть бы и умерла, а все равно осталась бы тупицей и тряпкой.
— Беда в том, — сочувственно сказал Уен, — что количество вариантов решения отнюдь не всегда бывает нечетным. В вашем случае оба варианта — как выше, так и ниже по течению — неудовлетворительны. Другого же ничего не придумаешь. Где бы ни находился мост, он неизбежно разделяет реку на эти две части.
— Если только не у самого истока, — заметила Флавия.
— Совершенно верно, — сказал Уен, восхищенный такой остротой ума. — Но у истоков реки, как правило, недостаточно глубоки.
— В том-то и дело, — сказала Флавия.
— Впрочем, можно прибегнуть к подвесному мосту, — сказал Уен.
— Боюсь, это было бы против правил.
— Если же вернуться к истокам, то, к примеру, Тувр с самого начала настолько бурный, что вполне подойдет для любого нормального самоубийцы.
— Это слишком далеко, — сказала она.
— В бассейне Шаранты[152], — уточнил Уен.
— Неужели даже топиться — и то работа, неужели это так же трудно, как все остальное в жизни? Вот кошмар! От одного этого жить не захочешь.
— А правда, что толкнуло вас на такое отчаянное решение? — только теперь додумался спросить Уен.
— Это печальная история, — ответила Флавия, утирая слезу, досадно нарушавшую симметрию ее лица.
— Мне не терпится услышать ее, — сказал Уен, увлекаясь.
— Что же, я вам расскажу.
Уену понравилась откровенность Флавии. Ее не надо было упрашивать поведать свою историю. Очевидно, она и сама понимала исключительную ценность подобных признаний. Он ждал, что последует длинный рассказ: у молодой девушки обычно масса возможностей общения с другими представителями человеческого рода, — так у розанчика с вареньем больше шансов ознакомиться со строением и повадками двукрылых, чем у какого-нибудь чурбана. Несомненно, и история Флавии изобилует мелкими и крупными событиями, из которых можно будет извлечь полезный опыт. Полезный, разумеется, для него, Уена, ибо личный опыт влияет лишь на чужие убеждения, сами-то мы отлично знаем тайные побуждения, заставившие нас преподнести его в прилизанном, приличном и безличном виде.
— Я родилась, — начала Флавия, — двадцать два и восемь двенадцатых года тому назад в небольшом нормандском замке близ местечка Чертегде. Мой отец, в прошлом преподаватель хороших манер в пансионе мадемуазель Притон, разбогатев, удалился в это поместье, чтобы насладиться прелестями своей служанки и спокойной жизни после долгих лет напряженного труда, а моя мать, его бывшая ученица, которую ему удалось соблазнить ценой неимоверных усилий, так как он был очень уродлив, — не последовала за ним и жила в Париже попеременно то с архиепископом, то с комиссаром полиции. Отец, ярый антиклерикал, не знал о ее связи с первым, иначе он бы немедленно потребовал развода; что же касается своеобразного родства с полицейской ищейкой, то оно даже было ему приятно, так как позволяло посмеяться и поиздеваться над этим честным служакой, довольствовавшимся его объедками. Кроме того, отцу досталось от деда солидное наследство в виде клочка земли на площади Оперы в Париже.
Он, бывало, любил наведываться туда по воскресеньям и копаться на грядках с артишоками на глазах и под носом у водителей автобусов. Как видите, любая форменная одежда внушала ему презрение.
— Хорошо, но при чем здесь вы? — сказал Уен, чувствуя, что Флавия теряет нить рассказа.
— Ах, да…
Она отпила глоток вина. И вдруг из глаз ее хлынули слезы, обильно и бесшумно, как из исправного водопроводного крана. Казалось, она в отчаянии. Так оно, должно быть, и было. Растроганный Уен взял ее руку. Но тотчас выпустил, не зная, что с ней делать. Однако Флавия уже успокаивалась.

— Я жалкое ничтожество, — сказала она.
— Вовсе нет, — возразил Уен, находя, что она слишком строга к себе. — Я не должен был вас перебивать.
— Я бессовестно лгала вам, — сказала она. — И все из чистой гордыни. На самом деле архиепископ был простым епископом, а комиссар — всего лишь уличным регулировщиком. Ну, а сама я портниха и еле-еле свожу концы с концами. Заказы бывают редко, а заказчицы все редкие стервы. Я надрываюсь, а им смешно. Денег нет, есть нечего, я так несчастна! А мой друг в тюрьме. Он продавал секретные сведения иностранной державе, но взял дороже, чем полагается, и его посадили. А сборщик налогов дерет все больше — это мой дядя, и если он не уплатит своих картежных долгов, тетя с шестью детьми пойдет по миру, — шутка ли, старшему тридцать пять лет, а знали бы вы, сколько нужно, чтобы его прокормить в таком-то возрасте!
Не выдержав, она снова горько заплакала.
— День и ночь я не выпускаю из рук иголку, и все впустую, потому что мне не на что купить даже катушки ниток!
Уен не знал, что сказать. Он похлопал ее по плечу и подумал, что надо бы приободрить ее. Но как? Хотя и говорится: чужую беду руками разведу, но кто это пробовал? Впрочем… И он развел руками.
— Что с вами? — спросила она.
— Ничего, — сказал он, — просто меня поразил ваш рассказ.
— О, — сказала она, — это еще что! О самом худшем я боюсь и говорить!
Он ласково погладил ее по ноге.
— Доверьтесь мне, это приносит облегчение.
— Приносит облегчение? Разве вам приносит?
— Ну, — сказал он, — так говорится. Разумеется, это только общие слова…
— Что ж, будь что будет, — сказала она. — Мое злосчастное существование окончательно превратилось в ад из-за моего порочного брата. Он спит со своей собакой, с утра пораньше плюет на пол, пинает котенка, а проходя мимо консьержки, рыгает очередями.
Уен потерял дар речи. И в самом деле, когда сталкиваешься с человеком, до такой степени испорченным, извращенным и развратным, то просто нет слов…
— Подумать только, если он таков в полтора года, что же будет дальше? — сказала Флавия и разрыдалась.
Эти ее рыдания уступали предыдущим по частоте, но далеко превосходили их по силе звука.
Уен потрепал ее по щеке, но тотчас отдернул руку, обжегшись ее горючими слезами.
— Бедная девочка! — сказал он.
Этих слов она и ждала.
— Но самого ужасного, уверяю вас, вы еще не знаете… — сказала она.
— Говорите, — твердо сказал Уен, готовый теперь ко всему.
Она заговорила, и он поспешно ввел в уши инородные тела, чтобы не слышать, но и того немногого, что он все же разобрал, было достаточно, чтобы его прошиб холодный пот, так что одежда прилипла к телу.
— Теперь все? — спросил он чересчур громко, как все начинающие глухие.
— Все, и я действительно чувствую облегчение, — сказала Флавия и единым духом выпила стакан, оставив содержимое оного на скатерти. Но эта шалость нисколько не развеселила ее собеседника.
— Несчастное создание! — вздохнул он наконец.
Он извлек на свет свой бумажник и подозвал официанта, который подошел с плохо скрываемым отвращением.
— Что прикажете?
— Сколько я вам должен? — спросил Уен.
— Столько-то.
— Вот, — сказал Уен, давая больше.
— Благодарите себя сами, у нас по этой части самообслуживание.
— Ладно, — сказал Уен. — Подите прочь, от вас смердит.
Официант удалился, оскорбленный, — так ему и надо! Флавия восхищенно смотрела на Уена.
— У вас есть деньги!
— Возьмите их все, — сказал Уен. — Вам они нужнее, чем мне.
Ее лицо выражало такое изумление, словно перед ней сидел сам Дед Мороз. А что выражало его лицо, сказать трудно, ведь Деда Мороза никто никогда не видел.
Уен шел домой один. Было поздно, и горел лишь каждый второй фонарь. А каждый первый спал стоя. Уен шагал, понурив голову, и думал о Флавии, о том, с какой радостью забрала она все его деньги. Это было так трогательно. Бедняжка не оставила ему ни франка. В ее возрасте чувствуешь себя погибшим, когда не на что жить. Тут он вспомнил, что и сам в том же возрасте, — удивительное совпадение! Такая обездоленная! Теперь, когда она забрала все, что у него было, он понял, каково это. Он взглянул по сторонам. Мостовая блестела в мертвенном свете луны, стоявшей прямо над мостом. Денег ни гроша. Да еще эта недоделанная словоловка. На пустынную улицу медленно вступил свадебный кортеж новобрачных лунатиков, но и это не отвлекло Уена от мрачных мыслей. Он вспомнил арестанта. Вот кому не приходилось долго раздумывать. Впрочем, и ему самому тоже не приходилось. Мост все ближе. В кармане ни гроша. Бедная, бедная Флавия! Хотя нет, у нее-то теперь были деньги. Но какая ужасная история! Жить в такой нищете — совершенно невыносимо. И какое счастье, что он вовремя подвернулся! Счастье для нее. К каждому ли кто-нибудь поспевает в нужную минуту?
Он перешагнул через перила и встал на карниз. Шаги свадебной процессии замерли вдали. Он посмотрел направо, потом налево. Нет, ей просто на редкость повезло, что он проходил. Ни души. Он пожал плечами, пощупал пустой карман. Положение в самом деле таково, что жить не стоит. Но выше ли, ниже ли по течению — какая разница?
И он бросился в реку, не ломая себе голову. Так и есть: с какой стороны ни прыгни, все равно пойдешь ко дну. Разницы никакой.
ПОЛЬ ЭЛЮАР
ПУШИНКА
Сделай сердце свое сердцем ребенка.
Жила-была маленькая девочка, очень славная, может быть, даже чуть лучше тебя, и легкая-легкая, такая легонькая, что мама, взяв ее в первый раз на руки, не почувствовала никакой тяжести и очень этому удивилась. И она дала дочери легкое имя: Крылиночка, Пушинка.
Пушинка хорошо росла и вскоре стала самой красивой из всех маленьких девочек. И в том краю говорили: «Красивая и легкая, как Пушинка».
А я во всех краях говорю, как легка и красива ты.
Пушинка очень быстро бегала, быстрее даже, чем старшие мальчики. А прыгала так высоко, что могла сорвать все орехи в самом высоком орешнике, вся яблоки с самых высоких яблонь и даже вишни с большого вишневого дерева, те самые, что всегда доставались птицам.
Она сама, как птица, садилась, не ломая их, на самые тонкие ветки. И птицы не боялись ее. Она могла заглянуть им в глаза, как я заглядываю в твои. Она усаживалась так близко, что могла слышать, как они рассказывают друг другу разные птичьи истории. Если бы она осмелилась, она могла бы какую-нибудь погладить.
А когда она вновь спускалась в траву, ей было жалко кузнечиков, бедных кузнечиков, зеленых, неуклюжих, словно лягушата, — они столько трудились!
Но больше всего Пушинка любила мотыльков. Как она им завидовала, когда они чертили зигзаги в воздухе, счастливые, будто рыбы в воде!
Пушинка отлично понимала, что она не может летать, раз у нее нет крыльев. Она только была легкая, почти как листок, травинка, лепесток, почти как пушинки одуванчика — маленькие свечи, уносимые теплым ветром далеко-далеко.
Осторожнее с ветром, Пушинка, он может тебя унести. Ветер умчит тебя вдаль, откуда не будет к дому пути.
Ночами Пушинке снилось, как она поднимается над крышей родного дома, летает вокруг деревенской колокольни, парит над рекой, над толпою купальщиков и белыми катерами. Иногда она тайком выдергивала перышки из толстой красной перины, садилась у окна и дула на них, а потом глядела, как они поднимаются в утреннее небо.
В ее любимых сказках дети летали на спине орла, или аиста, или крылатого демона, или на ковре-самолете. И она с восхищением смотрела на своего приятеля Пьера, который однажды летал на настоящем самолете.
В четыре часа она приходила из школы, быстро съедала полдник и еще быстрее забиралась на вершину ели, что росла перед домом. Там три ветки сплелись в кресло как раз по ней. И до самого заката, пока мама не начинала беспокоиться и звать ее домой, Пушинка сидела там, болтая со своими любимицами.
Разговаривать с птицами ничуть не труднее, чем с кем угодно на твердой земле: ты говоришь, птица вроде бы понимает, отвечает тебе, и ты вроде бы понимаешь и отвечаешь птице. Главное — слушать друг друга и хорошо знать, о чем с тобой говорят. Если я спрашиваю, не хочешь ли ты пирожного, ты вроде бы понимаешь, и я даю тебе пирожное. Если я хочу тебя отшлепать, ты вроде бы понимаешь… и я прощаю тебя. Так же, впрочем, и ты болтаешь с куклой, с медвежонком и со щенком.

Когда Пушинка возвращалась домой, она удивляла братьев, повторяя нараспев птичьи рассказы, приключения, в которых смешались крылья, утро, небо, страх перед грозой, перед самолетами — все то, что занимает обитателей гнезд.
Пушинка пела не умолкая, а когда она пела, то время от времени встряхивалась, словно была одета в перья. Родители радовались, что их дочка весела, и давно уже привыкли к тому, что она не такая, как все, не так твердо стоит на земле, как они сами.
Среди птиц у Пушинки были только друзья. Воробьи, соловьи и зяблики учили ее все новым и новым играм, показывали ей уморительные прыжки, смешно кувыркались в воздухе перед нею.
А как забавно, трогательно они себя вели! С дроздами и сороками можно быть немного лукавой. Зато с голубками и сизарями надо ворковать и вздыхать с таким видом, будто ты в восторге от всего мира.
Пушинка даже помогала своим друзьям строить гнезда, вплетая туда шерстяные ниточки из свитера, чтобы птенцам было теплее. Какое событие, когда розовые, зеленые, желтые яички, совсем как пасхальные, превращаются в птенцов! Пушинка любила их не меньше, чем кукол. У них не было перьев, как и у нее самой, и крылья были такие крошечные, зато клювики у малышни раскрывались шире печного поддувала. Какие они были смешные, неловкие, когда поначалу боялись взлетать! Неловкие, а все не такие, как Пушинка, — ведь она никогда не взлетит, раз у нее нет крыльев.
Она напрасно выгибала шею, силясь увидеть в зеркале спину: из острых, выступающих косточек, которые мама почему-то называла лопатками, так ничего и не росло. Она была маленькой девочкой и только иногда, для мамы, маленькой птичкой.
А Пушинка так не хотела отставать от своих крылатых друзей! Она говорила себе, что никогда не вырастет. Ведь для нее вырасти значило обрести крылья.
А ты — ты так вырастаешь в сердце моем, что становишься больше меня. И все же ты не умеешь летать. Зато умеешь быть рядом, все время рядом.
В один прекрасный четверг Пушинка взобралась на свою елку и горько заплакала. Все птицы весело щебетали, летая над полями, и почти не обращали на нее внимания: было так светло, что, казалось, у солнца тоже выросли крылья. Она осталась совсем одна, а ты никогда не бываешь одна: все тебя любят, и ты отвечаешь лаской и приветом.
Пушинка все плакала и плакала… И вдруг она ощутила, как кто-то лижет ей щеки шершавым язычком, касается их шелковистой лапкой, отирая слезы. Девочка подняла глаза и увидела самую удивительную на свете Белку. Шерстка ее сияла, как огонь, хвост был просто необыкновенный, а живые глаза, умевшие говорить быстрее самого болтливого рта, произнесли:
— Ты и вправду хочешь летать — летать, как птицы, как сорока и синица, как малиновка и черный дрозд? Хочешь гоняться за облаками, легкими, как твои фантазии, как твои желания? Хочешь крылья? Но тогда у тебя не будет рук, ты уже не будешь настоящей земной девочкой. Не пожалеешь об этом?
— О нет! Нет, ни за что! — воскликнула Пушинка. — О госпожа Белка, дайте мне крылья!
— Хорошо, — промолвила Белка, — но если ты об этом пожалеешь, приходи ко мне завтра на закате, тогда еще можно будет сделать тебя прежней.
И Белка, часто моргая, сказала очень тихие и очень мудрые слова. Пушинке стало щекотно от кисти до плеча; руки ее покрылись нежным белым пушком, а потом появились белые перья. Крылиночка стала крылатой!
Вне себя от радости, она ринулась вниз, пролетела над лугом, задевая траву, вспорхнула на крышу своего дома и стрелой понеслась к ближней роще. Летая от дерева к дереву, она песней приветствовала друзей, и те устремлялись следом.
Опьяненная скоростью, Пушинка улетела так далеко, что ночь настигла ее; даже не успев разглядеть звезды, она положила голову под крыло и уснула на вершине могучего дуба. Хорошо, что одному очень серьезному старому филину поручили присмотреть за ней.
На рассвете Пушинку разбудил веселый птичий хор, приветствовавший солнце. Впервые она проснулась под открытым небом, и это показалось ей замечательным. Однако ужасно хотелось есть, и потом… не опоздает ли она в школу? Ее друзья позавтракали зернышками и червячками, а девочке вспомнились тартинки с маслом и кофе с молоком. Ну и глупая же — ведь теперь, чтобы попасть домой, нужно лишь сделать несколько взмахов крыльями!
Она поднялась так высоко, что сразу разглядела дом, и совсем скоро через открытое окно впорхнула на кухню, где вся семья сидела за столом. Увидев, что она вернулась живая-невредимая, все успокоились, но, приглядевшись хорошенько, поразились.
Пушинка бросилась маме на шею. Но увы, крылья не умели обнимать! А когда села завтракать, ее пришлось кормить с ложечки, как младенца. И братья, которые сперва пришли от крыльев в восторг, стали смеяться над ней. А как она понесет портфель? А в школе как будет писать?
Правда, вылетев из дому, Пушинка забыла все огорченья: пока остальные плелись по дороге, она парила у них над головами, во всю прыть своих крыльев устремлялась вперед, далеко обгоняя их; взмывала так высоко, что идущие казались не более муравьев, а потом пикировала на слегка испуганную толпу.
Какие они смешные, когда смотришь с высоты: сбились в кучу, задрав головы кверху. Но почему это маленький Пьер так упорно делал вид, что ему безразлично ее новое умение? — подумала Пушинка уже у себя в комнате, немного успокоившись.
Пьер… Неужели теперь никогда-никогда не побегут они вместе по лугу, держась за руки? Не смогут собирать шампиньоны? Рвать золотые лютики?
Потом Пушинка вспомнила о кукле, которую совсем забросила. Как ее теперь одевать, шить ей платья? Очень все-таки неудобно с крыльями везде, кроме неба… Пушинка уселась в свое креслице (а зачем теперь подлокотники?) и задумалась. Теперь понятно, о чем говорила золотая Белка. Да, Пушинке было жалко рук, ей снова хотелось стать настоящей маленькой девочкой.
Нельзя было терять ни минуты: над горизонтом уже стлался закатный луч. Вне себя от тревоги, Пушинка взлетела в последний раз на вершину ели. Белка не обманула — она была там, и у нее хватило такта не задавать вопросов, потому что по лицу девочки она обо всем догадалась, и она не воскликнула с торжеством в голосе: «Говорила же я тебе!» — как это часто делают взрослые. Снова сказала она волшебные слова своими сияющими глазами… И вот наша Пушинка радуется гибким рукам и ловким пальцам, как накануне ликовала, получив крылья.
Медленно, с ветки на ветку, спускалась Пушинка, и очутилась на земле, вместе со всеми, со всеми — легкими и не очень, с теми, кто разглядывает камешки на дороге, и с теми, кто смотрит в небо; с теми, кто знает, что маленькие девочки не умеют летать, и с теми, кто полагает, что однажды, если очень захотеть, все маленькие мальчики и маленькие девочки, оставаясь самими собой, смогут иметь и руки, и крылья, жить и на земле, и в небе.
Я рассказал вечернюю сказку как раз такую, какой ты ждала: ту, от которой твой взгляд прояснится и в моем сердце прибудет тепла.
ЖАК ПРЕВЕР
ХРОНИКА БАЛАМУТСКИХ ОСТРОВОВ
В стародавние времена — и уже немало воды утекло с тех пор, как случилось это, — выдало Море охранные грамоты островам, что лежат посреди него на равном расстоянии от всех четырех сторон света.
Свои заповедные острова Море, шумя ветрами, само называло Предпочитаемыми островами. Время от времени, однако весьма нечасто, один из них являл себя взору какого-нибудь дерзкого мореплавателя, вооруженного подзорной трубой с многократным увеличением, но стоило тому закричать: «Земля!», как в то же мгновение остров погружался в туман, и налетал ураган, и шли друг за другом то мертвая зыбь, то тайфун, то циклон.
Но, поскольку у моряков и помимо кораблекрушений в море хватает хлопот, освоение островов не продвинулось с тех стародавних времен.
Их окрестили Баламутскими островами, потому что на морской порядок острова плевали, где хотели, там и всплывали, а на случай непредвиденных встреч был предложен перечень названий на выбор.
Для одного — Остров Особого Мнения, для другого — Остров Непредвиденного Поведения, или, к примеру, Остров, Скрывающий Имя.
И свои отношения с ними моряки строили в зависимости от настроения и колебаний атмосферного давления. Сегодня это были Бдительные, Подозрительные, Раздражительные, Отвратительные, Нелюдимые, Непримиримые, Неуловимые острова.
А назавтра они становились островами Грез, Красоты, островами Святой Простоты, Праздничными, Свободными, островами Душа-нараспашку.
А потом моряки совершили промашку: названия островов позабывали, истрепанную колоду морских карт изорвали, и забвение поглотило Баламутский архипелаг.
Разве что какой-нибудь чудак, сидя в полуночной компании морских волков, пропускал, возбужденный воспоминаниями, стаканчик за здоровье Позабытых островов.
И только самый маленький остров-шалопут так и не попал ни на какие карты, поскольку мореплаватели ни разу не заметили его ни там, ни тут.
От него до суши было рукой подать, но на Великом Континенте его и знать не хотели и даже называли Островом, Которого Нет, или просто Ничегостровом.
Между тем островитяне жили прекрасно, дети веселились ежечасно, и каждый с утра до вечера был готов распевать песенку Баламутских островов:
И водились на этом Ничегострове птицы и звери, красивые, как на подбор, и рыба плескалась вокруг с незапамятных пор. Вместе с ней плескались в воде рыбаки, их было много на острове, а кто не плескался в воде, тот копался в земле — сажал сладкий перец, и горький миндаль, и гречиху, собирал кокосы, фиги и землянику.
А вот садовников на острове не было и в помине. Их потребовались бы миллионы, так разрослись на острове циннии, пионы и анемоны.
Цветами здесь не торговали вразнос, и парфюмеры не подменяли духами благоухание роз.
Цветочный аромат был самым дешевым из всех даров.
И не было на острове ни поваров, ни судей, ни булочников, ни поэтов, ни музыкантов.
Островитяне сами себе готовили, сами себя судили, сами пекли хлеб и сочиняли для себя музыку и стихи в меру своих талантов.
А вот мусорщик на острове был, причем облеченный административной властью.
Происходил он из племени свободных, счастливых и совершенно синих, больших, мудрых и шаловливых шимпанзе, что населяли когда-то острова Шутейных Обезьян, где во время круиза его и приобрел за ломаный грош праздный турист, который потом высадился на нашем островке, держа будущую городскую власть на поводке. Очень скоро шимпанзе стал самым проворным мусорщиком на всем Баламутском архипелаге. Маленькие улочки и большую площадь, порт и внешнюю гавань, набережные и мол — все он так ретиво чистил и мел, что было совершенно неясно, существует ли на свете слово «грязно».
Шимпанзе прозвали Лап-не-покладай. Едва начав работу, он уже успевал с ней покончить и забирался в гамак подремать, и морской ветер начинал его качать, и птицы напевали ему «баю-бай», Лап-не-покладай забывался сном, и в то же мгновение обезьяньи сновидения уносили его туда, где все пребывало всегда неизменным, новым, простым и отменным.
Мир и покой навевали дрему, и счастье разгуливало по острову, как по собственному дому.
Время от времени солидный попугай, весь в бантах, лентах и позументах, приносил новости с Великого Континента.
Они никогда не менялись, эти последние, вечно свежие новости о войнах, банковских курсах и рентах, да его никто и не слушал, этого солидного попугая в позументах, бантах и лентах.
Зато когда дромадер мерно и медленно вышагивал через Большую площадь, не произнося при этом ни слова, — впрочем, когда дромадер торопится, он обгонит любого — кто-нибудь из местных жителей зачастую окликал его с порога дома.
Дромадеру предлагали зайти на чашечку кофе или пропустить за компанию стаканчик-другой рома.
Правда, зазывали из вежливости и симпатии к дромадеру, ибо дромадеры — известные трезвенники[153] и во всем соблюдают меру.
Однако дромадер, отдавая дань вежливости, не мог не ответить на такое внимание и тотчас составлял островитянам компанию.
Приходила пора прощаться, но дромадер не мог подняться, а хозяевам говорил, что вечер был очень мил.
Неторопливо, как дромадер, шествовало по острову время, то солнце, то дождь заглядывали в чей-нибудь дом поболтать с хозяевами о том и сем.
Временами вмешивалось в разговор ненастье, от громовых раскатов его голоса лопались стекла, а дождь хохотал, заливаясь во все горло.
Ему вторили местные жители.
— Отлично, — смеялись они. — Ненастье приносит счастье, пора на охоту!
Они имели в виду охоту на лосей, поскольку только к ней и имели охоту.
В этой охоте везло всем, и местная поговорка гласила: чем пуще дождь, тем лучше лось!
Это попросту означало, что горы окутал туман, что лосям наверху одиноко, что на солнце они не надеются и спускаются в долину развеяться.
Охотники их поджидали, об оконные стекла расплющив носы, и когда наступало время охоты, охотничьи псы отстранялись от работы и отправлялись спать.
И, чуть ветер начинал стихать, охотник в ночи, держа огарок свечи, выходил за порог, встречал свой трофей и забирал его к себе домой. И лось жил у него, пережидая ненастье, и возился с детьми день-деньской.
А когда погода меняла наряд и водружала на голову весеннюю соломенную шляпу с широкими полями, лось, распевая песни, поднимался назад.
Под ручку с хорошей погодой возвращался и солидный попугай, переливаясь всеми цветами радуги, а с ним — старый разносчик газет: он пришвартовывал к острову лодку, древнее которой не видывал свет.
И, расправляя крылья, попугай орал во всю глотку:
— Что это за новости, почему никто не покупает новости?
А старый разносчик газет подмигивал и смеялся, от торговли печатным словом он в нем давно разочаровался, и с некоторых пор голос его звучал надтреснуто, как склеенный фарфор:
— Новости с Великого Континента!
— Последние выпуски «Надувателя» и «Соглашателя»!
— Вести из притонов и казарм солдафонов!
Он прекрасно знал, что островитяне газет не читают, но из года в год у него покупают все до последней газеты мятой, не интересуясь при этом датой, просто, чтобы поддержать его в жизни, и еще потому, что он не докучал им своими визитами. И поскольку денег у островитян не водилось, им приходилось расплачиваться монетой Баламутских островов: рыбой, вареньем из розовых лепестков, табаком, апельсинами, ракушками, бананами, — и разносчик газет отбывал, весьма довольный островитянами.
На прощание они махали ему рукой, а другой, не занятой процессом прощания, рукой бросали газеты под ноги, и Лап-не-покладай тут же их подбирал и сжигал.
Газеты весело горели, а дети танцевали вокруг Лап-не-покладая и пели, передразнивая солидного попугая:
— Что это за новости, что это за новости?
Черный от копоти и дыма и весьма удрученный этим инцидентом, попугай пожимал крыльями и в тот же момент вместе с ветром, уносящим пепел последних новостей, улетал на Великий Континент.
Вот так островитяне, что ни день, веселились по любому поводу.
Потому что, бороздя на лодках моря или обрабатывая поля, они никогда не забывали, что тоже когда-то были детьми, и неустанно устраивали затеи, и если на острове отдыхало пламя веселого костра, значит, наступала пора открывать сверкающие фонтаны, или стартовали лосиные бега, или соревновались воздушные змеи.
Бывали и праздники для взрослых, например, при удачной рыбной ловле гонцы разносили вести во все концы, и на Большой площади большой концерт давали тунцы — в тех местах они славились как музыканты и певцы.
А тех тунцов, которые за игру на трубе и дудке становились обладателями призов, бросали обратно в море — на них надевали золотые медали из того же металла, что и рыболовные крючки.
Остальных, правда, съедали. Вряд ли это нравилось тунцам, но, к счастью, такая неприятность случается в жизни только однажды.
Бывало, островитянин падал за борт во время ловли тунца, и тогда прожорливые акулы съедали ловца.
При этом он никогда, не говорил: «Такое может случиться только со мной!»
Он знал, что такое может случиться с каждым.
И случалось — когда не он, а другой падал со слишком высокой кокосовой пальмы вниз головой и лежал на твердой земле, неживой. Тогда на острове говорили: «Кокосы съели его!» И веселье стихало, и только незатейливая музыка еще звучала, не ликующая, как вначале, а полная грусти и печали.
И под эту грустную музыку островитяне напевали:
И островитяне просто в лепешку разбивались ради родственников того, кто разбивался, падая с пальмы, тонул, был съеден, исчезал, уходил, — их надо было утешить и помочь им по мере сил.
Эхо Карусели взмывало над Ничегостровом, к Великому Континенту через море полетев, и волны подхватывали припев.
Это эхо, как бы оно ни звучало, слух обитателей Континента обычно смущало, особенно тех, кто жил в столице По-павлину-пли — в городе охотников на павлинов. У попа-влинуплинцев павлины были главной статьей дохода, и ворота бойни, этого весьма важного государственного учреждения, украшало социальное обоснование его существования: «По-павлину-пли, комиссия по экспорту во все концы земли».
Павлинов на бойне отстреливали поточно — точно и срочно.
Привозили их на грузовиках, сгружали, павлины веером хвосты распускали, и охотники, сидя на складных стульчиках, были рады стараться: простреливали эти мишени со скоростью пятьдесят или шестьдесят павлинов в минуту, в зависимости от требований эксплуатации.
И крики павлинов на бойне были пронзительны, как вопли грешников в преисподней. Казалось, птицы догадываются, что пойдут даже не в пищу, а на чучела, что их набьют соломой, упакуют и отправят для украшения салонов и каминных досок в самые отдаленные страны, на запад и на восток.
И вот однажды к островку-шалопуту пришвартовался чучельник: целую лодку навьючил грудой бездарно сделанных павлиньих чучел — просто не товар, а срамота.
Он устроился на набережной и начал орать, не закрывая рта:
— Покупайте павлинов… скорее ко мне… на Великом Континенте они понизились в цене… прекраснейшее произведение искусства — в жилище любом… по павлину — в каждый дом… каждому гражданину — по дешевому павлину!..
Островитяне, которые полагали, что раз так настойчиво предлагают, то на предложения отвечают, чучельнику весело отвечали:
— Павлинов в домах не держат у нас, это раз. А два, если вы настаиваете, извольте узнать — у нас нет желания их покупать. Живые птицы нам больше нравятся.
Чучельник заскрежетал с досады зубами, но внезапно этот скрежет прекратился, поскольку его хитрый пронзительный взгляд, который рыскал тем временем по острову, кое за что зацепился.
Крючки, на которые без конца островитяне ловили тунца, были из самого чистого золота — чучельник так и взвился.
От его профессионального глаза не укрылся и золотой блеск совка Лап-не-покладая: к павлинам в придачу с Великого Континента были привезены и паразиты, которых мусорщик сметал не переставая.
— Никто из туземцев не догадывается, а тут золотишка полным-полно. Я открыл Остров Сокровищ, Золотое Дно! — сквозь зубы чучельник процедил и тут же назад уплыл.
Как золотая пыль, эта прекрасная новость поднялась над улицами По-павлину-пли. Но возникшим устремлениям было немедленно придано иное направление. Стоило первым судам золотоискателей отчалить от берега, как пулеметы охотников на павлинов были повернуты к ним и приказ Главы Великого Континента направил суда на дно одно за другим.
А не в меру болтливый язык чучельника был укорочен посредством удлинения шеи, что явилось последствием казни через повешение.
Тем временем дипломаты соседних стран с документами в руках доказывали, что Ничегостров в обстановке единодушного одобрения только что провозгласил независимость, а так как она никого не интересовала, то и интереса ни для кого не представляла.
На что Глава Великого Континента в духе текущего момента заметил с мудростью, но твердостью:
— Независимость острова возможна, и то, что мы первыми признали ее, вызывает в нас чувство законной гордости. Но кто отважится отрицать, что Ничегостров, исходя из его названия и существования, является только наполовину островом, значит, наполовину материком, то есть частью побережья, а именно элементом Великого Континента?
И чтобы все наглядно смогли представить связь островка с прибрежной зоной По-павлину-пли, была начата постройка Главного полуостровного моста.
Для ускорения этих работ основали акционерное общество с неограниченными полномочиями «Ничегостров Сокровищ и К0», капитал его исчислялся миллионами, которые полностью поступили от населения по государственному займу, обязательному и безотлагательному.
Вскоре По-павлину-пли превратился в оживленнейший пуп земли. Все страны прислали сюда своих представителей для наблюдения за возведением понтонно-свайного моста.
Ради спокойствия туристов павлиньи бойни были из города удалены и в глубь страны перенесены. А на их месте в обстановке массового энтузиазма было возведено казино.
И неумолчно звучал над городом национальный гимн попавлинуплинцев в исполнении охотников на павлинов:
На строительство моста были собраны умелые мастера из самых отдаленных уголков страны, правда они прихватили с собой плохое настроение и не испытывали никакого удовлетворения от приложения своего квалифицированного труда: высадка на остров им была запрещена, зато обещана золотая медаль из чистопробного серебра. У охотников на павлинов работа была проста: они наблюдали за возведением моста, к ружьям примкнув штыки. Строители же в глубине души считали, что у них много общего с островитянами — ловцами тунца, а охотников на павлинов попросту презирали.
Поскольку счастливый прибой заглушал на первых порах грохот машин и вой, островитяне жили себе, не тужили, но, когда работы вошли в завершающую стадию, они с удивлением открыли, что на их остров надвигается непонятная железная громадина.
— Эта гадина — наверняка большая морская змея, — заявил один малыш, — я видел, как на солнце блестит ее чешуя, а по ночам, в темнотище, сверкают ее глазищи!
— Будь она хоть какой — железной, морской, земляной, — ответил старик, который всю жизнь ловил в море тунца, — мы такой змеи не видели никогда, и ее появление грозит нам верной бедой!
Змея начинала ползти, едва начинался закат.
А за глаза ее, что пылали до зари, малыш принял красные фонари, которые освещали такой плакат:
И работа кипела.
Она кипела так, что переполошила весь остров, и рыбакам поручили рассмотреть вблизи и со вниманием, что это за подозрительная тварь с неизвестным названием. Обескураженные рыбаки смотрели и никак не могли понять, откуда выползла эта не то змея, не то минога, которая шумела, как железная дорога.
Правда, железной дороги они в глаза не видали, но все же были о ней наслышаны и полагали, что эти создания очень похожи.
Когда же тунцеловы обнаружили за большим кассовым аппаратом для подсчета скрупулезно и сполна залежей Золотого Дна Генерального Казначея армии Спасения сокровищ и его телохранителей, то не на шутку разволновались.
Позади Казначея удобно располагались в прекрасном автобусе цвета золотого тельца акционеры общества «Ничег-остров Сокровищ и К0» и ждали конца работ.
— Прав был старик, — решили ловцы тунца, — их вид не внушает доверия, вовсе нет! Наш остров и вправду находится в преддверии бед! — Так они и сказали, когда вечером попали домой.
Вскоре мост был наведен, и первым въехал на берег он — Генеральный Казначей, который в ящике кассового аппарата восседал на боевом скакуне.
— Жаль, что он так печален, — воскликнул какой-то мальчик, — улыбка пошла бы ему вполне!
Но он имел в виду боевого коня, а не Генерального Казначея, который, напротив, вернее, верхом на нем улыбался, но с видимым трудом. Улыбка Казначея была ледяной и ничего хорошего не предвещала.
— Ледяная улыбка — профилактика теплового удара, — со смехом заметил кто-то из тунцеловов, но телохранитель предложил ему помолчать, разрядив ему в ноги ружье, ибо Генеральный Казначей собирался взять слово. И он взял его:
— Население может вздохнуть с облегчением — произошел переворот в жизни их страны. Нищая, бренная и презренная, она вошла наконец в состав Великого Континента и отныне имя ее будет обозначено на карте кушаний в каждом респектабельном ресторане. А вы, бывшие островитяне, можете быть горды: вы стали полуостровитянами, то есть наполовину сравнялись с нами!
Вы на своем острове попирали ногами сорок миллиардов золотоносных жил, и никто из вас не догадывался, на чем он жил!
Вчера еще вы были простыми островитянами — рыбаками, ремесленниками и крестьянами, а сегодня я приветствую в вашем лице рудокопов Полуострова Сокровищ!
А поскольку, слушая его, островитяне молча покачивали головами с видом весьма и весьма досадным, то Генеральный Казначей добавил, грозя им по-дружески пальцем, негнущимся и беспощадным:
— Я знаю, вы просты и доверчивы, как большие дети, но отныне запомните, что у вас появился папа в лице государства на Великом Континенте. И тех, кто не будет слушаться, папа накажет, а исправительная колония исправит. Я кончил.
Конец его речи потонул в треске оружейного салюта и невыразимом грохоте национального гимна попавлину-плинцев.
Птицы взлетели, поблекли цветы, лоси укрылись в горах, танец листвы на ветвях прервался, и горестный крик ускользнувшего с боен павлина выдал место на острове, где он скрывался.
И сам попугай, солидный и радужный, не смог в ответ отыскать ни слова — ни доброго, ни дурного.
Трубы ревели, гремел барабан, но повсюду звенели голоса островитян, которые в отчаянии пели:
Потом островитяне спустились в Рудник.
А из охотников на павлинов получилась отличная стража.
Генеральный Казначей верхом на боевом скакуне руководил финансовыми операциями, Акционеры и Администрация, потягивая ледяные напитки, сверяли правильность своих взглядов с бухгалтерскими счетами, но от жары впадали в прострацию.
Рядовые попавлинуплинцы-обыватели — чучелодобыва-тели и соломонабиватели — были переименованы в золотокопателей, то есть получили привилегию трудиться на свежем воздухе.
Отыскивая в реках золотые песчинки, они под сурдинку талдычили без запинки слова, слышанные на Главной площади вчера, позавчера и третьего дня — там вечерами пела армия Спасения Золотого Дна:
Рудокопам же платили по весу золота, которое они добывали: чем золота больше наверх поднимали, тем денег меньше они получали.
— Они просто не найдут им применения, — утверждал Генеральный Казначей, — этих больших детей бесполезно учить жить, и я не перестаю удивляться, как все они истолковывают по-своему.
Таким образом, все кругом были заняты, каждый в меру своих возможностей, а те, кто не упускал возможности, обеспечивал себе возможность быть незанятым, по возможности.
Лап-не-покладай поэтому лап к делу и не прикладывал. Все заросло грязью так, что работай он даже двадцать четыре часа в сутки, не считая сверхурочных, остров в порядок было бы не привести.
И Лап-не-покладай спал, но назойливый континентальный шум прежние счастливые сны разогнал.
Да и сны остальных, кабы островитянам хватало времени их смотреть, счастливыми тоже никто назвать бы не мог.
Когда они в первый раз спустились в Рудник, им никак было не понять, что за глупую шутку сыграл с ними рок.
На второй день один бывший островитянин, а ныне рудокоп, выбрался на поверхность немного перевести дыхание, нарушив тем самым рабочее расписание, и тогда охотник на павлинов взял его на прицел и, как кролика в нору, загнал под землю, где остальные давились от хохота, поскольку никак не могли поверить, что это и впрямь происходит, настолько все было неимоверно бесполезно, глупо и скверно.
Когда же на третий день они начали обдумывать создавшееся положение, тишину подземелья огласило печальное пение, а вернее, крик, и островитяне прекратили рассуждения и прислушались, так был этот крик пронзителен и высок.
Это кричал тот павлин, что по недоразумению избежал отстрела на бойнях По-павлину-пли.
— Едва я увидел, как на берег сошли попавлинуплинцы, я укрылся в горах — там уже собрались дромадеры и лоси, светлячки и ласточки и лягушка-голиаф, не говоря уже о кролике-альбиносе.
Все были печальны, и даже Крошка-Бархотка, самая юная из пересмешниц, перестала смеяться, а эти птицы смеются всегда — и летая, и умирая.
Все были печальны, поскольку вас, жителей острова, любят, и говорили о невеселом.
— О чем же? — спросили островитяне.
— О том, что Генеральный Казначей принимает вас не за людей, а за красивую стаю павлинов, и что вам несдобровать, если вы станете продолжать в том же духе, и что немного воды под их мостом утечет, как все вы пойдете на чучела. Вот!
— Ну это мы еще посмотрим! — сказали островитяне и, как пообещали, отправились посмотреть на создавшееся положение.
Но когда они выходили из рудника, часовой, застывший как истукан у своей будки, щелкнул затвором и закричал в свой черед:
— Стой! Ни шагу вперед!
Тогда островитяне предложили ему обозреть окрестность с самого дна оврага, куда вместе с будкой и ружьем и был отправлен бедолага. А когда Генеральный Казначей увидел бывших рудокопов, то он разозлился не на шутку, разошелся так жутко, что побледнел и позеленел в один миг и не смог вернуть на свое обычное место глаза и язык, которые так и остались висеть на ниточках, точь-в-точь как у злодея из кукольного театра.
— Пс… с-с… тс-с-с-с… пфуй… Эт-то как? Что это значит?… Невиданно… Что это такое?
— Это не что такое, а кто такие, — ответили островитяне. — Мы, рыбаки и крестьяне, и мы пришли вам сообщить, что не собираемся так жить!
И они запели:
Потом они оставили свои лопаты, Генерального Казначея и ушли тем же путем, что и пришли.
Генерального Казначея такой гнев обуял, что он растерял все слова, которые знал, и ему пришлось сунуть руку в кепи, чтобы их найти. Первыми попались любимые им слова: «В ружье!»
Но когда прибыли ружья вместе с вооруженными ими людьми, островитяне вместе с женами и детьми, а также с домашними животными уже разошлись, кто куда смог, — каждого укрыл островок.
И Казначей зря только горло драл: раз на Руднике не стало рабочих рук, не надейся, что они отыщутся сразу и вдруг!
Попробуй-ка отыщи тень от игольного ушка в карманах солнца, которое в стоге сена спит — не проснется!
Островитяне тем временем нашли способ борьбы с одиночеством: они писали друг другу письма, а ласточки, стрижи, бакланы и совы круглые сутки были готовы разносить их по лесам, пещерам и горам.
И тщетно Генеральный Казначей не смыкая глаз отдавал за приказом приказ о сокращении сроков строительства Исправительной колонии, — она была пуста, как в день Торжественного открытия, что же до Рудника, то и он был пуст, вроде угольного мешка, из которого вытряхнули уголь.
И вдруг одна идея посетила Генерального Казначея: почему это без дела, сорок восемь часов на солнышке млея, спит Лап-не-покладай, который, не имея лучшего применения своим лапам, положил их под голову, дабы удобнее было смотреть сны о том, как было прежде или будет потом, во всяком случае — не сейчас?
«Мой излюбленный метод управления — наказание и поощрение, — думал Генеральный Казначей, направляясь к спящему мусорщику. — Надо сначала приласкать, а потом наподдать!»
И он так добродушно приласкал Лап-не-покладая, что тому пришлось проснуться.
Не сгоняя широкой улыбки с лица, Генеральный Казначей объявил ему радостную весть:
— Принимая во внимание ваши заслуги перед Муниципалитетом, мы производим вас без проволочек и под музыку в Главные Адмиралы рудокопов и при этом в виде особого почета назначаем Прикомандированным Управляющим никуда, по причинам высшего порядка, не откомандированного флота.
А так как, по мнению Казначея, Лап-не-покладай большим умом не отличался, то он решил, что шимпанзе попался: почести польстят его самолюбию, и в самые сжатые сроки тот будет готов представить ему официальный и полный список всех потаенных уголков, куда могла укрыться рабочая сила.
Сначала Лап-не-покладая спросонья разобрал смех: разве сразу разберешь, в какой оборот попадешь? Но когда грянул гимн «Попавлинуплинцы — лучше всех!», мусорщик понял, что остался на острове совершенно один, поскольку людей с Великого Континента он за людей не считал.
А когда узнал, чего от него хотят, то перестал смеяться и совершенно серьезно сказал:
— Утро вечера мудренее. На островах Шутейных Обезьян была такая поговорка: «Чем спишь дольше, тем ума становится больше». Завтра чуть свет я дам ответ.
С воинственным видом и минимальным шумом — Лап-не-покладай ходил босиком — он щелкнул пятками, сделал «кру-гом!» — и отправился домой, позвякивая длинной саблей и довольный собой.
Едва переступив порог, он воскликнул, завидя кого-то в зеркале старого шифоньера, украшавшего его дом: «Ну-ка, ну-ка, что это тут за красавец, я с ним не знаком!»
Красавцем оказался он сам, внезапно потерявший самообладание от сияния голубого мундира, эполет и золотых галунов. Под лучами заходящего солнца вся эта позолота сияла в зеркале старого шкафа, как фрукты компота в синей компотнице, засунутой в новенький холодильник.
— Конечно, это по-прежнему я, — поскромничал он, — но посмотреть есть на что: вылитый адмирал Нельсон или Наполеон, как на картинках в газетах у нашего попугая. — И добавил, над головою саблей вращая: — Подумать только, еще сегодня утром я был каким-то жалким ничтожеством!
Неожиданно ему начало вторить эхо: «…ничтожеством…»
И какой-то голос уверенно продолжал:
— И, без сомнения, скоро ты станешь совершенным ничтожеством, если так и дальше пойдет.
— Кто тут? — испугался Лап-не-покладай.
— Мусорщик! — ответил голос.
Тут Лап-не-покладай понял, что в комнате нет никого, кроме него самого, а он, мусорщик и адмирал в одном лице, разговаривает сам с собой, при этом за адмирала — уткнувши лапы в бока, спесиво и свысока.
Диалог занял добрую половину ночи, пока Лап-не-по-кладай наконец не заснул, и тогда целое стадо окрестных зверей пришло, как это бывает во сне, дать ему поскорей совет:
— Ох, адмирал, адмирал, мы смеемся сквозь слезы! Что сказали бы твои друзья, если бы услышали сейчас тебя, если бы увидели, кем ты стал!
Шалопутяне обошлись с тобой, как с человеком, не так ли? А ты забыл о них и радуешься этому спектаклю?
Ведь могли они посадить тебя в клетку и возить по ярмаркам с зажженной свечой на носу, и, измученный ротозеями, ты танцевал бы на битом стекле вместе с гремучими змеями!
И тогда роль адмирала себя исчерпала, и мусорщик стал вспоминать, что раньше на острове было вовсе нечего убирать, и птицы пели, и цвели цветы под кружение Карусели.
Утро застало его в слезах, он сидел на кровати и плакал, но слезы его были чисты, а на душе — почти благодать.
Утро ласково потрепало мусорщика по макушке, и он услышал такие слова:
— Вот видишь, какие дела, люди тоскуют по родине, а ты — по уборке.
Тогда Лап-не-покладай поднялся и решительно зашагал во дворец, где Генеральный Казначей его уже заждался.
Тот не сомневался, что придуманный им трюк удался и он теперь узнает чрезвычайно важные сведения, поэтому он усадил Лап-не-покладая и, времени не теряя, осведомился о его здоровье.
— Надеюсь, адмирал, вы видели добрые сны! Я же, радея о высших интересах страны, глаз не сомкнул, увы!
— Я тоже — увы! — но ситуации не равны! — улыбнулся адмирал, скрипнув зубами.
При виде его улыбки Казначей тут же исторг новые потоки слов и не расслышал скрипа зубов:
— Надеюсь, бумаги при вас, и с вашей помощью мы тотчас вернем этих возмутительных рудокопов на прямую дорогу… приласкаем их… одним словом… и… О! Я буду великодушен!
Для тех, кто потолковей, выбор ясен: Исправительная колония или Рудник. Что касается упрямцев… без малейшего колебания… р-раз!.. и крышка! — Холеная рука Генерального Казначея рассекла воздух, как гильотина. — Если голова никуда не годится, единственный выход — от нее освободиться!
— Вы правы, генерал! — сказал Лап-не-покладай. — Единственный выход — от нее освободиться. Но почему же тогда она еще у вас на плечах, если сабля у меня в руках?
В мгновение ока ножны опустели, как дом, из которого уехали дети, а Лап-не-покладай, не докончив фразы, ухватился за саблю всеми лапами сразу и стал крутить ее все быстрее над головой Генерального Казначея.
И вдруг Казначей стал белым, как сахар, и даже белей кусочка сахара, что дрожит в белых пальцах над черным кофе, который дымится и блестит.
Перед лицом опасности он собрал все оставшиеся мысли и предоставил слово храбрости, но храбрость в это утро не отличалась разговорчивостью и промолчала. Тогда Генеральный Казначей решительно и твердо высказался вместо нее:
— Попавлинуплинцам пора смыться! Трубы, трубите! Барабаны, гремите! Общий сбор! Драпаем во весь опор!
И он прыгнул в окно, надвинув кепи на глаза.
И так как названный головной убор военного образца был оснащен двумя козырьками: спереди, чтобы смотреть в лицо врагу во время героического наступления, и сзади, чтобы спасать свое лицо во время не менее героического бегства, то отступление Генерального Казначея носило характер стратегически рассчитанного контротступления.
Это только подзадорило Лап-не-покладая, который бросился за Генеральным Казначеем, издавая звуки такого странного и широкого диапазона, что издалека их можно было принять за грохот извержения вулкана или завывания дикого циклона.
Когда этот шум докатился до гор, пещер и лесов, островитяне развеселились:
— Ура! Вот оно — Знамение, Карусель закружится снова без промедления!
Они только и ждали любого сигнала неведомо откуда — падающей звезды, улыбки луны или солнечного затмения, или стада белых китов на горизонте во время волнения — или думали: вдруг кто-нибудь наткнется на бутыль виноградного сока с позолоченным штопором, ввернутым наполовину, и, значит, настанет пора спускаться в долину.
И вот они спустились, живо и ходко, вместе со своими дромадерами, и лосями, и Крошкой-Бархоткой.

Внизу они увидели Лап-не-покладая, который лежал, отдыхая, под деревом на траве: от быстрого бега он очень устал, а от громкого крика звенело у него в голове.
Но когда он сообразил, что это идут радостные и решительные островные жители, то вскочил и запел:
Тут луна приподняла голубую завесу облаков, улыбнулась и увидела, как Лап-не-покладай в полной парадной форме адмирала скачет все веселей и резвее во главе своих войск на боевом коне Генерального Казначея, скакун преследует хозяина, а Лап-не-покладай — бравую армию попавлинуплинцев. Скакать во главе своих войск Генеральный Казначей был бы тоже не прочь: это место рассчитано на военачальника точь-в-точь такого высокого звания и принесло бы ему и славу, и заслуженную отставку по праву.
Но он вскарабкался на круп конной статуи, что была делом рук скульпторов, дипломированных Художественным салоном продажного искусства. Она изображала именно его, Генерального Казначея, и была заказана им самим для себя самого давно и по причине собственных заслуг перед Ничегостровом Сокровищ.
Он ни за что на свете, а тем более в случае опасности, не согласился бы покинуть сей подлинно музейный экспонат, ценность которого была неоспорима для родины, искусства и просто как факт.
Когда путь шел под гору, отступление катилось как по маслу, и Генеральный Казначей выражал подобающую случаю удовлетворенность, но стоило дороге выказать склонность к подъему, тотчас чистокровный жеребец литого золота начинал на горках задыхаться, будто загнанный Пегас, и Генеральный Казначей не мог не волноваться.
Тем более что ему надо было, без сомнения, догнать свою малочисленную армию, которая печатала шаг ускоренного контротступления уже далеко на мосту, но все равно не поспевала за автобусом цвета золотого тельца, в котором Акционеры мужественно и без конца горланили национальный гимн попавлинуплинцев — он помогает сохранить самообладание:
Акционеры пели так тоскливо, мрачно, неуверенно и фальшиво, что казалось, это хор крокодилов стенает и горючими слезами рыдает над несчастьями плакучей ивы, которая полощет ветви в их водоеме.
А на острове пели счастливо и радостно в каждом доме. И Лап-не-покладай желал Генеральному Казначею в пути головы не снести и сиял в прощальной улыбке безукоризненно белыми зубами.
Хор островитян и их милых домашних животных трогательно подхватывал, повторяя доброе напутствие Лап-не-покладая:
Внезапно раздался ужасный треск.
А надо сказать, что с некоторых пор дела на Континенте стали весьма дурны. Все, даже инвалиды, которым не на чем было стоять, встали на тропу войны.
Пары войны витали над Континентом, как над блюдом военного приготовления, но так как этот рецепт войны в холодном виде или подогретом требует уйму денег и нервного напряжения, то военные приготовления их и поглощали.
Крупные владельцы военной кухни имели даже великодушие своих рабочих предупредить, что в подобный момент нервы хозяев должно щадить и что без зарплаты они вполне способны прожить.
Тогда рабочие Главного моста решили не дожидаться своего бесплатного конца и покинули рабочие места, пока еще могли ходить.
Главный мост при этом, хоть и был с триумфом открыт, но, во избежание опасности, требовал усовершенствования в комплексе и завершения работ в частности.
Тогда строители, разуверившиеся в обещаниях Администрации, решили вернуться в свои далекие восвояси, унося болты и гайки, которые они выбрали с большим тщанием и вниманием на память и в качестве компенсации.
С этих пор, если море позволяло себе разволноваться, стальные сваи понтонного моста начинали подозрительно качаться, а мост стонал скрипуче и басисто, как старый аккордеон в руках у подвыпившего аккордеониста.
И вот когда Генеральный Казначей пустил своего литого золота коня по мосту в галоп — доблестной армии вдогонку и вводя себя в раж — тем самым он подал сигнал, чтобы начался общий демонтаж.
А поскольку золото тяжелее воды, а сталь поддается коррозии, то незамедлительно и в едином порыве большой золотой конь и Главный стальной мост исчезли в волнах под фейерверк из соленых брызг и золоченого металлолома.
Но Генеральному Казначею тем не менее посчастливилось во время своего головокружительного погружения ухватиться за кассовый ящик.
Вместе с золотокопателем, тоже уцелевшим вопреки падению, он нашел пристанище на этом посланном провидением плоту «Медузы»[155] и, без колебаний приняв командование на себя, закричал впопыхах:
— Вперед, к Континенту на всех парусах!
— Мой генерал, но парусов у нас вовсе нет! — золотокопатель сказал в ответ.
— Глупости, ей-ей, — возразил Генеральный Казначей, — плыть так плыть! На волне как на волне! Не матрос, а сущее наказание. Если у вас нет парусов, то воспользуйтесь веслом, кормовым или каким другим.
Золотокопатель изо всех сил использовал подручные средства, но течение и прибой с поразительной быстротой относили их все дальше от Великого Континента.
— Что за безобразие! — вскричал Казначей. — Дела ни к черту, нас несет к горизонту!
Потом он взорвался:
— Да кто здесь командует, наконец, вы или я?
— Увы, — ответил, рыдая, золотокопатель, — ни я, ни вы. Командует море, и как ему заблагорассудится!
Словно дурной сон или рассеивающийся дым, исчезал на горизонте Генеральный Казначей, а Лап-не-покладай и боевой скакун Казначея, сидя рядом, провожали его с берега прощальным взглядом.
— Как ты думаешь, далеко они уплывут? — спросил скакун.
— Не очень, — ответил Лап-не-покладай. — Море полно неожиданностей: акулы, гигантские скаты, пятнадцатиметровые киты… и потом по нему бродят приливы, тайфуны и фосфоресцирующие волны огромной высоты… Да, море полно неожиданностей, — повторил он всерьез, — и мне, как адмиралу, хорошо известен этот вопрос!
Потом они заговорили о другом.
— Ты знаешь, — сказал мусорщик, — они так насорили кругом, что у меня еще будет хлопот полон рот!
— Я тебе помогу, — сказал конь, — я потащу воз.
— Но у меня только маленькая тележка, — поскромничал Лап-не-покладай.
А конь улыбнулся на это:
— Здесь осталась прекрасная вещь — золотая антикварная карета, и я знаю, где она хранится: ее приготовили для свадьбы Генерального Казначея на случай, если ему в голову придет жениться.
— Я думаю, уже не придет, — сказал Лап-не-покладай, — а карета нам подойдет.
И они запели.
А дальше события так и полетели.
Почти сразу же после крушения моста было внезапно свергнуто правительство попавлинуплинцев. Оно рассыпалось, как старый шкаф при переезде вместе со всем, что пылилось в нем.
Потом акционеры общества «Ничегостров Сокровищ и К0» были новым правительством незамедлительно брошены в тюрьмы, помыслы этого нового правительства страны были столь же грязны, как поползновения прежнего, но создание политического мнения у населения обязывает к некоторым уступкам.
А так как Генеральный Казначей загадочным образом исчез из обращения, то сведущие люди, по обыкновению, свалили на его нерадение всю ответственность за злополучную экспедицию.
Его обвинили в том, что он специально замыслил разрушить мост и ускользнуть, поджав хвост, на корабле-призраке, кстати перворазрядном, предварительно погрузив на него последние золотые самородки с этих несчастных, тощих и ничтожных копей, которые не стоили стольких страданий.
Приличия, таким образом, были соблюдены, и Генеральный Казначей, который так предательски смылся, был приговорен, кабы он когда-нибудь объявился, к повешению или расстрелу по его усмотрению.
Но он больше не появился.
А на остров вернулось счастье после печалей и бед — и он снова стал маленьким шалопутом, неизвестным, презренным, заброшенным Островом, Которого Нет.
И вновь Карусель смогла закружить. И вновь можно было любить, веселиться, работать — жить.
А так как люди с Великого Континента, покидая остров, оставили звуковое кино, то, худо-бедно, островитяне начали его крутить, поскольку хотели раскусить, что это за штука такая.
Штука показывала хронику, и военные парады, и учебные ленты по охоте на павлинов.
Тогда островитяне сами себе сняли кино — ведь они все для себя делали сами давным-давно.
Луна освещала белый экран, натянутый во всю ширь прибрежных скал, и они смотрели мало-помалу все, что приходило им в голову, все, что на сердце у них лежало.
Там было всякое: и глупое, и смешное, и красивое, и грустное, и всегда в черно-белом или цветном варианте.
И вновь распахнулись все двери радости, счастью, надежде на острове, который теперь одни называли Новым Счастливым Островом, а другие, не мудрствуя лукаво, — Островом Как Прежде.
РОБЕР ДЕ ЛА БИШ
ДОРОГА КАКАО
Была на свете одна страна, где солнце светило так ярко, что люди ходили почти совсем голыми, и кожа была у них такая черная, что называли их африканцами.
Белые люди тоже жили в этой стране. Но не везде. Например, они никогда не появлялись в поселке Мбассикро, в котором — как это видно по его названию — жили мбасси. Именно поэтому мбасси и сохранили нетронутой свою цивилизацию. Когда умирал король, они хоронили вместе с ним заживо еще триста человек: им нравилось быть большими роялистами, чем король; еще они бросали в реку сердце, вырванное у девственницы, чтобы задобрить бога рыбной ловли, если не клевала рыба, и представьте себе — помогало! — голод и в самом деле отступал, когда они доедали остатки жертвы. Будучи людьми практичными, они заставляли работать жен и продавали дочерей. Последнее свидетельствует как о большом уважении к семье, так и о несомненной мудрости: женились, как правило, рано, чтобы дочерей было побольше, и усердно заботились о своих супругах и дочерях: ведь первых недешево купили, а вторых намеревались продать подороже. Рождаемость, которая, как всем известно, является критерием нравственности, была огромной: в надежде на появление дочери сыновьями не пренебрегали тоже — ведь сыновья потом могли сами купить чьих-нибудь дочерей. Если у незамужней дочери вдруг рождалась дочь, все были только довольны: ведь она приносила дому столько же благосостояния, сколько и свидетельств своей сноровки.
А раз они не боялись всеобщего осуждения, то и не были суровы к мужчинам, которые, благодаря этому, могли рассчитывать на несколько женщин сразу. И все были счастливы. Так процветал этот принцип первичности семьи — вот редкостный пример успеха законодательств! — к удовольствию каждого и никому не в ущерб. И такое вот превосходное положение дел было счастливым отражением благополучия и справедливости в природе: солнце сжигало то, чего не сумел задушить лес, работа, тягостная из-за невыносимой жары, была, впрочем, совершенно бессмысленна и ни у кого не вызывала уважения, а фруктовые деревья не заставляли упрашивать себя одиннадцать месяцев в году, чтобы затем соизволить наконец даровать бесполезное многообразие водянистых фруктов, а целый год производили питательные плоды.
Айсату была самой красивой девушкой в Мбассикро. Никто точно не знал, сколько ей лет, но одно было несомненно: для замужества в самый раз. С тех пор как к ней пришла первая кровь, она сменила одежду девочки — узкий пояс, украшенный жемчугом и разноцветными лентами, — и оделась, как настоящая женщина: от талии до колен.
Айсату была самой красивой девушкой в Мбассикро, но и самой капризной. Поклонников у нее было много, но, вместо того чтобы удовлетвориться дарами, которые те могли принести ее родителям, она заявила, что уступит лишь тому, кто принесет самый редкий и изысканный подарок; а всякий знает, как трудно изобрести свадебный подарок, который не смогли найти десятки претендентов до тебя. Поначалу в ее хижину приносили самые обычные подарки, всякие там бивни слона, звериные шкуры, золотые самородки и сростки алмазов, но надо же быть полным идиотом, чтобы обращать внимание на то, что валяется у всех под ногами… Понимая, что так легко не отделаешься, претенденты отправились в город искать что-нибудь эдакое.
Первый принес патефон. С воображением у него было не очень: ведь всем кругом известно, как африканцы любят патефон. В глубине души Айсату была довольна, но даритель нравился гораздо меньше, чем подарок, и, кроме того, в Давукро — всего в тридцати километрах отсюда — уже был патефон. Еще ей подарили швейную машинку, велосипед, аквариум… А через несколько дней, когда влюбленные трепетали от ожидания, она раздарила все эти подношения своим подругам, публично демонстрируя тем самым свое презрение.
Самого пылкого ее воздыхателя звали Саиду, но он был не очень изобретателен и, по всей вероятности, не имел больших шансов на успех, потому что был скорее поэтом. Он до сих пор так ничего и не преподнес, разве что с полдюжины красивых птичек да нескольких зверей, попавших к нему в капкан; Айсату съела их безо всякой благодарности. Тем не менее, в глубине души он все же надеялся на блестящий реванш. Но Саиду чуть было не расстался со всеми своими мечтами, и свет почти померк в его глазах, когда один из кандидатов однажды принес пылесос с бензиновым двигателем. Никогда еще ни один африканец пылесоса не видел. Что, впрочем, не помешало Айсату тут же найти ему применение. Заменив камеру для пыли лоханкой, она сделала запас воды из неглубокого колодца. А вечером она повесила свою собственность на ветку дерева, и в мгновение ока в пылесос всосало целый рой слепых бабочек, которых она затем раздаривала всей деревне. Для Саиду она была потеряна навсегда.
И тогда он отправился к колдуну, а тот — на то и колдун — словно бы поджидал его прихода и продал ему амулет «гри-гри» как раз для такого случая.
На следующее утро Саиду вышел из дому рано, чтобы осмотреть капканы, поставленные возле тропинки недалеко от поселка. Но он был страшно удивлен, увидев, что лес смыкается перед ним. Там, где еще накануне дорога петляла среди непролазных зарослей, теперь стояла сплошная стена кустарников. Осматривая местность со свойственным охотнику чутьем, Саиду вскоре понял, в чем дело: дорога попала в капкан.
Да, нечасто Саиду приходил в замешательство, а такого странного случая он вообще припомнить не мог и был, надо признаться, озадачен.
Поначалу он не мог сообразить, какую выгоду извлечь из такого вот приобретения и зачем ему дорога, по которой он мог всегда ходить сколько угодно, но, поразмыслив, заключил, что отсутствие дороги помешает поклонникам Айсату идти в город за подарками. И Саиду вытащил дорогу из капкана, свернул в несколько раз, чтобы не занимала много места, положил в мешок и вернулся в поселок с мешком на голове.
Когда он поравнялся с первыми хижинами, женщины, стоявшие у дверей, решили, что это он возвращается с охоты, а его набитый мешок навел их на мысль, что он подстрелил, по крайней мере, лань. Они надеялись, что им кое-что перепадет тоже.
— Эй! — крикнула одна из них. — Это ты сегодня уже успел подстрелить так много дичи для Айсату?
«Для Айсату? — подумал Саиду. — А что? Это мысль!» — и принес ей дорогу. Вот это был подарок так подарок! И Айсату сразу же отдала свой пылесос колдуну, который был ленивым и очень обрадовался, что теперь можно, не наклоняясь, собирать с земли ящериц, жаб и лягушек, необходимых для изготовления приворотного зелья и амулетов «григри».
Увы, счастье не бывает безоблачным, и жители Мбассикро, оставшиеся без дороги, не замедлили устроить Айсату скандал. Айсату спрятала мешок с дорогой в угол хижины и не выходила оттуда, боясь, что дорогу украдут. Все ругались и осыпали ее упреками. И в конце концов, чувствуя, что дело может обернуться плохо, она решила уйти к Белым Людям и однажды ночью положила мешок на голову и ушла или, как теперь говорят, «направила дорогу» в город.
По пути она срывала с деревьев фрукты — у них, как известно, очень вкусная мякоть. Айсату спустилась к лагуне и отвязала лодку. Она плыла восемь дней и девять ночей. Лагуна была ей незнакома, и где находится город, она тоже не знала. Но в поселке она часто слышала, как все говорили, что город — «там», не могли же все поголовно ошибаться. И правда, однажды утром она увидела довольно узкую полоску воды, на одном берегу какие-то строения из цемента, на другом — хижины. Вскоре ее лодка уткнулась в песок африканского берега. Ее тут же окружили со всех сторон.
— Где живет Брахима? — спросила она.
На берегу было, по крайней мере, пятнадцать Брахим, и каждый из них знал еще двадцать, но все поняли, что тот, кого она искала, был мбасси, потому что в ней самой сразу распознали мбасси, и торжественно, в окружении людей, со своим мешком на голове, она предстала перед вождем племени.
Вождь Мамади, этот старый пройдоха, поселился здесь очень давно. Он был обладателем концессии[156], огороженной забором из бочарных досок, и красивого домика, тоже из досок, на которых можно было прочесть: «К.Т.О.А. — Не кантовать» и «Вестингхауз — верх — низ», покрытого листовым железом. У него было много жен и множество детей.
Кроме собственно семьи со всеми потомками, родственниками и детьми родственников, он кормил и поил всех проходящих мимо мбасси. Он был богат. Кое-кто из его «детей» — а папой его называли все представители младшего поколения — были коммерсантами-экспедиторами. Их грузовики рыскали по зарослям в поисках «товара» (кофе, какао, кола), чтобы повыгоднее продать его своим компаньонам. Экипаж грузовика тоже жил у вождя: начальник, который командует на борту, шофер, подручный для багажа, который должен спрыгнуть на землю и идти за грузовиком с тяжелым багажом в тех случаях, когда машина не может двигаться из-за невообразимых дорог; и еще подручные, один или два, — чем больше у шофера подручных, тем лучше. Женщины ходили продавать на рынок орехи колы (один белый и два красных за пять франков, потому что белые — лучше) или кроваво-красное масло пальмы хамеропс, которое добывалось простым кипячением, или корни имбиря, или зубочистки — щепки из мягкого дерева, которые мнут, чтобы сделать нечто вроде кисточки, и трут ею зубы и десны… Малыши насыпали в коробки сигареты и жевательную резинку и тоже несли все это продавать европейцам. Двое «детей» спекулировали золотом и оружием. Это, конечно, было запрещено, но Мамади умел подойти к любой Администрации и время от времени подбрасывал полиции кое-какие сведения о контрабанде. Кроме этих источников дохода вождь обладал несколькими плантациями, на которых работали так называемые «пленные». Дело в том, что, хотя Белые Люди и утвердили в Африке Кодекс о труде с пособием на семью (в том числе и на ту, где несколько жен), многочисленные африканские феодалы использовали и бесплатных «пленных». Это были несчастные африканцы, уцелевшие при набегах, сделанных, разумеется, еще до прихода Белых Людей. И честно говоря, после прихода — тоже. Весь этот люд (ртов около восьмидесяти) копошился на территории сорок на сорок метров вместе с курами, свиньями и быками, хотя все эти животные, надо признаться, большую часть своей жизни проводили на улице в поисках отбросов.
Вождь Мамади превосходно знал Брахиму, который, приехав сюда, некоторое время жил у него, пока не приобрел домик рядом с мечетью Диула. Он служил своему Белому Господину и в качестве «брата» Айсату (то есть, может, брат, может, наполовину брат, может, просто какой-нибудь родственник или свойственник) должен был предоставить ей еду и жилище.
Айсату со своим мешком пошла за ним. Дом Брахимы был дощатой хижиной три на два метра, построенной прямо на земле, прикрытой пальмовыми листьями и просмоленной бумагой, которая была прижата камнями и какими-то старыми железяками.
Дом этот совершенно терялся в беспорядочном нагромождении подобных жилищ. Айсату познакомилась с двумя женами своего «братца» и его семью детьми. К своему Белому Господину Брахима ходил утром — с семи до четырнадцати — и вечером — с семнадцати до двадцати одного часа.
Однажды Брахима сказал своему Белому Господину:
— Господин, хочешь, вечером я тебе прислать женщину?
— Опять, небось, приведешь какую-нибудь многодетную мамашу, у которой груди болтаются, как перезрелые ананасы!
— Нет, господин, это моя маленькая сестренка, молоденькая и хорошенькая. Она вот такая, — добавил он, приставив к груди два крепко сжатых кулака.
— Ты всегда так говоришь! Ну, если только она не «такая», подарка тебе не будет.
— Хорошо, господин.
В два часа Брахима сказал Айсату:
— Вечером я поведу тебя к Белому Господину.
— А Мадам?
— У него нет Мадам. Ну, может быть, и есть где-нибудь во Франции.
А в пять часов вечера Айсату ушла с Брахимой. Белый Господин был занят: в своем кабинете он чертил мосты и дороги. Она ждала на ступеньках кухни, когда он освободится. Брахима представил ее:
— Господин, вот она.
Тот был приятно удивлен. Айсату была в самом деле «вот такая».
— А! На этот раз, Назэр, твой язык не солгал!
— А кто это — Назэр? — спросила Айсату.
— Это я, — ответил Брахима. — Меня здесь называют Назэр.
— А почему?
— Потому что я христианин!
Назэр такое же распространенное имя среди африканских христиан, как Патерн, Приво, Элож, Сириак, Фульбэр или Анисэт. Здешние священники любят давать имена святых, от которых сама Европа давно отказалась.
Белый Господин принял душ, переоделся, пообедал, а Айсату сидела на ступеньках кухни, пока он ее не позвал…
Назавтра Белый Господин поселил ее в пустом хлеву.
— А что это у тебя? — спросил он, показывая на сумку.
— Это дорога в мой поселок, — ответила Айсату.
Белый Господин открыл сумку и увидел песок. «Какая сентиментальность, — подумал он. (Сам он жил здесь всего четвертый месяц.) Тащить такую тяжесть, чтобы иметь при себе немного родной земли! А у меня нет ни камешка из Франции! Бедняк сильнее привязан к родной хижине, чем принц к своему дворцу».
— А это? — спросил он, показывая на плод. — Зачем ты принесла какао?
— Это чтобы есть.
— Ты ешь это прямо так?
— Я есть это (мякоть), а это выбрасывать (зерна).
— Но это же дорого стоит! Зачем выбрасывать?… А этого там у тебя много?
— Много! Мы есть это, а выбрасывать это.
— А таких деревьев тоже много?
— Много!
— Разве Белые Люди не приезжают к вам их собирать?
— Они — никак не приехать. Машина — не приехать. Нет дорога.
— Никакой дороги?
— Дорога была раньше, а больше — нет. Саиду хотел жениться и поймал дорога в капкан. Вот дорога, в сумке.
— А как же ты пришла?
— Есть лагуна.
Белый Господин, надо признаться, ничего не понял в этой истории с дорогой, впрочем, ему не слишком-то и хотелось вникать в эти подробности. Так прошла неделя, он кое-кого порасспросил и вместе с другим Белым составил проект. В субботу он предупредил Айсату:
— Завтра поведешь меня в свой поселок. Я хочу посмотреть на деревья.
— Завтра нельзя. Завтра я иду на службу. С Назэром.
— Назэр ходит в церковь?
— Он же христианин!
Назэр привел свою «сестренку» в церковь и усадил на скамью между двумя женами. Его старшие дети собирали пожертвования на храм. Выходя из церкви, все семейство подошло поприветствовать «Батюшек». Они стали расспрашивать Назэра о «сестренке», им хотелось надеяться, что непоправимое еще не свершилось, и Айсату — лишь бонна у детей Белого Господина. Когда же они узнали, что тот был холостяком, один из «Батюшек» посоветовал Айсату как можно быстрее вернуться обратно в поселок, «дабы никто не похитил твой самый ценный дар».
Сердце Айсату перестало биться. Как, значит, и в городе тоже кто-то хочет украсть ее дорогу?
— Но я пришла сюда как раз для того, чтобы сохранить это, — стала уверять она.
— Это не самый удачный способ. Лучше вернуться в поселок, и там какой-нибудь порядочный человек найдет дорогу к твоему сердцу.
«А! Так вот как у белых, — подумала Айсату. — Он почему-то хочет, чтобы дорогу у меня отняли не в городе, а в поселке. Странно!» А вслух сказала:
— А-ан! (Что означало: понимаю.) — И вернулась к Белому Господину, который вместе со своим другом уже ждал ее. Они поехали вчетвером с Назэром, в лодке с мотором. К вечеру были уже у поселка и заночевали в лодке. Утром отправились в заросли: там было полно деревьев какао, с которых никогда не собирали плодов. Тысячи гектаров!
— Я буду делать дорогу к твоему поселку, — сказал Белый Господин. — Веди меня к вождю.
Вождь сказал ему:
— Иди к Саиду. Это он взял дорогу, он должен ее построить снова.
«Почему бы и нет? — подумал Белый Господин. — Такой здоровяк прекрасно сможет водить бульдозер!»
Но Саиду был в отъезде, и пришлось еще раз ночевать в лодке. А утром, когда Белый Господин появился в узкой хижине с Айсату, Саиду нежно прошептал девушке на ухо:
— Когда я построю дорогу, я женюсь на тебе!
Дорога строилась быстро. Бульдозеры ее размечали и выравнивали, чудовищные трактора тащили огромные прицепы с измельченной галькой и разбрасывали ее, а катки тут же уплотняли путь. Потом прибыла совсем уже невиданная машина: спереди она была соединена с опрокидывающимся кузовом грузовика, где было полно камешков, а сзади за ней тянулась блестящая лента уже уплотненного битума. Однако до конца было еще далеко. Белый Господин часто бывал задумчив. Айсату по-прежнему жила у него. Саиду яростно водил свой бульдозер со всем пылом любовной горячки. Он хотел как можно скорее покончить с этой дорогой и жениться на Айсату. Родив ребенка от Белого Господина, она стала очень соблазнительной девушкой, и ее груди приятно покачивались, радуя взор.
Наконец строительство было закончено, но дорогу открыли не сразу: ждали министра общественных работ. Он должен был приехать в страну с недельной инспекцией (министры узнают обо всем быстро), и путь его был украшен всеми благами цивилизации: дороги, мосты, набережные, заводы и званые обеды.
И вот наконец настал день приезда. Официальные лица, встречающие самолет, были несколько озадачены, увидев, что вместо дородного министра появился маленький старичок с куцей бороденкой, который объявил:
— Мой коллега немного прихворнул, но ваша замечательная дорога ждать не может.
Это был министр по делам культов. Но в конце концов какая разница? И если уж свита не заметила подмены, то населению было и подавно все равно.
При въезде в город поперек дороги трепетала трехцветная лента. Министр торжественно разрезал ее, сел в машину и двинулся во главе каравана. Но не успела машина проехать и нескольких метров, как из толпы, стоявшей вдоль дороги, вышла молодая, красивая женщина и высыпала перед автомобилем песок из своей сумки, которую держала на голове. При виде этого знака почтения, несколько непредвиденного, но такого непосредственного и искреннего, министр дал шоферу знак остановиться и высунул нос из-за занавески.
— Вот дорога к моему сердцу, — сказала Айсату.
Очевидно, самой ей она была больше не нужна. Но министр решил, что покорил сердце женщины. Ослепленный, он открыл дверцу, и Айсату проскользнула на сиденье машины под яростные рукоплескания зрителей и несколько более сдержанные аплодисменты официальных лиц.
Поначалу Айсату было решила, что самый главный — это ее Белый Господин, который придумал строить дорогу, затем, видя, как решительно водит бульдозер Саиду, она подумала, что самый главный — это он, ведь он делает дорогу. Но в конце концов она поняла, что самый главный — это министр, ведь никто не осмелился поехать по дороге раньше, чем он, и министр, хотя и старый, все же могущественней молодого дорожного рабочего.
В машине она своими улыбками попыталась показать своему спутнику, что согласна на все. Министр улыбался тоже, но сидел в своем углу, как дурак.
«Старый, он, наверное, уже и забыл, как надо», — подумала Айсату.
И тогда, чтобы прийти ему на помощь, она приблизилась к министру, взяла его руку и положила себе на грудь.
— Боже мой, — задохнулся министр, — как давно я не видел такого простодушия!
Вечером, после того как по случаю открытия дороги в Мбассикро было выпито все вино, Саиду направился в хижину Айсату. Ее старшая сестра баюкала белого ребенка, а самой Айсату не было: она уехала с министром.
Амулет «гри-гри» не помог. Саиду отправился к колдуну и съел его, чтобы наказать, хотя тот и был старый и костлявый. И правильно сделал, между прочим, потому что соотечественники сразу же сделали колдуном его, Саиду.
С тех пор тысячи тонн какао были перевезены по этой дороге. Белые так и называют ее: «Дорога Какао», но африканцы зовут «Дорога Канальи».
КРИСТИАН ПИНО
СКАЗКА О МОЛОДОМ ВОЛКЕ
Её звали Каролиной, как и всех других маленьких девочек того времени,"она всегда ходила в платьице и капюшоне из красного полотна, и в иные времена ее, несомненно, прозвали бы Красной Шапочкой.
Он же был молодой волк, след которого потерян во времени и скрыт в лесу, но, несмотря на это, он был истинным потомком того знаменитого зверя, который прославился тем, что в один день съел без остатка маленькую девочку и ее бабушку.
О них и сложена эта сказка.
Однажды воскресным утром мама Каролины позвала дочь, которая играла в куклы возле дома.
— Возьми, — сказала она, — этот горшочек с маслом и булочку и отнеси бабушке, которая живет за лесом. Только смотри не задерживайся в пути. Я не хочу, чтобы ты опоздала к обеду.
Положив гостинцы в корзинку, Каролина отправилась в путь. Она ничего не опасалась, так как прекрасно знала, что волки — это вымышленные животные, которых придумали родители, чтобы обрести хоть немного покоя. К тому же она не раз проходила через лес без всяких приключений.
В этот день молодой волк, которого местные птицы неизвестно почему прозвали Гонтраном, покинул свое обычное убежище, чтобы раздобыть себе на завтрак чего-нибудь посытнее того, что ему обычно удавалось достать в эти трудные времена.
И вот на повороте девочка и волк встретились.
«Какая красивая собака!» — подумала Каролина, но не решилась погладить Гонтрана.
«Хороша девчонка!» — подумал молодой волк, придавая этим словам какой-то свой особый смысл.
Завязался разговор, и вскоре Каролина выболтала своему случайному собеседнику, куда и зачем она идет.
Гонтран не сплоховал.
Он уже собирался съесть девочку — ведь так поступил бы на его месте любой другой волк, — но Гонтран, не забудьте, был потомком знаменитого волка. Итак, через несколько столетий все повторилось: девочка в красной шапочке, горшочек с маслом, бабушка, живущая за лесом, и только вместо пирожка — булочка; но это не имело значения — ведь волк не любил мучного.
Гонтран не был бы достоин своего знаменитого предка, если бы поддался первому же порыву. Он решил повторить славный подвиг прадеда.
— Мне надо идти, — сказал он девочке. — У меня много дел, а день короток, но раз я имел удовольствие познакомиться с тобой, я непременно постараюсь встретить тебя снова.
Восхищенный собственными словами, тайный смысл которых мог оценить лишь он один, волк пустился бежать по лесу, чтобы оказаться у бабушки раньше Каролины.
У бабушкиной двери он сильно дернул звонок.
«Вот невежа, чуть звонок не оборвал!» — подумала бабушка и пошла открывать с твердым намерением высказать пришельцу, что она о нем думает.
Итак, мы с вами добрались до второй части нашей сказки: молодой волк и бабушка встретились.
Но времена сильно изменились. Волк был еще очень молод и не обладал силой своего предка, а бабушка — крепкая пожилая женщина с сильными большими руками, да и зубы у нее были не менее грозные, чем у ее противника. Оба были готовы к бою.
А в это время Каролина разгуливала по лесу и полными пригоршнями уплетала спелую лесную землянику. Да и кто на ее месте устоял бы перед таким соблазном! Час обеда давно уже прошел, и масло в горшочке успело слегка подтаять, когда она добралась до бабушкиного дома. Бабушка преспокойно сидела за обеденным столом и, по обыкновению, приветливо встретила свою внучку.
— Поздновато ты явилась, Каролина. Мне пришлось готовить обед на гусином жире, это слишком тяжело для моего старого желудка, твое масло пришлось бы очень кстати.
Но булочку я с большим удовольствием съем на сладкое. Садись, пообедай! У меня сегодня превкусное жаркое, и мне его одной не съесть.
— Нет, спасибо, — ответила Каролина. — Я и так уже очень запоздала, мама будет волноваться. Боюсь, как бы папа не задал мне трепку.
— Ну, в таком случае, — сказала бабушка, — беги поскорее да отнеси маме в благодарность за ее гостинец этот паштет, который я приготовила для нее. Я положу его в горшочек от масла.
Маленькая девочка пошла домой. Дорогой она все удивлялась, как это могло случиться, что на ее аккуратной бабушке было измятое платье и обвисший чепчик.
Она очень боялась, что ее накажут, если она задержится в лесу. Но в пути ее никто не останавливал по той простой причине, что она уносила с собой в горшочке кусочек молодого волка.
ГРОТ КОКЕТОК
Жан-Мари был не из тех парней, кого девушки за глаза называют «красавчик». Нос у него был толстоват, рот слишком велик, волосы не слушались гребня, а главное, в яркие солнечные дни лицо его сплошь покрывалось веснушками. Можете себе представить, какие насмешки он переносил, какие прозвища получал из-за этих веснушек! Это уж как водится…
Впрочем, все было бы ничего, да полюбил Жан-Мари Розалинду, самую красивую и самую кокетливую девушку во всей деревне. А чтобы такая девушка обратила внимание на парня, он должен был быть совсем не таким, как Жан-Мари.
Но Розалинда не отталкивала парня от себя, и это было хуже всего. Его непрестанное восхищение ею нравилось девушке, ведь она только этого и хотела. Вместо того чтобы тактично отказать ему, она играла его робостью, иногда ненадолго вселяла в его сердце надежду, разрешив проводить себя на бал, а потом танцевала с другими. Одним словом, она делала его несчастным, и это доставляло ей удовольствие.
Однажды Розалинда исчезла.
Она пошла после обеда к обрыву нарвать полевых лилий, запах которых так нежен и крепок, да так и не вернулась, хотя уже наступил вечер.
В тот же вечер были начаты поиски. Руководил ими Жан-Мари, сердце которого разрывалось от тревоги.
Всю ночь парни из деревни с зажженными факелами в руках бродили по зарослям камыша вдоль скалистого берега, по оставшимся после прилива лужам морской воды, полным ракушек. Они обшарили скалы наверху и внизу. На следующий день, едва занялась заря, Жан-Мари спустился по веревке, чтобы посмотреть, не повисла ли Розалинда на каком-нибудь выступе скалы.
Поиски оказались тщетными. Волны тоже не принесли тела Розалинды, так что самую красивую девушку деревни не пришлось даже похоронить и никто не положил венков или белых цветов на ее могилу.
Мало-помалу парням надоели поиски, и воспоминание о Розалинде не мешало им отплясывать по воскресеньям с другими кокетливыми девушками. Но Жан-Мари не хотел веселиться с ними. Он не мог не искать Розалинду. У него уже не было надежды найти ее живой, но ему хотелось посидеть на могиле любимой девушки, а не оплакивать ее над бескрайним простором моря, где покоится столько неведомых жертв.
Однажды утром Жан-Мари сел в лодку с намерением еще раз осмотреть бухту Уединения, которая получила свое название за то, что в нее не могли проникнуть со стороны скал даже самые сильные и ловкие юноши. А чтобы добраться до нее с моря, нужно было пройти очень опасное место — большую мель. Зато в бухте отважного путешественника ожидала награда — прелестный песчаный пляж, так и манивший прилечь отдохнуть и погрезить. Там можно было купаться вдали от толпы, которая на больших курортах пытается вытеснить море из берегов.
Жан-Мари в прошлом году возил сюда свою любимую. Тогда эта долгожданная поездка, к которой он так готовился, не принесла ему ничего, кроме разочарования.
Когда они проплывали над той самой опасной мелью, девушка почувствовала себя плохо и выглядела уже совсем не такой красавицей, как всегда. На пляже Розалинде не понравилось: песок показался ей грубым, раковины — бледными, вода — слишком прозрачной; она не могла глядеться в нее, как в зеркало, и вместо своего лица видела среди увитых водорослями скал лишь жемчужно-серых и черных рыбок. Но, пожалуй, самым худшим было то, что девушка и юноша по-разному смотрели на будущее.
Итак, Жан-Мари снова был в бухте Уединения. Погода стояла великолепная, легкий ветерок рябил морскую гладь и приносил прохладу. При виде такой благодати должна была смягчиться самая острая боль, но юноша не видел окружавшей его красоты.
Думая о Розалинде, он погружался в прозрачные воды, надеясь найти среди рыб, камней и моллюсков ее тело.
Много часов плавал он напрасно и наконец вынужден был сделать передышку.
Едва прилег он на песчаный берег, как сразу же впал в глубокий сон.
Он увидел во сне живую Розалинду; она гуляла с ним в прекрасном саду, усаженном невиданными деревьями, покрытыми цветами и плодами; они бродили вдвоем по тенистым дорожкам, он держал ее руку в своей руке, и оба они были счастливы.
Во сне девушка явилась ему такой, какой она никогда не была наяву.
Когда Жан-Мари проснулся, солнце уже погружалось в море.
Было слишком поздно плыть обратно на легкой лодке. Проходить ночью мель — дело опасное. Хотя Жан-Мари и считал, что не сможет пережить Розалинду, он все же соблюдал осторожность и не подвергал себя ненужному риску.
Наступила ночь, и луна сделала все что могла, чтобы заставить забыть о солнце. Это была дивная ночь: небо, полное отблесков, бороздили падающие звезды — вечные души мертвых светил.
Жан-Мари потерял представление о времени. У него не было других часов, кроме звездного неба. Вдруг в тишине ночи, нарушаемой лишь тихим плеском волн, набегавших на берег, Жану-Мари почудился человеческий голос. Это был, скорее, даже не голос, а стон, доносившийся откуда-то издалека, словно жалоба каких-то неведомых существ — ангелов или детей. Потом снова наступила тишина, и снова повторился еле слышный стон. Казалось, то плакала скала под ударами волн или пела о любви покинутая сирена[157].
Жан-Мари не отличался ни особенной отвагой, ни богатым воображением. Однако сердце его затрепетало не от страха перед призраками или перед силами ада, а от безумной надежды и радости.
Как бы странно ни звучал этот голос, он мог быть только голосом Розалинды. Она звала его на помощь!
При свете луны Жан-Мари направился к тому месту, откуда слышался призыв. Он уже много раз осматривал каждую расщелину в скале и знал, что ни в одну из них не может пройти человек.
Не останавливаясь, он добрался до северной оконечности бухты, которую закрывала отвесная скала, похожая на театральный занавес. Ему снова послышалось жалобное пение. Теперь он определил, что оно доносится с берега.
Ни минуты не колеблясь, он бросился в море и увидел, что скалу можно обойти, так как вода здесь едва доходит до колен. За выступом скалы открывался узкий проход, который был незаметен и со стороны моря и со стороны бухты. Он вошел в него и вскоре очутился на песчаной тропинке, уходящей в глубь земли.
Воцарилась полная тишина, но Жан-Мари чувствовал, что он на правильном пути. У него была с собой большая свеча, свернутая из пропитанной воском бумаги. Такие свечи изготавливали его односельчане. Он зажег ее и увидел, что тропинка ведет в естественный грот с ровными стенами вышиной в три-четыре метра. Странное дело, на песке виднелись бесчисленные отпечатки большей частью очень маленьких человеческих ног.
Несколько минут Жан-Мари шел между двумя скалами; грот расширялся, и юноша очутился на берегу подземного озера. При тусклом пламени свечи оно казалось безбрежным.
В эту минуту он снова услышал пение, теперь уже яснее. Была в этих странных звуках какая-то необычайная красота.
Вдруг на озере появилась ладья без весел и без гребца; она бесшумно причалила к берегу и как бы замерла в ожидании в нескольких шагах от Жана-Мари.
Юноша вошел в лодку. Влекомая таинственной силой, она отчалила от берега.
Едва Жан-Мари отплыл от берега, как вдруг пронесся вихрь и загасил пламя свечи. Все погрузилось во мрак. Зажечь свечу снова Жан-Мари не мог из-за подземного ветра.
Никогда потом Жан-Мари не мог вспомнить, сколько времени длилось это ночное путешествие, в таком он был тогда смятении от множества охвативших его неясных чувств, где, однако, было меньше всего страха. Мрак сменился полумраком и наконец совсем отступил перед разгоравшимся все ярче светом. Ладья вошла в грот, высокий, как собор; стены его, покрытые тысячами многоцветных блесток, казалось, были выложены драгоценными камнями. Наконец, бесшумно подплыв к естественной пристани, ладья остановилась.
Никогда еще ни один путник, подплывая к берегу неведомой земли, не видел такого зрелища, какое развернулось перед потрясенным Жаном-Мари. Сотни девушек, одна другой краше, встречая его, сплелись в прелестный хоровод.
Только не было слышно радостных криков, которыми матери, сестры, невесты и жены обычно приветствуют прибытие корабля.
Все девушки были грустны и молчаливы, от этой прелестной группы не веяло ни молодостью, ни радостью жизни. Они напоминали собрание восковых фигур, навеки застывших в позах, навязанных им прихотью художника.
Но из одной груди все же вырвался крик, крик радости и удивления. Одна из девушек бросилась в объятия Жана-Мари. Это была Розалинда.
Когда они оба немного успокоились, она рассказала ему о своих невероятных злоключениях.
Ночь застигла ее над обрывом, и, проходя по скале, которая нависает над бухтой Уединения, она поскользнулась и стала падать в пустоту.
Она ожидала мучительной смерти, но, к счастью, зацепилась за куст и повисла между вершиной скалы и берегом моря. Оцепенев от ужаса, она не могла даже крикнуть, позвать на помощь. В таком положении она находилась несколько часов. Затем произошло нечто необъяснимое. Она потеряла сознание и очнулась в ладье под сводами пещеры, переливавшейся тысячами огней.
На берегу она увидела этих девушек. Все они тоже попали сюда при очень странных обстоятельствах. Она даже встретила тут свою подругу из соседнего села, Анриетту, которая загадочно пропала год тому назад.
Чем они жили?
Когда они спали, чья-то таинственная рука приносила им хлеб и молоко. Так они и существовали, вне времени, ничего не ожидая в будущем, предаваясь в томительные часы бездействия воспоминаниям.
— Однако, — удивился Жан-Мари, обладавший трезвым умом, — ведь у вас есть ладья, почему же никто не подумал о побеге, о возвращении к скалам? Там вы позвали бы на помощь, мы бы услышали и пришли за вами. Уж лучше рискнуть, чем жить так!
— Ты рассуждаешь, — ответила Розалинда, — как человек из того мира, в котором жила и я еще несколько дней назад. Но ведь мы все находимся здесь по велению волшебной силы, которая не позволяет нам убежать. Мои подруги не раз пробовали сесть в ладью, но все их усилия хотя бы оттолкнуть ее от берега оказались тщетными. А пытаться спастись вплавь по подземному озеру, не зная даже, в какую сторону надо плыть, было бы безумием.
— Да, но, например, когда ладья поплыла за мной, — возражал Жан-Мари, — это был прекрасный случай спастись двоим или троим из вас.
— Некоторые мои подруги провели по нескольку дней в ладье, надеясь, что, когда она отправится за новой жертвой, они незаметно проделают на ней это путешествие. Двоим из них удалось даже отплыть, но посреди озера ладья перевернулась, и они утонули.
Жан-Мари задумался.
— Я готов поверить в колдовство. Но объясни мне, пожалуйста, во имя чего понадобилось колдунам или феям собрать в этом гроте пятьдесят или даже шестьдесят девушек?
— Нас здесь больше ста.
— Больше ста девушек, больше ста красавиц отрезано от мира только для того, чтобы здесь их кормили хлебом и молоком?
Розалинда ничего не ответила, но густая краска, залившая ее лицо, ясно говорила о том, что она хочет что-то скрыть.
В это время вступила в разговор Анриетта. Жан-Мари уже встречал ее раньше на танцах в соседней деревне. Эта блондинка, необыкновенная красавица, имела весьма незавидную репутацию. Ходили слухи, что из-за несчастной любви к ней повесился у себя в сарае молодой фермер Франсуа.
Таинственное исчезновение Анриетты положило конец пересудам и вернуло ей утраченное расположение односельчан.
— Розалинда, — сказала Анриетта, — зачем скрывать правду? Мы так долго гадали, за что нас судьба бросила сюда, что, пожалуй, можем ответить на этот вопрос.
Она повернулась к юноше:
— Здесь находятся только те девушки, которые были кокетками, только те девушки, которые думали, что красота может заменить им сердце. Я не знаю, как я попала сюда, но зато хорошо знаю, что после смерти Франсуа я заслуживала наказания. Все мы в свое время насмехались над робкими влюбленными, над чистыми и искренними сердцами. Мы смеялись над теми, кто нас любил, и мы справедливо наказаны. Я не хочу вернуться в свою деревню, чтобы, проходя мимо сарая, в котором повесился мой друг, краснеть и опускать глаза под взглядами людей.
— Замолчи! — крикнула Розалинда. — У тебя слишком разыгралось воображение. Долгое заточение помутило твой разум.
Жан-Мари взглянул на свою возлюбленную, и в его душу впервые закралось сомнение. «Не права ли Анриетта? — подумал он. — Может быть, я чересчур снисходителен к Розалинде? Но наказание так сурово…»
— Послушай, — сказал он, взяв за руку Розалинду. — Я слишком глуп, чтобы обсуждать тайны, которые не принадлежат мне. Но я тебя здесь не оставлю. Раз есть ладья, нужно попытаться убежать.
— Мы утонем! — воскликнула Розалинда. — Ладья перевернется.
— Если ладья перевернется, — ответил Жан-Мари, — я помогу тебе добраться до берега вплавь. А там у нас будет целая вечность впереди, чтобы обсохнуть.
В то время как они говорили, вокруг них собрались остальные девушки. Уже раздавались негодующие голоса:
— С какой стати ей ехать первой? Ведь она попала сюда последняя!
— Он единственный юноша среди нас. Не нужно его отпускать!
— А ведь он не такой уж урод, хоть и веснушчатый!
Тогда за Жана-Мари и Розалинду вступилась Анриетта.
— Вы что, с ума сошли! — прикрикнула она на своих подруг. — Вы же прекрасно знаете, что этот юноша приехал сюда совсем не за вами. У него на уме одна лишь Розалинда. Пусть они едут вдвоем, это для них единственная возможность спастись. Чем держать этого юношу среди ста таких девушек, как вы, лучше уж сразу утопить его. Он не заслужил такого ада.
Ей никто не возразил.
А Розалинда, которая одинаково боялась и остаться и ехать, все же уселась в ладью вместе с Жаном-Мари. На берегу раздались жалобные возгласы, в которых слышались и отчаяние, и зависть, и сочувствие. Ведь не все же девушки были одинаково себялюбивы.
Как только юноша и девушка сели в ладью, она тронулась в путь. Первые мгновения были томительны. Ведь ладья могла перевернуться. Такое уже случалось. Но ничего не произошло. Только свет мало-помалу погас, и началось долгое путешествие во мраке. Долгое по времени, но короткое для Жана-Мари, который был счастлив, что спас свою Розалинду и, быть может, завоевал ее любовь.
Наконец ладья достигла противоположного берега. Вдали уже слышались всплески морских волн.
Что же тогда произошло?
Я недостаточно разбираюсь в сердечных делах, чтобы объяснить дальнейшее: то ли юноша захотел выйти на берег первым, а затем взять свою милую в объятия и вынести ее на сушу, то ли мысли девушки не были достаточно чистыми, чтобы умиротворить силы мрака, — так или иначе, но не успел Жан-Мари ступить на берег, как ладья повернула обратно к гроту кокеток. Под скалистым сводом раздался душераздирающий женский крик, а затем послышались вдали рыдания.
Жан-Мари бросился в воду, но в темноте ударился об острый выступ скалы. Прохода, через который уплыла ладья, он не нашел… Измученный, Жан-Мари из последних сил доплыл до берега и обогнул выступ скалы.
При свете занимающейся зари добрался он до бухты Уединения и потерял сознание.
Жан-Мари так никогда и не узнал, видел ли он все это наяву или во сне. А может быть, ему и не хотелось узнать. Он вернулся в свою деревню и несколько месяцев спустя женился на Жозианне, девушке если не самой красивой, то, несомненно, самой разумной в округе. И они оба были счастливы.
Но с тех пор никогда больше Жан-Мари не был в бухте Уединения. Никогда не ходил он гулять к большой скале. Он не хотел, чтобы жалобное пение кокетливых девушек из грота, сияющего тысячами огней, опять нарушило его покой.
БОА БАО
I. Зоологический сад
Хотя Бао был ещё совсем молодым удавом-боа, он уже отличался леностью и прожорливостью. После долгого лежания в засаде ему обычно удавалось захватить врасплох ничего не подозревавшую жертву, обвить ее кольцами и заполнить ею свое длинное тело так, что оно увеличивалось в диаметре почти вдвое. К счастью, у змей очень прочная кожа.
Потом он переваривал пищу, большую часть жизни греясь на солнышке и думая лишь о съеденном обеде или о предстоящей охоте.
С эстетической точки зрения красота удавов довольно спорна. Многим не нравится их маленькая, невыразительная головка, неуклюжее скользкое тело. Но нельзя отрицать, что в своем роде Бао был красивым, обаятельным боа.
Именно поэтому, когда охотники увидели его спящим посреди залитой солнцем поляны в тропическом лесу, они сразу же решили взять его живым. Он произведет фурор в зоологическом саду, вызывая восторги знатоков и ужас — в допустимых пределах — у детей.
Итак, Бао был схвачен во время сна, посажен в ящик, который погрузили на пароход, направлявшийся в один крупный европейский порт.
Ужасное путешествие! Без воздуха, почти без еды, удав боялся, что погибнет, так и не добравшись до суши.
Попасть из пронизанного солнцем леса в темный пароходный трюм, потерять возможность охотиться — это удаву, для которого охота составляет весь смысл жизни! — и к тому же непрерывно страдать от голода, лишающего дневной сон всякой прелести! Короче говоря, даже тому, кто начисто лишен воображения, нетрудно себе представить, что всего этого вполне достаточно, чтобы заработать неврастению.
В один дождливый ноябрьский день перед служителями зоопарка появился мрачный, пришибленный, тоскующий удав. Нового питомца поместили в просторную, относительно комфортабельную, во всяком случае хорошо отапливаемую клетку. И наконец, ему дали поесть.
Тут-то начались новые мучения Бао. Хоть он и отличался прекрасным аппетитом, но не мог привыкнуть к пище, которую ему приносили, поскольку добывал ее не сам. Крохотные кусочки безвкусного мяса, проглоченные без всякого удовольствия, хоть и притупляют чувство голода, но не могут вдвое раздуть тело и вызвать то блаженное томление, которое наступает после того, как переваришь настоящую охотничью добычу.
Посетители, которые останавливались возле его клетки, считали, что эта огромная змея спит без просыпу. Но это было чисто внешнее впечатление. Бао размышлял, строил планы побега. Разумеется, он не мог прибегнуть к старым, испытанным методам — перепилить решетку или скрутить веревку из простыни и спуститься через окно в сад. Нет, подобные мысли не приходят в голову змеям. Зато мысль съесть сторожа казалась ему весьма заманчивой. До чего же хорош был этот служитель! Лоснящийся, упитанный, в самом соку… Но когда он приносил змеям пищу, то все время был настороже, опасаясь нападения. К тому же он никогда не приходил один; во время кормления рептилий неподалеку всегда находился его помощник.
Правда, Бао не считался опасным. Гремучая змея, вывезенная из Южной Америки, земляная гадюка родом из Африки, азиатская кобра, укус которой смертелен, вызывают гораздо больше ужаса. Коварство всегда страшнее, чем грубая сила.
— Да он просто ягненок, — говорил сторож Кратоль, — хорошо бы давать ему траву, чтобы он без конца ее пережевывал.
И добавлял, довольный своей шуткой:
— Он шевелится куда меньше, чем боа моей жены…
II. Побег
Возможно, это обманчивое впечатление и стало причиной допущенной сторожем оплошности. Не кто иной, как Кратоль, как-то вечером не до конца повернул ключ в замке. Ночью Бао обнаружил, что дверь его клетки не заперта. Не раздумывая, он выскользнул наружу, прополз мимо клеток, в большинстве застекленных, где спали остальные змеи, проник в соседнее помещение, наслаждаясь вновь обретенным чувством свободы, но вместе с тем испытывая беспокойство оттого, что не ощущает под брюхом знакомую лесную почву.
Он спустился по тускло освещенной лестнице, извиваясь своим блестящим телом на старом потертом ковре, пересек вестибюль и очутился возле закрытой двери. Что ему оставалось? Только спать и ждать.
Заря едва забрезжила в густой синеве неба, когда сторож начал утренний обход. Не подозревая об опасности, он прошел совсем близко от Бао.
В Бао боролись два чувства: голод и стремление к свободе. Невероятным усилием разума удав понял, что, напав на человека, он тем самым погубит себя. Даже если ему удастся бесшумно задушить свою жертву, то длительное переваривание все равно сделает его беззащитным перед, служителями. А это значит — снова неволя, снова унылая череда дней! И он предпочел беззвучно заскользить прочь по песчаным аллеям зоопарка.
— Смотри-ка, боа, — удивился страдающий бессонницей жираф, который встречал восход солнца. — Неужели люди решили выпустить нас на волю?
И при мысли о бескрайних просторах, которые, быть может, ему предстоит увидеть, его сердце учащенно забилось.
Мартышка, просыпающаяся раньше всех обитателей зоопарка, издала тревожный крик, разбудив остальных обезьян, а те подняли оглушительный шум.
Потревоженные звери бросились смотреть, что происходит. При виде этой огромной, скользящей по аллеям змеи, которой, как казалось, нет конца, каждый испытывал непритворный ужас и пытался выразить его на своем языке.
От шума проснулись служители, дежурившие в отдельном здании неподалеку от главного входа. Но прошло немало времени, прежде чем они обнаружили причину беспорядка. В террариум они зашли в последнюю очередь.
Кратоль первым догадался о том, что произошло. Его потрясение было особенно велико, так как он понимал свою вину.
Придя в отчаяние, он едва не кинулся дразнить гремучую змею, чтобы она его укусила. Такое самоубийство было бы достойно самой Клеопатры[158]. Но, прикинув, что уход на пенсию все же лучше самоубийства, он отказался от этого отчаянного поступка.
Тем временем Бао, пробираясь сквозь густые кусты, нашел способ выбраться из зоопарка через узкую лазейку в ограде, благодаря крайней худобе, обретенной в результате голодания. Он очутился на пустынной улице, не зная, что предпринять дальше.
Уже рассвело, но город еще был безлюден.
Проезжавший мимо автомобилист заметил удава. Он пригладил рукой волосы, пощупал гудевшую голову и дал себе слово больше не пить перед тем, как садиться за руль. Впрочем, свое обещание он не сдержал.
Лошадь, тянувшая тележку молочника, задрожала от ужаса и понесла, несмотря на все усилия ошарашенного возницы. Часть бидонов упала на мостовую. Это позволило Бао устроить себе легкий, но вместе с тем питательный завтрак.
Хотя тротуар на ощупь оказался шершавым, боа очень понравилось гулять по городу. Увы, это удовольствие продолжалось недолго. Смотрители зоопарка оповестили полицию, та подняла на ноги пожарных. На всех улицах замелькали ревущие машины.
Охота началась.
III. Погоня за боа
Бао не сразу понял, что это из-за него поднялся такой переполох. Привыкнув быть охотником, а не охотничьей добычей, он не представлял себе, что более слабые, чем он, существа могут ловить его не хитростью, а силой.
Когда прямо на него кинулся человек в блестящей каске, то первой реакцией Бао был энергичный рывок, опрокинувший нападавшего на тротуар. Но отовсюду появилось несметное множество людей в касках.
Бао быстро заскользил, лавируя между ногами и опрокидывая их обладателей, как кегли. Прогремели выстрелы.
— Не убивайте его! — закричал человек, суетившийся больше других. — Это самый красивый боа в зоопарке. Нужно взять его живым.
Хозяин зоосада пытался спасти жизнь своему питомцу. Что ж, попробуйте поймать удава на улице, если сам он решил во что бы то ни стало уйти от преследователей, а вы не боитесь охотиться на змей.
На какое-то мгновение преследователи остановились в растерянности. Они громко и яростно о чем-то спорили, не решаясь обогнать змею.
Впрочем, это было не так просто, потому что еще ни разу в жизни Бао не перемещался столь стремительно. Он скользил по кромке тротуара, преодолевая препятствия, сметая на своем пути преграды с неистовством, неожиданным для него самого.
Внезапно перед ним забрезжило спасение. Он увидел отверстие канализационного люка и тотчас же бросился в него. Удар оказался довольно сильным, хотя его смягчила зловонная, тошнотворная жижа, стекавшая по узкому желобу.
Под землей было темно, как ночью. Бао не знал, в каком направлении двигаться. Инстинктивно он направился в ту сторону, куда текла вода.
Очень скоро тишину нарушили голоса, гулко раздававшиеся под сводами, а темноту разрезало множество блестящих точек. Охота продолжалась в канализационных трубах.
Преследователям преградили путь полчища обезумевших крыс, затем погоня возобновилась в разных направлениях по ложным следам, тогда как боа, вплавь, как угорь, добрался до реки, куда стекали все городские нечистоты.
Это было спасение. Прохожие на мостах, рыбаки по берегам реки решили, что мимо плывет увлекаемая течением старая коряга. Никто не позвал на помощь. И только на следующий день, открыв местную газету, они подумали, не дюжина ли гигантских змей проплыла мимо них накануне, и при мысли об опасности, которой подвергались в тот миг, они задрожали от страха.
Полицейские и пожарные понапрасну блуждали по канализационным трубам, осматривали подвалы и расспрашивали прохожих. Директор вернулся обратно в зоосад, опасаясь, что там может вспыхнуть эпидемия желтухи.
В тот день весь город был объят ужасом; закрылись школы. Вечером в кинотеатрах можно было наблюдать, как в зале с самым серьезным видом сидят мужчины, зажав между ногами дубинки, которые они ни за что не захотели оставить в гардеробе.
IV. Бык Бабош
Между тем Бао плыл по реке, счастливый тем, что чувствует прикосновение прохладной, чистой воды, которая смывала с чешуек остатки нечистот.
В своем родном лесу Бао никогда еще не доводилось плавать, ему то и дело не хватало воздуха и приходилось выползать на берег, чтобы перевести дух. Но, услышав неподалеку шаги, голоса людей, лай собак, он снова бросался в спасительные заросли тростника и речных трав.
Так продолжалось до тех пор, пока ему по-настоящему не захотелось есть. Рыбы ускользали от него, а насекомые не приносили чувства насыщения. Нужно было вновь ощутить брюхом твердую землю.
Когда спустилась по-деревенски тихая ночь, боа почувствовал себя в безопасности. Сначала он прополз по мягкому травяному ковру, потом по свежескошенному полю, кстати довольно неприятному для животного, которое, передвигаясь, ощущает все шероховатости почвы. Неподалеку от лужицы он нашел утиные яйца и ловко высосал их, но при его аппетите это была всего лишь закуска.
Только теперь он заметил неподвижную темную массу посредине луга и инстинктивно почувствовал, что это какое-то домашнее животное. И хотя Бао ни разу еще не нападал на противника таких внушительных размеров, ему не пришло в голову усомниться в своей силе. Он осторожно подкрался, а потом стремительно взвился в рывке, словно огромный хлыст в руках великана.
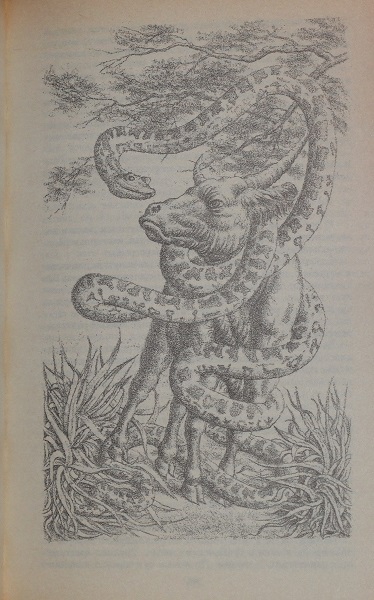
Бык Бабош сначала не понял, что происходит. Но когда он почувствовал, как тугие кольца неумолимо сжимают его бока, он повел себя как могучий бык-четырехлетка, завоевавший приз на последней сельскохозяйственной выставке.
Это было великолепное сражение. Шею Бао глубоко рассек удар рога. Но боа не выпустил своей добычи, хотя и почувствовал, что слабеет. Бабош тоже с трудом переводил дух.
Тем временем на лугу встревоженные коровы медленно приближались к сражавшимся. Они не пытались вмешаться, но мычали так громко, что было слышно в деревне и проснулись соседние фермеры.
Захваченные поединком, Бао и Бабош забыли обо всем на свете. Один старался задушить другого, а тот пытался растерзать противника в клочья.
Неизвестно, чем бы закончилась эта схватка не на жизнь, а на смерть, если бы на упругое тело удава не обрушились дубинки фермеров, которые вовсе не стремились соблюдать правила честной борьбы.
Бао ослабил хватку, повернулся к новым недругам. Когда те увидели, с кем имеют дело, то на мгновение остолбенели, и это спасло удава.
Преследуемый Бабошем, разъяренным так, словно перед ним мелькали все красные тряпки на свете, Бао ускользал по лугу. Он спасся, юркнув в лазейку в сплошной изгороди, перед которой остановился бык.
Фермеры же без толку суетились, торопясь рассказать о случившемся соседям и предупредить мэра, чтобы объявили тревогу, но вовсе не собираясь преследовать столь опасное животное.
Выйдя из смертельной схватки раненым, но по-прежнему голодным, Бао понял, что на твердой почве ему уготовано больше опасностей, чем надежд.
И пока колокола звенели в ночи, он двинулся к ближайшей реке, решив впредь совершенствовать технику ловли рыбы.
V. Большое озеро
И вот ценой многих лишений Бао научился жить в воде, надолго погружаться на глубину, едва заслышав подозрительный шум, и даже полюбил вкус рыбы.
Как-то раз он проглотил крючок, но испугался меньше, чем рыбак, когда на конце его удочки появилась змея. Бао пришлось в течение многих часов тащить за собой длинную веревку с привязанной к ней бамбуковой жердью, прежде чем он смог от нее избавиться, но у него в щеке так и остался кусочек металла, и потому всякий раз к перемене погоды у него пошаливали нервы.
Бао преодолел многие препятствия, едва не оставил хвост в лопастях водяной мельницы, претерпел ужасные муки, прежде чем освободился от барабана, куда он по легкомыслию засунул голову, и наконец добрался до Большого озера. Оно тянулось, насколько хватало глаз; в ненастные дни, когда пенящиеся волны разбивались о берег, озеро напоминало маленький океан. Но чаще всего оно бывало спокойным, и рыбаки, которые забрасывали сети в его прозрачные воды, не подвергались ни малейшей опасности.
Северный берег озера был сильно заболочен, и те, кто попадал туда, серьезно рисковали. Но какое это было идеальное прибежище для искавших уединения рептилий! Ни полицейские, ни пожарные, ни фермеры не забредали в эти края даже по воскресным дням. Рыбаки тоже предпочитали располагаться подальше от заболоченных мест.
Жизнь на берегу Большого озера Северной Европы не похожа на жизнь в тропических лесах. Труднее приходится и животным, и людям. По ночам тут гораздо холоднее.
А разве можно сравнить долгий послеобеденный сон под бледным, нежарким солнцем со сном в лесу! Приходится гоняться за пропитанием, довольствоваться скудной добычей, которую можно разом заглотнуть и переварить.
Однако Бао не чувствовал себя несчастным. Дни, проведенные в клетке, помогли ему по-настоящему оценить вновь обретенную свободу. Став заправским пловцом, он с удовольствием совершал длительные заплывы по середине озера; иногда выползал на пустынные островки, вкусно пахнувшие кустарником и прелыми листьями. Затем, усталый, возвращался к себе в болото, где зарывался в грязь, чтобы не замерзнуть во сне. Он любил чистить свои чешуйки о длинные острые травы, с изяществом дождевого червя лавировать между стеблями тростника, защищавшими его мирок от посягательства человека. Ему недоставало лишь высоких деревьев, где, свившись кольцом на ветвях, он мог бы наблюдать за всеми обитателями тропического леса.
Как и у всех взрослых, которые любят играть с детворой, у него тоже появились свои маленькие друзья: водяные змейки, змеи-медяницы, несколько жаб. Он рассказывал им истории о городских тротуарах, о быках, хотя те в этом ничего не смыслили; но ведь рассказчику нужен только предлог, чтобы начать повествование.
В течение долгих недель никто не обнаружил его присутствия. Ни на берегу, ни в лодках, бороздящих озеро, не нашлось никого, кто, внимательно вглядываясь в воду, заметил бы торчащую оттуда голову или длинное тело, которое плыло, изо всех сил стараясь не оставлять позади себя на воде предательской борозды. Бао мог считать себя в полной изоляции от всего остального мира.
VI. Черная угриха
Он беззаботно плавал посреди озера, не обращая внимания на беспорядочно снующие стайки серебристых рыб, как вдруг заметил поблизости черную головку на длинном теле; мелькнув на поверхности воды, существо грациозно описало кривую. Это был не удав и не змея, а огромный резвившийся на свободе угорь, вернее угриха.
Сперва в Бао заговорил охотничий инстинкт. Проглотить этот лакомый кусочек означало устроить себе настоящее пиршество, и он без колебания устремился вперед.
Угриха не выказала особого страха. Более проворная, чем соперник, она ограничилась бегством, выделывая замысловатые зигзаги и скачки.
То она плыла прямо вперед, если нужно, опускаясь на глубину, как подводная лодка, которую преследует торпедный катер; то вилась возле боа, описывая круги, сквозь которые он стремительно пролетал, уязвленный тем, что не может поймать слишком изворотливую добычу; то внезапно она меняла направление, заставляя преследователя резко поворачивать вслед за собой. Было ясно, что она просто забавляется, не чуя опасности.
Эта погоня могла бы еще продолжаться очень долго, если бы внезапно Бао не почувствовал, что запутался в веревочной сети и не может двинуться ни вперед, ни назад. Он знал, какие ловушки расставляют охотники в лесу, как маскируют западню ветками, как приманивают жертву в затяжные петли на запах искусно привязанной поблизости дичи, но он понятия не имел о рыболовных сетях.
Сеть, куда он угодил, не выдержала его напора. Веревки, крепившиеся к лодке, лопнули, и это спасло экипаж от опасного купания в озере. Но ячейки сети туже стянули тело удава, а его попытки освободиться лишь усугубляли положение.
Перепуганные рыбаки застыли в растерянности; никто из них не осмелился метнуть гарпун в огромное животное, которое так яростно лупило хвостом по воде, словно намеревалось приготовить взбитые сливки.
Бао спасла черная угриха, не помнящая зла на того, кто, не колеблясь, был готов заглотнуть ее живьем. Острыми зубами она принялась перегрызать одну за другой ячейки сети. Скоро на глади озера колыхались лишь обрывки веревок, уносимые волнами.
Освобожденный Бао, лишившись аппетита, думал лишь о спасении. Он долго не замечал, что бок о бок с ним без малейшей опаски плывет какое-то существо.
— Меня зовут Леа, — сказала черная угриха. — Ну что, тебе лучше?
Неужели вызволенный таким чудесным образом боа мог еще думать об утолении голода? Его переполняли дружеские чувства к той, которая освободила его, доказав, что даже в тихом озере плохо жить одному.
В спасительных сгущавшихся сумерках они направились вдвоем в спокойное болото, где никто не мог их потревожить. Выбившись из сил, они остановились в зарослях тростника, даже не помышляя о том, чтобы расстаться.
С этого дня Бао и Леа стали жить вместе — они много охотились, мало разговаривали, охраняли друг друга. И вполне естественно, что они решили пожениться.
VII. Морской змей
Между тем рыбаки, вернувшись на берег, поспешили сообщить всем о своем приключении, несколько приукрасив его подробностями. Они рассказали о чудовище, попавшемся им в сети, о шторме, поднявшемся на озере, когда оно пыталось вырваться из невода, и о том, как они чудом спаслись на своем суденышке…
Все пришли к единому мнению: в Большом озере появился знаменитый морской змей, о котором сложено столько легенд. Об этом тотчас же оповестили прессу всего мира. Журналисты и фоторепортеры толпами устремились в маленький порт, где в течение дня им приходилось неоднократно выслушивать знаменитую историю.
Решили снарядить специальную экспедицию, чтобы отыскать чудовище, и никому не пришло в голову, что оно может иметь какое-то отношение к сбежавшему из зоопарка боа. Парусники и простые шлюпки со смельчаками-гребцами, катера и лодки с подвесными моторами принялись бороздить Большое озеро во всех направлениях.
В течение многих дней охотникам и зевакам попадались лишь мелкие рыбешки, ни издали, ни вблизи не похожие на морского змея.
Бао и Леа остались в своем болоте, куда, боясь мелководья, не заходили лодки. Их обоих не манили приключения. Часть дня они проводили, лежа на солнце, боа — на растрескавшейся грязи, угриха — в мелких лужицах. Ночью они наслаждались лунным светом, рисовавшим на воде серебряные полосы и черные тени. Затем они отправлялись на охоту, не удаляясь на большие расстояния, и возвращались на заре, усталые и сытые, гото’вые предаться очередному отдыху.
Именно теперь Леа неожиданно заговорила о том, что ей нужно навестить одну из сестер, жившую на другом конце озера. Леа было бы весьма лестно представить своей родне мужа-великана.
Бао, становившийся все более и более покладистым, согласился. Как известно, верзилы-мужья всегда слушаются пигалиц-жен.
Один из рыбаков первым заметил морского змея и начал кричать в рупор, подняв панику на всем озере. Отовсюду стали подплывать лодки, набитые зеваками и журналистами, увешанными не меньшим количеством охотничьих ружей, чем фотоаппаратов. Какой-то ребенок, случайно оказавшийся в лодке, даже прихватил с собой игрушечный пистолет.
Увидев такое столпотворение, Бао буквально обезумел. Он нырнул наугад, Леа — следом за ним. Попавшаяся на его пути лодка взлетела вверх и перевернулась. Никто не утонул, но экипажи соседних лодок спасали пострадавших ровно столько времени, сколько потребовалось для бегства удава и угрихи. И все-таки прогремели выстрелы. В кончик хвоста Бао угодил кусок свинца, от которого ему в дальнейшем так и не удалось избавиться, впрочем, он уравновешивал железный крючок, застрявший в щеке… Черная угриха, будучи неудобной мишенью, вышла из этого приключения целой и невредимой.
Лодки дружно устремились на сей раз к берегу: журналисты торопились до наступления ночи передать новость в утренние газеты.
С вечера самые заядлые рыбаки и охотники разрабатывали план генерального сражения. Нужно было разыскать морского змея, поймать его живым или мертвым и положить конец страхам, которые он внушал.
Тогда-то решил вмешаться мэр рыболовецкого порта — самого крупного городка на Большом озере, откуда отправлялась экспедиция. Он созвал лучших рыбаков округи, начальников муниципальной полиции и обратился к ним с такой речью:
— К чему нам ловить или убивать морского змея? Ни разу еще в наш город не съезжалось столько туристов; в гостиницах нет мест, кафе переполнены; торговля идет, как никогда; мы продаем рыбу по неслыханным ценам. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? Примите необходимые меры предосторожности на тот случай, если чудовище станет опасным, но старайтесь при этом его не раздражать. Не стреляйте в него, не расставляйте сетей у него на пути. Лучше организуем платные экскурсии с видом на морского змея.
Эти слова встретили всеобщее одобрение.
Когда еще окончательно не пришедший в себя Бао через несколько дней вновь появился на середине озера, он с удивлением увидел, что рыбаки дружески машут ему платками. Ему даже кидали свежее мясо, вкус которого он уже давно забыл, показавшееся ему удивительно сочным. Тем временем фоторепортеры со всем пылом занялись съемкой, готовя сенсационные сообщения для всех крупнейших газет.
Так боа Бао вместе со своей верной спутницей Леа стали жить в почете, довольстве и покое, купаясь в Большом озере и во всемирной славе.
МАРСЕЛЬ ВЕРИТЕ
СТАРЫЙ ДРОЗД
Жил-был дрозд. Он жил на стене, увитой плющом. Птицы-соседи не видели его все лето: они суетились каждая возле своего гнездышка, кормили птенцов, пели и время от времени наведывались в расположенный неподалеку вишневый сад. Когда же дрозд прилетал поклевать вишен, птицы смотрели на него хмуро и неодобрительно, они даже не всегда говорили: «Здравствуй».
— Да он же совсем облезлый и старый, — проворчал однажды снегирь, гордившийся своей красивой алой грудкой.
— И к тому же бесцветный, как сухая щепка, — добавила легкомысленная иволга, расправляя крылышки, чтобы все могли как следует рассмотреть ее оперение.
Дрозд конечно же слышал всех этих хвастунов, но, казалось, они его нимало не беспокоили. И только однажды он осмелился произнести:
— Будьте любезны говорить немножко потише, вас могут услышать.
— У, старый ворчун, — прошипела дерзкая коноплянка.
Тогда дрозд обиделся и улетел, но на прощание сказал:
— Мы еще увидимся этой зимой.
Он стал жить совсем один в старом лесу, где росли дикие вишни с ягодками маленькими и блестящими, как бусинки.
Туда не залетала ни одна птица, и дрозд угощался вишнями в свое удовольствие, греясь на солнышке.
— Они, конечно, кисловаты, — говорил он, — но мне нравятся. И уж во всяком случае никто мне здесь не мешает.
Но однажды вдалеке раздался выстрел. Испугавшись, дрозд съежился на дереве, чтобы его никто не увидел. Он знал, что это стреляли владельцы сада.
Весь день он не видел ни одной птицы, не слышал больше их пения. А вечером, когда стемнело, старый дрозд полетел к своему плющу. Пролетая над садом, он увидел на земле окровавленные тельца дерзкой коноплянки, красногрудого снегиря и трех скворцов.
— Ах, если бы они тогда, меня послушались! — вздохнул он.
Прошло лето, наступила осень и созрели фрукты. Каждая упавшая груша была поклевана птицами. Пчелам и осам, которые прилетали вслед за птицами, тоже было чем поживиться. А за ними приползли муравьи, слизняки и улитки. Потом, когда были собраны последние фрукты, птицы могли есть зерна и клевать дождевых червей.
Но в небе уже летали стаи ласточек, скворцов и диких уток, и вскоре остались лишь те птицы, которые должны были зимовать на родине, и среди них — старый дрозд.
— Придется подтянуть животы, — говорили самые мудрые, в то время как другие, которые считали, что поступают очень хитро, пытались было поклевать зерна в курятнике, откуда с позором были изгнаны.
— Буду рад вам помочь, друзья, — думал старый дрозд.
А на него не обращали внимания.
Приходилось есть и терн, и шиповник, но и они попадались редко. Наконец настал день, когда больше не осталось ни зернышка, ни семечка для птиц. Тогда они стали разрывать клювами землю, но червяки и улитки глубоко попрятались от холода. Потом листья сковал иней, и земля стала совсем твердой.
Птицы, сидя на изгороди, повторяли на разные голоса:
— Что мы будем есть? Что мы будем есть?
Они совсем забыли про старого дрозда.
А потом выпал снег, и бедным продрогшим птицам показалось, что пришел их конец.
— Ну что же, — сказал дрозд, выходя из своего жилища, — самое время помочь им.
Откашлявшись несколько раз, чтобы прочистить горло, он запел, и это было очень странно, потому что, вообще-то, дрозды зимой не поют.
И, услышав его, птицы забыли, что он старый и похож на сухую щепку, они запели вместе с ним.
Тогда дрозд дал им сухих ягод, которые были припрятаны в его домике.
— Ешьте, маленькие мои, ешьте, может быть, это и не очень вкусно, но все же лучше, чем умереть от голода.
А когда птицы поели ягод, вдруг открылось окно соседней фермы, и на снег бросили горсть хлебных крошек: это хозяйка, услышав пение птиц, сказала:
— Какие смелые, нужно дать им поесть, чтобы они не умерли от голода.
Вот так птицы и пообедали: ягоды на первое и хлебные крошки на десерт.
И на этот раз никто не ворчал. Даже старый дрозд.
КАК ЕЖИК ОДЕЛСЯ В СКОРЛУПУ КАШТАНА
Давным-давно в лесах Оверни выросло первое каштановое дерево. Оно было так похоже на все другие деревья, что никто не обращал на него внимания. Но вдруг однажды белка, которая искала орехи, укололась о крупную скорлупу.
— Ай, — сказала белка, отдергивая лапку.
— Погоди-ка, — сказала, раскрываясь пополам, скорлупа, и все увидели, что у нее внутри.
Новости в лесу разносятся быстро. Вскоре все уже знали, что на каштане выросли замечательные орехи, но завернуты они в колючую кожуру. Все побежали посмотреть. Прибежал и маленький ежик, который, надо вам сказать, в те времена был совершенно без колючек.
Но в это время господин лис, его заклятый враг, тоже не терял времени даром. Он совершенно справедливо рассудил, что если собралось столько зверей, значит, можно будет чем-нибудь поживиться.
Только ежик нацелил свои острые зубки на плотный, тугой орех, как услышал смех лиса. Тот уже предвкушал, как полакомится ежиком.
— Помогите, спасите! — закричал бедный ежик.
— А ну-ка, держи! — сказало каштановое дерево. Ему было очень жалко ежика.
И половинка колючей скорлупы прыгнула на ежика, закрыв его с головой.
— Не двигайся, — прошептала она. — И ничего не бойся.
— Сейчас я съем тебя, — прорычал лис, открывая свою огромную пасть, и — укусил колючку. — Ой, мамочка! Спасите! Помогите!
— Убирайся отсюда, — сказал ему ежик, который хохотал до упаду в своей скорлупе. — А тебя, моя каштановая курточка, я больше не покину: ты нежнее шелка для меня и острее самых острых шипов для других.
— Как хочешь! — ответила скорлупа, которой конечно же было гораздо приятнее жить на чьей-нибудь спине, чем гнить в земле.
Вот с тех пор ежик покрыт острыми колючками, а если он перерос свою скорлупку, так это потому, что аппетит хороший.
А лиса, говорят, в этих лесах больше и не видели!
ЛИС-ОТШЕЛЬНИК
Однажды осенью Лис объявил всем в лесу, что становится отшельником. По правде говоря, слышали его только птицы на дереве. Другие звери — бегающие и ползающие — вообще избегали встречаться с Лисом.
Ему не верили — и правильно делали.
— Нет, — заявил Кролик Жанно, который оплакивал многих своих сестер и братьев, — ничто не заставит меня поверить в это!
Несмотря на свои огромные уши, Кролик Жанно был очень дальновидным кроликом.
Всю зиму Лис ходил на задних лапах, набожно скрестив передние на груди, носил рясу и капюшон, откуда выглядывала скромно опущенная к земле морда.
Он уходил вечером, перебирая четки, и возвращался только на заре, весь вымокший и забрызганный грязью, согнув спину и опустив глаза.
— Да это он просто ходит охотиться подальше, чтобы его не видели! — смеялся Жанно, к ужасу набожных ворон.
Однако вскоре все заметили, что Лис не обращает никакого внимания на легкую добычу; даже такие доступные и вкусные куропатки могли теперь гулять в полной безопасности. В это трудно было поверить!
— А я и не верю! — говорил Кролик Жанно, потряхивая белым хвостиком. — Хотя бы я и своими глазами видел, как он ест травку!
В конце зимы звери увидели, что они могут безо всякой опаски подходить к Лису и даже трогать его.
А тот все ходил, уткнувшись в свой молитвенник, и бормотал: «Верую» и «Отче наш».
— Он раскаялся. Поверим ему! — говорили все.
— А я не верю! — настаивал Кролик Жанно. — Хотел бы я видеть, что носит он под своей рясой!
Как раз в это время Лис проходил мимо.
Услышав слова Кролика, он приподнял край рясы, и все увидели, что он опоясан связкой лука.
— Что-то он больно упитанный для отшельника, — заметил Жанно. — И вообще, хитро придумал: окружить себя луковым духом, чтобы другие запахи не вводили в соблазн.
Лис выставил было ухо из капюшона, но очень кротко ответил на недостойные выкрики толпы:
— Бог с вами, братья мои!
Так что даже пугливая куропатка прослезилась от умиления.
— Вам теперь остается всем уйти в монастырь, — проворчал рассерженный Кролик. — Как вы можете верить этой комедии! Ну ладно, слушайте эти проповеди, а я еще вернусь, клянусь моим хвостом!
Когда наступила весна, Лис объявил, что ради Великого Праздника он приглашает всех на ужин. Праздничный стол будет убран цветами.
В это время все лесные жители были очень заняты: вили гнезда и рыли норы, воспитывали маленьких детей, но, несмотря на все хлопоты, они заявили:
— Надо уважить Лиса!
Кролик Жанно ничего не сказал, но крепко задумался. Он выжидал удобный момент.
Как обычно, Лис ушел из леса вечером, чтобы вернуться к заутрене. Раньше Кролику, несмотря на всю его хитрость, не удавалось выследить Лиса: отшельник сразу чуял его и уходил от преследования. Но накануне праздника у Лиса — совершенно некстати — появился насморк, и он забыл про Кролика — не мог его учуять.

Когда Лис уходил, некоторые звери уже собирали цветы для украшения.
Лис, думая, что он один, сел на полянке и вынул из большого кармана бутылку коньяку.
— Нет ничего полезней при насморке, — сказал он и, закрыв глаза от удовольствия, стал пить большими глотками. — А теперь — в путь!
И побежал. Кролик — за ним. Они бежали долго. Остановились в незнакомом месте около какого-то домика. В саду Лиса чистила песком кастрюли и сковородки.
— Здорово, старушка, — сказал отшельник, хохоча во всю глотку.
— Здорово, муженек, — ответила ему весело Лиса. — Горшки уже все готовы.
— Завтра мы их набьем мясом всех этих глупых животных.
Через дырку в заборе Кролик Жанно все видел и слышал.
Потом Лис, который хотел вылечить насморк, и Лиса, которая, видимо, боялась заразиться, принесли еще полную бутылку коньяку. Опустошив ее, они оба захрапели.
— Это и к лучшему, — подумал Кролик Жанно. — Теперь можно в обратный путь.
И он, хотя и очень устал, побежал так быстро, как только мог.
Увидев украшенный цветами алтарь и вереницы птиц, которые несли букеты в клювах, он горько рассмеялся. Даже у ворчливого барсука за ухо был воткнут букетик водяных лилий.
— Эй, слушайте меня, — закричал Кролик Жанно, сразу становясь серьезным, — а то завтра вашим мясом наполнят горшки.
И всем рассказал, как он выследил Лиса и что увидел у него дома.
— Если вы мне не верите, пусть птицы слетают и сами посмотрят!
— Мы верим тебе! — закричали звери. Они все очень испугались.
Кролик рассказал про кастрюли и сковородки, которые видел в доме у Лиса. На этот раз ему все поверили, а стриж слетал еще сам посмотреть и подтвердил его рассказ.
Так что назавтра, когда явился Лис, он увидел лишь букетики цветов, но ни одного зверя не было на месте. Говорят, что он свалился в яму, которую ему вырыли Кролик Жанно, барсук и крот и — лопнул от злости.
А у всех кроликов с тех пор — прямые и негибкие задние лапы. Говорят, совсем как у Жанно, которому пришлось так быстро бежать той весной, накануне Великого Праздника.
МИШЕЛЬ БУТРОН
ИСТОРИЯ МЫШКИ ВОСТРУШКИ
Уж поверьте мне на слово, мышка Вострушка устроилась лучше всех в кантоне, а то и во всем департаменте, разумеется, среди мышиной братии. Уже минуло четыре весны, как она поднялась в горы и обосновалась в шале, одиноко стоящем на самой вершине, куда прекрасными летними вечерами совершали восхождение туристы, а те, кто побеспокоился взять ключи, хранящиеся у учителя в Шапероне — последнем городке, расположенном в долине, — оставались там на ночлег.
Обзорное Шале — так его называли, — в котором жила Вострушка, было сложено из серых каменных глыб, способных противостоять самым лютым морозам. Она устроила себе уютную норку под самой крышей прямо в сене, сушившемся здесь испокон веков и приятно пахнувшем медом, отчего так и клонило ко сну.
Как только зима укутывала шале снежной периной, сразу же после дня поминовения, Вострушка забиралась в свое гнездышко, накрывалась одеялами, сделанными из сухих травок и кусочков шерсти, надерганных из матрасов, и засыпала почти до самой весны. Если ее сон нарушали какие-то шорохи, скрип сухой балки или падавший с крыши сугроб, Вострушка приоткрывала быстрые черные глазки, несколько раз зевала и лениво тянулась за кусочком сыра или бисквита, лежащими неподалеку. Неторопливо перекусив, как и подобает хорошо воспитанной особе, она грациозно вытирала мордочку лапкой и засыпала с такой же спокойной совестью, как и у покойного кота господина кюре из Шаперона.
Весной она окончательно пробуждалась от сильного шума на крыше.
Она напрягала слух: трах, бум. Тишина. Снова — трах, потом — бум. Это означало, что снежная перина упала с крыши на землю, потому что солнышко как следует принялось за дело.
Тогда Вострушка вставала и выходила на крыльцо посмотреть, скоро ли придет весна. Затем она пролезала в щель под дверью, это ей удавалось легче, чем осенью, ведь за зиму она становилась намного стройнее, и принималась хлопотать по хозяйству.
Пока на лугах таял снег, Вострушка наводила порядок в своем доме. Осматривала плиту, железный лист, где туристы обычно забывали кое-что из припасов, находила там то корку сыра, которую с наслаждением поедала, то сморщенный, высохший финик. Она проверяла ящики, где могли заваляться восхитительные на вкус свечные огарки, семенила в спальню, там во время осеннего осмотра она иной раз пропускала мыльную палочку для бритья. Одним словом, Вострушка с охотой и рвением выполняла обязанности хранительницы шале. Генеральные уборки отнимали у нее не один день, пока она шныряла по дому, испуганно замирая от каждого непонятного скрипа, — это дом, проснувшись от зимней спячки, потягивался на солнышке.
И если Вострушка устроилась лучше всех в кантоне и даже во всем департаменте, поскольку могла лакомиться самыми вкусными на свете вещами — маслом от сардин, остатками курицы, корками сыра, крошками бисквита, не говоря уже о кусочках сахара и шоколада и таком вкусном лакомстве, как мыльный крем, забытый рассеянными туристами, — то только потому, что она это вполне заслуживала.

И впрямь она была собранной и экономной, работящей и умеренной в своих притязаниях. В ней не было ни развязности, свойственной ей подобным — тем, что могут шнырять чуть ли не под самым вашим носом, ни бесцеремонности, с которой они шарят ночью по карманам вашего пиджака в поисках засохшей черносливины. Вострушка умела довольствоваться тем, что раскидывали безалаберные постояльцы на одну ночь. К тому же она была не из тех мышей, кто тут и там дырявит пол и просто так, от нечего делать, прорывает целые галереи, когда вполне достаточно одного-единственного отверстия, чтобы добраться к себе под крышу, и она была настолько деликатна, что проделывала это отверстие где-нибудь в укромном уголке.
Тем не менее, ее присутствие не могло остаться незамеченным господами из Шаперона, которым вменялось в обязанности следить за порядком в Обзорном Шале. Как-то раз господин мэр, поднявшийся осмотреть шале, обнаружил на полу некие черные катышки, которые… увы, не оставляли сомнений относительно их происхождения.
— Черт побери, мыши на такой высоте? Невероятно! Чем они здесь питаются?
Господин мэр с большими добрыми, как у всех близоруких, глазами не мог себе представить, что на самом деле для такой добродетельной особы, как Вострушка, шале было настоящим раем.
Когда мэр доложил об открытии в муниципалитете, начались споры, как спасти дом от этого нашествия: поселить туда кота или нет, поставить мышеловки или не нужно. Учитель заявил, что мыши живут в шале, вероятно, уже не один десяток лет, но раз дом неколебимо стоит на месте, должно быть, зло не так уж велико…
Он добавил, будучи человеком рассудительным, что эти зверюшки (он не мог себе представить, что речь идет всего об одной-единственной мыши), наверное, по-своему наводят порядок в доме. Советники — противники крайних мер — поддержали учителя, и таким образом Вострушка была признана общественно полезной и ей поручили, разумеется не определив жалованья, подметать и охранять Обзорное Шале.
На пасху в горы всегда поднимались ученики из школы Шаперона. Нынче, как и каждый год, они так громко кричали, хохотали и устроили такой гвалт, что вывели Вострушку из себя. Она отсиживалась на чердаке до самого вечера и подошла к отверстию только после того, как в скважине последний раз повернулся ключ.
— Господи, во что они превратили мой дом! — воскликнула Вострушка. — Придется все убирать заново. Ах, эти мальчишки, — вздыхала она.
И в самом деле в шале царил ужасный беспорядок. Повсюду валялись промасленные бумажки, банки с остатками варенья, недоеденные булочки, обсосанные леденцы. Вострушке пришлось как следует потрудиться, чтобы оттащить бумажки в мусорную корзину, откатить банки в угол, смести крошки со стола и с неровного пола.
— Этот учитель — порядочный бездельник, — негодовала Вострушка, еще усерднее убирая дом, — позволить мальчишкам так безобразно себя вести!
Конечно, дети есть дети, и если в свое время я вышла бы замуж, то давно бы лишилась работы, будь у меня свои малыши…
В конце концов Вострушка привела Обзорное Шале в приличный вид, так что теперь можно было принимать настоящих туристов, которые не замедлили явиться, но не нанесли никакого ущерба, оставив к тому же достаточно ценные дары.
— Мир что огород, в нем все растет… — повторяла Вострушка, которую долгая отшельническая жизнь научила мудрости. — Эти мальчишки сначала превратятся в юношей, а потом — в серьезных мужчин, чьим мыльным кремом я с удовольствием буду лакомиться, когда они снова придут в шале, куда детьми ежегодно наведывались на пасху.
Должен признаться истины ради, что Вострушка, славная мышка из Обзорного Шале, питала особую страсть к крему для бритья.
Покончив с генеральной уборкой, Вострушка дала себе несколько дней полного отдыха, у нее было заготовлено впрок достаточно продуктов, и теперь уважаемые туристы смело могли обходить стороной уютный домик, который она привела в порядок, — ей не грозила голодная смерть. Вострушка проводила время, резвясь среди ярко-зеленой травы и ярко-желтых лютиков.
Но вот однажды, как-то вечером, когда солнце опускалось за розово-сиреневые горы, Вострушка услышала шаги на тропинке. Она уже готовилась ко сну, но все же задержалась на несколько минут, чтобы взглянуть, кто к ней пожаловал. Вскоре появилось двое очень прилично одетых мужчин.
— Так это же учитель из Шаперона! — вскричала мышка, когда они подошли ближе. — Но…
— Вы уж простите нас за беспорядок, господин представитель, — говорил учитель, стараясь попасть ключом в скважину, — вы приехали так неожиданно…
— Но ведь так даже лучше, мой друг, — возразил идущий сзади толстяк, вытирая лоб платком, — так даже лучше.
Услышав эти слова и увидев, как дрожит рука учителя, Вострушка поняла, что им нанес визит очень важный человек — генеральный представитель Общества по охране заповедных территорий и заказников. Этого человека следовало опасаться… Даже сам господин мэр говорил о нем с большим почтением:
— Нужно будет тут прибить, здесь убрать, переделать эту ступеньку, ведь если приедет господин представитель…
Господин представитель находился здесь и, благодаря предусмотрительности Вострушки, Обзорное Шале выглядело очаровательнейшим, уютнейшим уголком. Словно по волшебству, все было убрано и вычищено. Господин представитель буквально сиял от восторга, а учитель — и подавно; по правде сказать, он просто онемел от изумления. Господин представитель не скупился на похвалы, а его глаза под густыми бровями лучились доброжелательностью.
— Я составлю благоприятнейший рапорт о моем посещении, — говорил он, — и буду просить для общины Шаперона диплом первой степени, вас внесут в наш справочник, я буду рассказывать о вас в докладах, я… я…
Вострушка с восторгом внимала речам представителя. Похвалы были для нее в новинку и нравились ей почти так же, как крем для бритья! Однако посетители не забыли подкрепиться, и если учитель был совсем не голоден, то господин представитель ел за двоих; восхождение на вершину, живительный горный воздух, приятные впечатления пробудили его аппетит. Сидя у отверстия в чердачном полу, Вострушка восхищалась обилием и разнообразием яств, прекрасно понимая, что и ей кое-что перепадет…
Наконец мужчины встали из-за стола, господин представитель предложил учителю сигару, и они вышли покурить на крыльцо. Господин представитель вдруг почувствовал в себе склонность к поэзии.
— Какое дивное зрелище! — восклицал он. — Какой чудесный воздух! Чудесный лес, а горы, что за горы! — почти кричал он, указывая окурком на сиреневатые ледники. — Поистине, друг мой, у вас самые красивые в мире пейзажи. Я не премину доложить об этом, и будьте уверены, Шаперон превратится в большой город, и сюда будут приезжать тысячи туристов.
Затем стало свежее, и они вернулись в дом. Господин представитель извлек с самого дна своей сумки ночную рубашку, разложил на столе туалетные принадлежности — на утро, а затем молча прошествовал в спальню, где учитель уже стелил рядышком две кровати.
Вострушка дождалась, пока гости глухо и умиротворенно захрапели в ночной тиши, и сочла, что пришло время выйти из укрытия. Впрочем, луна еще не поднялась в небе, и Вострушка старалась не спешить. Наконец она вылезла через отверстие, скользнула по стене и легко и бесшумно спрыгнула на пол. С первых же шагов она почуяла какой-то приятный запах, словно вобравший в себя множество изысканных лакомств.
Она попробовала недоеденную курицу — нежную и отменно вкусную — не то, овощной салат показался ей сочным и свежим — тоже не то, рокфор просто таял во рту, но… опять не то. Вострушка стала принюхиваться и внезапно очутилась перед туалетными принадлежностями господина представителя. Никелированные вещицы блестели в лунном свете, а флаконы с туалетной водой, которой господин представитель любил освежать свои усы, были прозрачны, словно драгоценные камни. Это зрелище повергло Вострушку в оцепенение и благоговейный трепет. Внезапно очень отчетливые, теплые, сладковатые испарения стали щекотать ей ноздри — это был тот самый необычный запах, который она ощутила, спускаясь с чердака. Теперь где-то поблизости находился источник этого пьянящего аромата. Принюхиваясь снова и снова, двигаясь мелкими шажками, поворачивая мордочку из стороны в сторону, поднимая и опуская голову, чтобы обострилось обоняние, Вострушка, вернее, ее нос, прижалась к мыльной палочке для бритья господина представителя. Какое дивное, одурманивающее благоухание! Должно быть, в нем смешались ароматы всех цветов на свете, чтобы придать этому мылу поистине неодолимую власть.
Тогда Вострушка принялась кружить возле этого чудесного крема — то приближаясь, то удаляясь, словно исполняла какой-то танец. Она принюхивалась, втягивала носом воздух, лихо прикасалась своими шелковыми усиками к жирной, плотной палочке. Никогда еще, хотя, наверное, она перевидала на своем веку все известные кремы для бритья — всех цветов, всех размеров, всех запахов и всех стран — голландские, американские, немецкие, швейцарские, итальянские и даже китайские, — никогда еще она не испытывала подобного искушения. И нужно же было случиться, чтобы эта мыльная палочка для бритья принадлежала господину представителю Общества по охране заповедных территорий и заказников!
Невероятным усилием воли Вострушка оторвалась от предмета своего вожделения и вернулась к хорошо зажаренной курице, но какой безвкусной и жесткой показалась ей теперь хрустящая кожица! Разум подсказывал, что рокфор должен быть более пахучим; увы, ожиданиям не суждено было сбыться; в тот вечер сыр отдавал плесенью, как самые дешевые блюда, и никак не соответствовал тем изысканным ароматам, воспоминания о которых еще хранили кончики ее усов. Внезапно она круто повернулась и очутилась прямо перед мыльной палочкой; совсем потеряв голову, впилась в нее зубами. Какое наслаждение! Перед ним меркли любые лакомства — рахат-лукум с запахом розы, макрель в белом вине, нуга с фисташками и без них.
Неужели она могла довольствоваться одним разом? Она впилась в палочку второй, третий раз, еще и еще, без счета.
Когда луна уже почти перестала светить в окна и призрачные тени стали еще длиннее, Вострушку охватил ужас: мыльная палочка уменьшилась наполовину. В этот миг рулады, доносившиеся из спальни, казалось, зазвучали совсем оглушительно. Испуганная Вострушка бросилась на приступ чердака так быстро, как позволяло ей отяжелевшее брюшко.
Не успела еще Вострушка переварить свой преступный ужин, как внизу раздались крики. С тяжелым желудком, взъерошенная после беспокойной ночи, она все же поднялась и тотчас вспомнила о своем вчерашнем безумном поступке.
— Это вопиюще, — неистовствовал господин представитель, — в вашем шале засилье крыс, да, да, крыс. Это чудовищно, говорю я вам, вы должны отдавать себе отчет в этом бедствии.
Не отрывая глаз от отверстия в чердачном полу, вся дрожа, Вострушка следила, как господин представитель расхаживает взад и вперед по комнате в ночном одеянии, держа в руке то, что осталось от мыльной палочки.
— Королевский подарок, приготовленный из тюленьего жира, оленьего масла, вьетнамского талька и цветочных лепестков с Антильских островов! Какое пробуждение!
Учитель буквально онемел, видя подобную ярость и вполне обоснованное негодование. Подумать только, он сам оказался виновником этой катастрофы, можно сказать, подготовил ее своими руками, отказавшись бороться с мышами.
— Коммуна Шаперона, которую я здесь представляю, не оставит это преступление безнаказанным, — наконец пролепетал он.
Но господин представитель Общества по охране заповедных территорий и заказников не только не успокоился, услышав эти обещания, но еще больше разъярился, ибо вспомнил свои же слова, сказанные накануне.
— А я-то собирался представить хвалебный рапорт в наше достопочтенное Общество, я-то хотел привлечь внимание к этому шале, да меня бы подняли на смех, я бы навеки погубил свою репутацию!
Как ни старался учитель изобразить удивление, утверждая, что ни разу еще не получал ни единой жалобы на присутствие в шале мышей или крыс, господин представитель не изменил своего мнения.
Через несколько минут, которые потребовались господину представителю, чтобы с достоинством одеться, он уже широкими шагами двигался прочь от Обзорного Шале, а за ним, еле поспевая, почти бежал господин учитель из Шаперона…
После того как двое посетителей удалились, Вострушка на тяжелый желудок, с тяжелым сердцем и не менее тяжелой головой снова улеглась спать. На это преступление ее толкнуло чревоугодие, и сцена, прервавшая ее сон, подсказывала ей, что теперь ее жизнь круто изменится. Ее существование станет невыносимым, ибо, она была в этом почти уверена, скоро появятся мышеловки, ловушки, крысиный яд — все, что используется там, где ведут войну с мышами. Возможно даже, в ее поместье приведут какую-нибудь дьявольскую кисоньку, замышляющую истребить все мышиное племя.
К вечеру, окончательно переварив вожделенное блюдо и полностью осознав масштабы бедствия, которое она навлекла на свою голову, Вострушка в последний раз обошла свои владения, в последний раз поднялась на чердак, где провела столько безмятежных часов, и ушла из шале до того, как против нее были развязаны военные действия.
Сперва она решила поселиться в риге, но оттуда веяло таким запустением, а пауки были столь гигантских размеров, что Вострушка просто испугалась. Тогда она побрела дальше по направлению к Шаперону; она слышала, что там есть один очень приличный дом, где она сможет найти порядочное общество. Вострушка добралась до городка уже затемно, прошла мимо еще открытого постоялого двора, но она направлялась не туда. Она пересекла городок, готовый погрузиться в сон, вернулась к церкви и увидела свет в глубине одной из улочек. Вострушка осторожно двинулась в ту сторону, где словно молнии мелькали яркие огни. Именно этот дом она и искала — лавку булочника.
Вострушка проскользнула в пекарню, когда хозяин вынимал из распахнутой печи раскаленные угли, собираясь задвинуть в нее булки, лежащие в специальных формах, как младенцы в колыбельках. Момент, чтобы пробраться незамеченной, был выбран на редкость удачно. Ни разу еще Вострушке не доводилось видеть так много мешков с мукой на таком маленьком пространстве.
Она собиралась мысленно поблагодарить господина представителя и его мыльную палочку для бритья, из-за которой ей пришлось сменить пансион, когда неожиданно появился, грузно ступая, большой рыжий кот. Она едва успела юркнуть за мешки, где и отсиживалась, оцепенев от ужаса, до рассвета. В этом дивном уголке, пахнущем мукой, сперва мягким, потом горячим, а затем хрустящим тестом, Вострушка провела несколько дней, даже не стараясь освоиться в здешних местах. Через маленькую дырочку, проделанную на дне одного из мешков, она получала достаточное количество пропитания, стремясь остаться незамеченной рыжим котом. Как-то вечером, когда она ужинала мукой, пришел хозяин, поднял мешок и взвалил его себе на плечи. Потом он опустил мешок на пол, и Вострушка услышала ругательство, которое я не берусь здесь воспроизвести.
— Черт возьми, — продолжал он, — эти гнусные твари считают, что им все дозволено! Придется проучить их, иначе мое заведение вообще скоро прикроют…
Вострушка не стала ждать, когда он повторит свою угрозу, и пока булочник осматривал помещение, где она так прекрасно прожила это время, Вострушка перебралась в лавку.
Лавка была бы очень неплохим местечком, если бы не колокольчик. Ах, этот колокольчик, от него могла бы получить разрыв сердца даже самая невинная мышка на свете.
Только Вострушка пристраивалась проглотить несколько крошек, упавших с прилавка, или собиралась полакомиться еще горячими рогаликами, как вдруг: «динь-динь», кто-то входил в лавку. Продолжалось это всегда очень долго, потому что булочница мадам Соланж любила почесать языком. Говорили о погоде, обычно ее бранили, о свадьбе дочери каретника, о болезнях картофеля или детей почтальона, искали мелочь — короче говоря, трудно себе представить что-то более нудное, чем подобное ожидание, когда во рту еще остался приятный вкус, а нужно терпеть, пока можно будет продолжить прерванную трапезу.
Вострушка с сожалением вспоминала свое маленькое шале в горах, где она была полной хозяйкой и где так разнообразно и сытно питалась. Меню было здесь однообразное, и меньше чем через неделю у нее почти пропал аппетит, которым она всегда отличалась. Иногда она сидела неподвижно, о чем-то размышляя, не смея признаться даже себе самой, что больше всего ей не хватает именно того, из-за чего она оказалась в таком положении: иначе говоря, хорошего крема для бритья и свободы.
Однажды утром в лавку зашел взлохмаченный крестьянин.
— Вашему парикмахеру на вас не разжиться… — заметила, смеясь, мадам Соланж.
— Я как раз к нему иду, — ответил тот, забирая батон и три еще горячих рогалика в придачу.
Вострушка бросила на него признательный взгляд, ведь он ее спас, и, не теряя ни минуты, бросилась следом за ним по только просыпающемуся городу.
Парикмахерское заведение было не слишком просторным, но там нашлось местечко для мыши. Вострушка заметила его и, пока не зазвонили колокола к обедне, благоразумно пряталась за подставкой для зонтиков, довольствуясь лишь тем, что вдыхала забытые приятные запахи.
Когда пробило полдень, парикмахер вложил бритву в футляр, снял белую блузу, запер дверь на задвижку и отправился к жене, оставив Вострушку сторожить его сокровища.
Наша старая знакомая отыскала мисочку для бритья, еще полную вкусной мыльной пены, но самой мыльной палочки видно не было. Вострушка торопливо обежала все приоткрытые ящики, полки и стенные шкафы и даже пошла на такой риск — забралась в витрину парикмахерской, но, увы, не обнаружила ни единой восхитительной на вкус нежной, жирной палочки. Отчаявшись, она решила удовольствоваться благоуханной пеной. Но от нее лишь разыгрался аппетит. Она еще не кончила лакомиться, как в дверь постучала чья-то энергичная рука.
— Можно здесь побриться? — зычно крикнул кто-то, напугав Вострушку.
Прибежал парикмахер с вилкой в руке и бросился отпирать дверь, дав возможность Вострушке поспешно ретироваться.
— Идем на похороны Жозефа, да, Жозефа из лесопильни… Поэтому… — сказал посетитель, указывая на свои небритые сизые щеки.
Положив вилку на мраморный подзеркальник, парикмахер принялся исполнять свои обязанности, пока клиент сидел с поднятым подбородком.
Вострушка внимательно следила за всеми движениями своего нового хозяина: сейчас она узнает, где он прячет драгоценную мыльную палочку. Она с изумлением увидела, что мгновенно поднявшаяся пена появилась из металлического флакона, который парикмахер яростно потряс над мисочкой.
Да, разумеется, это был мыльный крем, но в порошке, и так плотно закрытый пробкой, что даже острые зубы Вострушки не смогли бы до него добраться. Как разочарована была наша мышка, все утро вдыхавшая пьянящие ароматы, когда узнала, что может надеяться не на пиршество, а лишь на его подобие.
Ее крохотные глазки заволоклись слезами; она горевала о своем домике, об утраченной свободе и беззаботной жизни. На какое-то время она предалась мечтам о своем счастливом прошлом. Где ей найти былую безмятежность и былое изобилие? Внезапно она вздрогнула, услышав голос, который узнала бы из тысячи, и затрепетала от усов до кончика хвоста. Это был голос господина представителя Общества по охране заповедных территорий и заказников.
— Патрон, — закричал толстяк, войдя в парикмахерскую незаметно для Вострушки, — я вверяю вашей бритве самый нежный эпидермус на континенте, постарайтесь своим мастерством возместить убытки, которые я понес по вине ваших мышей, сожравших мой мыльный крем.
Парикмахер, правивший свою бритву о ладонь, едва не отхватил кусок руки.
— Да, да, по вине ваших мышей, — продолжал господин представитель, увидевший в зеркале изумление парикмахера, — именно так — из-за мышей. Эх, поймать бы мне хоть одну… Я бы ей задал! Такой дивный крем — подарок Королевского научного общества в Хаммерфесте, приготовленный специально для меня… Особый состав… Эх, поймать бы мне хоть одну…
У сжавшейся за подставкой для зонтиков, дрожащей от ужаса Вострушки вырвался слабый, жалобный писк. К счастью, в то же мгновение какой-то посетитель открыл дверь, предоставив нашей приятельнице посланную свыше свободу.
Она выскочила на улицу, перескакивая с булыжника на булыжник, преодолевая сточные канавки, на каждом шагу рискуя жизнью; ей все казалось, что ее преследует голос господина представителя.
Поскольку было очень опасно появляться в открытую на улице в такой час, Вострушка, не раздумывая, кинулась в церковь, спасительно возникшую перед ней на углу какой-то улицы.
В прохладном безмолвном нефе она, как и положено, предалась духовному самосозерцанию и долго размышляла сначала о своем прошлом, а затем — о будущем. Она чувствовала, что не создана для жизни, полной приключений, ей было необходимо обжитое теплое местечко.
Её сердцу было не под силу сносить все тревоги и неожиданности. Вострушка уже готова была вычеркнуть из списка своих любимых кушаний то единственное, доставившее ей самое большое удовольствие и самые горькие разочарования. Она подошла к тому периоду жизни, когда нужно учиться принимать спасительные решения. «Пусть мой рацион будет простым, даже скромным, — думала она, — зато я буду жить в покое». Покой? А может быть, она обретет его в этой церкви или в доме кюре, у которого несколько месяцев назад умер кот? Она узнала эту новость от одной шаперонской мыши, как-то раз добравшейся до самого шале. Покой. Устроившись в налое для моления, обитом бархатом гранатового цвета, и вдыхая запах восковых свечей, она уже предвкушала этот покой, но усталость взяла свое, и она уснула.
Когда зазвенели колокола к вечерней молитве, Вострушка проснулась свежая и бодрая. Она почти ничего не различала в темноте, однако сумела разглядеть черный силуэт, двигавшийся вдоль нефа. «Господин кюре», — решила она и разумно последовала за ним на почтительном расстоянии. Заперев двери и в последний раз преклонив колени, господин кюре медленно направился к дому, Вострушка — за ним.
Дом кюре был обнесен высокими стенами: это было унылое, внушительных размеров, здание, которое произвело большое впечатление на Вострушку. Не слышно ни шороха, даже журчания воды, полное ощущение оторванности от мира. Что ж, у Вострушки не оставалось выбора. Войдя вслед за кюре на кухню, Вострушка увидела, что ее ждет неприятный сюрприз, и даже не один, а целых два: во-первых, она встретила там еще одну мышь, которая с наглым видом разгуливала по плиточному полу; ну а во-вторых, в тусклом свете лампы она обнаружила, что у господина кюре борода. Встреченная мышь, казалось, была гораздо больше удивлена появлением Вострушки, чем хозяина дома и его служанки Леони с кувшином воды в руках. С перепугу мышь освободила Вострушке место, юркнув в дыру возле камина, где и просидела неподвижно в течение всего обеда.
Тишина, непохожая на тишину шале, буквально парализовала гостью, она искала покоя, но этот покой был ей в тягость. Где веселые застолья, песни, смех, звуки гармоники? Господин кюре уныло хлебал суп, постный супчик, куда он накрошил немного черствого хлеба.
Служанка Леони выглядела очень озабоченной, она боялась нарушить тишину, но наконец вымолвила:
— Не знаю, что мне приготовить вам на завтра, господин кюре, все запасы кончились.
— Попросите у ризничего корзину картошки, а бог пошлет остальное, дочь моя, — ответил сей достопочтеннейший муж, складывая салфетку.
Вострушка не верила ни глазам, ни ушам. Где былое изобилие: сардины, банки паштета, молочный рис, сливочные тянучки?
— «Где ныне прошлогодний снег?»[159]- вопрошала она, вспомнив сборник стихов, забытый кем-то из туристов, который она слегка погрызла, когда ей было грустно и тоскливо. После разговора кюре со служанкой не было необходимости обшаривать дом, разумнее было остаться здесь на ночь и уйти на заре.
Рано утром Вострушка безо всякого сожаления выскользнула из дома кюре в сопровождении самого хозяина, который отправлялся читать утреннюю молитву. И вот, уже собираясь устремиться навстречу свободе, она услышала поблизости какой-то шорох. Вчерашняя мышь, та, что спряталась при ее появлении, хотела поговорить с Вострушкой, прежде чем она уйдет.
— Дом кюре показался вам мышеловкой? — спросила она, не слишком выбирая выражения. — Я вас понимаю, только такая старуха, как я, может сносить эту жизнь, полную лишений.
Вострушка молча с удивлением взирала на себе подобную.
— Но почему вы не ищете местечко получше? — спросила она слегка презрительно.
— Он такой добрый, такой добрый, я не могу его бросить, — объяснила та.
«Такой добрый, такой добрый, — думала Вострушка. — Но что такого мог сделать этот кюре, как мог он проявить свою доброту?»
— Я вижу, вам не понять… — продолжала старая мышь, — господин кюре делит со мной то немногое, что имеет, разумеется тайком от Леони, иначе ему бы попало. Вот хотя бы вчера вечером — выходя из кухни, он уронил возле моей норки хлебную крошку. Конечно, вы ничего не заметили. Теперь вы понимаете, что я не могу его покинуть?
Мыши распрощались, и когда колокола будили от сна жителей Шаперона, Вострушка была уже у подножия горы. Она шла домой еще под впечатлением от слов старой церковной мыши.
«Какая глубокая философия! — думала Вострушка. — Какое самоотречение! Нужно расспросить, такой мудрой ее сделали страдания, или она такой уродилась?» Сколько уроков получила Вострушка за эти несколько дней, сколько приобрела ценного опыта!
Проворные лапки несли ее по дороге, выше, еще выше. Солнце припекало, луга блестели от росы. Наверное, в ее доме уже расставлены мышеловки новейших образцов, которые невинно манят вас к себе кусочком швейцарского сыра, или же по полкам и в углах рассыпано отравленное пшено… Но лучше все эти козни, чем унылое существование в долине. Лучше умереть, если это неизбежно, в красивом доме, чем жить в Шапероне в тесноте и под страхом быть пойманной. К тому же теперь Вострушка сумела бы устоять перед любыми соблазнами. Воспоминания о господине представителе неотступно преследовали ее.
— Подумать только, у меня было лучшее место в кантоне, но моя страсть к мыльному крему обрекла меня на эту бродячую, цыганскую жизнь…
По дороге ей встретился указатель. «До Обзорного Шале — два часа пути», — гласил он.
Вострушка подумала, что не стоит торопиться в шале до темноты, лучше передохнуть в дупле поросшего мхом дерева. Луна уже была высоко в небе, когда Вострушка вновь двинулась в путь. Идти было легко, но от трав на дорожку падали пугавшие ее тени. Где-то далеко в лесу перекликались совы, слышались непонятные шорохи, хруст, какие-то вздохи, от которых ее бросало в дрожь.
«Все это, а может быть, и еще что-то похуже, из-за какой-то мыльной палочки для бритья», — думала Вострушка, которой чудилось, что ее повсюду подстерегают светящиеся глаза дикого кота или ласки.
Часто она останавливалась, забиваясь под камень, чтобы осмотреться. Когда ей казалось, что опасность миновала, она, осторожно ступая, продолжала свой путь. «Два часа пути» для Вострушки превратились в целую ночь. И только когда забрезжил рассвет, она увидела крышу своего шале. Никогда еще оно не казалось Вострушке таким гостеприимным, никогда еще не вселяло в нее столько радости и надежд. Она опасливо обошла его кругом, оглядела окна и двери и приблизилась к нему со смешанным чувством страха и удовлетворения. С виду все осталось прежним, массивные каменные стены дышали надежностью, словно ее дом был построен на века. Она осмелела, поднялась на две ступеньки крыльца, на каждом шагу принюхиваясь.
Когда она уже собиралась юркнуть под дверь, ей послышалось, что изнутри донесся какой-то свист. Она едва успела броситься в траву, как кто-то энергично распахнул деревянные ставни:
— Ну-ка вставай, Мурлыка, готовься к спуску, дружище, твоя работа окончена.
Эти слова принадлежали учителю из Шаперона. Вострушка была права, опасаясь подвоха.
— Ну что, — продолжал учитель, — подсчитаем наши трофеи? Одна, две, три мыши, мой отважный Мурлыка, браво! В мышеловках — пусто, на отравленное пшено никто не попался, на хлеб — никто. Полагаю, наша операция завершилась успешно, и мы можем известить муниципальный совет о победе.
Притаившись в зарослях лютиков, Вострушка дрожала всем телом. Итак, в ее отсутствие кто-то дерзнул занять ее место! Лучшее в кантоне! Но, увы, беспечные сородичи поплатились жизнью за свое гурманство.
Она неподвижно сидела в траве до тех пор, пока не скрылся из виду силуэт учителя из Шаперона, уносившего в сумке грозу всех мышей в округе, того самого кота из лавки булочника. Она долго прислушивалась, как цокают по каменистой тропинке башмаки с железными подковками. Наконец шаги стихли, пели птицы, сквозь еловые ветви пробивались солнечные лучи, а на смену боевым действиям пришел мир. Тогда Вострушка, тяжело вздохнув, поднялась на крыльцо, обращенное на знаменитый пейзаж, и воскликнула:
— Сегодня пришел конец моим приключениям. Клянусь снова стать порядочной мышью, хорошей хозяйкой и не поддаваться больше искушениям запретных лакомств, а особенно — мыльного крема.
На перила села птичка и принялась щебетать. Вострушка до сих пор не замечала, как прекрасно поют лесные птицы, сколько радости таит их пение.
Наконец она подошла к двери, сжалась, напряглась, поднатужилась и проникла в дом. Оказавшись в комнате, она осмотрела стены, пол, стол, скамейки — все стояло на своих местах, но требовало основательной уборки.
— Господи, какой беспорядок! — вздохнула Вострушка, и, прислушиваясь, как за окном по-прежнему щебечет птичка, весело взялась за дело.
РЕНЕ КУЗЕН
СМЕРТЬ ПОЭТА
I
Случай неясный, очень неясный.
— Вы так полагаете?
— А боли вы не ощущаете? Какого-нибудь недомогания? Что с аппетитом?
— Все нормально, ем как обычно.
— Ну-ну!.. Когда врач это обнаружил?
— Раз в четыре года я прохожу медицинский осмотр: таково требование начальства; вот и в этом году меня вызвали для обследования. А через несколько недель вызов повторили, тогда-то я и узнал, что у меня истощение кровеносной системы; я решил, что лучше всего сразу обратиться к вам, как к специалисту, подумал, что так будет вернее; поймите, доктор, единственное, о чем я прошу вас, — сказать всю правду, как бы ужасна она ни была! Перед вами человек, который не боится страданий, смерть же страшит меня и того меньше, поэтому давайте обойдемся без лишних слов.
— Правда порою горька!
— Никогда, доктор!
— Пусть будет так! На основании ваших анализов могу дать следующее заключение: как известно, наша кровь состоит из белых и красных кровяных шариков; существует болезнь, при которой в крови больного красные шарики постепенно исчезают и остаются одни только белые; вы, конечно, знаете про такую болезнь?
— Да, доктор.
— Ну вот, с вами происходит нечто подобное; одно лишь мне непонятно, и, надо признаться, это выглядит странно: ваши красные шарики, вместо того чтобы позволить методично истреблять себя — защищаются. Ваша кровь — настоящее поле битвы, и самое печальное, заметьте, то, что у вас ежедневно гибнет столько же белых шариков, сколько красных! Понимаете, к чему я клоню?
— Безусловно! Только меня поражает, доктор, что никогда прежде я не испытывал такого прилива сил!
— Хотите знать почему?
— Что бы ни случилось со мной на этой земле, роптать не стану, можете, доктор, быть спокойны: жизненные принципы не позволяют мне оглядываться назад, а тем более — сожалеть о прожитых днях.
— Хорошо! Одним словом, положение таково: самое позднее через два месяца кровь у вас исчезнет совсем, вы перестанете существовать как организм, питаемый кровеносной системой, но вот что загадочно, просто непостижимо: по мере того как ваша кровь истощается, исчезает, некая жидкость — надо прямо сказать, совершенно негодная для ее замены! — заполняет ваши вены, именно она, представьте себе, поддерживает вашу жизнедеятельность! Это выше всякого понимания! Ваш случай выходит за пределы компетенции науки, я не могу найти ему никакого объяснения! Примите мой нижайший поклон, вы — единственное в своем роде существо на земле!
— Просто я поэт, доктор!
— Ваша вера в свою исключительность достойна восхищения! Все это чудесно! Но неужели вам неинтересно узнать состав этой жидкости?
— Конечно, интересно! Что же это?
— Так вот! Дорогой мой, ваша новая кровь-кормилица, дарительница жизни, — всего-навсего древесный сок, абсолютно такой же, как тот, что заставляет акацию за год вытягиваться на пять метров!
II
В первое время ничего особенного не происходило, появились только слабые покалывания в кончиках пальцев рук да странные покраснения на пальцах ног и пятках. Но уже через несколько дней он в полной мере оценил преимущества своего холостяцкого положения.
На каждом пальце образовалась небольшая припухлость: за два дня припухлости разрослись до размеров стрекозиной головки, при этом поменяли цвет, который из темно-красного, кровавого, сделался таким изумительно нежно-зеленым, какой только можно вообразить.
Столкнувшись со столь стремительно прогрессирующей болезнью, он счел за благо выждать, поскольку развитие недуга не причиняло ему никаких болей, даже напротив, ощущаемое им полное довольство свидетельствовало о том, что ему, собственно говоря, счастливо живется и без попыток разгадать эту тайну. «А сколько еще других тайн скрывает человеческое существование!» — подумал он.
Он был предусмотрителен и потому тщательно подготовил свой уход от мира, запасся всем необходимым, чтобы не надо было куда-либо выходить, а потом укрылся вместе со своим котом в залитом солнцем домике в глубине сада.
Очень скоро его ноги оказались целиком охваченными болезнью. Он наблюдал, как снизу на них появились длинные белесые волоски толщиною с корешок лука; они образовали на подошвах причудливые сплетения, и при ходьбе по паркету у него возникало чувство, будто он ступает по ворсистому персидскому ковру.
Целую неделю его состояние оставалось без изменений. Надо сказать, что в ту пору первые весенние лучи солнца, пробуждающие природу, перестали вдруг на время нести тепло, и сильный заморозок побил самые нежные из цветов.
Проснувшись однажды утром, он почувствовал в ногах необычную тяжесть. Воистину, это было удивительно! Ноги оказались покрытыми буроватой корочкой, будто вся нога, целиком, оказалась в оболочке, ее можно было принять за кору, да, да, за древесную кору!
«Потрясающее сходство!» — подумал он.
Как только он спустил ноги на пол, кот мигом признал кору и, вонзив в нее когти, с мурлыканьем принялся их точить. Хозяин ласково погладил его и при этом обнаружил, что кончики пальцев рук — и они тоже! — выглядят теперь по-иному. Каждый бывший прыщик, а точнее следовало бы сказать — каждая почка — лопнула, на каждой из них выступило по капле сока, и крохотные зеленые листики подставили щечки свету.
Он не поверил глазам.
— Боже мой, возможно ли это? Такая восхитительная, радостная смерть!
На следующий день он едва мог ходить, колени его совсем не сгибались. Руки утратили гибкость, а такая же бурая, как на ногах, шероховатая на ощупь, жесткая оболочка медленно стягивала тело.
«Пора!» — подумал он.
Мелкими шажками, в сопровождении кота, ему удалось пробраться в сад. Он зашел вглубь, туда, где по утрам сотни воробьев затевают ссоры из-за каждого солнечного луча, туда, где ветер воет зимой про самые горестные тайны мироздания, и стал ждать.
Двух дней оказалось достаточно.
Под вечер второго дня он почувствовал, что сердце у него бьется все слабее и слабее. На руке его, воздетой горделиво, как ветвь дуба, спокойно дремал кот, опустив мордочку на лапы. Из-за стены — едва различимо — донесся человеческий голос:
«Ну что, дружище, уже отходишь?»
«Так, значит, — осенила его последняя мысль, — не мне одному суждена такая смерть?»
И выросло дерево, исполненное ликующего торжества жизни и света.
ЛИЯ ЛАКОМБ
БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ МОЛНИЯ
Море понемногу отступало. На песке оставались только водоросли и дохлые медузы — застывшие переплетения горгон, а на черных камнях, громоздившихся вокруг, во множестве ползали зеленые крабы. Облака едва тащились в неподвижном утреннем воздухе, медленно приближались, затягивая небо аспидным покрывалом, а ветер, появившийся над песчаной равниной, доносил унылое мычание коровы — оттуда, где была бело-зеленая мельница, обнесенная забором из искрошенного камня.
С того самого дня, как он попал в эти края, чужак удивлялся этому коровьему стону. Как только небо и море темнели, слышалось мычание коровы, и он тут же представлял себе кроткие глаза под темными ресницами — беспокойно мычащее животное, которое бредет по берегу моря. Всю ночь, не переставая, слышался жалобный стон. Потом надолго наступала тишина. А когда чересчур бледное небо снова иссушало равнину, звук становился ясным и коротким.
Чужак бродил по песчаной пустоши, минуя грядки спаржи, виноградники, пожелтевшую от соли траву, то и дело останавливался, глядя на коров, которых держали на острове, но ни одна из них не издавала этого безнадежного стенания.
Однажды, в душный августовский вечер, перед заходом солнца, когда уже почти стемнело, чужак спросил у старухи в широких черных шароварах, склонившейся над виноградной лозой, растущей среди песков, отчего так жалобно стонет корова.
Женщина подняла голову, повязанную платком, прятавшим волосы, и он увидел потемневшее от солнца лицо, покрытое преждевременными морщинами; она взглянула на чужака и снова склонилась над фиолетовой гроздью. «Для них я всего лишь чужак, попавший сюда с континента», — подумал мужчина и направился к своей бескрылой мельнице, сараю и колодцу, что на самом краю поселка.
Но как-то утром, когда в молочной лавке нагрузили полную телегу проволочных ящиков и шум вдруг умолк, чужак снова заговорил о корове. Сын лавочника засмеялся, потом протянул ему полную кружку молока и воскликнул: «Но это совсем не корова! — Он махнул рукой в направлении островной косы. — Это бакен. Там поставлен бакен, потому что место опасное. И когда ветер с той стороны, бакен слышно. Так что это не корова». И он принялся разливать молоко для продажи, посмеиваясь над этим человеком — «месье Андре», как он его называл, который никогда не ходил с рыбаками на лодке и не знал про бакен.
Летом людей с континента здесь еще принимали, продавая им втридорога раковины, клубнику или вино, но не любили их. Однако крестьяне не мешали месье Андре беспрепятственно ходить по всему острову, а мальчишки, забравшись на пузатые бочки, стоящие в ряд около церкви, уже не умолкали при его появлении. Иногда они шли за чужаком до самой мельницы, усаживались на ограде, окружавшей двор, и рассказывали разные истории о своей деревне, а чаще говорили об урожае винограда и креветках, приносимых сентябрьским приливом. Месье Андре едва поддерживал разговор, и дети понемногу расходились, шаркая ногами и поддавая камешки, летевшие в податливые заросли крапивы.

Он был не очень-то разговорчив, этот чужак, и они ничего не знали о нем. Он купил старую мельницу за деревней, где иногда прятались влюбленные парочки, но рабочих не нанял, ни в Ла Рошели, ни где-либо в округе. Он приобрел мельницу и жил там в полном одиночестве. От водителя автобуса люди знали, что он купил ставни, задвижки и шпингалеты в Сан-Мартине; что старьевщик доставил мебель, а больше не знали ничего. Ему никто не писал писем, это подтверждал почтальон. Болтали, что он беглый преступник, поскольку каждый год из крепости сбегал какой-нибудь заключенный. Шло время. Теперь неподалеку от домиков крестьян ярко выделялась побеленная известью мельница с зелеными ставнями, такими же, как в других домах, а когда крестьяне говорили о месье Андре, то, пожимая плечами, довольствовались одной фразой: «Он безобидный».
Но месье Андре не был безобидным. Разве что для других, но не для себя. Это была старая история! Ему не было еще и пяти лет, как он остался без матери, с отцом, который им не интересовался. У него появилась мачеха, маленький брат, и для Андре был уготован пансион. В пансионе он почувствовал, что его никто не понимает. Все попытки с кем-то сблизиться ни к чему не привели. Он говорил себе, что во всем виноват он сам, и страдал от этого. Одиночество было ему невыносимо, ведь не он его выбирал.
Когда же он оказался на острове, то не испытал ни горечи, ни разочарования, — он сам захотел жить здесь, где одиночество было заполнено кое-какой несложной работой и прогулками. Он возился у себя на мельнице, готовил поесть, стирал белье, а остальное время гулял по всему берегу. Он почти не думал о Соне. Она, впрочем, была хороша собой — темноволосая, с тонкой кожей. Казалось, она понимает его, и он думал, может, благодаря ей, найдет дорогу к другим людям; и вот однажды вечером в том самом кабаре, где она пела каждую ночь, она рассмеялась, надменно и горько, и это отбило у него охоту искать общества других людей. Он почти не думал о Соне, разве что иногда, во время прогулок по длинному песчаному берегу или когда стоял, глядя на волны, и черно-белые стрижи, проносившиеся мимо, пронзительно кричали. Тогда он переставал рассматривать причудливый рисунок, оставляемый на песке пеной, расшвыривал носком ботинка мелкие камешки, ломал хрупкие остовы морских каракатиц, пытаясь уничтожить голос женщины, которая смеялась над ним.
Скоро начнется сезон полной воды, в этом году, как и в прошлые годы, месье Андре не пойдет ставить сеть на креветок среди черной воды, с рыбаками, чьи губы потрескались от соленых ветров. Он никого не хотел видеть и ни с кем не хотел говорить. Он был один, потому что такой была его жизнь — быть одному. Да и с кем было говорить? Однажды тощая рыжая собака забрела во двор мельницы; он протянул к ней руку, но она укусила его и убежала.
В тот вечер — это было в августе — черные и фиолетовые тучи заполнили равнину, обещая немыслимую ночь, а ветер доносил жалобный плач бакена. Бакена, который Андре по-прежнему называл «коровой», хотя давно уже знал, что это скрипит бакен.
«Будет дождь», — машинально подумал месье Андре; он покинул мельницу и направился к сараю закрыть ставни, хлопавшие по белой стене. Несмотря на ветер, дерево во дворе было неподвижным. Это было старое миндальное дерево, давно неплодоносное, почти без листьев, корявое и больное от соленых ветров, единственное на весь двор. Возвращаясь на мельницу, месье Андре провел рукой по искривленному стволу. Птицы умолкли. Слышался только шум моря вдалеке да порывы ветра над долиной. Почему именно в тот вечер Андре было так тоскливо? Из-за «коровы», чей беспокойный голос то и дело слышался в тишине? А может быть, причина — одиночество? Но разве он не выбрал его сам?
Когда он уснул? Проснулся ли он среди ночи или все еще спал? Он был не у себя в комнате, а в сарае, но стен вокруг не было. Это было таинственное бесконечное пространство. Земля, пропитанная солнцем, терялась в тишине и мраке. Андре протянул руку, пытаясь обнаружить вокруг себя хоть какой-нибудь предмет, но старые бидоны исчезли с колченогого стола. Андре облокотился на стол, обхватив лицо руками. Какая тишина и темнота!.. Когда он поднял голову, то увидел женщину с черными волосами и нежной кожей, глядевшую на него, как та рыжая собака, что укусила его недавно.
Теперь женщина сидела на табуретке, похожей на ту, которая была у него в комнате. И у этой женщины были глаза Сони. Терпкий аромат поднимался от изнуренной земли. Раскаленные стены обращались в пыль. Было душно. Тонкая рука легла на стол. Ветер скручивался подобно солнечному протуберанцу, а затем рассыпался в воздухе йодистым запахом иссохшей травы. Все было полно ожидания. Бесшумно открывались и закрывались ставни, маленькие зеленые пятна среди ночи. Было нестерпима жарко! Андре провел по лбу рукой, она стала влажной. Он хотел протянуть руку, погладить, как когда-то, прохладную кожу, но его пальцы, казалось, прошли через годы; смуглая рука и другая, нежная, они преследовали одна другую, но женщина не двигалась. Андре застонал; в тишине он услышал собственный голос, крик страдания. И вдруг белая молния осветила сарай!.. На освещенной каменной стене Андре узнал свою рабочую одежду, висящую на толстом гвозде, изъеденном ржавчиной.
И еще здесь какой-то незнакомец, гибкий и блестящий, будто большая рыбина, и его живой взгляд, казалось, видит все сразу; он раскидывает руки, потом соединяет их, он то сгибается, то выпрямляется, вертится на одном месте; он проникает сквозь закрытую дверь, и сарай озаряется светом; подскакивая, он направляется к окну, и оно освещается тоже; он подходит к столу, слегка касаясь Андре, наклоняется к нему, смотрит ослепительно белыми глазами, и странная улыбка обнажает его сверкающие зубы.
И вот в тишине слышится, как хлопают по стене ставни, как гудит ветер, налетающий порывами и пахнущий йодом, и солью, и сорванной бурей виноградной лозой. Все происходящее кажется совершенно обычным. Незнакомец все кружится и кружится, то исчезает, то появляется, то подпрыгивает, и всюду рядом с ним белая молния. И все кажется так просто.
Мягкое тепло, не изведанное ранее, окутывает Андре, он почти не страдает, ему кажется, что-то меняется в нем. Он говорит, улыбается, кто-то сжимает его протянутые руки. Маленькие сверкающие люди окружают его и скачут вокруг; все говорят разом; Андре тоже говорит, но он говорит не один, ему отвечают, люди отвечают ему, они понимают его, и Андре вдруг так просто понять других — а раньше никогда не получалось; постепенно, незаметно для себя, он оказывается в центре круга, а люди вьются и вьются около него на все лады, под шум ветра.
Вдруг ему становится страшно. Стоя на колченогом стуле, человек-молния смотрит на него, и хотя на лице незнакомца ярко блестят его глаза и зубы, он неподвижен и белое сияние больше не освещает сарай. Андре с тревогой спрашивает себя: не ушли ли все эти люди, такие близкие ему, не исчезли ли, как молния, и они? Но останавливаться нельзя. Давайте же танцевать, давайте разговаривать!
«У тебя нежная кожа… — быстро говорит он Соне. — …Подожди», — добавляет он с усилием.
Он больше не видит сарая. Его ослепляет какое-то сияние. В глаза бьет свет, похожий на свет фары. Сколько людей говорят вокруг! Он знает их голоса, он помнит — это не те, кого он любит. Облака дыма окутывают его; это лучи прожектора на танцевальной площадке; тонкий жезл прикасается к огромному ящику. Сколько света в маленьком зале среди ночного плена!
«Расстаемся… расстаемся…», — говорит чей-то голос, свет и дым рассеиваются, барабан умолкает. Андре невероятно хочется спать. В голове тяжесть и туман.
Он слышит смех болотной птицы, он знает ее. Он не может удержать длинную белую молнию, разрезающую ночь, и птичий смех тихо угасает. «Это сон, — думает Андре. — Надо проснуться!» Но Соня по-прежнему здесь. Птица кричит, и с каждым криком из прически Сони падает шпилька, и волосы живыми кольцами рассыпаются по плечам. Соня беззвучно смеется, и ее смех стекает по спине тонкими черными змеями. Тяжелый горячий воздух заполняет гортань, набивается в уши Андре. Запах уксуса исходит от солнца, становится все более терпким. Он не может пошевелиться, но тут Соня протягивает к нему руку, и в пальцах у нее искрятся листья миндального дерева, вспыхивающие белыми и голубыми отблесками. Рука Сони приближается к нему. Но стоит Андре сжать пальцы в кулак, как листья сразу засыхают, крошатся, листва превращается в пыль. Соня ушла в ночь — ночь из стен и солнца. И тело Андре тоже исчезло, оно превратилось в маленькое мутное облако на искореженном полу сарая.
Где он? Может, он еще спит? А может, нужно проснуться? Он проснулся. Чистое небо, залитое солнцем, несло ему в окно яркий свет, запах скошенной травы, а над равниной разносилось мычание коровы — ясный, короткий звук.
Андре рывком сел на постели. Еще не ушедший сон и чересчур яркий свет мешали разомкнуть веки. Он зевнул. Зевая, подумал: сколько же дней или месяцев ему, одуревшему от ходьбы и работы, ничего не снилось? Он вытянул руки. И тут увидел, что в руке у него какая-то увядшая ветка. Он оторвал один лист, разгладил его, потом крепко сжал в ладонях этот лист миндального дерева и вновь увидел все, что произошло этой ночью в сарае, увидел человека-молнию и тех, других, увлекших его в свой танец. Они приснились ему? Он не помнил, когда сорвал ветку миндального дерева и почему он в той же рубашке, что была на нем вчера вечером. Сон ли это был? Человек-молния, толкнувший его этой ночью к тем, другим, может быть, не менее реален, чем увядшая ветвь или узкий ремешок с металлической пряжкой у него на поясе? Андре обхватил голову руками, он больше не мог быть один! Когда-то Соня понимала его; он говорил и смеялся вместе с ней; а позже появились другие люди, те, которые каждый вечер касались гладкой кожи этой женщины, что-то ей нашептывая. Соня засмеялась тогда! Она смеялась над ним, и ее смех напоминал птичий крик. И вот для него все кончено!
Он бежит от всего, и теперь он один на один с жалобным стоном бакена на ветру.
Андре поднял голову. Звучание бакена изменилось. Это снова был нескончаемый жалобный крик грозового неба, и Андре вновь увидел образы этой ночи, когда с помощью человека-молнии он научился жить с другими людьми. Он встал. Принялся за обычные утренние дела. Но он больше не чувствовал успокоения, того душевного покоя, которого добился благодаря своему безвременному и бесцельному существованию. Он вышел во двор и долго и отчужденно глядел на скопище темных туч, поднимавшихся над морем.
Потом, поскольку он сам выбрал для себя эту жизнь, взялся за работу. Боязнь не успеть, которой он не знал за собой раньше, более мучительная, чем физическое страдание, завладела им.
Это был самый длинный день, с тех пор как он поселился на острове. Он наполнил водой каменное корыто, где стирал белье; нынешним вечером ему хотелось быть чистым, хотелось, чтобы рубашка стала такой же подсиненной белизны, как молния в его сне. Он неотрывно следил за небом, его пьянили аспидные отблески грозы. Мельница, сарай, миндальное дерево — все потеряло реальный повседневный облик и приобрело образ и вид, как в ту ночь. Воспоминание о человеке-молнии не покидало его. Андре разлил по двору несколько ведер воды и тут же увидел гибкое и блестящее тело незнакомца. Какой у него необычный взгляд! С его помощью он сможет наконец приблизиться к людям, и люди протянут руки ему навстречу. Неужели это будет так просто?
Позднее, когда среди ночной темноты можно было различить только бело-зеленое пятно сарая, когда сильнее запахло водорослями, он сорвал во дворе ветку миндального дерева. Потом поднялся к себе в комнату, открыл окно и вытянулся на постели. Он лежал не шевелясь, глядя широко открытыми глазами в грозовое небо и прислушиваясь к стону бакена над бурунами грязной пены. Он был готов к приходу ночного гостя.
ЖИЗЕЛЬ ПРАССИНОС
ОСОБНЯК ХVII ВЕКА
Это был на редкость ветреный год. Ночью в спальне невозможно было отделаться от впечатления, что вы находитесь на борту корабля или на острове, со всех сторон омываемом волнами. День-другой длилось затишье, потом все начиналось снова. В первое время довольно часто случалось, что черепица, обломок водосточной трубы или стекло едва не пробивали голову какому-нибудь прохожему, но не прошло и месяца, как у всех выработалась привычка ходить преимущественно по мостовой, где, к счастью, не так уж много встречалось машин, и печальные происшествия сделались реже.
В бедных кварталах несколько домов все же обвалилось.
«Неплохое начало для нашего дела», — толковали между собой высокопоставленные городские чиновники, в обязанности которых входило разрушение непригодных для жилья зданий и возведение на их месте новых построек. Итак, они, казалось, возрадовались такой поддержке стихий, а в это самое время многочисленные времянки, где теснилась большая часть оставшихся без крова семейств, появлялись в разных концах пустырей и подступали к городским паркам.
Заметив, что это портит вид улиц, все дружно признали необходимость ускорить проведение в жизнь плана реконструкции, и настал день, когда решено было, что специальные службы займутся работами по сносу домов сразу после рождественских праздников.
В ту пору ветер стих и начались снегопады. Никого не беспокоили ни холод, ни сырость, не беспокоило то, что рабочие заболеют или даже станут умирать. Ибо высокопоставленные чиновники, побуждаемые к этому женами и взрослыми дочерьми, внезапно поддались желанию пожить в обновленном городе, сияющем белизною, по которому приятно прокатиться воскресным днем в открытом автомобиле и которым они могли бы похваляться за границей.
В одном из кварталов центра, где когда-то насчитывалось около двадцати домов, к началу декабря их сохранилось не больше пяти-шести. В их числе — особняк XVII века, давно уже нежилой и довольно ветхий, однако заслуживавший из-за своей красоты бережного отношения и ухода.
Сначала хотели, для создания небольшого музея филателии, камень за камнем перенести его к зданию мэрии, которое сохранилось лучше, хоть и простояло почти столько же лет. Однако на это потребовалось бы много трудов, времени и крупные денежные средства. Вот почему в конце концов решено было уничтожить старинное здание.
Те, кто занимался сносом домов, не остались равнодушными к его чарам, особенно дававшим о себе знать, когда они работали поблизости, и договорились ломать его в последнюю очередь.
Ужасающий грохот обрушивался на него со всех сторон. Помимо того, что без передышки стучали ломы, подгнившие стены соседних домов иногда обваливались сами собой — от малейшего сотрясения, часто от одного лишь звука шагов. Гулять неподалеку, да еще не упрятав носа в платок, стало не очень-то приятно.
Скоро все обратили внимание, что, несмотря на завесу из пыли, шиферных, кирпичных крошек и снежных хлопьев, особняк XVII века решительно выделяется на фоне своего окружения и выглядит совершенно идиллически, словно бы находится он на лоне природы, среди деревьев и кустов.
Рядом все время, любуясь им, толпились зеваки, одни полны были сочувствия, другие мысленно подбирали слова для петиции, которую они собирались предложить на подпись своим друзьям, а потом вручить ее властям, с тем чтобы они сберегли это строение, непохожее на прочие.
Но их порыв угасал, как только они сворачивали за угол ближайшей улицы, и пришло время, когда старинному дому суждено было погибнуть.
Первый удар киркой нанесли с сожалением. И вот что любопытно: он не оставил ни малейших следов на стене дома. «Ну и устал же я, — сказал своему напарнику рабочий после этого удара. — Смотри-ка, — продолжал он, указывая на то место, по которому только что бил, — я даже царапины на камне не оставил. Совсем я выдохся, это уж точно». И он отправился пропустить стаканчик вина, сгибаясь под бременем лет и невзгод.
Тогда кирку схватил другой рабочий и с размаху ударил по дому. С тем же результатом. А ведь он-то был молод и отменно здоров. Взялись за дело всей бригадой, но и из этого проку не вышло. Тогда решили пока, в ожидании завтрашнего дня, когда прибудет подкрепление, выбить оконные стекла. Однако ни одно из них даже не дрогнуло под ударами. Поскольку до конца работы оставалось всего пять минут, мастер дал сигнал расходиться.
На другой день все стены, одна за другой подвергнутые нападению, с одинаковой стойкостью выдержали натиск. Пожаловались руководителю работ, и он явился, чтобы самому разобраться в обстановке. «Такие хибары, как эта, — сказал он, с восхищением постукивая костяшкой пальца по стене, — отличаются первостатейной прочностью. Нужен приличный заряд динамита, чтобы с ней покончить. Но здесь так не поступишь, могут пострадать соседние здания. Давайте пока перейдем на северо-восточную площадку. А к этому делу вернемся, когда узнаем мнение начальства».
И старинный особняк выиграл еще несколько месяцев отсрочки.
Среди обломков окрестных строений он выглядел более величественно, чем когда-либо, и по тому, как замечательно оттенил простор его красоту, сразу ясно стало, что по замыслу создателей он призван был господствовать над огромным парком во французском стиле, с прямыми аллеями и симметричными клумбами.
По ночам его темная громада внушала страх, каждый старался держаться от него подальше, особенно с тех пор, как прошел слух о его непокорстве.
Тогда же после школы в нем стали собираться ребятишки из ближайших домов. До позднего вечера шум их игр звучал на лестницах, в коридорах и в дальних комнатах.
Однако уже через неделю они заметно притихли, в иные дни не шумели совсем, и родным теперь часто случалось хвалить их за примерное поведение дома.
И ведь никто не заметил, что малыши стали более задумчивыми и рассеянными, а во время ужина, когда они нехотя глотали суп, в их глазах вспыхивал иногда необычный блеск.
Один из них, который имел обыкновение разговаривать вслух во сне, несколько ночей кряду повторял одни и те же слова. «Хотелось бы мне знать, что у него на уме, — говорила его мать, — он все время твердит что-то о клятвах да секретах».
Тем временем назначили эксперта, которому поручено было основательно изучить материалы о способах строительства, которыми пользовались в XVII веке, составить подробную опись всех внутренних и наружных частей здания, упорно не желавшего погибнуть. Это был работяга, чуждый страстям и лишенный воображения. Сначала он, как таракан, обежал во всех направлениях тысячи квадратных метров, пересчитал окна, измерил балки, взял кое-где на пробу соскобы штукатурки, раскрыл секреты потайных дверей, бисерным почерком исписал несколько пронумерованных блокнотов, потом наконец добрался до самого верхнего этажа.
Было, по-видимому, около пяти часов, начинало темнеть, и эксперт готовился уже зажечь электрический фонарик, когда у себя над головой услышал шум. «Какой-то зверек», — подумал он, нимало не испугавшись, но, поскольку этот шум все же скорее напоминал человеческий голос, он прислушался внимательнее и сообразил, что разговор доносится со стороны чердака.
Голос казался странным — невозможно было определить, принадлежит он мужчине или женщине, молодому человеку или пожилому. Приглушенный расстоянием, он звучал совсем неразборчиво и настолько лишен был всякой выразительности, что его невнятное звучание наводило на мысли о языке потустороннего мира, если допустить, будто такой мир существует. По интонации можно было догадаться, что это либо произносят речь, либо рассказывают какую-то историю.

Эксперт стал не спеша подниматься по высокой винтовой лестнице. Когда он готовился одолеть последние ступеньки, на лестничной площадке, в проеме узкой двери, возникла процессия из пяти-шести ребят. Как в ночном карнавале. Каждый держал зажженную свечу, пламя которой выхватывало из темноты нос, затейливо искажало детское лицо. Они были словно погружены в сон, но держались прямо, шествовали в молчании и беспричинно улыбались.
Когда они, Как слепые, спустились вниз, эксперт зашел в комнату, из которой они появились.
Там, спиной к нему, стоял мальчик лет пятнадцати, с массивными, как у взрослого, бедрами, обтянутыми короткими штанами. Он тоже сжимал в руке свечу.
— Клянусь! — проговорил он торжественным, срывающимся голосом, и когда повернулся, чтобы выйти, то эксперт скользнул взглядом по его мертвенно бледному лицу, красиво оттененному шелковистыми усиками.
— С кем ты разговаривал? — изумленно спросил он.
Но подросток, словно не заметив пришельца, умчался прочь с грацией и быстротой испуганной кошки.
Этот уголок дома был настолько особенным, непохожим на другие, что даже такому бездушному служаке, как эксперт, стало здесь не по себе. Потускневшая золотая парча, которой отделаны были стены, обвисла широкими рваными лоскутами, скрепленными кое-где английскими булавками. Три кресла, обитых атласом, который, вероятнее всего, прежде был розовым, а теперь протерся, изодрался и лоснился от грязи, растеряли почти все пружины, а те, что уцелели, оказались небрежно привязанными к подлокотникам выцветшими лентами. В углу, под заколоченным круглым оконцем, небольшой туалетный стол с высокой створкой открывал взгляду потемневшее зеркало, где, словно звезды, мерцали несколько серебристых блесток. Любой другой, окажись он на месте ледышки-эксперта, заметил бы, как мелькнула в нем посторонняя, чужая тень. Правда, совсем крохотная тень…
При взгляде на упрятанный в стене кукольный альков с ветхими занавесками, со старыми сбитыми простынями, где отпечатался посреди перины след тела, невозможно было сдержать дрожь. Ибо всякому ясно, что не могла бы так примять постель фарфоровая или тряпичная кукла и не могли бы исходить от нее, как от человека, запах и тепло.
Прошло время. Эксперт долго готовил отчет, потом передал его в контору, выбранную для детального ознакомления с ним. Медленно тянулись недели, пока наконец группа лучших инженеров не осуществила разработку новейшего устройства, которое позволит, при помощи простого рычага, обратить в пыль старинное жилище. Оставалось лишь построить этот аппарат.
Случилось так, что в это самое время ребенок, разговаривавший во сне, один из тех, кто принадлежал к завсегдатаям особняка XVII века, серьезно заболел. В бреду он беспрестанно поминал незнакомку, которая его убьет, если он выдаст ее тайну. Встревоженные родители приступили с расспросами к товарищам сына, но им ничего не удалось выведать.
Мальчики делали удивленные глаза и всеми святыми клялись, что понятия не имеют, о чем говорит больной.
Но однажды подросток из их ватаги, внезапно повзрослевший, которого дядюшка — секретарь министерства — устроил в свое учреждение посыльным, явился к отцу мальчика, говорившего во сне, и сказал ему такие слова. «Говоря по правде, — тоном превосходства молвил он, — есть в особняке, где собираются ребятишки из соседних домов, нечто или некто, кому лучше бы оттуда убраться». По виду и по голосу он уже был точной копией старших членов семьи — высокопоставленных чиновников, на которых стремился походить. Он подбривал усы, которые утратили шелковистость и сделались жесткими, как конский хвост, прилизывал волосы, на голове носил мягкую шляпу, а в руке — тросточку. Хоть он еще совсем недавно вышел из детского возраста, никто про это больше не вспоминал, — так много уже в нем было черт того, кем он желал бы стать.
Узнав обо всем, несколько отцов семейств собрались как-то после работы в старом доме. Решено было спрятаться и проследить за детьми. Был среди них и один старый врач, человек умный, добросердечный, любознательный и способный тонко чувствовать, которого приключение увлекло куда больше, чем ему хотелось бы сознаться в этом.
Собравшиеся зрители и помыслить бы себе не могли о зрелище более загадочном, чем то, которое увидели собственными глазами, но они вынуждены были признать, что бессильны подыскать ему хоть какое-то объяснение. Одни утверждали, что очарованы способностью детей изобретать совершенно необыкновенные игры. Они вернулись домой задумчивыми, полными сожалений о днях юности, уважения и даже зависти к своим малышам. Другие пришли в негодование, потому что неспособны были взять в толк, как это можно тратить время на такие пустые забавы.
Что же касается старого доктора, то он думал иначе. Ничто не укрылось от его зорких глаз, привлекло его внимание и темное зеркало туалетного столика. Он остерегся бы поклясться в этом, но в иные моменты ему там виделось нечто, какая-то тень, мимолетное отражение поразительного лица.
Той же ночью со сложенным листом белой бумаги в кармане он вышел из дома и зашагал по дороге, ведущей на строительную площадку. На улице ничего почти не было видно. На небе — ни единого проблеска света. Там медленно клубились тучи, и чудилось, что слышится глухой гул, словно от мерной поступи стада волов.
Издалека заметен был один лишь особняк XVII века. Дивный свет, струившийся из его окон, бледный, голубоватый, холодный, как блеск клинка, навел старого доктора на мысль, что сама луна могла оказаться заточенной в нем.
Стоило ему, однако, подойти к двери, как все погасло, и он обрадовался, что захватил с собой свечу и спички. Доктор поднялся на чердак и вошел в комнату, где, как он заметил, собирались дети. Не колеблясь, направился к туалетному столику, достал белую бумагу и с задней стороны приложил ее к зеркалу, в котором тотчас появилось отражение: кукольный альков с ветхими прозрачными занавесками, и в нем — не фарфоровая или тряпичная игрушка, а живое, дышащее, крохотное создание женского пола, совсем юное и совсем старое, и привлекательное, и отталкивающее на вид.
Она погружена была в сон, так что доктор смог взять ее на руки и внимательно рассмотреть. Кожа у нее была желтоватой, ломкой, прохладной и шершавой на ощупь, как грубая бумага. Ночной чепец, отделанный рюшем с дырочками, забитыми пылью и всякой микроскопической живностью, спускался на глаза. Руки похожи были на листочки. Потом она проснулась и, несмотря на почтенный возраст, стала рваться из его рук с такой силой, что упала на пол. Доктор посчитал ее умершей, но, к счастью, она была лишь ошеломлена своим пленением. Странным голосом, который он уже слышал накануне, она принялась лепетать непонятные для него слова. Он, с подчеркнутым уважением, выслушал ее, а потом в свою очередь объяснил, что не причинит ей никакого вреда, что желает всего лишь спасти ее, вызволить из этого дома, обреченного на гибель. Она опять стала метаться и кричать, размахивая кинжалом, величиною не больше вязальной спицы, тогда он вынул из кармана носовой платок, пропитанный эфиром, и ловко прикрыл ей нос и рот.
Дальше все было просто. Старый доктор возвратился домой вместе с крошечным существом, укутанным в занавески алькова. Все, что случилось потом, тоже кажется мне предельно простым.
Назавтра наступил великий день: день, когда машина для истребления строптивых домов была торжественно доставлена на строительную площадку. Высокопоставленные чиновники после праздничного обеда должны были явиться сюда в сопровождении всех своих служащих, чтобы личным присутствием почтить триумф лучших инженеров. Инженеры знали, что в их честь приготовлена речь, с удовлетворением ожидали ее, но надеялись, в вознаграждение за свои труды, получить еще кое-что.
Бывшему подростку, сделавшемуся служащим конторы своего дядюшки, как самому юному, доверили нажать на рычаг, приводящий в действие механизм разрушения. Он сильно волновался.
Час пробил. Все как положено выстроились в ряд на площадке, в некотором отдалении от дома. Фотограф пожелал запечатлеть на одном снимке представителей властей и чудо-машину. Прозвучала речь, получили свои медали инженеры.
Бывший подросток приготовился. Аппарат, очень сложный, но легкий по весу, смонтировали на колесах. Оставалось только ввести его продолговатый конец в подвальное окошко, расположенное возле входной двери, и нажать на пресловутый рычаг.
В последний момент юноша заколебался, как-то странно взглянул на дядюшку из министерства, еще более странный взгляд устремил на мать, стоявшую поодаль, которая пришла полюбоваться на него. И по-моему, даже на какое-то мгновение лицо и глаза у него стали совсем детскими. Он все же овладел собой, подбадриваемый коллегами. Стыдясь минутной слабости, гордо двинулся к старинному жилищу, толкая перед собой машину.
Не сделал он и десяти шагов, как послышался грозный гул. В тот же миг собравшиеся увидели, что фундамент особняка искривился, приняв выражение плачущего человеческого лица, потом раскололся сразу по всем направлениям, и трещины, протянувшись, как лапы гигантского паука, быстро охватили второй, а затем третий, четвертый этаж и крышу; наконец все рухнуло и разлетелось на куски, на великое множество больших и малых обломков, которые, падая, погребли под собою диковинную машину и ребенка, прежде времени захотевшего стать взрослым.
Старый доктор, вернувшись вечером домой, после того как оказал помощь всем жертвам катастрофы, решил навестить плененное им древнее существо, которое он уложил в свою постель и запер в спальне.
Он вставил ключ в замочную скважину и, собравшись с духом, вошел. Когда он приподнял одеяло, чтобы взглянуть на тело и лицо трехсотлетнего существа, которое вызвало в нем такой интерес, то не обнаружил под ним ничего, кроме кучки битых камней, словно и здесь, на его постели, только что испустил дух особняк XVII века.
МАРСЕЛЬ ЭМЕ
В ЛУННОМ СВЕТЕ
Фея Удина вышла из реки, где вот уже девятьсот лет она отбывала наказание.
— О, дивный лунный свет! — воскликнула она. — Как легко дышится! Мне так тебя недоставало! Положа руку на сердце, можно сказать, что я накупалась до конца своих дней. Теперь-то уж никто не заставит меня мокнуть в воде.
И она принялась расчесывать свои длинные золотистые, как у всех фей, волосы и оправлять кисейное платье, немало ей послужившее. Одежда ее еще хранила речную влагу, падавшую каплями, словно лунная роса. Всматриваясь в свое отражение в речной глади, она произнесла с явным удовлетворением:
— Не хочу себе льстить, но, честное слово, я ничуть не изменилась со времен первых Капетингов[160].
В самом деле, с виду ей можно было дать не больше восемнадцати. Фея достала из-за золотого пояса волшебную палочку — орудие ее могущества — описала в воздухе три круга, а стоило ей только крикнуть: «Бриден, Бридон, Бридан!» — как тотчас же, словно из-под земли, появились три жирных белых кролика, запряженных в колесницу из чистого хрусталя и нефрита. Только колеса были целиком отлиты из золота. Удина расположилась на сиденье и пустила кроликов во весь опор по шоссе. Ночь была весенней, фея наслаждалась быстрой ездой и прохладой.
«У тех, кто выходит из реки, проведя там девятьсот лет, есть одно неоспоримое преимущество — по крайней мере, не нужно наносить никому визитов: знакомых уже не осталось, только коллеги…»
Так размышляла Удина, когда Бриден, запряженный головным, вдруг взвился на дыбы, попискивая от волнения. Увидев, что путь им преградил жандарм верхом на лошади, фея попросила у него разрешения проехать, причем так вежливо, что могла бы растрогать даже почтового служащего.
— Не горят фары, — сказал жандарм, — составляю протокол. Ночью нельзя ездить без фар.
— Нет фар? Но, господин жандарм, для чего они? Ведь на небосводе, усыпанном звездами, блестит луна, словно бледная роза в зарослях жасмина.
— Жасмин тут ни при чем. Я придерживаюсь исключительно правил. Ваша фамилия и должность? Я обязан вас задержать.
— Но месье, я не понимаю, зачем вам мое имя? Увы, оно уже давным-давно предано забвению.
— Я снова приказываю вам подчиниться. Как вас зовут? По порядку, фамилию и имя.
— Меня зовут Удина, господин жандарм. Но уверяю вас, нет необходимости…
— Профессия?
— Фея.
— Я спрашиваю, ваша профессия? Вам что, непонятно? Род занятий? Где служите?
— Месье, я же вам отвечаю: я — фея. По правде сказать, какое-то время я была не у дел, но, как видите, у меня осталась палочка, и я берусь утверждать, что ничуть не утратила былого могущества.
Удина поигрывала палочкой, и это раздражало жандарма, который недовольно проворчал:
— Сейчас не время для шуток… Вам положено знать, что все и вся обязаны подчиняться властям. К тому же, что это за имя — Удина? Вас зовут Удина, а дальше как?
— Просто Удина, у меня только одно имя. Нам, феям, без роду, без племени, фамилии ни к чему.
— Все должны иметь фамилию, — возразил жандарм, — это обязательно и предписывается законом.
Неожиданно он обратил свой взор на экипаж, в котором путешествовала нарушительница, и его подозрения усилились.
— О, господи, Бриден! — говорила фея. — Не вертите так хвостом, вы поднимаете столб пыли, а вы, Бридон, перестаньте рваться, поводья не выдержат.
Видите, господин жандарм, как непоседливы мои кролики? Смотрите, теперь Бридон выходит из себя, того и гляди, Сбросит хомут.
— Хм… Все это как-то странно и не по правилам… У вас есть документы?
Удина поняла, что без волшебства ей не обойтись, но она была доброй феей, и ей не хотелось превращать бедолагу жандарма в мериносного барана или в кофейную мельницу. Она любила повторять, что на свете достаточно старых фей-карабос, терзающих несчастных людей. Внезапно Удине пришла в голову забавная мысль, и, подтолкнув кроликов к самому носу жандарма, она доверительно прошептала:
— Господин жандарм, я вижу, ваша любознательность безгранична… Что ж, придется признаться. Я — жена префекта. Впрочем, по-моему, я уже встречала вас в префектуре. Кажется, вы там на хорошем счету.
Жандарм осадил лошадь и поднес руку к козырьку. Он не мог прийти в себя от неожиданности.
— Откуда мне знать, — лепетал он, — с кем я имею честь… Ну, разумеется, правила есть правила, но все равно, если бы у вас горели фары, я мог бы придраться к чему-нибудь другому…
Он отступил к самой канаве, а Удина пустила своих кроликов в галоп.
— Господин жандарм, обещаю, вас ждут приятные новости!
По доброте душевной Удина уже подумывала о том, что он вполне достоин нашивок сержанта. Пока колесница мчалась среди полей, фея сокрушалась о том, что потратила на жандарма много драгоценного времени сверх девятисот лет, проведенных на дне реки. Ей не терпелось совершить доброе дело, во-первых потому, что она была очень благородной по натуре, а во-вторых, чтобы поддержать свою былую славу, потускневшую в ее отсутствие. А уж злых фей — охотниц перемыть косточки подруге-неудачнице — хоть отбавляй!
Обычно Удина занималась тем, что покровительствовала вдовам и сиротам, выплачивала пособия многодетным семьям, помогала несчастным властителям отвоевывать потерянную корону, присутствовала на крестинах их дочерей, но больше всего ей нравилось улаживать любовные дела, и вовсе не потому, что ей самой ни разу не случалось увлечься каким-нибудь юношей, — тут феи ведут себя так, словно им лет семьдесят пять, не больше…
Просто Удине было по душе соединять разлученных влюбленных, устраивать всевозможные свидания, давать приданое красивым бедным девушкам, водить за нос уродливых соперниц и тучных претендентов на руку и сердце, и всегда — из благородных побуждений. Выйдя из реки, Удина поняла, насколько теперь усложнилась ее задача, — ведь у нее не осталось крестниц, которых можно осыпать дарами, готовить приданое или выдавать замуж, как водится, едва им минет шестнадцать.
— Придется еще долго ждать, — размышляла она, — нужно, не торопясь, собрать сведения, если хочешь иметь дело с приличными семьями. А пока я могла бы заняться чем-нибудь другим. Эх! Встретить бы отчаявшихся влюбленных, у которых в душе беспросветный мрак, это было бы как раз по мне.
Стоит феям только пожелать, и все сразу же сбывается. Остановившись на перекрестке дорог, Удина вышла из колесницы и отпустила кроликов попастись в капустных грядках. И тут же на обочине она увидела очень красивого темноволосого юношу, который сидел на подножке лимузина и рыдал, утирая слезы клетчатым платком. На дне реки Удине случалось видеть немало автомобилей, поэтому она ничуть не удивилась и прежде всего поинтересовалась, какие же причины повергли такого красивого юношу в столь глубокое отчаяние? Автомобилист поднял голову и, увидев, что у Удины длинные волосы, понял, что имеет дело с феей, но не подал виду.
— Ах, мадам, я самый несчастный человек на свете. Меня зовут Жако, и я влюблен в прелестную девушку. Она умеет играть на треугольнике[161], получила степень бакалавра[162], а ее химическая завивка держится целый год. Зовут ее Валентина, да, мадам, Валентина. Еще совсем недавно она называла меня «дорогой», а потом мы поспорили, Валентина уверяла меня, что слово «пианино» пишется с двумя «н» в середине слова, но я-то твердо знаю, что два «н» пишутся в последнем слоге. Понимаете, она очень эмоциональная, очень чувствительная натура; она запустила мне в голову графином, мы поссорились, и, наговорив непростительных слов, я ушел. Теперь мне никогда не утешиться.
— Вы очень любите Валентину? Я хочу спросить: вы питаете к ней возвышенные чувства? Иные меня не интересуют.
— Ах, мадам! Смысл жизни я вижу в том, чтобы жениться на ней. Мы знакомы уже больше двух месяцев.
— И вам кажется, что осуществлению ваших планов мешают серьезные препятствия? Непреодолимые преграды?
— Еще бы, теперь-то уж свадьбе не бывать…
— Ну что ж, можете радоваться, вам повезло.
— Как? Вы хотите сказать, что я могу надеяться в один прекрасный день получить руку Валентины? Ах, мадам!
— Ну разумеется, разумеется… Я улажу ваши дела.
— Вы ей скажите, мадам, что слово «пианино» пишется с двумя «н» вовсе не в середине слова, как она нелепо утверждала…
— Да нет же, я сама не знаю, как оно правильно пишется. Ответьте лучше, где живет ваша суженая?
— По левую руку, третий дом у въезда в город. Не больше тридцати пяти километров отсюда. Я отвезу вас на своем автомобиле с шестицилиндровым двигателем. Отличная машина! Посмотрим, что вы потом скажете о подвеске…
— Благодарю вас, у меня есть свой экипаж. Бриден, Бридон, Бридан! Попаслись, и будет!
Жако не мог скрыть изумления, увидев колесницу, запряженную тремя белыми кроликами, а потом произнес, покачав головой:
— Кузов оригинальный, но для автомобиля с откидным верхом он все же маловат. Можете говорить что угодно, но моя машина…
Но Удина уже взяла в руки поводья и понеслась, сломя голову, прямо к городу. Она была безумно счастлива и ликовала, предвкушая пышную свадьбу, которую ей предстоит устроить для двух юных влюбленных.
— Судя по тому, в каком отчаянии был бедный юноша, когда я его встретила, без меня дело не уладится. Придется вмешаться, употребив все свои чары. Может быть, среди родственников есть какой-нибудь колдун… Что ж, тем лучше. Впрочем, этот Жако — прелестный юноша, у него приятное лицо, обходительные манеры, а глаза… Ах, какие черные у него глаза!
Пока она размышляла о нем чуть более смело, чем пристало фее, Жако в своем автомобиле не мог нарадоваться тому, что добрая фея взяла его под свое покровительство. Пять минут спустя он с удивлением обнаружил, что кролики значительно опередили его машину, и почувствовал, что ноги у него просто гудят от нетерпения. Он нажал на газ, но впереди тянулась лишь белая пустынная дорога, ведущая в город. Спидометр показывал семьдесят, восемьдесят, девяносто… Наконец в свете фар блеснула хрустально-нефритовая колесница; ему показалось, что три кролика еще прибавили ходу.
— Чтобы меня обошли какие-то кролики! — прошептал Жако. — Ни за что на свете! С таким мотором, как у меня, это просто позор.
Он прибавил скорость, резко вырвался вперед, едва не опрокинув легкую колесницу, и мчался так до тех пор, пока не показались первые городские постройки. Удина подъехала с большим опозданием, а от кроликов буквально валил пар, так они бежали. Сама фея тоже сильно запыхалась после этой скачки, у нее даже волосы растрепались.
— Видите, — сказал Жако, — я могу дать вам фору в пять километров, а то и больше… С таким задним мостом, как у меня, ничего не страшно…
Фея недовольно, с трудом сдерживая досаду, разглядывала машину Жако, стоявшую на обочине.
— Право, не понимаю, — сказала она, — что сегодня с моими кроликами? Они явно не в форме. Может быть, Бриден объелся клевера? Он никогда еще не был таким неуклюжим.
— Конечно, — согласился Жако, — кролики — штука капризная, прямо как мотор.
Удине так не терпелось свершить доброе дело, а у Жако были такие дивные черные глаза, что она решила не держать на него зла.
— Значит, здесь живет ваша любезная Валентина? — спросила она. — В этом красивом белом доме среди цветущих яблонь?
— Да, мадам. А вот окна ее комнаты, они выходят в сад. Эх, и зачем только пианино пишется с двумя «н» в последнем слоге, а я такой правдолюб!
Бедный малый снова зарыдал. У доброй феи сердце просто разрывалось на части, а на глаза навернулись слезы.
— И в этот сад, благоухающий боярышником и персиковым цветом, вы, Жако, приходите по вечерам петь древние, как мир, серенады под окном своей Валентины?
— Нет, мадам. Во-первых, в саду расставлены капканы, видите надпись на стене? Во-вторых, мне кажется, серенады не пришлись бы ей по вкусу. Валентина говорит, что у меня нет слуха. И это правда. Мне никак не спеть в одной тональности с ее треугольником… Когда мне нужно повидать Валентину, я просто звоню в дверь. Так удобнее.
— Вы хотите сказать, что заходите в дом к ее родителям? Но это же немыслимо! Подвергать себя такому риску!
— Конечно, я захожу к родителям Валентины. А что тут особенного?
— Это слишком скучно, — сказала фея, нахмурив брови. — Значит, если я правильно поняла, семья не возражает против вашего брака, раз вас принимают в доме как жениха? Ни отец, ни брат не желают вам смерти, никто не строит вам козни, не старается унизить вас в глазах Валентины?
— Разумеется, нет, слава богу. Если бы у меня и здесь не клеилось, лучше было бы вообще махнуть на все рукой.
— Как? У вас даже нет соперника-горбуна, которому семья отдавала бы предпочтение из-за богатства? Так, так, мой мальчик. Как же мне проявить свое волшебство, если не нужно сражаться с врагами? К чему заколдовывать дом, если моего подопечного радушно там встречают? Поймите, когда я вмешиваюсь в дела влюбленных, я действую наперекор всем и против всех; вы не встретите ни одной феи, которая согласилась бы пошевелить хотя бы мизинцем ради такой незначительной истории, как ваша. Что за радость устраивать свадьбу в таких условиях? Друг мой, мне весьма неловко, но я ничем не могу вам помочь.
Но тут влюбленный впал в столь безудержное отчаяние, что фея опять смягчилась. Вообще-то, не в правилах фей менять свои решения, если затронута их профессиональная честь. Они придерживаются твердых принципов, и все мольбы и угрозы тут бессильны. Что же касается Удины, то, наверное, ее принципы слегка размякли на дне реки, где она провела в неволе девятьсот лет. К тому же ей так хотелось сделать добро красивому черноволосому юноше, что она взяла Жако за руку и сказала торжественным голосом, как на крестинах принцев и принцесс:
— Честное слово, я не перенесу, если вы будете несчастны. Была не была, я вам помогу. Но каким образом? Может быть, мне подвергнуть Валентину семи испытаниям: водой, огнем, неволей, облысением, уродством, бедностью и безумием? По-моему, этот набор все-таки слишком серьезен для столь незначительной цели.
— О мадам! — запротестовал влюбленный. — Мне кажется, если бы вы сумели убедить Валентину, что пианино пишется в двумя «н» в конце слова, все пошло бы на лад. Но, черт возьми, она такая упрямая, вы же знаете, она просто не станет вас слушать.
— Поступим иначе, — сказала фея, — я наделю Валентину даром правописания, преимущество фей в том и состоит, что они могут давать другим то, чем не владеют сами. Так и сделаем!
Жако сложил руки в знак искренней благодарности.
— Жако, неплохо будет наделить и вас тем же даром. Но впредь пользуйтесь им разумно. Таково мое условие.
Фея, очень взволнованная, коснулась палочкой лица юноши, но она так нервничала, что перепутала заклинание, и у Жако тотчас же выросли бычьи уши и рог на подбородке.
— О, простите, — сказала фея, — я ошиблась. Не беспокойтесь, это минутное дело.
И впрямь, едва она произнесла неправильное заклинание задом наперед, все стало как прежде. Тогда она произнесла новое заклинание, единственно правильное, которое помогает, когда не ладится с орфографией. Сначала Жако стоял как громом пораженный, затем закричал в сильном волнении:
— Потрясающе, я чувствую, как орфография проникает мне в кровь, словно пьянящий напиток!
Тем временем Валентина услышала голос жениха, вышла из дома и с вызывающим видом подошла к нему.
— Валентина, — воскликнул Жако. — Пианино пишется…
— Неправда, — перебила его Валентина, — пианино пишется…
Но добрая фея уже коснулась ее своей волшебной палочкой. Влюбленные бросились друг другу в объятья, выдохнув:
— Пи-а-ни-но.
Фея Удина вернулась на дорогу и негромко позвала:
— Бриден, Бридон, Бридан!
Прежде чем сесть в экипаж, она несколько мгновений прислушивалась к нежному воркованию жениха и невесты, которые по слогам произносили такие трудные слова, как «орнитология»[163] и «микроцефал».[164] Любовь — такое нежное, трепетное чувство, особенно когда хорошо знаешь правила правописания! Валентина и Жако даже не слышали, как три белых кролика увозили фею Удину навстречу новым приключениям.
ОСКАР И ЭРИК
Лет триста тому назад в стране Уклан жила-была семья художников, которые звались Ольгерсоны и писали одни лишь шедевры. Все Ольгерсоны были знамениты и уважаемы, и если их слава не перешагнула границ страны, то лишь потому, что королевство Уклан было уединенным, находилось далеко на Севере и не соседствовало ни с каким другим. Суда его выходили в море только на добычу морского зверя и рыбы, те же, что искали путь на Юг, вдребезги разбивались на рифах.
У старого Ольгерсона, старейшины этого рода художников, было одиннадцать дочерей и семеро сыновей, и все они были талантливыми живописцами. Все восемнадцать Ольгерсонов сделали прекрасную карьеру и жили в достатке, неге и почете, но ни у кого из них не было детей. Поскольку старику было невмоготу смотреть, как угасает на его глазах род, для которого он так много сделал, он женился на дочери охотника на медведей и в возрасте восьмидесяти пяти лет зачал сына, которого нарек Хансом. После этого старик скончался со спокойной душой.
Ханс, пройдя школу своих восемнадцати братьев и сестер, стал великолепным пейзажистом. Он писал ели, березы, луга, снега, озера, водопады, причем на полотне они выглядели такими же, как их создал господь бог. Казалось, ноги мерзнут в снегу, когда смотришь на зимние пейзажи Ханса.
Однажды медвежонок, увидевший на картине Ольгерсона ель, принял ее за настоящую и даже попытался залезть на нее.
Ханс Ольгерсон женился, и у него родилось два сына. У старшего, Эрика, вовсе не было художественных способностей. Он мечтал только об охоте на медведей, китов, тюленей и пылко увлекался мореплаванием. Родственников он приводил этим в отчаяние, особенно отца, который считал его неучем и тупицей. Оскар же, который был на год младше Эрика, напротив, проявил недюжинные художественные способности, тонкость чувств и несравненную твердость руки. Уже двенадцати лет от роду он писал пейзажи, которым завидовали все Ольгерсоны. Его березы и ели выглядели еще натуральнее, чем на полотнах отца, и продавались за сумасшедшие деньги.
Столь противоположные вкусы не мешали братьям нежно любить друг друга. Если Эрик не пропадал на охоте или рыбалке, он сидел в мастерской брата, и только рядом с ним Оскар чувствовал себя совершенно счастливым. Братья были так дружны, что не было у одного радости или горя, которое другой не пережил бы как собственное.
В восемнадцать лет Эрик стал настолько хорошим моряком, что без его участия не обходилась ни одна путина. Но он мечтал пройти полосу рифов, которая открыла бы ему путь в южные моря. Эрик часто говорил об этом брату, приводя его любящую душу в смятение при мысли об опасностях, которые сулила подобная затея.
Хотя Оскару едва исполнилось семнадцать, он уже был метром. Отец с гордостью заявил, что ему больше нечему учить сына. Но юный метр вдруг охладел к живописи. Вместо величественных пейзажей из-под его кисти выходили только какие-то наброски, которые он делал на разрозненных листах и тут же рвал. Пятнадцать оставшихся в живых Ольгерсонов обуяла тревога, и они решили все выяснить. Отец воззвал к Оскару от имени всех:
— Не разочаровался ли ты в живописи, милый мой сын?
— О нет, отец, я люблю ее пуще прежнего.
— Ну что ж, приятно слышать. Уж не этот ли верзила Эрик отвращает тебя от нее, или я ошибаюсь? Ну если это и впрямь так!
Оскара возмутила сама возможность подозрений, и он заявил, что только рядом с братом ощущает прилив творческих сил.
— В чем же дело? Тогда, может, ты влюбился, и это тебя отвлекает?
— Прости меня, отец, — ответил Оскар, опуская глаза. — И вы, тетушки, и вы, дядюшки, простите. Однако мы в своем кругу. И потому могу признаться, что, хоть я встречаюсь со многими женщинами, ни одной еще не удалось удержать меня.
Все пятнадцать Ольгерсонов расхохотались и начали громогласно обмениваться теми двусмысленными шутками, что были в ходу среди художников королевства Уклан.
— Вернемся к нашим баранам[165], — сказал отец. — Откройся нам, Оскар, скажи, всего ли достает тебе. И если есть в твоем сердце какое-нибудь желание, не скрывай его.
— Есть, отец. Я бы попросил отпустить меня на год пожить в твоем доме в горах Рхана. Я бы отдохнул там. Уверен, что работаться мне там будет хорошо, особенно если ты разрешишь брату разделить мое уединение.
Отец охотно согласился, и уже на следующий день Оскар и Эрик ехали в санях в горы Рхана. День шел за днем, и не было дня, чтобы Ольгерсоны не вспоминали отшельников, особенно Оскара. «Вот увидите, — говорил отец, — вот увидите, что за чудеса привезет он с собой. Я уверен, он что-то задумал». В день, когда исполнился ровно год, как уехали его сыновья, он сам отправился в путь и спустя неделю подъезжал к своему дому в горах Рхана. Оскар и Эрик, заметив отца еще издали, поджидали его на пороге дома: один, как было заведено, держал домашнее платье, подбитое волчьим мехом, в руках другого аппетитно дымилось блюдо с тюленьими потрохами. Отец торопливо проглотил угощение, так ему не терпелось насладиться созерцанием пейзажей Оскара.
Войдя в мастерскую, он в первую минуту от ужаса лишился дара речи. На всех полотнах громоздились странные уродливые предметы, написаны они были в зеленых тонах и, по всей видимости, должны были изображать подобия растений. Некоторые из этих монстров были собраны из огромных медвежьих ушей зеленого цвета, утыканных иголками. Другие походили на восковые свечи или на канделябры для множества свечей. Несмотря на всю их абсурдность, именно эти чешуйчатые свечи, казавшиеся неестественно длинными, с веером листьев на макушке, каждый из которых был в два раза длиннее человеческой руки, выглядели наименее вызывающе.
— Это что еще за мерзость? — прорычал отец.
— Это деревья, отец, — ответил Эрик.
— Что? Вот это — деревья?
— Не буду скрывать, я долго сомневался, показывать ли эти картины, и понимаю, что они для тебя несколько неожиданны. Но я теперь так вижу натуру, и ни ты, ни я ничего здесь не можем поделать.
— Ну это мы еще посмотрим! Значит, ты захотел уединиться в горах, чтобы посвятить себя этим непотребствам? Ты меня весьма обяжешь, поспешив вернуться домой. Что касается тебя, Эрик, здесь будет особый разговор.
Спустя неделю юноши вернулись вместе с отцом домой. Все пятнадцать Ольгерсонов явились посмотреть, что нового создал Оскар. Двое из них тут же умерли от потрясения, а оставшиеся в живых сошлись на том, что необходимо принять меры. Эрика, которого подозревали в развращении вкуса брата, решено было удалить от него на два года. Молодой человек снарядил корабль, на котором собирался, пройдя полосу рифов, обследовать дальние моря. После трогательного прощания на молу, когда слезы одного брата текли по щекам другого, Эрик сказал Оскару:
— Конечно, наша разлука продлится не один год, но не теряй надежды и всегда помни, что ты — путеводная звезда в моем путешествии.
Что касается Оскара, то Ольгерсоны решили не выпускать его из мастерской до тех пор, пока он не обретет снова вкуса к порядочной живописи. Он покорился их распоряжениям без единого упрека, но первый же пейзаж, вышедший из-под его кисти, представлял какой-то куст медвежьих ушей, а на втором к горизонту тянулась по песку вереница подсвечников. Он и не думал возвращаться к более здоровому восприятию натуры. Более того, болезнь все больше захватывала его, и он все глубже погружался в бездны абсурда.

— Послушай, — сказал ему однажды отец, — да пойми же наконец, что твои картины отрицают самое живопись. Писать позволено только то, что видишь.
— Если бы господь бог создавал то, что видел, — возразил Оскар, — он никогда бы ничего не создал.
— Не хватало только твоих философствований! Несчастное дитя, можно подумать, у тебя никогда не было перед глазами достойного примера! Если на то пошло, Оскар, когда ты смотришь, как я пишу березу или ель… Кстати, что ты думаешь о моей живописи?
— Прости меня, отец.
— Оставь, друг мой, будем искренни.
— Ну хорошо, я буду искренен. Я считаю, что твоя живопись хороша только для растопки каминов.
Ханс Ольгерсон не потерял присутствия духа, но несколько дней спустя, заявив, что его сын тратит слишком много дров, выгнал его из дома без единого су в кармане.
На те гроши, что у него оставались, Оскар снял в порту хижину и обосновался там со своим этюдником. Чтобы заработать себе на пропитание, Оскар работал грузчиком, а в остальное время продолжал писать медвежьи уши, свечи в подсвечниках и метелки из перьев. Его картины не только не продавались, но просто стали объектом насмешек. Абсурдность их вошла в поговорки. С годами нищета Оскара стала невыносимой. Его прозвали Безумным. Дети плевали ему в спину, старики забрасывали камнями, а портовые девки крестились, завидя его издали.
Как-то раз, а было это четырнадцатого июля, необыкновенное волнение охватило город и порт. Смотритель маяка заметил многопалубный корабль с золоченым носом и пурпурными парусами. Ничего подобного в клане никогда не видели. Представители городских властей, посланные навстречу кораблю, выяснили, что принадлежит он Эрику, который, совершив кругосветное путешествие, возвращается домой после десятилетнего отсутствия. Ольгерсоны, как только им рассказали об этом, принялись прокладывать себе через толпу дорогу к пристани. Облаченный в панталоны голубого шелка, шитый золотом камзол, с треуголкой на голове, Эрик остановился перед Ольгерсонами и нахмурил брови.
— Я не вижу своего брата Оскара, — сказал он отцу, раскрывшему ему объятия. — Где он?
— Не знаю, — ответил отец, краснея. — Мы в ссоре. Тем временем какому-то мужчине в лохмотьях, с изможденным лицом, удалось выбраться из толпы.
— Эрик, — сказал он, — я твой брат Оскар.
Рыдая, заключил его Эрик в свои объятия и, только когда волнение его немного улеглось, обратил к Ольгерсонам суровый взгляд.
— Это из-за вас, старичье, мой брат чуть не умер от голода и лишений.
— Что ты хочешь от нас? — ответили — Ольгерсоны. — Ему стоило только начать писать, как принято. Мы дали ему в руки солидное ремесло, а он уперся и писал только абсурдные и смехотворные пейзажи.
— Ни слова больше, и знайте, что нет художника более великого, чем мой брат.
Злая ухмылка пробежала по лицам Ольгерсонов. Эрик, обратившись к матросам, выстроившимся на палубе, приказал:
— Принесите сюда кактусы, финиковые пальмы, равеналии, олеандры, банановые кусты…
И, к изумлению толпы, матросы стали выносить на набережную деревья в кадках, которые являли собой вернейшие оригиналы тех, что изображал на своих полотнах Оскар. У оставшихся в живых Ольгерсонов глаза полезли на лоб, и многие из них заплакали от ярости и досады. Толпа упала на колени, люди просили Оскара простить их за то, что они прозвали его Безумным. И дня не прошло, как на полотна старого Ольгерсона полностью упал спрос. Ценители требовали только кактусы и прочие экзотические деревья. Братья принялись за строительство очень красивого дома, чтобы жить в нем вдвоем. Они нашли себе жен, но супружеские узы не мешали им нежно любить друг друга. Оскар продолжал писать деревья все более и более странные и неизвестно, существующие ли где-нибудь на земле.
ОЛЕНЬ И СОБАКА
Дельфина поглаживала домашнего кота, а Маринетта держала на коленях желтого цыпленка и что-то потихоньку ему напевала.
— Смотри, — сказал цыпленок, глядя на дорогу, — какой-то бык.
Подняв голову, Маринетта увидела оленя, который мчался через поле прямо к ферме. Это было огромное животное с большими ветвистыми рогами. Он перепрыгнул через канаву у дороги и, оказавшись во дворе, как вкопанный стал перед девочками. Бока его ходили ходуном, тонкие ноги дрожали, и он так запыхался, что сперва не мог говорить. Он смотрел на Дельфину и Маринетту добрыми влажными глазами. Наконец он опустился на колени и с мольбой в голосе произнес:
— Спрячьте меня. За мной гонятся собаки. Они хотят растерзать меня. Спасите.
Девочки обняли оленя за шею и прижались щеками к его голове, но кот принялся охаживать их хвостом по ногам и приговаривать:
— Нашли время обниматься! Когда его настигнут собаки, ему не поздоровится! Я уже слышу их лай на опушке леса. Откройте-ка лучше дверь да проводите его к себе.
Говоря это, он без устали размахивал хвостом и норовил хлестнуть их по ногам как можно сильнее.
Девочки поняли, что только зря потеряли время. Дельфина бросилась открывать дверь дома, а Маринетта, опережая оленя, помчалась в комнату, где жили они с сестрой.
— Ну вот, — сказала она, — отдыхайте и ничего не бойтесь. Хотите, я постелю коврик на пол?
— Да нет, не стоит. Вы так добры!
— Вам, наверно, очень хочется пить! Налью вам воды в лоханку, такой прохладной. Только что из колодца. Но я слышу, меня зовет кот. Я оставлю вас ненадолго.
— Благодарю, — отвечал олень. — Я этого не забуду. Когда Маринетта была уже во дворе, а дверь дома плотно затворена, кот обратился к девочкам:
— Главное, вести себя как ни в чем не бывало. Садитесь, где сидели, займитесь цыпленком, меня погладьте.
Маринетта снова взяла цыпленка к себе на колени, но он ёрзал, то и дело подпрыгивал и пищал:
— Что все это значит? Ничего не понимаю. Хотел бы я знать, зачем быка впустили в дом.
— Это не бык, это олень.
— Олень? Ах, это олень?… Вот как, олень…
Маринетта пропела ему песенку «На нантском мосту», убаюкала, и он сладко заснул у нее в переднике. Да и кот замурлыкал от ласковых прикосновений Дельфины и лениво потянулся. На дороге, по которой бежал олень, девочки увидели охотничьего пса с длинными висячими ушами. Не мешкая, он пересек дорогу и лишь посреди двора задержался, чтобы обнюхать землю. Так он добрался до девочек и спросил в упор:
— Здесь был олень. Куда он подевался?
— Олень? — удивились девочки. — Какой олень?
Пес взглянул на одну, потом на другую и, заметив, как они покраснели, принялся снова обнюхивать землю. Недолго думая, он направился прямо к двери. Проходя мимо Маринетты, от толкнул ее и даже не обратил на это внимания. Цыпленка, который безмятежно спал, слегка подбросило у нее в переднике. Он открыл один глаз, похлопал крылышками, но, так ничего и не поняв, снова погрузился в свой спальный мешок. Тем временем пес обнюхивал порог дома.
— Я чую здесь запах оленя, — сказал он, обернувшись к девочкам.
Они сделали вид, что не слышат. Тогда пес повысил голос:
— Повторяю, я чую здесь запах оленя!
Притворившись, что его неожиданно разбудили, кот вскочил на лапы, недоуменно взглянул на пса и спросил:
— Что вы здесь делаете? Что за странная манера топтаться у чужих дверей и вынюхивать неизвестно что?! Сделайте милость, убирайтесь отсюда!
Девочки встали и, не поднимая головы, подошли к собаке. Маринетта взяла цыпленка на руки, и, потревоженный, он окончательно проснулся. Цыпленок тянул шею то в одну сторону, то в другую, стараясь хоть что-нибудь разглядеть поверх рук, и все не мог взять в толк, где же он. Пес строго посмотрел на девочек и, кивнув на кота, спросил:
— Вы слышали, каким тоном он со мной разговаривает? Мне следовало бы проучить его, но ради вас я, пожалуй, не стану этого делать. Взамен вы скажете мне всю правду. Стало быть, признайтесь: вы видели, как во двор вбежал олень, вы пожалели его и впустили в дом.
— Уверяю вас, — возразила Маринетта нетвердым голосом, — в доме нет никакого оленя.
Не успела она договорить, как цыпленок, подтянувшись на лапках, свесился с ее руки, словно с перил балкона, и пронзительно закричал:
— А вот и есть! А вот и есть! Маринетта уже не помнит, зато я отлично помню! Она впустила в дом оленя — да-да, это был олень! — большое животное, у него еще рогов много. Ай-яй, хорошо, хоть у меня есть память!
И он важно выпятил грудку, расхваливая себя. Кот готов был разорвать его на кусочки.
— Так я и думал, — сказал пес девочкам. — Мой нюх меня не подводит. Когда я говорил, что олень в доме, я словно бы видел его там. Будьте благоразумны и выпустите его. Подумайте хотя бы о том, что это животное не ваше. И если мой хозяин обо всем узнает, он непременно явится к вашим родителям. Не упрямьтесь.
Девочки не шевельнулись. Только робко зашмыгали носами, потом на глазах у них появились слезы и они заплакали навзрыд. Казалось, это совсем озадачило пса. Увидев, что они плачут, он опустил голову и в задумчивости уставился на свои лапы. Наконец он коснулся мордой ноги Дельфины и промолвил, вздыхая:
— Странно, не могу видеть, как плачут девочки. Послушайте, я ведь не злодей. В конце концов олень не сделал мне ничего плохого. С другой стороны, конечно, охота есть охота, и я должен делать свое дело. Но так и быть… Будем считать, что я ничего не заметил.
Дельфина и Маринетта, сразу повеселев, собрались было поблагодарить пса, но он, качая головой и прислушиваясь к лаю, доносившемуся с опушки леса, остановил их:
— Рано радоваться. Боюсь, напрасны были ваши слезы, как бы вам снова не пришлось сейчас плакать. Я уже слышу голоса своих товарищей по своре. Они наверняка возьмут след оленя, и не успеете вы оглянуться, как они уже будут здесь. Что вы скажете им? Вряд ли их удастся разжалобить. Должен вас также предупредить, что служба для них превыше всего. До тех пор, пока вы не выпустите оленя, они отсюда не уйдут.
— Ясно, надо поскорее выпустить оленя! — запищал цыпленок, свесившись со своего балкона.
— Замолчи, — одернула его Маринетта, и у нее снова хлынули слезы.
Пока девочки плакали, кот шевелил хвостом, чтобы лучше думалось. Все смотрели на него с нетерпением.
— Ну-ка перестаньте реветь! — приказал он. — Мы подготовимся к приему гостей. Дельфина, принесешь из колодца ведро свежей воды и поставишь у ворот. Ты, Маринетта, пойдешь в сад вместе с собакой. И я за вами. Но сперва избавься от цыпленка. Спрячь его вот под эту корзину.
Маринетта опустила цыпленка на землю и перевернула корзину так, что он угодил в плен, не успев даже возразить. Дельфина набрала ведро воды и отнесла к воротам. Пока ее друзья находились в саду, она увидела, как вдалеке показалась собачья свора, лаем возвестившая о своем приближении. Вскоре девочка уже могла сосчитать их по головам: восемь собак одинакового роста и одной масти с длинными висячими ушами. Дельфина беспокоилась, как бы ей одной не пришлось встречать их. Наконец из сада появился кот, а за ним Маринетта с огромным букетом роз и жасмина, лилий и гвоздик. Пора! Собаки были уже на дороге. Кот вышел им навстречу и любезно произнес:
— Вы разыскиваете оленя. Он был здесь четверть часа назад.
— Не хочешь ли ты сказать, что он сразу убежал? — спросила одна из собак недоверчиво.
— Вот именно, он только заглянул во двор и немедля двинулся дальше. За ним уже гнался один пес, похожий на вас, его зовут Тёпа.
— Ах да, Тёпа… есть такой.
— Сейчас я покажу вам, в какую сторону побежал олень.
— Бросьте, — буркнул пес, — никуда он от нас не уйдет.
Маринетта приблизилась к собакам и спросила:
— Кого из вас зовут Разор?
У меня к нему поручение от Тёпы. Он сказал: «Вы легко его узнаете, это самый красивый пес…»
Разор подпрыгнул и завилял хвостом.
— Признаться, я не сразу узнала вас, — продолжала Маринетта. — Ваши спутники так хороши собой. Мне и вправду не приходилось встречать таких красивых собак…
— Очень красивых, — подтвердила Дельфина. — Просто глаз не отвести.
По своре пронесся гул одобрения, хвосты так и завиляли.
— Тёпа поручил мне напоить вас. Кажется, у вас было напряженное утро, и он подумал, что после столь долгой погони вам не помешает освежиться. Пожалуйста, вот ведро с колодезной водой… Если ваши друзья тоже захотят…
— Что ж, не откажемся, — отозвались собаки.
Они теснились у ведра с водой и даже учинили небольшой беспорядок. Между тем девочки продолжали восхищаться их красотой и изяществом.
— Вы так прекрасны, — сказала Маринетта, — что мне хочется подарить вам свои цветы. Пожалуй, в целом мире не найдется собак, которые были бы более достойны их, чем вы.
Пока собаки пили, девочки разделили между собой букет и принялись украшать их ошейники цветами. Вскоре вся свора была украшена венками, искусно сплетенными из роз и гвоздик, лилий и жасмина. Псы смотрели друг на друга с нескрываемым удовольствием.
— Разор, еще цветок жасмина… он вам так идет! Но скажите, может, принести еще воды?
— Нет, спасибо, вы очень добры. Нам надо поймать нашего оленя…
Однако собаки не торопились уходить. Они растерянно кружили на месте, не решаясь выбрать дорогу. Сколько ни водил Разор носом по земле, ему не удавалось отыскать след оленя. Гвоздика, жасмин, розы и лилии, наполнившие все вокруг своим ароматом, отбивали запах животного. Остальные собаки, также в плену цветов и запахов, напрасно втягивали воздух носом. Наконец Разор обратился к коту:
— Не укажешь ли ты, в каком направлении ушел олень?
— Охотно, — согласился кот. — Он побежал в эту сторону и пропал из виду там, где лес клином врезается в поле.
Разор попрощался с девочками, и свора в пестром разноцветии умчалась прочь.
Когда они скрылись в лесу, пёс
Тёпа вышел из сада, где прятался все это время, и попросил привести оленя.
— Раз уж так получилось, что я тоже участвую в заговоре, — сказал он, — хочу дать ему один совет.
Маринетта вывела оленя из дома. Дрожа от страха, он узнал, какая опасность ему только что угрожала.
— На сегодня вы спасены, — заметил пес, после того как олень их всех поблагодарил, — а что завтра? Я не собираюсь пугать вас, но вспомните о собаках, охотниках, ружьях. Думаете, мой хозяин забудет, что вы выскользнули у него из рук? Рано или поздно он натравит на вас свою свору. Как мне ни горько, я и сам буду вынужден гнаться за вами. Будьте же благоразумны, не бегайте больше по лесу!
— Уйти из леса! — воскликнул олень. — Да я умру от тоски. И потом, куда деваться? Я не могу жить в открытом поле у всех на виду.
— Ну почему? Вам стоит задуматься над моими словами. Во всяком случае, здесь сейчас безопаснее, чем в лесу. Если вы послушаете меня, то останетесь тут, пока не стемнеет. На берегу реки я вижу кустарник, который послужит вам надежным укрытием. А теперь прощайте, и хочу надеяться, что мы с вами никогда не встретимся в наших лесах. Прощайте, девочки, прощайте, кот, позаботьтесь о нашем приятеле.
Немного погодя олень тоже простился с друзьями и направился в прибрежный кустарник. Он несколько раз обернулся, чтобы кивнуть девочкам, которые махали ему платками.
Когда он укрылся в зарослях, Маринетта вспомнила наконец о цыпленке, которого оставила под корзиной. Решив, что на дворе ночь, тот крепко заснул.
В надежде купить быка родители еще поутру отправились на ярмарку и теперь возвращались в плохом настроении. Им не удалось купить быка — он слишком дорого стоил.
— Какая обида, — досадовали они, — потерять весь день — и ничего не найти! На чем мы теперь будем пахать?
— Но ведь в хлеву есть бык! — напомнили девочки.
— Хороша упряжка! Будто может хватить одного быка! Помолчали бы лучше. И вообще, сдается нам, что пока нас не было, здесь происходило что-то странное. Как это ведро очутилось у ворот?
— Недавно я поила теленка, — сказала Дельфина, — и, наверно, забыла отнести ведро на место.
— Хм! А что делают на земле цветок жасмина и эта гвоздика?
— Гвоздика? — пролепетали девочки. — Ой, и вправду…
Но под взглядами родителей они неудержимо начали краснеть. Заподозрив неладное, родители бросились в сад.
— Все цветы срезаны! Сад обобран! Розы! Жасмин, гвоздика, лилии! Маленькие негодницы, зачем вы оборвали все цветы?
— Я не знаю, — пробормотала Дельфина, — мы ничего не видели.
— Ах, вы ничего не видели? Ах, так?
Понимая, что девочкам грозит взбучка, кот запрыгнул на самую низкую ветку яблони и сказал родителям храбро:
— Подождите сердиться. Меня совсем не удивляет, что девочки ничего не видели. В полдень, пока они обедали, я грелся на подоконнике и вдруг заметил на дороге бродягу, который украдкой поглядывал на сад. Я заснул, не придав этому особого значения. Спустя какое-то время я открыл один глаз и увидел, как этот человек уходит прочь по дороге, изрядно нагруженный.
— Почему ты не побежал вслед за ним, бездельник ты этакий?
— Но я всего лишь кот. Что мог я поделать? Бродяги не по моей части. Я слишком мал. На такой случай нужна собака. Эх, была бы здесь собака!
— Час от часу не легче, — ворчали родители. — Разводить бездельников. Нам вполне хватает тебя.
— Как вам угодно, — заявил кот. — Сегодня оборвали цветы в саду, завтра утащат цыплят, а потом и теленка уведут.
Родители ничего не ответили, но последние слова заставили их призадуматься. Мысль завести собаку показалась им весьма разумной, и они не раз возвращались к ней в течение вечера.
Во время ужина, когда вся семья собралась за столом и родители все еще сетовали на то, что не нашли быка за сходную цену, кот пустился бежать через поле к реке. День клонился к вечеру, и уже пели цикады. Он увидел, что олень лежит среди кустов, пощипывая листья и траву. Они долго о чем-то беседовали, и, как ни сопротивлялся олень уговорам кота, в конце концов уступил.
Ранним утром следующего дня олень вошел во двор фермы и обратился к родителям:
— Здравствуйте, я олень. Ищу работу. Не найдется ли у вас что-нибудь подходящее для меня?
— Хорошо бы прежде узнать, на что ты способен, — отвечали родители.
— Я умею бегать, ходить рысью или просто шагом. Несмотря на то что у меня тонкие ноги, я очень сильный. Могу перевозить тяжести. Могу тянуть повозку один или в упряжке. Если вам некогда, забирайтесь ко мне на спину, и быстрее всякого коня я доставлю вас в нужное место.
— Все это неплохо, — согласились родители. — А на что ты рассчитываешь?
— На жилье, корм и, разумеется, на воскресный отдых. Родители лишь всплеснули руками. Они и слышать не хотели ни о каком отдыхе.
— Воля ваша, — сказал олень. — Но имейте в виду, что я весьма неприхотлив и мое пропитание обойдется вам недорого.
Эти последние слова убедили родителей, и они решили взять его на месяц испытательного срока. Тем временем Дельфина и Маринетта вышли из дома и, увидев своего друга, изобразили крайнее удивление.
— Мы нашли напарника быку, — сообщили родители. — Старайтесь быть с ним повежливее.
— У вас две дочки, и обе такие симпатичные, — заметил олень. — Я уверен, что подружусь с ними.
Не теряя времени даром, родители, которые и так собирались на пахоту, вывели быка из хлева. При виде оленя, чьи рога кого хочешь могли удивить, он засмеялся, сначала едва слышно, потом во весь голос, и так расхохотался, что не устоял на ногах и плюхнулся на землю. Веселый был бык.
— Ах, какой потешный с этим деревцем на голове! Ой, не могу! Что за копыта, что за хвостик! Смех, да и только.
— Хватит, довольно, — вмешались родители. — Поднимайся! Пора и о работе подумать.
Бык встал, но узнав, что его хотят запрячь вместе с оленем, расхохотался пуще прежнего. Принося извинения своему новому компаньону, он сказал:
— Вы, должно быть, считаете, что я ужасно глуп, но у вас и вправду такие необычные рога, что к ним не сразу привыкнешь. И все-таки вы мне нравитесь.
— Смейтесь на здоровье, я не сержусь. Пожалуй, и я мог бы сказать, что ваши рога меня забавляют. Но думаю, я быстро к ним привыкну.
Действительно, после того как они проработали вместе полдня, им уже не приходило в голову разглядывать друг у дружки рога. В первые часы пахоты оленю пришлось нелегко, хоть бык и старался, как мог, основную тяжесть взять на себя.
Труднее всего ему было приспособиться к шагу оленя. Тот чересчур торопился, тянул рывками, а потом, запыхавшись, спотыкаясь о комья земли, замедлял ход упряжки. Поэтому плуг все время водило из стороны в сторону. Первая борозда получилась такой кривой, что родители чуть было не отказались от своей затеи. Впоследствии благодаря добрым советам и терпению быка дело пошло на лад, и очень скоро из оленя получилось превосходное тягловое животное.
Однако работа, по-видимому, так и не стала для него источником радости. И если б рядом не было быка, к которому он проникся горячей дружбой, он не смог бы, наверное, с нею смириться. Олень с нетерпением ждал, когда закончится рабочий день и он освободится от хозяйских понуканий.
Возвращаясь на ферму, он оживал, носился по двору и лужайкам. Он охотно играл с девочками и, если они бежали с ним наперегонки, непременно поддавался. Родители с неудовольствием взирали на их шалости.
— На что это похоже? — возмущались они. — После рабочего дня он изматывает себя бегом, вместо того чтобы как следует отдохнуть и набраться сил на завтра. А эти разбойницы! Неужели за день не наигрались, чтобы еще за тобой гоняться до изнеможения.
— Чем вы недовольны? — недоумевал олень. — Мало вам, что я безотказно выполняю свою работу? Девочек же я учу бегать и прыгать. С тех пор как я здесь, они бегают намного быстрее. Разве это плохо? Что может быть полезнее в жизни, чем умение быстро бегать?
Но никакие доводы не устраивали родителей: они лишь пожимали плечами и продолжали ворчать. Олень не любил их и, случалось, давал волю истинным своим чувствам, зная, что это не слишком огорчит девочек. Друзья, которые появились у него среди обитателей фермы, старались поддержать его. Селезень в сине-зеленом оперении, который понимал его с полуслова, иногда забирался к нему на рога, и олень поднимал его, чтобы он мог сверху взглянуть на мир. Еще олень очень любил свинью, напоминавшую ему одного знакомого кабана.
Вечером в хлеву он подолгу беседовал с быком. Они рассказывали друг другу о себе. Жизнь быка была весьма однообразной, и появление на ферме оленя стало в ней самым значительным событием. Он и сам сознавал это и большей частью помалкивал, с удовольствием слушая друга. А тот говорил о лесах, полянах, прудах, о ночной погоне за луной, о купании в росе и о лесных жителях.
— Ни хозяина, ни обязанностей, ни расписания — бегай себе, сколько душе угодно, играй с кроликами, болтай с кукушкой или кабаном при встрече…
— Спору нет, — отвечал бык, — но и в хлеву не так уж плохо. Лес… я хотел бы попасть туда летом, в хорошую погоду. Что ни говори, но зимой или в дождь в лесу не очень уютно, тогда как здесь у меня крыша над головой, копыта сухие, подстилка из свежей соломы и сено в кормушке. Ведь это что-нибудь да значит.
И все же при этих словах бык с завистью думал о той свято хранимой и тайной жизни леса, которой ему не дано узнать. Бывало, днем, работая в поле, он вдруг бросал взгляд в сторону леса и вздыхал с сожалением, точь-в-точь как олень. Даже ночью ему иногда снилось, будто он резвится с кроликами посреди поляны или карабкается на дерево вслед за белкой.
В воскресенье с самого утра олень покидал хлев и весь день проводил в лесу. Вечером он возвращался, глаза его горели, и он без умолку говорил обо всем, что видел, о встречах со старыми друзьями, о том, как они бегали и играли, но уже на следующий день олень был печален и лишь изредка нарушал молчание, досадуя на скучную жизнь, которую ему приходилось вести на ферме. Много раз он просил у родителей разрешения взять с собой быка, но они не на шутку сердились:
— Взять с собой быка! Чтобы болтаться по лесу?! Оставь его в покое.
Бедняга бык с завистью провожал оленя взглядом и, опечаленный, коротал воскресенье, рисуя в воображении леса и озера. Он обижался на родителей за то, что они держат его взаперти, словно маленького теленка, а ведь ему давно уже исполнилось пять лет. Дельфину и Маринетту тоже никогда не отпускали с оленем, но как-то днем в воскресенье они сказали, что пойдут собирать ландыши, а сами заранее сговорились встретиться с ним в лесу. Олень посадил их на спину и повез кататься. Дельфина крепко ухватилась руками за рога, а Маринетта держалась за ее поясок. Олень показывал им разные деревья, гнезда птиц, кроличьи и лисьи норы. Случалось, сорока или кукушка садилась ему на рога, чтобы поделиться лесными новостями. Он ненадолго остановился у пруда, беседуя с тетушкой Карпихой, которой было уже за пятьдесят. Она высунулась из воды и, казалось, зевала, глотая ртом воздух. Когда олень представлял ей девочек, тетушка вежливо перебила его:
— О, можешь не говорить мне, кто эти девочки.
Я знала их матушку, когда она была еще маленькой, лет двадцать пять — тридцать назад, и, глядя на них, мне теперь чудится, что я снова вижу ее. Но не все ли это равно, мне приятно узнать, что их зовут Дельфина и Маринетта. Они такие милые, такие воспитанные. Наведывайтесь ко мне, малышки.
— Непременно, сударыня, — пообещали они.
После пруда олень привез Дельфину и Маринетту на небольшую поляну и велел им сойти на землю. Потом, заметив у подножия склона, поросшего мхом, нору величиной с кулак, он приблизил к ней свою морду и три раза кого-то тихонько позвал. Когда же он отошел на несколько шагов, девочки увидели, как из норки показалась голова кролика.
— Ничего не бойся, — сказал олень. — Эти девочки — мои друзья.
Успокоившись, кролик вышел из норки, а за ним и два других кролика. Дельфина и Маринетта немножко смущали их, и они выждали еще минутку, прежде чем разрешили себя погладить. Но вскоре они разыгрались и стали задавать девочкам всякие вопросы. Им хотелось знать, где находится их норка, какую траву они больше любят, родились ли они прямо в своей одежде или она отросла позже. Девочки терялись, не зная, что ответить. Дельфина сняла передник, чтоб было видно, что он не прирос к телу, а Маринетта сбросила с ноги туфельку. Решив, что им очень больно, кролики зажмурились, чтобы ничего не видеть. Когда же они наконец поняли, что такое одежда, один из них заметил:
— Забавно, конечно, но я не вижу во всем этом смысла. Вы, наверно, теряете свою одежду или забываете ее надеть. Почему бы не носить на теле шерстку, как все? Ведь это намного удобнее.
Девочки объясняли Им правила одной игры, когда все три кролика опрометью кинулись к норе с криками:
— Собака! Бегите! Собака!
— Не пугайтесь, — сказал пес, — это я, Тёпа. Пробегая неподалеку, я узнал смех девочек и захотел повидаться с вами.
Олень и девочки бросились ему навстречу, но ничто не могло заставить кроликов подойти к нему поближе. Пес спросил, чем занимается олень, с тех пор как ему удалось спастись, и очень обрадовался, когда услышал, что он работает на ферме.
— Ты поступил мудро, и надеюсь, будешь столь же благоразумен и останешься там навсегда.
— Навсегда? — возразил олень. — Нет, это невозможно. Если б ты знал, как скучна работа и уныла равнина под палящим солнцем, а в лесу в это время свежо и приятно.
— В лесу никогда не будет покоя, — настаивал на своем пес. — Здесь почти каждый день охотятся.
— Ты хочешь напугать меня, но я-то знаю, что мне здесь, по существу, нечего бояться.
— Да, я действительно хочу напугать тебя, бедный олень. Только вчера мы загнали кабана. Вероятно, ты знаешь его: старый кабан со сломанным клыком.
— Это был мой лучший друг! — застонал олень и горько заплакал.
Девочки с укором посмотрели на собаку, и Маринетта спросила:
— Но ведь не вы его убили, правда?
— Нет, но я был с теми, кто его загнал. И не имел права поступить иначе. Ах, какое ремесло! С тех пор как мы знакомы, не могу передать вам, как оно меня тяготит. Если б и мне можно было оставить лес и пойти работать на ферму…
— Нашим родителям как раз нужна собака, — обрадовалась Дельфина. — Приходите к нам.
— Не могу, — вздохнул Тёпа. — Каждый должен заниматься своим делом. Это во-первых. Кроме того, не хотелось бы оставлять товарищей по своре, с которыми я провел всю свою жизнь. Тем хуже для меня. Но мне было бы не так грустно расставаться с вами, если бы наш друг пообещал не покидать ферму.
Вместе с девочками он уговаривал оленя навсегда отказаться от леса. Олень медлил с ответом и смотрел на трех кроликов, которые прыгали вокруг своей норки. Один из них остановился и позвал оленя играть. И олень дал понять девочкам, что ничего не в силах обещать.
Когда на следующий день его запрягли с быком во дворе фермы, он все еще грезил о лесе и его обитателях.
Замечтавшись, он не услышал приказания и не тронулся с места. Бык сделал шаг вперед, но, почувствовав сопротивление, остановился, выжидая.
— Но, трогай! — закричали родители. — Опять это вредное животное!
И поскольку олень по-прежнему стоял на месте, они ударили его палкой. Он отпрянул и, негодуя, воскликнул:
— Распрягите меня немедленно! Я больше не служу у вас.
— Пошёл-пошёл! В другой раз поговоришь!
Олень отказывался тянуть повозку, и родители еще дважды ударили его палкой, а на новый отказ последовало три удара. Наконец он уступил, и родители обрадовались. Добравшись до места, где собирались сажать картошку, они выгрузили мешок с клубнями, распрягли животных и оставили их пастись у края дороги. Казалось, урок пошел оленю на пользу: он больше не упрямился. Но не успели родители взяться за дело, как он сказал быку:
— На сей раз я ухожу навсегда. Не пытайся меня удержать, ты только зря потеряешь время.
— Ну, что ж, — ответил бык, — в таком случае я ухожу вместе с тобой. Ты так много рассказывал о жизни леса, что мне не терпится узнать ее поближе. Бежим!
Пока родители работали к ним спиной, они поспешили укрыться в цветущих яблонях, а оттуда оврагом устремились по дороге, которая привела их прямо в лес. Счастливый, бык бежал, пританцовывая и напевая песенку, которой его научили девочки. Новая жизнь казалась ему такой необыкновенной, какой он, бывало, рисовал ее в своем воображении. Но едва он вошел в лес, как почувствовал разочарование. С трудом продирался он вслед за оленем сквозь лесную поросль. Мешала мощная грудь, и широко расставленные длинные рога цеплялись за что попало. Он с тревогой думал о том, что не сможет, если потребуется, уйти от опасности. Тем временем олень ступил на болото, по которому передвигался с такой легкостью, что почти не оставлял за собой следов. Но стоило быку сделать несколько шагов, и он по колено увяз в трясине. Насилу выбравшись, бык сказал своему приятелю:
— Лес определенно мне не подходит. Придется с этим смириться, так будет лучше для нас обоих. Я возвращаюсь.
Олень не осмелился задерживать его, а лишь проводил до опушки леса. Вдалеке он заметил девочек — они казались двумя белыми пятнышками во дворе фермы, — и, кивнув на них, обратился к быку:
— У меня, наверное, никогда не хватило бы духу покинуть их, если б не родители. Мне будет недоставать вас — их, и тебя, и всех тамошних животных…
После долгих прощаний они расстались, и бык вернулся на картофельное поле.
Узнав о бегстве оленя, родители пожалели о содеянном. Теперь им ничего не оставалось, как потратить уйму денег на покупку второго быка, но так уж вышло.
Девочкам не верилось, что их друг ушел навсегда.
— Он вернется, — повторяли они, — он не сможет без нас.
Но проходили недели, а олень не возвращался. Девочки вздыхали, поглядывая в сторону леса:
— Он забыл нас. Он играет с кроликами и белками, а нас забыл.
Однажды утром, когда они лущили горох на пороге дома, во двор вошел пес Тёпа. Понурясь, он приблизился к ним и сказал:
— Я должен огорчить вас. Плохи наши дела.
— Олень! — воскликнули девочки.
— Да, олень. Вчера во второй половине дня мой хозяин убил его. Я, правда, сделал все, что мог, чтобы увести свору по ложному следу. Но Разор не поверил мне. Когда я подбежал к оленю, он еще дышал и даже узнал меня. Губами он сорвал маленькую ромашку и попросил передать её вам. «Малышкам», — сказал он мне. Вот она, в моем ошейнике. Возьмите.
Девочки плакали в переднички, и селезень в сине-зеленом оперении тоже плакал. Немного погодя, пес добавил:
— Теперь я даже слышать не могу об охоте. С этим покончено. Я хотел спросить, вашим родителям еще нужна собака?
— Нужна, — ответила Маринетта. — Они только что об этом говорили. Ах, как я рада! Ты останешься с нами!
И девочки, и селезень улыбнулись псу, а он дружелюбно завилял хвостом.
БАРАН
Сидя на обочине, свесив ноги в придорожную канаву, Дельфина и Маринетта гладили толстого белого барашка — подарок дяди Альфреда. Баран клал голову на колени то одной, то другой сестре, и втроем они пели песенку, начинавшуюся словами: «Цветет в саду розовый куст…» В это время родители хлопотали по хозяйству во дворе в окружении домашних животных и, казалось, не испытывали ни малейшей симпатии к барану. Они поглядывали на него искоса и цедили сквозь зубы, что он только отнимает у девочек время и что лучше бы они помогали по дому или подрубали платочки, чем понапрасну играть с этим неумытым животным.
— Если бы кому-то пришло в голову избавить нас от этого кучерявого толстяка, мы бы встретили его с распростертыми объятиями…
Было без двадцати двенадцать дня, и труба фермы дымилась. Пока родители рассуждали таким образом, на повороте дороги показался солдат, который направлялся на войну верхом на горячем вороном скакуне. Видя, что у него появились зрители, он решил изящно прогарцевать мимо них и показать себя во всей красе, но, не подчинившись седоку, вороной конь встал как вкопанный и сказал, повернув к нему голову:
— Эй, там, наверху, что на тебя нашло? По-твоему, мне мало тащиться по дорогам под палящим солнцем да к тому же с пьянчугой, который едва держится в седле?
Тебе еще потребовалось выделывать кренделя? Так вот, предупреждаю…
— Подожди немного, проклятая кляча! — пригрозил солдат. — Я живо приберу тебя к рукам, будешь у меня как шелковая…
И с этими словами он вонзил шпоры в бока коня и изо всех сил натянул поводья. Конь взвился на дыбы и пустился вскачь так неистово и стремительно, что всадник перелетел через его голову и растянулся плашмя посреди дороги, расцарапав себе руки и колени и изваляв в пыли красивый мундир.
Солдат, стоявший теперь на коленях, был не в настроении выслушивать наставления. А когда он увидел, что его обступили родители, Дельфина и Маринетта, баран и все остальные домашние животные, он рассвирепел, выхватил длинную саблю и хотел было броситься на коня и вонзить острие прямо ему в грудь, но, к счастью, вмешались родители.
— Если вы его зарубите, то ничего этим не добьетесь, — сказали они, — вместо того чтобы спокойно ехать себе на войну верхом на коне, вам придется идти пешком, и вполне возможно, что вы доберетесь туда, когда боевые действия будут уже закончены. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что это животное обошлось с вами очень некрасиво, и отныне вы не сможете целиком на него положиться. И раз уж вы готовы расстаться с этой лошадью, нужно извлечь из этого пользу. Послушайте, у нас есть мул, который вполне справится с обязанностями скакуна. Чтобы оказать вам услугу, мы готовы уступить вам мула в обмен на коня.
— Отличная мысль! — вскричал солдат и вложил саблю в ножны.
Родители завели коня во двор и вывели оттуда мула. Увидев это, сестры подняли крик. Неужели ради того, чтобы угодить грубияну-прохожему, можно выгнать с фермы старого друга мула? У барана на глаза навернулись слезы, и он стал горько сокрушаться о судьбе своего несчастного товарища.
— Молчать! — скомандовали родители громкими, людоедскими голосами и, поскольку солдат уже собрался уходить, добавили шепотом: — Вы что, хотите своей болтовней помешать нам свершить такую выгодную сделку? Если вы не заставите замолчать своего барана, мы не мешкая обстрижем его наголо.
Сам мул не возражал, что на него наденут уздечку, он только успел подмигнуть сестрам.
Солдат уселся верхом на мула, подкрутил усы и крикнул:
— Вперед!
Но мул не двинулся с места, и ни шпоры, ни удила не могли заставить его сделать хотя бы шаг. Угрозы, ругательства, побои — все было напрасно.
— Ну хорошо же, — сказал всадник, — я знаю, что мне остается делать.
Спустившись на землю, он снова извлек длинную саблю, собираясь вонзить ее в грудь мула.
— Постойте, — сказали ему родители, — лучше послушайте нас. Разумеется, мул — на редкость глупое животное, раз он не желает двигаться вперед, но вы же знаете, до чего упрямы мулы. Саблей тут не поможешь. Но ведь у нас есть еще осел, он не боится работы, а ест очень мало. Возьмите его и верните нам мула.
— Отличная мысль, — сказал солдат и вложил саблю в ножны.

Несчастный осел, который теперь должен был занять место мула, не имел ни малейшего желания покидать ферму, где у него было много друзей, а самые близкие — Дельфина, Маринетта и их баран. Однако он ничем не выдал своих чувств и, как всегда, скромно и послушно подошел к новому хозяину. У девочек сжалось сердце, а барашек разрыдался.
— Господин солдат, — умолял он, — будьте поласковей с ослом, это наш друг.
Но тут родители показали ему кулак:
— Гнусный баран, ты хочешь сорвать нам выгодное дело? Ты еще раскаешься в своей болтовне.
Не вняв просьбе барана, солдат уже садился верхом. Не успел он подкрутить усы и скомандовать: «Вперед!» — как осел стал пятиться назад, так виляя из стороны в сторону, что всадник ежеминутно рисковал свалиться в канаву. Солдат не мешкая спешился, так как догадался, что животное питает к нему дурные чувства.
— Хорошо же, — прошипел он сквозь зубы, — я знаю, что нужно делать.
В третий раз он выхватил свою длинную саблю и, наверное, пронзил бы осла насквозь, если бы родители не вцепились в него: один — в руку, а другой — в мундир.
— Да, не везет вам с верховыми животными, — сказали они ему, — но если вдуматься, в этом нет ничего удивительного. Осел, мул, конь — родственники или что-то вроде этого, нам нужно было предвидеть это заранее. А почему бы вам не попробовать барана?
Это послушное животное, от него будет куда больше толку. Если в пути вам потребуются деньги, нет ничего проще — отдайте обстричь барана. Продав его шерсть за приличную цену, вы к тому же будете иметь хорошего скакуна, на котором сможете продолжать путь. У нас как раз есть баран с прекрасным руном. Вот он стоит рядом с девочками. Если вы решили взять его взамен осла, мы будем только рады оказать вам услугу.
— Отличная мысль! — сказал солдат и вложил саблю в ножны.
Прижимая к себе барана, Дельфина и Маринетта принялись громко кричать, но родители быстро оттащили их от лучшего друга, велев замолчать. Баран грустно взглянул на бывших хозяев, но не произнес ни слова упрека и подошел к солдату. Тот показал на свою длинную саблю, которую только что вложил в ножны, угрожающе произнес:
— Прежде всего я надеюсь встретить послушание и уважение, на которые имею право рассчитывать. Будь уверен, я не стану на тебя жаловаться, а просто перережу тебе горло. И никакой пощады! Если я опять поддамся на эти обмены, то в конце концов мне придется скакать верхом на селезне или на какой-нибудь другой твари с птичьего двора.
— Не волнуйся, — ответил баран. — У меня очень покладистый характер. Наверное, потому, что моим воспитанием занимались две маленькие девочки. Я изо всех сил буду стараться тебя слушаться, но мне очень-очень грустно расставаться с подружками. Когда дядя Альфред подарил меня девочкам, я был так мал, что они еще почти месяц кормили меня из соски. И с тех пор мы ни разу не разлучались. Теперь ты понимаешь, почему мне так грустно? Да и малышкам тоже невесело. И если ты испытываешь сострадание к нашим горестям, позволь мне попрощаться с девочками и вместе поплакать.
— Ишь чего захотел, жалеть баранов! — вскричал солдат. — Подумать только, он еще не успел поступить ко мне на службу, а уже собирается отлынивать от работы. Сам не понимаю, почему я не отсек ему башку? Невиданная наглость!
— Забудем об этом, — вздохнул баран. — Я не хотел тебя обидеть.
Без труда оседлав нового скакуна, солдат обнаружил, что ноги у него теперь волочатся по земле, и тогда ему пришла в голову мысль прикрепить свою длинную саблю поперек спины барана, как перекладину, и свесить через неё ноги, чтобы они не доставали до земли.
Он развеселился и начал так громко хохотать от радости, что несколько раз чуть не потерял равновесие. Трудно представить себе более печальное зрелище, чем несчастное животное, согнувшееся под тяжеловесным седоком. Девочки были одинаково возмущены и опечалены, и если бы родители не удержали их, они, наверняка, постарались бы всеми силами помешать барашку уйти, они не побоялись бы даже сбросить солдата наземь. Все животные с фермы тоже были возмущены, но родители так сурово на них поглядывали и так покрикивали, что у тех пропала всякая охота вмешиваться. Одному селезню, осмелившемуся повысить голос, родители заметили, бросая на него грозные взгляды:
— Кстати, сейчас в саду созрели прекрасные яблоки. Получится превосходное блюдо, да, да, превосходное…
Несчастный селезень сразу стушевался, опустил голову и спрятался подальше за колодцем. Из всех животных один только вороной конь не позволил себя запугать и, подойдя к прежнему хозяину, спокойно сказал ему:
— Надеюсь, ты не собираешься гарцевать по дорогам в такой компании? Предупреждаю, тебя поднимут на смех, к тому же на этом хилом скакуне далеко не ускачешь… И если у тебя есть хоть доля здравого смысла, ты вернешь барана сестрам, которые проливают слезы из-за того, что должны с ним расстаться, а сам сядешь ко мне на спину. Поверь, ты будешь чувствовать себя увереннее, да и выглядеть лучше.
Поддавшись соблазну, солдат оглядел широкие конские бока и, кажется, убедился, что там ему действительно будет удобнее, чем на спине барана. Видя, что он уже готов согласиться, родители осмелились напомнить ему, что вороной конь теперь принадлежит им.
— Мы вовсе не намерены с ним расставаться. Поймите нас правильно, если снова начать все эти обмены, им конца не будет.
— Вы правы, — согласился солдат, — время идет, а мне все никак не попасть на войну. Так генералом не станешь.
Он подкрутил усы и ускакал рысцой, перекинув ноги через длинную саблю и не повернув головы.
Когда он скрылся из виду, все животные с фермы стали грустно вздыхать. Родителям было неловко, и они даже слегка испугались, когда Маринетта сказала Дельфине:
— Жду не дождусь, когда к нам приедет дядя Альфред.
— Я тоже, — подтвердила Дельфина, — пусть узнает обо всем.
Родители с тревогой смотрели на дочерей. Они о чем-то пошептались, а потом громко произнесли:
— Нам нечего скрывать от дяди Альфреда. К тому же, когда он узнает, как ловко мы выменяли простого барана на красивого вороного коня, он первый поздравит нас с удачей.
Во дворе фермы раздался укоризненный ропот, он вырвался и у животных, и у девочек. Тогда, пристально посмотрев на осла, мула, свинью, кур, уток, кота, волов, коров, телят, индюков, гусей и всех остальных животных, родители сурово сказали:
— Вы что, собираетесь торчать здесь до вечера, зевать по сторонам и пялить глаза? Посмотреть на вас, ну прямо ярмарочное гулянье, а не ферма, где трудятся от зари до зари. Расходитесь! Пусть каждый идет на свое место! А ты, вороной конь, отныне будешь жить в нашей конюшне. Мы отведем тебя туда немедленно.
— Весьма признателен, — ответил конь, — но я не испытываю ни малейшего желания жить в вашей конюшне. И если вам пришло в голову похваляться выгодной сделкой, то теперь уже пора исправлять ошибку. Знайте же — я твердо решил ни за что не принадлежать вам, а что касается несчастного барашка, считайте, что вы обменяли его на мыльный пузырь. У вас останутся лишь угрызения совести из-за того, что вы поступили так жестоко и несправедливо.
— Вороной конь, — сказали родители, — ты нас очень обидел. На самом деле мы вовсе не такие злые, как можно подумать. Пойми нас правильно: предлагая место в нашей конюшне, мы только хотели оказать тебе услугу, ведь ты, наверное, устал после долгого пути и честно заслужил свой отдых…
Ведя такие речи, они осторожно продвигались вперед чтобы надеть на коня уздечку. Конь не заметил их уловки и неминуемо попался бы им в руки. Девочки ушли в дом накрывать на стол к обеду, а животные разошлись, как им было велено, по местам. К счастью, селезень, тот самый, что спрятался за колодцем, высунул голову из-за сруба и сразу же понял, что коню грозит опасность. Забыв об осторожности, он поднялся на лапках и крикнул, захлопав крыльями:
— Берегись, вороной конь, остерегайся родителей. Они прячут за спиной уздечку и удила.
Услышав это предостережение, конь тотчас же рванулся прочь, так что засверкали подковы, и спрятался в глубине двора.
— Селезень, я не забуду об услуге, которую ты мне оказал, — произнес он. — Если бы не ты, конец моей свободе. Скажи мне, может быть, я тоже смогу быть для тебя чем-нибудь полезным?
— Это очень любезно с твоей стороны, — ответил селезень, — но я пока что не могу себе представить, о чем тебя попросить. Мне нужно подумать.
— Не спеши, селезень, не спеши. Я на днях снова сюда загляну.
С этими словами конь выскочил на дорогу и скрылся легкой рысцой. Родители с грустью глядели ему вслед. За обедом они не перемолвились ни словом и сидели насупившись, с вполне объяснимой тревогой думая о том, как рассердится дядя Альфред, когда узнает, что, затеяв обменять подаренного девочкам барана, они остались с носом. Дельфина и Маринетта не слишком им сочувствовали, сами они никак не могли утешиться, лишившись своего лучшего друга, и сразу же после обеда убежали на луг, чтобы наплакаться вволю. Мимо проходил селезень. Когда он узнал, в чем дело, ему только оставалось присоединиться к девочкам и поплакать вместе с ними.
— О чем вы, трое, плачете? — спросил кто-то у них за спиной. Это был вороной конь, который пришел узнать, как идут дела. Он осведомился у селезня, чем можно его утешить.
— Эх, — вздохнул селезень, — вот если бы ты привел назад барашка двум сестрам, я был бы самым счастливым из селезней…
— Я бы с радостью выполнил твою просьбу, — ответил конь, — но не знаю, как взяться за дело. Догнать барана и всадника проще простого. С такой скоростью вряд ли они успели далеко отъехать. Труднее будет убедить моего бывшего хозяина вернуть барана.
— Размышлять будем, когда догоним их, — сказал селезень. — Сперва отвези нас к ним.
— Все это прекрасно, допустим даже, девочки получат обратно своего барана. Но смогут ли они привести его домой? Утром мне показалось, что родители только и мечтают отделаться от несчастного животного.
— Верно, — подтвердила Маринетта, — но я бы не удивилась, если бы они раскаялись.
— Во всяком случае, — заметила Дельфина, — лучше предупредить дядю Альфреда, чтобы он ждал нас на ферме, когда мы вернемся.
Конь поинтересовался, далеко ли отсюда живет дядя Альфред. Оказалось, что примерно в двух часах ходьбы быстрым шагом, и он пообещал поскакать к нему галопом, когда найдется баран.
— А пока что нужно догнать нашего всадника. Не будем терять ни минуты.
Девочки и селезень забрались на спину коню и, промчавшись во весь опор перед носом у изумленных родителей, исчезли в облаке пыли. Через полчаса они уже въезжали в какую-то деревню.
— Не будем спешить, — сказал конь, перейдя на шаг. — И раз уж мы должны проехать по деревне, воспользуемся случаем и расспросим жителей.
Когда они поравнялись с первыми домами, Дельфина увидела в окне девушку с шитьем в руках, сидевшую перед горшком с геранью, и вежливо спросила:
— Мадемуазель, я ищу барана. Не видели ли вы всадника…
— Всадника? — воскликнула, перебив ее, девушка. — Еще бы! Он промчался мимо на адской скорости, весь сверкая золотом и ужасно красиво звеня оружием. Он был верхом на огромном коне с волнистой, почти вьющейся шерстью. Из ноздрей коня вылетал огонь, и моя бедная герань сразу пожухла.
Дельфина поблагодарила девушку и заметила своим спутникам, что речь идет явно о ком-то другом.
— Вы ошибаетесь, — возразил ей конь, — Как раз о нем. Конечно, портрет несколько приукрашен, но ведь именно так девушки представляют себе военных. Я, например, сразу же понял, что она описывала вашего барана, когда упомянула об огромном коне с вьющейся шерстью.
— А огонь, вылетавший из ноздрей? — возразила Маринетта.
— Поверь мне, просто-напросто солдат курил трубку. Очень скоро они убедились, что конь был прав. Немного дальше фермерша, которая развешивала белье на изгороди своего сада, сказала, что видела, как мимо проезжал солдат верхом на бедном изнуренном баране.
— Я была у источника, полоскала цветное белье, когда они свернули на Синюю Дорогу. Вам бы тоже стало жаль бедняжку барана, если бы вы увидели, как он с трудом взбирается по склону с этим здоровенным олухом на спине, а тот еще колотит его по голове, чтобы он двигался побыстрее.
Услышав эти печальные новости, девочки с трудом сдержали слезы, а селезень тоже пришел в сильное волнение. Вороной конь, которому на войне доводилось видеть и не такое, не поддался панике и спросил у фермерши:
— А Синяя Дорога, по которой поехал всадник, далеко отсюда?
— На том конце деревни, но ее не так просто найти. Нужно, чтобы кто-нибудь вам ее показал.
Из-за дома вышел пятилетний мальчик, сын фермерши, волоча за собой на веревочке красивую деревянную лошадку на колесиках. Он с завистью смотрел на девочек, которым удалось покататься на гораздо более высокой лошади, чем у него.
— Жюль, — сказала ему мать, — проводи приезжих до Синей Дороги.
— Хорошо, мама, — ответил Жюль и пошел вперед, не выпуская лошадки.
— Спорим, ты бы с удовольствием сел ко мне на спину, — сказал конь.
Жюль покраснел, потому что только об этом и мечтал. Маринетта уступила ему место и предложила тянуть за веревочку лошадку Жюля, чтобы та тоже прогулялась. Дельфина посадила проводника перед собой и, крепко обхватив его руками, стала рассказывать о злоключениях барана. Тем временем конь старался двигаться как можно более плавно. Жюль, исполненный сочувствия, от всей души желал, чтобы все завершилось успешно, и уверял, что и на него, и на его деревянную лошадку можно целиком положиться. Оба они готовы пуститься в самые рискованные приключения, если речь идет о несчастном, которому требуется помощь.
Между тем Маринетта шла чуть-чуть впереди и тянула за собой деревянную лошадку, на спине которой восседал селезень. Поднявшись на холм, Маринетта заметила харчевню и привязанного у дверей барана. Сначала она очень обрадовалась, селезень тоже, но, вглядевшись, они поняли, что это совсем не их друг. Баран возле харчевни был слишком маленьким.
— Нет, — вздохнула Маринетта, — это не наш.
Они остановились, поджидая спутников, селезень, воспользовавшись передышкой, забрался на голову деревянной лошадки, чтобы получше рассмотреть харчевню и окрестности. Ему показалось, что он различает на шее барана какой-то блестящий предмет, похожий на саблю. Неожиданно он начал прыгать на голове коня и закричал так громко, что чуть было не свалился на землю:
— Это он! Это наш баран! Говорю вам, это наш баран!
Остальные очень удивились. Наверняка селезень ошибся. Такой маленький барашек, нет, нет, это чужой. Тогда селезень пришел в ярость.
— Вы что, не понимаете, новый хозяин велел его обстричь, и если он выглядит не больше ягненка, то потому, что лишился руна. Наверное, солдат продал шерсть, чтобы промочить горло в харчевне.
— Честное слово, — сказал вороной конь, — это похоже на правду. Сегодня утром у него в кармане не было ни гроша и вряд ли ему дали выпить в долг. Зная этого пьянчугу, я так и думал, что мы нагоним его в первой же харчевне. Во всяком случае, нужно удостовериться, что это наш баран.
Требуемое доказательство представил сам баран, который тоже заметил группу на вершине холма и ясно дал понять девочкам, что он узнал их. Он несколько раз прокричал:
— Я ваш баран! — показывая при этом жестами, что нужно соблюдать осторожность.
После того как он крикнул в третий раз, на пороге харчевни показался солдат. Наверное, он вышел узнать, что это за крики. Прежде чем вернуться, он погрозил барану. К счастью, ему не пришло в голову взглянуть на вершину холма, потому что на таком близком расстоянии он легко узнал бы вороного коня, а тогда у солдата возникли бы подозрения… Правда, он уже порядком выпил и плохо различал окружающие предметы.
— Насколько я понимаю, — сказал селезень, — барашка неусыпно стерегут. А это не облегчает нашу задачу.
— Что же ты собираешься предпринять? — спросил вороной конь.
— Что я собираюсь предпринять? Незаметно отвязать барана и привести его на ферму. Я так и сделаю.
— Боюсь, ничего не выйдет. Даже если этот план удастся, ты думаешь, что спасешь барана? Выйдя из харчевни и обнаружив пропажу, солдат решит, что баран убежал назад, к бывшим хозяевам, и тут же отправится на ферму требовать его обратно. Придется возвращать его. Можно даже побиться об заклад, что баран получит хорошую порку и еще, наверное, будет счастлив, если не пустят в ход саблю и он не лишится головы. Нет, селезень, поверь мне, нужно придумать что-нибудь другое.
— Легко сказать — придумать что-нибудь другое. Но что?
— Вот ты и раскинь мозгами. Я ничем не могу вам помочь, и мое присутствие, увы, может только навредить. Побегу-ка я лучше к дяде Альфреду, как и договорились, и вернусь обратно вам навстречу. Может быть, баран уже будет с вами…
Дельфина и Жюль спешились, конь умчался галопом, а те, кто остался, стали держать совет. Девочки еще не потеряли надежду разжалобить солдата, но Жюль считал, что вернее будет запугать его.
— Жаль, что я не прихватил с собой трубу, — говорил он. — Я бы сыграл «тра-та-та» у него под носом и сказал бы ему: «Отдайте барана».
Несмотря на доводы коня, селезень не отказался от плана похищения барашка и как раз обсуждал его с друзьями, когда солдат, покачиваясь, вышел из харчевни. Казалось, сначала он не знал, на что решиться, но потом нахлобучил на голову каску и направился к барану, явно намереваясь пуститься в путь. Селезню тотчас же пришлось отказаться от своего плана, и когда опасность уже казалась неминуемой, ему в голову пришла одна мысль… Он влез на деревянную лошадку и сказал спутникам:
— Может быть, нам повезет, и он не обернется в нашу сторону. А вы тем временем столкните меня изо всех сил вниз с горы, чтобы мне хватало разгона подняться на несколько метров вверх к харчевне.
Маринетта пустилась со всех ног вниз, волоча лошадь за веревочку, а Дельфина и Жюль подталкивали ее сзади. Они отпустили лошадку где-то на середине спуска и провожали взглядами, спрятавшись за забором. Селезень верхом на деревянной лошади преодолел спуск, крича во все горло:
— С дороги! С дороги!
Солдат оглянулся на шум и застыл в изумлении посередине двора харчевни, глядя, как приближается, мчась во весь опор, всадник верхом на скакуне. Достигнув конца спуска, селезень сделал вид, что с трудом сдерживает коня.
— Эй, — кричал он, — проклятое животное, ты остановишься или нет? Эй, бешеный!
Деревянная лошадь, словно повинуясь приказу, преодолела более медленным аллюром участок дороги, ведущий к харчевне, и наконец остановилась у края канавы. По счастью, колесики запутались в траве, и благодаря этому она не скатилась назад с горы. Не теряя времени, селезень спрыгнул с лошади и обратился к солдату, смотревшему на него во все глаза:
— Мое почтение, служивый. Харчевня здесь приличная?
— Не могу сказать. Во всяком случае, выпить тут дают, — ответил солдат, который и в самом деле так набрался, что едва стоял на ногах.
— Я приехал издалека, — сказал селезень, — и хочу отдохнуть. Я совсем из другого теста, чем это животное, не ведающее усталости. По правде сказать, равной этой лошади не сыщешь во всем свете. Она несется, как ветер, и останавливается, только если хорошенько попросишь. Для нее сотня километров — пустяк, каких-нибудь два часа, и она на месте.
Солдат едва верил своим ушам и с завистью поглядывал на лихого скакуна, который, честно говоря, казался ему довольно смирным на вид. Но после пребывания в харчевне его взор был несколько затуманен, и потому он не слишком полагался на свое зрение, а больше доверял словам селезня.
— Вам везет, — вздохнул он. — Да, если повезет, так уж повезет.
— Вы находите? — спросил селезень. — Понимаете, в чем дело, сам-то я не слишком доволен своей лошадью. Вы удивлены, не правда ли? Но я путешествую ради удовольствия, и для меня эта лошадь чересчур резва. Она не дает мне остановиться, вволю полюбоваться пейзажем. Мне бы больше подошла неторопливая лошадь.
Солдат почувствовал, как вино все сильнее и сильнее ударяет ему в голову, и ему показалось, что деревянная лошадь дрожит от нетерпения.
— А если б я осмелился предложить вам поменяться со мной? — спросил он с хитроватой усмешкой. — Я тороплюсь, а медлительность моего барана просто приводит меня в ярость.
Селезень подошел к барану, недоверчиво оглядел и клювом пощупал его ноги.
— Он очень мал, — заметил он.
— Это потому, что я совсем недавно отдал его обстричь. На самом деле это вполне рослый баран. Он достаточно велик, чтобы везти вас на себе. Об этом не беспокойтесь. Он прекрасно выдерживает даже меня и при этом еще скачет галопом.
— Галопом! — воскликнул селезень. — Галопом! Знаете, служивый, ваш баран похож на неукротимого рысака, который летит по дорогам так, что в глазах мелькает. Если он таков, то что я выигрываю от этого обмена?
— Я плохо выразился, — ответил солдат сконфуженно. — Скажу вам все, как есть: мой баран — само спокойствие, он ленив, да к тому же с одышкой. Да он движется медленнее, чем улитка или черепаха.
— Прекрасно, — сказал селезень, — хотя я с трудом в это верю. Но знаете, служивый, у вас такие правдивые, внушающие доверие глаза…
Так и быть, я согласен. Давайте меняться.
Боясь, как бы селезень не передумал, солдат бросился отвязывать барана и посадил ему на спину селезня. Тот уже не заводил речи о том, что хочет отдохнуть в харчевне, и торопил нового скакуна побыстрее трогаться в путь.
— Эй, — крикнул солдат, — не так быстро! Вы чуть не уехали с моей саблей.
Солдат освободил барана от длинной сабли, лежащей поперек туловища, и пристегнул ее у себя на боку.
— А теперь, — сказал он, обращаясь к деревянной лошади, — приготовились…
— Прежде всего, — посоветовал селезень, — дайте ей напиться. Видите, как она высовывает язык?
— И правда, об этом я не подумал.
Пока солдат ходил доставать воду из колодца, селезень и баран перебежали через дорогу и бросились к девочкам и Жюлю, спрятавшимся в поле ржи, откуда они могли наблюдать за происходящим во дворе харчевни. Дельфина и Маринетта едва не задушили барана в объятиях, и все рыдали от умиления. Излияния чувств могли бы продолжаться еще дольше, если бы их не отвлекла сцена, разыгравшаяся возле харчевни.
Солдат принес ведро воды деревянной лошади и, видя, что та не собирается пить, раздраженно закричал:
— Ты будешь пить, чертова кляча? Считаю до трех. Раз, два, три! Нет? Значит, подождешь до другого раза.
Поддав ведро ногой и опрокинув его, он уселся верхом на деревянную лошадь и возмутился, что она не трогается с места. Сперва он стал браниться, потом, видя, что та все равно не двигается, решил спешиться, приговаривая:
— Хорошо же, я знаю, что нужно сделать.
Вытащив длинную саблю, он одним махом отсек бедной деревянной лошадке голову, и она покатилась в пыль. Затем он вложил саблю в ножны и отправился на войну пешком. Может быть, теперь он уже стал генералом, но об этом ничего не известно.
На обратном пути Дельфина несла голову деревянной лошадки, а Маринетта тащила за веревочку обезглавленное туловище. Увидев, какой участи подверглась его лошадь, Жюль сперва очень расстроился, но быстро утешился, потому что девочки и барашек были вне себя от радости. К тому же больше всего его удручала мысль, что ему придется расстаться с новыми друзьями, которые собирались домой. И хотя мама пообещала ему приклеить голову его лошади, он все равно начал шмыгать носом, когда они скрылись из виду.
Дельфина и Маринетта были не вполне уверены, что встретят дома радушный прием. Родители и впрямь без конца говорили о дочерях, и говорили следующее:
— Оставим без сладкого. Посадим на черствый хлеб. Оттаскаем за уши. Пусть знают, как убегать из-под самого носа верхом на малознакомом коне.
И каждую минуту они выходили на крыльцо и смотрели туда, куда уехали девочки. Внезапно до них донесся цокот лошадиных копыт, но совсем с другой стороны. Вздрогнув, они воскликнули:
— Дядя Альфред!
Это и впрямь был дядя Альфред, который прискакал на ферму верхом на вороном коне, и, насколько можно было судить издали, лицо у него было свирепое. Бедные родители побледнели и шептали, сжимая руки:
— Мы погибли, он все узнает. Ему все станет известно. Как обидно, что мы лишились такого барана. Какая жалость! Ах, милый барашек!
— Вот и я, — произнес тогда голос барана, и он показался из-за дома, а следом за ним селезень и девочки.
Родители были так рады, что тотчас же принялись прыгать и смеяться. Вместо того чтобы наказать малышек, они неожиданно пообещали купить им по паре красивых домашних туфелек и по новому переднику. Затем в присутствии дяди Альфреда, который еще с недоверием поглядывал на них сверху вниз — со спины коня, они сами привязали на оба бараньих рога розовые банты. Более того, за ужином селезню было разрешено сесть за стол между девочками, и он вел себя не хуже, чем любая благовоспитанная особа.
ЗЛОЙ ГУСАК
Дельфина и Маринетта играли на скошенном лугу в мячик, когда там объявился большой белый гусак и запыхтел себе под огромный клюв. Вид у него был разъяренный, но девочки не придали этому значения. Они кидали друг дружке мячик и думали только о том, как бы не пропустить его в воздухе и вовремя поймать. «Пш-пш-пш», — шипел гусак себе под нос, а поскольку его оскорбляло, что никто не обращает на него внимания, то с каждой минутой он шипел все громче. Прежде чем сделать ту или иную фигуру, девочки называли ее. «Хлопок спереди!» — кричали они, или «коленочки», или «двойной оборот». Как раз во время двойного оборота Дельфина и получила мячиком по носу. Сначала она ничего не могла понять и только терла нос, как будто хотела убедиться, что он в целости и сохранности, а потом начала смеяться, Маринетта — за ней, от смеха она закидывала голову, да так резко, что ее светлые волосы совсем растрепались. Тут гусак решил, что девочки смеются над ним. Вытянув шею, хлопая крыльями и распушив перья, он с гневным видом начал на них наступать.
— Я запрещаю вам находиться на моем лугу, — заявил он.
Гусак встал между девочками и в ярости переводил взгляд маленьких злых глаз с одной на другую. Дельфина приняла серьезный вид, а Маринетта никак не могла остановиться — уж очень смешно этот пентюх переваливался на перепончатых лапах.
— Это уж слишком, — воскликнул гусак, — я повторяю…
— Ты нам надоел, — оборвала его Маринетта. — Ступай к своим гусятам и дай нам спокойно поиграть.
— Я как раз и жду своих гусят и не желаю, чтобы рядом с ними оказались две плохо воспитанные девчонки. Проваливайте отсюда.
— Неправда, — обиделась Дельфина. — Мы не плохо воспитанные девчонки.
— Да пусть себе ворчит, — сказала Маринетта. — Разве от этой перины на ножках что-нибудь умное услышишь… И вообще, о каком это своем луге он говорит? Можно подумать, что у какого-то гусака может быть собственный луг! Хватит, кидай мне мячик, двойной поворот…
Она завертелась, и голубой клетчатый фартучек описал точный круг над ее коленками. Дельфина приготовилась бросить мячик.
— Ах так! — воскликнул гусак.
Раскрыв огромный клюв, он со всех ног бросился к Маринетте, схватил ее за щиколотку и сжал изо всех сил. Маринетте было так больно, что она решила, будто гусак ее сейчас съест, и очень испугалась. Она кричала, отбивалась, но гусак только крепче сжимал клюв. Подбежавшая Дельфина попыталась отогнать его. Она била гусака по голове, дергала за крылья и лапки, но это только злило его еще больше. В конце концов гусак разжал клюв, но только для того, чтобы схватить за щиколотку Дельфину, и тут уж заплакали обе девочки. А на соседнем поле щипал траву серый ослик, он все время вытягивал шею из-за загородки и прядал ушами. Это был очень добрый ослик, ласковый и выносливый, как почти все ослы. Детей он очень любил, особенно маленьких девочек, и хотя их насмешки над его ушами доставляли ему много неприятных минут, он никогда не обижался, наоборот, ласково поглядывал на детей и притворялся, будто ему самому смешно, что у него такие длинные и заостренные уши. Ослик все видел и слышал из-за загородки, и его просто возмутили высокомерие и злоба гусака. Пока девочки отбивались от него, ослик подавал советы издали:
— Хватайте его двумя руками за голову и хорошенько раскручивайте… Ах ты, господи, кто поставил тут эту загородку… Да за голову, я вам говорю…
Но девочки совсем растерялись и не понимали, что им говорил ослик. Но по тому, как он говорил, они чувствовали, что он за них, и как только смогли убежать от гусака, тут же оказались с ним рядом.
Догонять малышек гусак не стал, только прокричал вдогонку:
— А мяч я конфискую, будете знать, как не уважать гусака!
И он действительно схватил клювом мячик, завертелся с ним посреди луга и при этом так раздул шею, что превратился в какой-то ходячий зоб, а голова его затерялась где-то между крыльями. В конце концов, этот спектакль стал действовать всем на нервы. Ослик, уж на что терпеливое животное, и то, не выдержав, крикнул:
— Вы только посмотрите на этого толстого болвана, как он выпендривается с мячом в клюве! Хорош, нечего сказать… Ты так не важничал, когда месяц назад хозяйка щипала тебя на подушку!
Гусак чуть не задохнулся от ярости и унижения. Осел испортил ему радость победы, напомнив, что скоро очередная пытка: дважды в год фермерша выщипывала у гусака самый нежный пух, и тогда он ходил с такой голой шеей, что цыплята делали вид, будто принимают его за индюка.

Вертеться, правда, гусак перестал, поскольку на подходах к лугу уже показалось его семейство и надо было идти их встречать. Полдюжины гусят вышагивало под предводительством матушки гусыни. Гусята были совсем не вредными, разве что слишком серьезны для своих лет, но это не недостаток, а их легкие желто-серые перышки так и пенились на ветру. Матушка гусыня тоже была вполне добродушной особой. Судя по всему, ей даже было неловко за важничанье своего супруга, и она подталкивала его иногда крылом, говоря при этом:
— Оставьте, мой друг, да оставьте же…
Но гусак делал вид, что эти увещевания к нему не относятся. Он по-прежнему не выпускал мячик из клюва и вел свой выводок к середине луга. Наконец гусак остановился, положил мячик на траву и сказал гусятам:
— Вот эту игрушку я конфисковал у, двух противных девчонок, которые на моем собственном лугу посмели не оказать мне должного уважения. Я отдаю ее вам. Играйте, пока мы не пошли на пруд купаться.
Гусята с опаской приблизились к мячу, поскольку никак не могли взять в толк, что им с этой игрушкой делать. Решив, что перед ними яйцо, они тут же потеряли к нему всякий интерес. Гусак остался весьма недоволен детьми.
— Я никогда не видел таких бестолковых гусят, — бранился он. — Вот она, награда за все усилия найти детям занятие. Какая все-таки несправедливость!
Но я научу вас играть в мяч! Или я не гусак, или вы будете у меня развлекаться как люди.
— Оставьте, друг мой, ну оставьте же…
— Ах, ты еще их защищаешь! Хорошо же, будешь играть в мяч вместе с ними.
Как видите, с близкими гусак был ничуть не любезнее, чем с посторонними. Пока он показывал матушке гусыне и гусятам правила игры, девочки уже проскользнули за загородку к ослику. Гусак так их ущипнул, что они все еще хромали. Плакать они, вообще-то, перестали, только Маринетта еще иногда всхлипывала.
— Ну подумайте, — сказал осел, — что за противная тварь! Нет, я не могу успокоиться! А я-то как радуюсь, когда рядом со мной играют маленькие девочки… О грубиян!.. Признайтесь, он сделал вам больно?
Маринетта показала ему красную отметину на левой ноге. У Дельфины такая же отметина была на правой.
— Конечно, больно. Горит, как ошпаренная.
Тогда ослик наклонил голову, подул малышкам на ноги, и у них почти все прошло. Это потому, что ослик был добрым. Девочки стали его благодарить, ласково обнимая за шею. Ослик был доволен.
— Можете потрогать мои уши, — разрешил он девочкам. — Я чувствую, вам этого хочется.
Девочки гладили ему уши, и всё удивлялись, что они такие мягкие.
— Они ведь длинные, да? — глухо спросил осел.
— Немножко, — ответила Маринетта, — но не настолько… во всяком случае, они тебе очень идут.
— Если бы они не были такими длинными, — добавила Дельфина, — мне кажется, что ты бы мне меньше нравился…
— Правда? Пусть так. Только вот…
Ослик замялся, потом, испугавшись, что надоел девочкам со своими ушами, он решил переменить тему.
— Сейчас, когда на вас нападал этот гусак, вы меня не поняли. Я вам кричал, что его надо схватить за голову и несколько раз крутануть вокруг себя. Да, схватить его двумя руками и крутить вокруг себя на вытянутых руках. Это лучшее средство привести его в чувство. Оказавшись на земле, он ничего не будет понимать: голова кружится, сам еле держится на ногах. А потом ему будет так неприятно об этом вспоминать, что он больше никогда не пристанет к тому, кто его так проучит.
— Здорово, — сказала Маринетта, — но сначала надо его схватить, а он в это время может ущипнуть за руку…
— Я и забыл, что вы маленькие, но я бы на вашем месте все равно попробовал.
Девочки только покачали головами и сказали, что слишком боятся гусака. Осел неожиданно рассмеялся, извинившись перед девочками: он указал им на гусака, который играл на лугу в мяч со всем семейством. Гусак важничал, толкал матушку гусыню, бранил гусят за неуклюжесть и, хоть самым неуклюжим во всей компании был он сам, каждую минуту повторял: «Смотрите, как делаю я… берите пример с меня…» Конечно, о том, чтобы кинуть мячик, и речи не было, толкнуть бы лапкой. Дельфина, Маринетта и осел умирали со смеху и кричали при каждом удобном случае: «Мазила!» Гусак делал вид, что не слышит ни смеха, ни издевок: так ему не хотелось признаваться в том, что у него ничего не получается. А так как после десяти пропущенных мячей он сумел наконец поймать одиннадцатый, то решил, что может всё, и заявил гусятам:
— Теперь я покажу вам двойной оборот… Ты, матушка гусыня, кидаешь мне мяч… Смотрите хорошенько.
Он отошел на несколько шагов от супруги, которая уже приготовилась толкнуть ему мячик. Удостоверился, что все взгляды устремлены на него, напыжился и крикнул:
— Готовы? Двойной оборот!
Пока матушка гусыня поддавала мячик лапкой, он закрутился на одном месте, как это делали девочки. Сначала гусак крутился медленно, но так как осел подначивал его, то заторопился и обернулся вокруг себя трижды, не в силах остановиться. Несчастный полуживой гусак принялся трясти головой, покачиваясь, сделал несколько шагов, повалился на правый бок, потом на левый, да так и остался лежать на земле, бессильно откинув шею и закатив глаза. Осел со смеху катался по траве, тряся копытами в воздухе. Девочки вторили ему, и даже гусята, несмотря на все уважение к своему папаше, не смогли удержаться от смеха. Только матушка гусыня чуть не плакала. Она наклонилась над супругом и торопилась поднять его, приговаривая вполголоса:
— Друг мой, вставайте же… так не пристало… На нас смотрят…
Гусаку удалось прийти в себя, но голова у него еще кружилась. И на несколько минут он лишился дара речи. Стоило ему открыть клюв, как он начал оправдываться.
Тут Маринетта опять потребовала у него мячик:
— Ты сам видишь, что эта игра не для гусей…
— И тем более не для гусаков, — подхватил осел, — мы имели счастье наблюдать за тобой, и ты показал себя в достаточно смешном виде.
Хватит, отдавай мяч.
— Я уже сказал, что конфискую его, — заупрямился гусак. — И довольно об этом.
— Я знал, что ты грубиян и лжец. Не хватало только стать вором.
— Я ничего не крал, все, что находится на моем лугу, принадлежит мне. Так что оставьте меня в покое. Буду я еще слушать нравоучения от каких-то ишаков.
При этих словах осел замолчал и потупился. Стыд и унижение снедали его, и он украдкой поглядывал на девочек, не зная, как вести себя дальше. Но Дельфина и Маринетта не обращали на ослика внимания, потому что слишком огорчились из-за мяча сами.
Они еще раз попросили гусака вернуть им мячик, но он даже не стал слушать. Гусак готовился вести все семейство на пруд и наказывал матушке гусыне нести мячик в клюве. А поскольку пруд находился за лугом, на опушке леса, то он с гусятами проследовал перед загородкой, где стояли девочки со своим другом ослом. В это время один любознательный гусенок поинтересовался, указывая на мячик, который несла в клюве его мама, что за птица снесла это яйцо. Братья засмеялись, а гусак строго оборвал сына:
— Замолчи сейчас же. Осел!
Гусак специально говорил очень громко, украдкой поглядывая в сторону загородки. Удар был нанесен ослу прямо в сердце. Однако, видя, что девочки вот-вот расплачутся, уже слыша всхлипывания Маринетты, осел решился забыть свое горе в их утешении:
— Ваш мяч никуда не денется. Знаете, что вам надо сделать? Как только гусак окажется в воде, идите к пруду. Он, наверняка, оставит мяч на берегу, и вы просто возьмете его, и все. Я скажу вам, когда надо идти. А пока давайте немного поболтаем! Я как раз хотел вам сказать…
Осел вздохнул, откашлялся, чтобы прочистить горло. Казалось, что он стесняется.
— Ну так вот, — сказал он. — Только что гусак обозвал меня ишаком… Я, конечно, знаю, что ослов так называют, но как он это произнес! И потом, проходя мимо нас, вы помните, он сказал гусенку: «Осёл» — в смысле дурак. Вот я и хотел бы узнать, почему дураков называют «ослами»…
Малышки залились краской, потому что сами часто так обзывались.
— И это еще не все, — продолжал осел, — я слышал даже, что в школе, когда ребенок ничего не понимает, учитель ставит его в угол в колпаке с ослиными ушами.
Как будто глупее осла уже и нет никого на свете! Согласитесь, малоприятно.
— Я думаю, что это действительно не очень справедливо, — сказала Дельфина.
— Значит, вы не думаете, что я глупее этого гусака? — спросил осел.
— Ну конечно же нет… нет конечно…
Девочки протестовали вяло — они так привыкли слышать об ослиной глупости, что не могли в ней серьезно усомниться. Осел понял, что ему не удалось доказать им несправедливость, жертвой которой он был. Они никогда не поверят ему на слово.
— Ну что ж, пусть так, — вздохнул он, — пусть так… Девочки, я думаю, вам пора отправляться к пруду. Желаю удачи! И если у вас ничего не выйдет, дайте мне знать.
Но когда девочки подошли к пруду, им пришлось распроститься с надеждой получить свой мячик обратно. Гусак определенно не был так глуп, как выходило по ослиным словам, и предусмотрительно забрал мячик с собой на середину пруда. Мячик плавал около гусят, и те играли с ним с большей ловкостью, чем только что на лугу. Они плавали за ним наперегонки, прятали его под крыльями, и при других обстоятельствах девочки с удовольствием понаблюдали бы за их шалостями. Да и гусак не был похож на того увальня, над которым они потешались на лугу. Он плыл свободно, движения его были преисполнены гордости и изящества. Гусак просто преобразился, и малышки, несмотря на свою обиду, вынуждены были отдать ему должное. Но злобного нрава гусак не утратил и, указывая на мячик, прокричал девочкам:
— Ха-ха! Вы-то небось поверили, что я оставлю его на берегу? Но я не так глуп! Я нашел, куда его деть, и вы своего мяча не получите!
Правда, он умолчал о том, что мяч ему просто опротивел по дороге к пруду и он кинул его в воду, надеясь, что он пойдет ко дну, как обыкновенный камень. То, что мяч не тонет, удивило его самого, но гордость не позволила гусаку признаться в этом перед девочками. Дельфина попробовала еще раз поколебать его упрямство и вежливо попросила гусака:
— Ну гусак, ну будь умницей, отдай нам мячик… А то родители будут нас бранить.
— И правильно сделают. Будете знать, как делать всякие выкрутасы на чужом лугу. А встречу ваших родителей, обязательно скажу им, чтобы получше воспитывали дочек. Хотел бы я посмотреть на них, если бы мои гусята заявились к ним во двор без спросу.
К счастью, мои дорогие крошки умеют вести себя и обязаны этим мне.
— Да замолчи ты, только и знаешь орать, как осел, — бросила ему Маринетта, передернув плечами.
Она тут же прикусила язык и пожалела, что так неучтиво отозвалась об осле.
— Орать, как осел? — воскликнул гусак. — Бесстыжие! Сейчас я доберусь до ваших ног! Вот только выйду из воды.
Он уже плыл к берегу, но малышки, на щиколотках которых еще краснели отметины от его щипков, поспешили спастись бегством.
— Ага, правильно делаете, что убегаете, — сказал гусак, — я бы на вас живого места не оставил! А с мячиком проститесь навсегда! Я придумал для него отличное местечко. Посмотрим, у кого хватит ума его найти.
Девочки вернулись домой, не посмев пройти мимо осла, поскольку Маринетте было стыдно за то вырвавшееся у нее несчастное слово. Между тем погода вдруг испортилась, и резко похолодало. Небо было безоблачно, с севера дул ледяной ветер, щипавший за коленки. Дельфина и Маринетта ждали, что их будут ругать, но родители не заметили, что девочки вернулись без мячика.
— Виданное ли дело, такие холода об эту пору, — говорил отец. — Уверен, ночью хватит морозец.
— Слава богу, это ненадолго, — отвечала ему мать. — Еще рано.
После купания гусак с семейством вновь прошествовал мимо ослиной загородки. Матушка гусыня несла в клюве мяч, а гусята жаловались папаше на погоду.
— Так, так, значит, кое-кто не захотел вернуть мячик, — сказал осел. — Однако, надеюсь, завтра это желание появится.
— Ни завтра, ни послезавтра, — возразил гусак. — Я оставляю мяч у себя и отныне буду держать его в надежном месте, в тайнике, который выберу сам.
— Гусиный тайник — не велика премудрость.
— Во всяком случае, таким ишакам, как ты, она не по зубам.
— Пф! — ответил осел. — И не подумаю его искать. Ты как миленький вернешь мячик сам.
— Интересно, как это, — усмехнулся гусак.
Он отправился догонять свое семейство, но, сделав несколько шагов, остановился, на минуту задумался и злобно проговорил:
— Эти девчонки совершенно невыносимы. Только что я слышал, как они сказали кому-то, кто болтал всякую чепуху: «Замолчи, ты орешь, как осел». Да, да, так именно и сказали.
— А тот, кто болтал всякую чепуху, был, конечно, ты…
Гусак зашагал прочь, не удостоив осла ответом, но было видно, что он раздосадован. Оставшись один, осел долго думал над словами девочек.
Вдруг он громко засмеялся, потому что в голову ему пришла одна идея, проделавшая солидный путь от замерзших кончиков ушей до макушки.
На следующее утро осел уже спозаранку занял пост на своем лугу. Было очень холодно, таких холодов и не припомнить. Осел встал у самой загородки, пританцовывая на всех четырех ногах, чтобы немного согреться. Первыми он увидел девочек, идущих в школу, и окликнул их. Удостоверившись, что гусака на лугу нет, они подбежали к ослу поздороваться.
— Вам попало, девочки? — спросил осел.
— Нет, — ответила Маринетта. — Родители еще не знают, что мячик потерялся.
— Вот и хорошо, не беспокойтесь. Могу вас заверить, что завтра вечером вы получите свой мячик.
Не прошло и пяти минут после ухода девочек, как осел увидел гусака, выступающего во главе выводка. Осел поздоровался со всем семейством и поинтересовался у матушки гусыни, куда они направляются в такую рань.
— Мы идем на утреннее купание, — ответила она.
— Милая моя, добрая гусыня, — сказал осел, — мне весьма жаль, но я решил, что сегодня утром вы купаться не будете.
Гусак расхохотался и с издевкой спросил:
— Ты что, решил, будто стоит тебе захотеть, и я подчинюсь?
— Думай, что хочешь, но подчиниться придется, поскольку ночью я заткнул пруд пробкой и не раскупорю его до тех пор, пока ты не вернешь девочкам мячик.
Гусак решил, что осел совсем потерял голову, и сказал гусятам:
— Не обращайте внимания, идем купаться. Не вижу причины слушать какого-то осла.
Едва завидев пруд, гусята закричали от радости, гогоча, что еще никогда поверхность пруда не была такой гладкой и блестящей. Гусак никогда не видел льда и даже не слышал про него, поскольку прошлая зима была такой теплой, что вода в пруду не замерзла.
Ему тоже показалось, что вода красивее, чем обычно, и это вернуло ему прекрасное расположение духа.
— Купание обещает быть отличным, — сказал он.
Он, как обычно, первым спустился к пруду и от удивления загоготал. Вместо того чтобы погрузиться в воду, он по-прежнему шагал по какой-то поверхности, твердой, как камень. Позади него толпились онемевшие от изумления гусята с матушкой гусыней.
— Что это он, действительно заткнул пробкой пруд? — ворчал гусак. — Да нет же, не может быть… Найдем воду немного подальше.
Они несколько раз прошлись по пруду туда, обратно, но всюду под лапами оказывалась та же холодная металлическая поверхность.
— Однако он действительно заткнул пробкой наш пруд, — вынужден был признаться гусак.
— Какая неприятность! — проговорила матушка гусыня. — День без купания теряет всю свою прелесть, особенно для детей… Тебе действительно надо вернуть мячик.
— Оставь меня в покое, сам знаю, что мне делать. И больше — ни слова об этом… Еще не хватает, чтобы подумали, что мне могут приказывать какие-то ослы.
Семейство вернулось на ферму и укрылось в углу двора. Чтобы миновать ослиную загородку, они сделали изрядный крюк, но осел прокричал им:
— Так ты возвращаешь мячик? Мне вытаскивать пробку из пруда?
Гусак не ответил, поскольку уступить с первого раза значило попросту уронить свое достоинство. Все утро он пребывал в убийственном настроении и не притрагивался к корму. Когда день перевалил за половину, гусак усомнился: а впрямь ли сосед заткнул пробкой пруд и возможно ли вообще такое? После долгих колебаний гусак решил снова посетить пруд. Ему необходимо было удостовериться, что все это было на самом деле. Пруд был заткнут накрепко. И когда гусак направлялся к пруду, и на обратном пути осел спросил, готов ли он вернуть девочкам мячик.
— Поостерегись, а то будет поздно!
Но гусак проследовал мимо с гордо поднятой головой. Наконец на следующее утро, не желая лично вступать в переговоры, он направил к ослу матушку гусыню. Дельфина и Маринетта как раз оказались рядом. Потеплело, и на пруду уже трещал вчерашний лед.
— Милая моя душечка гусыня, — провозгласил осел (и сделал вид, что сердится), — я и слышать ничего не хочу до тех пор, пока не получу мячик.
Можете сообщить это своему супругу. Вас, добрейшее создание, мне жаль, но этого твердолобого гусака, который не жалеет свою семью, — нисколько.
Матушка гусыня вразвалку удалилась восвояси, и малышки, которые едва удерживались от смеха, смогли веселиться в свое удовольствие.
— Только бы гусак не наведался к пруду раньше, чем решится отдать мячик, — сказала Дельфина. — Иначе он увидит, что пробка вот-вот откроется.
— Не бойтесь, — ответил осел, — сейчас он явится вместе с мячиком.
И действительно, гусак не замедлил явиться во главе своего выводка. Мяч он держал в клюве и злобно перекинул его через загородку. Маринетта подняла мячик, и гусак уже намеревался прошествовать к пруду, как осел окликнул его официальным тоном.
— Это не все, — сказал он. — Теперь необходимо принести свои извинения этим двум девочкам, которых ты третьего дня обидел.
— Да не нужно, необязательно, — запротестовали девочки.
— Нет, нужно, я требую извинений. Я не откупорю пруд, пока не услышу извинений в ваш адрес.
— Чтобы я извинялся? — возмутился гусак. — Да никогда! Да я лучше ни разу в жизни больше не окунусь в воду!
В тот же момент он со своим семейством развернулся и возвратился на ферму, где, шлепая по грязной воде дворовой лужи, постарался забыть купание в пруду. Гусак держался целую неделю, лед на пруду уже давно лопнул, и на дворе было тепло, как весной, когда он наконец смирился со своей участью.
— Я прошу прощения, что щипал вас за ноги, — заикаясь от ярости, проговорил гусак, — клянусь, это не повторится.
— Ну вот и хорошо, — сказал осел. — Я вынимаю из пруда пробку. Идите купаться.
В тот день гусак никак не мог вылезти из воды. Но когда он вернулся на ферму, о его злоключениях знали уже все, и над гусаком потешался весь двор. Всем было приятно, что он оказался так глуп, а осел так хитер. С тех пор и речи нет об ослиной глупости, напротив, если хотят кого-нибудь похвалить за находчивость, то говорят, что он хитер, как осел.
КОРОВЫ
Дельфина и Маринетта выгнали коров из хлева, чтобы вывести их на заливные луга по берегу реки на другом конце деревни. Раньше вечера им домой не вернуться, вот они и положили в корзину обед для себя, обед для собаки и две тартинки со смородиновым вареньем на полдник.
— Идите, — напутствовали их родители, — смотрите хорошенько, чтобы коровы не забирались в клевера и не срывали яблок с придорожных яблонь. Помните, вы уже не дети. На двоих вам почти двадцать.
Следующее напутствие получила собака, которая в это время заинтересованно обнюхивала корзину с провизией.
— И ты, лентяйка, тоже смотри не зевай.
— Сплошные комплименты, — пробурчала собака. — Придумали бы что-нибудь новенькое.
— И вы, коровы, учтите, ведут вас на дармовую траву. Жуйте, не стесняйтесь.
— Не волнуйтесь, родители, — ответили коровы. — Что до еды, то мы уж не растеряемся.
Одна из коров язвительно добавила:
— И есть мы могли бы еще лучше, если бы нас все время не дергали.
Небольшую серую коровенку, которая так высказалась, звали Бодуньей. Ей удалось войти в доверие к родителям, и она никогда не упускала случая донести им, что делали девочки.
И даже о том, чего они и не думали делать, Бодунья тоже сообщала родителям, потому что испытывала злобное удовлетворение, когда их бранили или сажали на хлеб и воду.
— Все время не дергали? — переспросила Дельфина. — Кто же это тебя дергает?
— Я уже все сказала, — ответила Бодунья, следуя своей дорогой.
За ней потянулось все стадо, а родители остались стоять посреди двора, ворча себе под нос.
— Хм, нужно их вывести на чистую воду. Да и нечему удивляться. У девчонок на уме одни глупости. Счастье еще… Да, счастье, что у нас есть Бодунья, она такая рассудительная, а уж преданная…
Родители посмотрели друг на друга и, утирая слезы умиления, склонили головы вправо со словами:
— Ну что за умница наша Бодунья.
И родители вернулись в дом, пеняя дочкам за беззаботность.
Стадо не прошло по дороге и двухсот метров, как наткнулось на обломанную ночной бурей ветку яблони. Коровы набросились на яблоки с такой жадностью, что чуть не подавились. Бодунья же, спеша на луг, промчалась мимо, не заметив находки. А когда опомнилась и вернулась назад, было уже поздно. И яблочка не осталось.
— Ну-ну, — усмехнулась она. — Вам все позволяют, даже яблоки есть. Загнетесь от них, и хорошо, да?
— Нет, — ответила Маринетта, — не хорошо, а ты бесишься, потому что тебе не досталось.
Девочки засмеялись, а коровы и собака вместе с ними. Бодунья пришла в такую ярость, что еле устояла на месте. Задыхаясь от бешенства, она проговорила:
— Я все скажу.
Бодунья уже повернула обратно к ферме, когда собака, встав поперек дороги, предупредила ее:
— Еще один шаг, и я вцеплюсь тебе в морду.
Собака оскалилась, и шерсть у нее на загривке поднялась дыбом. Собака не шутила, и Бодунья это поняла, поскольку тут же отступила.
— Ну-ну, — сказала она, — все станет известно. Смеется тот, кто смеется последним.
Коровы двинулись дальше, пощипывая траву на обочинах, но Бодунья, которая тоже не пренебрегала травой, ухитрилась все же всех обогнать. Когда показались заливные луга, она задержалась около стоящей на отшибе фермы и долго что-то обсуждала с хозяйкой, которая развешивала на изгороди белье.
По другую сторону дороги, метрах в ста от фермы, цыгане выпрягли из повозки лошадь и устроились на краю овражка плести корзины. Когда все стадо догнало Бодунью, фермерша остановила девочек и сказала, указывая на повозку:
— Поосторожнее вы с этими людьми. Гроша ломаного не стоят, но ожидать от них можно всего. Если кто из них с вами заговорит, не отвечайте и идите своей дорогой.
Дельфина и Маринетта вежливо, но весьма сдержанно поблагодарили фермершу. Она им не нравилась. Девочки считали, что фермерша хитрая и себе на уме, как Бодунья, а единственный длинный и желтый зуб, который торчал у нее во рту, их просто пугал. И фермер, который поглядывал на них с порога, им тоже не понравился. До сегодняшнего дня эти люди еще ни разу не заговаривали, с девочками, только упрекали, что девочки недоглядывают за коровами, и грозились пойти пожаловаться к родителям. И все-таки, поравнявшись с повозкой, девочки заторопились и еле решились поднять глаза. Цыгане вроде и не обратили на них внимания, — они пели, и работа у них спорилась.
День в заливных лугах прошел хорошо, если не считать, что Бодунью то и дело приходилось выгонять из люцерны, посеянной по краю луга. Она занималась грабежом с таким упрямством и высокомерием, что ей пришлось отведать палки. Поскольку Бодунья вылетела тогда из люцерны как ошпаренная, собаке пришлось вцепиться ей в хвост и висеть на нем добрых два десятка метров.
— Это им будет дорого стоить, — сказала Бодунья, когда присоединилась к стаду.
После обеда девочки спустились к реке поболтать с рыбами, и собака, которой не следовало оставлять стадо, увязалась за ними. Правда, на этот раз ничего интересного девочки не узнали. Им встретилась только толстая, выжившая из ума щука, у которой на все был один ответ: «Я не устаю повторять, что хорошая еда и здоровый сон — вот то, ради чего еще стоит жить». Отчаявшись услышать от нее что-нибудь новое, пастушки с собакой повернули назад. Стадо безмятежно паслось на лугу, но Бодунья исчезла. Коровы, которые были заняты только тем, как бы набить себе брюхо, не заметили ее исчезновения.
Дельфина и Маринетта не сомневались, что Бодунья направилась прямым ходом домой, чтобы прийти домой первой и заранее настроить родителей. Надеясь, что они нагонят ее раньше, девочки сразу же погнали стадо с заливных лугов, задав коровам хороший темп.
Родители еще не вернулись домой с полей.
Бодуньи и в помине не было, ни одна живая душа ее не видела. Девочки терялись в догадках, и собака, представив себе, что ее ждет, тоже потеряла присутствие духа. На птичьем дворе жил один селезень, обладавший завидным хладнокровием и очень красивыми перышками.
— Не из-за чего терять голову, — сказал он девочкам. — Идите-ка сначала подоите коров и отнесите молоко в погреб. А потом посмотрим.
Девочки последовали его совету. Они уже возвращались из погреба, когда появились родители. Темень была непроглядная, только на кухне горел огонь.
— Добрый вечер, — сказали родители. — Все в порядке? Ничего не случилось?
— Клянусь, ничего, — ответила собака. — Все в порядке.
— Когда тебя спросят, тогда и говори. Бестолковая тварь! Отвечайте, девочки, ничего не случилось?
— Нет, ничего, — ответили они срывающимися голосами и покраснели. — Все было почти…
— Почти? Хм… Послушаем-ка, что скажут сами коровы.
Родители вышли из кухни, но собака сумела опередить их и прибежала к селезню, который уже ждал ее в глубине хлева на том месте, где обычно стояла Бодунья.
— Добрый вечер, коровы, — сказали родители. — Хорошо ли прошел день?
— Великолепно, родители. Еще никогда трава не была такой вкусной.
— Вы только их послушайте! Однако это хорошо. И значит, никаких происшествий?
— Нет, никаких.
В темноте, на ощупь, родители сделали шаг в глубь хлева.
— Ну а ты что молчишь, умница Бодунья? Селезень подсказал собаке все, что надо говорить, и собака ответила жалобным голосом.
— Я так наелась, что просто умираю, хочу спать.
— Ну что за корова! Вот кого одно удовольствие слушать! Значит, сегодня тебя никто не дергал?
— Мне не на кого жаловаться.
Собака замялась, но по настоянию селезня добавила, скрепя сердце:
— Да, мне не на кого жаловаться, разве что на мерзавку собаку, которая висела на моем хвосте. Можете говорить, что хотите, родители, но хвост у коровы — не качели для каких-то собак.
— Ну конечно, не качели. Ах она, мерзкая тварь! Не волнуйся, сейчас мы пересчитаем ей ребра деревянным сабо. Она небось уже поняла, что ее ждет.
— Очень-то не усердствуйте. Если разобраться, она тогда немного пошутила.
— Нет, никакой пощады плохим пастухам! Собака получит по заслугам!
С этими словами родители вернулись на кухню. Собака уже ждала их там, свернувшись у очага.
— Иди сюда, — приказали ей хозяева.
— Сию минуту, — ответила собака. — Можно подумать, что я в чем-то провинилась перед вами. Знаете, часто представляешь себе…
— Ты идешь?
— Иду, иду. Во всяком случае, я делаю что могу. А надо вам сказать, что ревматизм в правой лопатке меня мучает по-прежнему.
— Вот, вот, мы и приготовили тебе отличное лекарство.
Говоря это, родители не отрывали хмурого взгляда от своих сабо. Девочки заступились за собаку, а так как упрекнуть их родителям было не в чем, то они дали собаке лишь по одному пинку.
На следующее утро, когда родители пришли доить коров, они не увидели в хлеве Бодуньи.
На ее месте стояло полное ведро парного, молока, которое дали другие коровы.
— Когда вы спускались с чердака, Бодунья жаловалась на головную боль, — объяснил родителям селезень. — Она попросила девочек подоить её, и Маринетта только что погнала ее на заливные луга.
— Раз Бодунья так просила, значит, девочки правильно сделали, — сказали родители.
А в это время Маринетта шагала к заливным лугам одна-одинешенька. Однозубая фермерша была во дворе. Вот уж она удивилась, что у пастушки — ни собаки, ни стада.
— Ах, если бы вы только знали, что у нас случилось, — сказала ей Маринетта. — Вчера вечером мы потеряли одну корову.
Фермерша заявила, что Бодуньи не видела. И, показывая на цыган, завтракавших подле повозки на другой стороне дороги, добавила:
— Сейчас не время терять животных или что бы то ни было. Кто-то потеряет, а кто-то и найдет.
Уходя, Маринетта отважилась посмотреть в сторону повозки, но заговорить с цыганами она не рискнула.
Да и не верила она, что цыгане могли украсть Бодунью. Куда бы они ее дели? В повозку корова не поместится. Пока стадо не пришло в заливные луга, Маринетта спустилась к реке расспросить рыб, не утонула ли вчера какая-нибудь корова, попав в водоворот. Но кого бы из рыб она ни спрашивала, никто ничего подобного не слышал.
— Все уже были бы в курсе дела, — заметил один карп. — Новости в реке расходятся быстро. Кроме того, мой сын знал бы об этом еще вчера вечером. Он, знаете, выведает и брод, и мелководье.
У Маринетты отлегло от сердца, и она вернулась к стаду, которое уже паслось на заливных лугах. Дельфине не понравился разговор сестры с фермершей. Ведь фермерша обязательно проболтается родителям про Бодунью, если встретит их.
— Ты права, — согласилась Маринетта. — Я об этом не подумала.
До полудня девочки еще надеялись, что, проведя ночь под открытым небом, Бодунья охладит свой пыл и вернется. Но время шло, и никто не появлялся. Коровы разделяли беспокойство пастушек и от огорчения забыли даже пощипать траву. В полдень всякая надежда на возвращение Бодуньи исчезла. Быстро позавтракав, девочки решили идти искать ее в соседний лес. Им не верилось, что Бодунью украли, просто она заблудилась в лесу, ища пристанища на ночь, решили они.
— Вы будете на лугах одни, — сказала Дельфина коровам. — Мы могли бы оставить вам собаку, но она нам больше пригодится в лесу. Обещайте, что будете благоразумны. Не лезьте в клевера и не ходите без нас на водопой к реке.
— Не беспокойтесь, — заверили ее коровы. — Вы можете рассчитывать на нас. Нас не будет ни в клеверах, ни у реки. У вас и без нас хватает неприятностей.
Перейдя реку, девочки вошли в лес, откуда долго не показывались. Собака бегала по тропкам туда и сюда, ломая кусты и молодые деревца. Но сколько они ни искали Бодунью, сколько ни звали ее, все напрасно. Расспросили они и обитателей леса, но ни зайцы, ни белки, ни косули, ни сойки, ни вороны, ни сороки — никто ничего про заблудившуюся в лесу корову не слышал. Ворон даже взял на себя труд слетать на другой конец леса за справками, но и там тоже никто не слышал о такой корове. Продолжать поиски дальше было бессмысленно. Бодуньи в лесу не было.
Не зная, что им делать дальше, Дельфина и Маринетта повернули назад. Было уже около четырех — и почти никакой надежды, что Бодунья найдется до вечера.
— Придётся вечером снова хитрить, — вздыхала собака. — И без пинка не обойтись, как пить дать.
В заливных лугах путников ждала неприятная новость. Коров там не было. Исчезло все стадо, и невозможно было даже предположить, куда оно подевалось. От этого нового удара судьбы девочки разревелись, да и собака не смогла сдержать слез, поскольку будущее предстало перед ней в виде бесконечной вереницы пинков. В лугах теперь делать было нечего, и решили идти домой.
Цыган у повозки они не увидели, и это показалось девочкам немного подозрительным. Фермерша, которую они расспросили, ничего не смогла сказать им о коровах, но дала понять, что цыганам об этом кое-что известно. Она тоже пожаловалась на потерю — вчера вечером у неё не вернулась домой курица — и добавила, что, по всей видимости, эта курица не смогла далеко уйти, если, конечно, ее еще не съели.
Родителей дома не было, селезень, кот, курицы, гуси и боров поджидали девочек у ворот, им не терпелось узнать, что сталось с Бодуньей, и удивлению их не было предела, когда они увидели лишь девочек и собаку. Известие об исчезновении стада привело их в большое волнение. Гусыни стали причитать, куры — носиться во все стороны, боров — визжать так, будто с него содрали шкуру, а петух, чтобы выразить свое дружеское расположение к собаке, чей унылый вид нагонял тоску, залаял. Кот, который кусал губы, чтобы не выдать своего волнения, проглотил ус и чуть не подавился. От этого шумного сочувствия девочки снова разревелись, и их рыдания потонули в общем гаме. Лишь селезень сохранял спокойствие. Он еще и не такое видел.
— Слезами делу не поможешь, — сказал он, потребовав тишины. — Если родители вернутся, как вчера, в темноте, все еще может обойтись, только нам надо не теряя ни минуты приготовиться к их встрече.
Он дал каждому точные инструкции и проверил, все ли их поняли. Боров слушал его нетерпеливо и каждую минуту старался сам влезть в разговор.
— Все это очень мило, — сказал он наконец, — но есть кое-что поважнее.
— Что же, скажи пожалуйста?
— Найти коров.
— Никто не спорит, — вздохнули Дельфина и Маринетта, — но где их найти?
— Этим займусь я, — объявил боров. — Можете на меня положиться. Я найду их завтра до полудня.
Несколько недель назад боров побывал с визитом у собаки-ищейки, которая вместе с хозяином проводила в этой деревне отпуск. Наслушавшись рассказов о ее приключениях, боров только и мечтал с тех пор о подобных подвигах.
— Завтра на рассвете я выхожу на поиски. Думаю, я напал на след. Единственно, о чем я вас попрошу, девочки, это приделать мне бороду.
— Бороду?
— Да, чтобы меня не узнали. С бородой меня никто нигде не узнает.
Надежды селезня оправдались. Родители действительно появились глубокой ночью. Поговорив с девочками, они отправились в хлев, где не было видно ни зги.
— Здравствуйте, коровы. Хорошо ли прошел день? Тогда петух, гуси, кот и боров, сидевшие на месте коров, ответили не своими голосами:
— Лучше и быть не может, родители. Погода ясная, трава нежная, компания приятная, что можно еще пожелать?
— Что правда, то правда, хороший денек.
Теперь родители обратились к корове, на месте которой сидел кот:
— Ну а ты как, Рыжуха? Утром ты что-то неважно выглядела. С аппетитом все в порядке?
— Мяу! — ответил кот, который, вне всякого сомнения, был немного рассеян или взволнован.
Дельфина и Маринетта, стоявшие на пороге, задрожали от страха, но кот тут же нашелся:
— И еще этот недоумок кот вертится под ногами, я, кажется, наступила ему на хвост, и правильно сделала. Вы спрашиваете, какой был у меня аппетит. Ах, родители! Я наелась так, как никогда в жизни, так, что брюхо просто волочится по земле.
Родителям очень понравился такой ответ, и им захотелось пощупать так хорошо наевшийся живот. Еще чуть-чуть, и все раскрылось бы. К счастью, собака окликнула их из глубины хлева, и родители тут же повернулись на ее голос.
— Умница, крошка Бодунья. Как твоя голова?
— Благодарю вас, родители, я чувствую себя лучше. Можете себе представить, с каким тяжелым сердцем я уходила сегодня утром, не попрощавшись с вами. Я страдала из-за этого весь день.
— Ах, что за чудное животное нам досталось! — воскликнули родители. — От одного воспоминания о Бодунье становится радостно на душе.
И действительно, их родительские сердца настолько переполнились нежностью, что они захотели тут же обнять Бодунью или хотя бы дружески похлопать ее по бокам. Но стоило им ступить на подстилку, как ссора в другом конце хлева заставила их обернуться.
— Я ему намну бока, — кричал кот голосом коровы. — Я вырву ему всю шерсть и усы, этому заморышу!
— Поосторожнее, — продолжал кот своим голосом. — Каким бы заморышем я ни был, я научу тебя, как надо вести себя в обществе.
На вопрос родителей, что произошло, боров взялся им объяснить:
— Этот кот, он забрался под ноги к коту. То есть, я хочу сказать, корова… нет, кот…
— Ну хватит! — сказали родители. — Все ясно. Коту здесь делать нечего. Пусть убирается.
Уже выходя из хлева, родители спохватились и спросили, обернувшись в темноту:
— Кстати, Бодунья, что, сегодня все было тихо в заливных лугах? Не скрывай от нас ничего.
— Клянусь, родители, мне нечего вам сообщить. Я должна даже сказать вам, что собака вела себя хорошо.
— Не может быть! Просто удивительно.
— Я еще никогда не видела ее такой разумной и спокойной. Можно подумать, она проспала с утра до вечера.
— Проспала с утра до вечера? Это еще что за новости! Уж не думает ли эта лентяйка, что ее для того кормят, чтобы она спала и бездельничала? Мы с ней еще поговорим…
— Но, родители, послушайте, надо быть справедливыми…
— Она и получит по справедливости.
Когда родители вошли в кухню, собака уже лежала подле очага. Они приказали ей: «Иди сюда, бездельница». Как накануне, в дело вмешались девочки, и, как накануне, собака отделалась парой пинков.
На следующее утро все устроилось хорошо и просто. Родители обычно просили петуха разбудить их. Этим утром селезень приказал петуху молчать, и родители проспали за закрытыми ставнями. Тихо одевшись, девочки зашли на кухню за корзинкой с провизией и вышли оттуда на цыпочках, как и вошли. Боров уже не находил себе места, поджидая их во дворе.
— Вы не забыли про мою бороду? — приглушенно спросил он.
Девочка приделали ему светлую, местами переходящую в рыжину, соломенную бороду, которая была такой густой, что скрывала всю морду до глаз. Боров ликовал.
— Ждите меня в заливных лугах, — сказал он, — и еще до полудня я вам приведу стадо живым или мертвым.
— Лучше живым, — заметил селезень.
— Само собой, но факты — упрямая вещь, и не мне их менять. Кроме того, если мой дедуктивный метод верен, ваши коровы еще не должны погибнуть.
Боров проводил девочек с собакой. Не прошло и пяти минут, как он тоже отправился в путь. Боров шел не торопясь, будто гулял, чтобы не привлекать внимания.
Родители проснулись только в восемь утра. Они не поверили глазам.
— Я зря драл горло целый час, — сказал петух, — но вы и не шелохнулись. В конце концов я отказался от этой затеи.
— Девочки не осмелились вас будить, — подхватил селезень. — Они вывели коров как обычно, и все обошлось без приключений. И пока я не забыл, Бодунья просила вам передать, что голова у нее прошла.
Родители никогда в жизни не вставали так поздно и были настолько смущены этим обстоятельством, что даже не пошли в поле, решив, что заболели.
Часам к десяти утра, набродившись вдоволь по деревне, боров окольными путями пришел к девочкам в заливные луга. Сердца у девочек радостно забились, когда они увидели, как гордо несет он свое рыло с развевающейся бородой.
— Ты нашел их?
— Само собой. То есть я хочу сказать, что знаю, где их искать.
— Где же они?
— Не торопитесь, — оборвал их боров. — Потерпите минутку. Дайте я хоть присяду. Сил больше нет.
Боров устроился на траве перед девочками и собакой и произнес, проведя копытцем по бороде:
— С первого взгляда это дело кажется сложным, но стоит немного подумать, как оно оказывается чрезвычайно простым. Следите внимательно за ходом моих рассуждений. Поскольку коров украли, то сделать это могли только воры.
— Несомненно, — согласились девочки.
— Это с одной стороны, а с другой — известно, что ворами бывают только плохо одетые люди.
— Истинная правда, — согласилась с ним собака.
— Следовательно, напрашивается вопрос: кто в деревне одет хуже всех? Попробуйте-ка ответить.
Девочки называли имя за именем, но боров только качал головой и хитро улыбался.
— Как и следовало ожидать, ничего похожего, — сказал он наконец. — Хуже всех одеты цыгане, что уже два дня стоят у нашей дороги. Отсюда вытекает, что они и украли наших коров.
— Мы так и думали! — в один голос воскликнули пастушки и собака.
— Ну конечно, — не преминул заметить боров. — Теперь вам кажется, что вы додумались до этого сами. Скоро же вы забыли, что истина была явлена вам посредством моих рассуждений. Люди неблагодарны. С этим нужно мириться.
Боров впал в меланхолию, но ему начали петь такие дифирамбы, что к нему вскоре вернулось прекрасное расположение духа.
— Теперь мне остается только пойти к ворам и принудить их полностью признать свою вину. Для меня это уже детские игрушки.
— Я могу сопровождать тебя, — предложила собака.
— Нет, дело слишком деликатное. Твое присутствие может все испортить. На этот раз я управлюсь сам.
Боров повторил свое обещание привести стадо еще до полудня и, покинув заливные луга, быстро скрылся из виду. Когда боров подошел к цыганам, они сидели кружком на земле и плели корзины. Они действительно были очень плохо одеты, и лохмотья еле прикрывали их тела. В нескольких шагах от повозки паслась старая кляча, такая же несчастная с виду, как и ее хозяева. Боров уверенно приблизился и произнес жизнерадостным голосом:
— Добрый день всей компании!
Цыгане смерили взглядом незнакомца, и один за всех холодно ответил на произнесенное приветствие.
— У вас все здоровы? — спросил боров.
— Не жалуемся, — ответил цыган.
— И дети тоже?
— Не жалуемся.
— И бабушка?
— Не жалуемся.
— И лошадка?
— Не жалуемся.
— И коровы?
— Не жалуемся.
Цыган отвечал, не думая, и тут же поправился:
— Что до коров, — сказал он, — то им болезни и не грозили. Их у нас нет.
— Поздно! — ликовал боров. — Вы признались. Это вы увели коров.
— Что это еще значит? — спросил цыган, нахмурив брови.
— Достаточно, — ответил боров. — Верните мне коров, которых вы украли, или…
Продолжить фразу борову не удалось. Цыгане поднялись с земли и задали ему такую взбучку, что он чуть не потерял бороду. Угрозы и возмущение борова только подливали масла в огонь. Ему наконец удалось вырваться, и, посыпая землю соломой из бороды, горемычный боров нашел прибежище на соседней ферме, где его радушно встретили хозяева.
Было уже два часа пополудни, когда отчаявшиеся в заливных лугах девочки увидели, что вместо борова к ним направляется селезень, который хотел узнать, как идут дела. Селезень высоко оценил ход рассуждений борова, который привел его к обвинению цыган в воровстве.
— Конечно, нужно всегда судить людей по одежке, — сказал он. — Важно только не ошибиться. А что до нашего дружка, то думаю, он далеко не ушел. Наслаждается, наверное, сейчас компанией Бодуньи и остальных коров. Пойдем-ка за ними.
Девочки в сопровождении селезня с собакой подошли к повозке, но цыган около нее не застали, поскольку они ушли в деревню продавать сплетенные утром корзины. Селезня их отсутствие ничуть не смутило. Опустив голову, он, казалось, погрузился в изучение камней на дороге.
— Обратите внимание, — сказал он, — вот эти желтые стебельки лежат на одинаковом расстоянии друг от друга. Боров лучше и придумать не мог, чем представиться мальчиком-с-пальчиком, который посыпает дорогу волосками из своей бороды вместо камешков. Теперь мы придем куда нужно.
Вскоре соломенная дорожка привела четырех друзей во двор соседней фермы. Прямо к хозяевам.
— День добрый, — приветствовал их селезень. — Что-то вы не стали краше за последнее время. И как такие гнусные рожи разгуливают на свободе?
Пока хозяева изумленно смотрели друг на друга, селезень обратился к Дельфине с Маринеттой.
— Девочки, — сказал он, — откройте хлев и спокойно входите внутрь. Там, ожидая вас, томятся некоторые ваши знакомые, глоток свежего воздуха им не помешает.
Хозяева бросились было к хлеву, но селезень предупредил их:
— Стоит вам только шевельнуть пальцем, и я не отвечаю за своего друга.
Пока собака удерживала фермеров, девочки вошли в хлев и вскоре оттуда вышли, гоня перед собой борова и стадо коров. От победного вида Бодуньи не осталось и следа, она старалась не привлекать к себе особого внимания. Фермеры пристыженно опустили голову.
— Похоже, вы очень любите животных, — сказал селезень.
— Да мы просто пошутили, — начала уверять его хозяйка. — Позавчера Бодунья попросила меня приютить ее на пару дней. Мы хотели немного проучить девочек.
— Это ложь, — начала оправдываться Бодунья. — Я попросилась у вас только на ночлег, а на следующее утро вы задержали меня силой.
— А остальные коровы? — спросила Дельфина.
— Я боялась, что Бодунье станет скучно. Тогда решила сходить за ее подругами.
— Она пришла за нами в заливные луга, — объяснили коровы, — сказала, что Бодунья заболела и хочет нас видеть. Мы пошли за ней без тени сомнения.
— И я тоже, — проворчал боров. — Я ничегошеньки не заподозрил, когда она загнала меня в хлев.
Отчитав их как следует, селезень пообещал фермерам, что они кончат свои дни в тюрьме, и увел всех со двора. По дороге он отстал от девочек, которые погнали коров в заливные луга, и вместе с боровом вернулся домой. Тот с горечью вспоминал свои злоключения и тщетность самых благих намерений.
— Скажи мне, селезень, — попросил он, — как ты угадал, что эти люди — воры?
— Сегодня утром фермер появился на дороге перед нашим домом. Родители были во дворе, и поэтому он остановился на минутку поболтать с ними, однако об исчезновении коров он и словом не обмолвился, хотя знал об этом от девочек еще с вечера.
— Он мог знать, что девочки ничего не сказали родителям, и не хотел их выдавать.
— Обычно они с женой никогда не упускают возможности наговорить на девочек всякую всячину. И потом выглядят они как настоящие воры.
— Это не доказательство.
— Для меня доказательство вполне достаточное. Но когда твоя борода привела меня прямо к порогу хлева, ни малейших сомнений уже не оставалось.
— И все же, — вздохнул боров, — одеты они лучше, чем цыгане.
Вечером, когда девочки пригнали стадо домой, во дворе их уже ждали родители. Заметив их еще издали, Бодунья вырвалась вперед и бросилась к ним с рассказом:
— Я сейчас вам все объясню, — начала она. — Во всем виноваты девочки.
Она начала говорить о своем отсутствии и об исчезновении стада. Родители помнили, что вчера вечером разговаривали со скотиной, и не могли взять в толк, о чем это она. А когда другие коровы и боров не поддержали Бодунью, она чуть не задохнулась от злости.
— Вот уже несколько недель, как наша бедная Бодунья стала сама не своя. У нее навязчивая идея возвести на девочек и собаку напраслину, чтобы их наказали.
— И правда, — согласились родители, — нам тоже так показалось.
С этих пор родители больше не обращают внимания на наветы Бодуньи. Она так расстраивается из-за этого, что совсем потеряла аппетит и почти не дает молока. И сейчас уже подумывают, не пустить ли Бодунью на мясо.
СОБАКА
Дельфина и Маринетта возвращались с покупками домой. До дома было около километра. В корзинке у них было три куска мыла, головка сахару, кусок телятины и на пятнадцать су гвоздики. Они вдвоем несли корзинку, держа ее за ручки, размахивали ею и пели веселую песенку. И вот, на повороте дороги, как раз когда они пели: «Миронтон, миронтон, миронтен», они увидели большую лохматую собаку, которая шла понурив голову. Видно было, что настроение у нее неважное: из-за отвислой губы выглядывали острые клыки, а высунутый язык едва не волочился по земле. Вдруг она быстро вильнула хвостом и бросилась бежать по обочине дороги, но так неловко, что налетела прямо на дерево. От неожиданности она отскочила назад и раздраженно заворчала. Девочки остановились посреди дороги и прижались друг к другу, рискуя раздавить телятину. Маринетта, впрочем, все еще напевала: «Миронтон, миронтон, миронтен», но голос у нее дрожал и был еле слышен.
— Не бойтесь, — сказала собака. — Я не опасна. Совсем напротив. Я ослепла и поэтому так печальна.
— О! Бедная собака! — сказали девочки. — Мы же не знали!
Собака подошла к ним, еще сильнее виляя хвостом, потом стала лизать им ноги и дружески обнюхала корзину.
— Со мной приключилась беда, — повторила она, — но дайте я сначала на минутку присяду, я совершенно разбита, сами видите.
Девочки уселись на траву напротив собаки, и Дельфина предусмотрительно подвинула корзинку к себе.
— Ах, как хорошо отдохнуть! — вздохнула собака. — Итак, чтобы ввести вас в курс дела, скажу, что, до того как ослепнуть, я состояла на службе у одного слепого. Еще вчера поводок, который вы видите у меня на шее, был для него путеводной нитью, когда мы шли с ним по дороге, и теперь только я понимаю, как была ему нужна. Я водила его по самым лучшим дорогам, там, где цветут самые красивые цветы боярышника. Когда мы проходили мимо какой-нибудь фермы, я говорила ему: «Вон ферма». Фермеры давали ему кусок хлеба, а мне бросали кость, а иногда мы укладывались вместе с ним на ночлег где-нибудь в углу сарая. Часто у нас бывали неприятные встречи, и тогда я защищала его. Вы же знаете, как это бывает: хорошо откормленные собаки, как, впрочем, и люди, не очень жалуют тех, у кого несчастный вид. Но я, я злобно скалилась, и они давали нам пройти. Я ведь могу быть не очень приветливой, когда захочу, сейчас я покажу вам, вот, смотрите…
Она зарычала, оскалив клыки и сердито поводя глазами. Девочки испугались.
— Хватит, не надо больше так, — сказала Маринетта.
— Это я только, чтобы вам показать, — сказала собака. — В общем, вы видите, я оказывала хозяину маленькие услуги. Кроме того, ему нравилось беседовать со мной. Конечно, я всего лишь собака, это понятно, но за разговором коротаешь время…
— Вы говорите не хуже человека.
— Вы очень любезны, — сказала собака. — Боже мой, как вкусно пахнет ваша корзина!.. Да, так о чем я говорила?… Ах, ну да! Мой хозяин! Я старалась облегчить ему жизнь, но он всегда был недоволен. Он ни за что ни про что мог надавать мне пинков. Так что можете себе представить, как я была удивлена, когда позавчера он стал меня гладить и дружески разговаривать со мной. Знаете, я была так взволнована. Больше всего на свете я люблю, когда меня гладят, я чувствую себя такой счастливой. Погладьте меня, увидите сами…
Собака вытянула шею, подставляя голову девочкам, и они погладили лохматую шерсть. И в самом деле, она радостно завиляла хвостом и тихо повизгивала: «y-y, y-y, у-у!»
— Вы так внимательно слушали меня, — снова заговорила она, — но я закончу свою историю. Наласкав меня вдоволь, хозяин вдруг сказал мне: «Ты бы хотела взять на себя мою слепоту, стать слепой вместо меня?» Такого я не ожидала! Ослепнуть вместо него — тут заколебался бы самый близкий друг. Можете думать обо мне что угодно, но я отказалась.
— Еще бы! — вскричали девочки. — Конечно же! Только так и можно было ответить.
— Правда? Ну вот, я рада, что вы думаете точно так же, как я. А то у меня даже были некоторые угрызения совести, почему я не согласилась сразу.
— Сразу? Собака, неужели вы все-таки…
— Постойте! Позавчера он был необыкновенно мил со мной, еще больше, чем накануне. Он выказывал мне такую нежную дружбу, что я устыдилась своего отказа. В конце концов, что же вы думаете, мне захотелось сказать ему это, и дело кончилось тем, что я согласилась. О! Он поклялся мне, что я буду очень счастливой собакой, что он будет водить меня по дорогам, как я водила его, будет защищать меня, как защищала его я… Но на другой день после того как я ослепла вместо него, он бросил меня, не сказав ни единого слова на прощание. И вот со вчерашнего вечера я осталась одна среди полей, я натыкаюсь на деревья и раню ноги о камни на дорогах. И вдруг я учуяла, что пахнет как будто телятиной, потом услышала голоса двух девочек, распевающих песенку, и подумала, что, может быть, вы не прогоните меня…
— О, нет! — сказали девочки. — Вы очень хорошо сделали, что подошли.
Собака вздохнула и сказала, потянув носом у корзины:
— Я так проголодалась… Ведь у вас там, наверно, телятина?
— Да, это телятина, — сказала Дельфина. — Но понимаете, собака, это покупки, которые мы несем родителям… Это не наше…
— Что ж, тогда о ней нечего и думать. Все равно, она, должно быть, очень вкусная. Скажите мне, малышки, не могли бы вы отвести меня к своим родителям? Если они не захотят, чтобы я осталась, может быть, они не откажут мне в косточке или тарелке супа и позволят мне переночевать?
Девочки только того и хотели, чтобы увести ее с собой; и может быть, даже навсегда оставить ее в доме. Их только немного беспокоило, как на это посмотрят родители. Кроме того, нужно было учесть мнение кота, с которым в доме очень считались и которому могло не понравиться, что у них завелась собака.
— Пошли, — сказала Дельфина, — мы постараемся, чтобы вас оставили.
Как только они отправились в путь втроем, девочки увидели на дороге окрестного грабителя, который занимался тем, что поджидал детей, возвращающихся с покупками, и отбирал у них корзинки.
— Вот он, — проговорила Маринетта, — человек, который отбирает корзинки.
— Не бойтесь, — ответила собака, — я сделаю так, что у него пропадет всякое желание вспоминать о вашей корзинке до конца своих дней.
Человек быстро приближался и уже потирал руки, предвкушая добычу, как вдруг он увидел собаку, услышал ее рычание и перестал потирать руки. Он перешел на другую сторону дороги и поздоровался с девочками, приподняв шляпу. Девочки едва удержались, чтобы не рассмеяться ему в лицо.
— Видите, — сказала собака, когда человек скрылся из виду, — я хоть и слепая, но все равно могу быть полезной.
Собака была очень довольна. Она шагала по дороге рядом с девочками, которые по очереди вели ее за поводок.
— Как мне хорошо с вами! — воскликнула она. — Но как же вас зовут, малышки?
— Мою сестру, которая ведет вас за поводок, зовут Маринетта, у нее волосы посветлее.
Собака остановилась, обнюхивая Маринетту.
— Так, запомнила. Она — Маринетта. Теперь я буду узнавать ее. Дальше!
— А мою сестру зовут Дельфина, — в свою очередь проговорила блондинка.
— Так, Дельфина, что ж, теперь я не забуду. Когда я бродила по дорогам с прежним хозяином, я знавала много маленьких девочек, но должна откровенно признать, что ни у одной из них не было такого красивого имени, как Дельфина или Маринетта.
Девочки покраснели от смущения, но собака этого не видела и продолжала говорить комплименты. Она сказала, что у них красивые голоса и что они, должно быть, очень умные девочки, если родители доверяют им такое важное дело, как покупка телятины.
— Уж не знаю, сами ли вы ее выбирали, но уверяю вас, пахнет она…
Под любым предлогом она возвращалась к телятине. То и дело поворачивалась к корзинке, а так как она была слепая, то постоянно тыкалась в ноги Маринетте, рискуя сбить ее с ног.
— Знаете что, собака, — сказала ей Дельфина, — будет лучше, если вы забудете о телятине. Честное слово, если бы она была моей, я бы угостила вас от всего сердца, но вы же видите — я не могу. Что скажут родители, если мы не принесем телятину?
— Конечно, они будут вас ругать…
— Придется сказать им, что вы ее съели, и тогда, вместо того чтобы пустить вас на ночлег, они вас выгонят.
— А может, даже и поколотят, — добавила Маринетта.
— Вы правы, — согласилась собака, — но не думайте, пожалуйста, что я говорю о ней, потому что хочу полакомиться. Я говорю о телятине вовсе не для того, чтобы вы меня угостили. Да она меня, кстати, и не интересует. Конечно, это прекрасная вещь, но разве можно сравнить ее с костью? Когда на столе телятина, люди съедают ее всю, а собаке ничего не остается.
Беседуя, девочки вместе со слепой собакой подошли к дому. Первым их увидел кот. Он выгнул спину, как делал всегда, когда сердился; шерсть у него поднялась дыбом, а хвостом он забил по земле. Потом бросился в кухню и сказал родителям:
— Там пришли девочки и привели за поводок какую-то собаку. Мне это не нравится!
— Собаку? — сказали родители. — Еще не хватало! Они вышли во двор и убедились, что кот не соврал.
— Где вы нашли эту собаку? — грозно спросил отец. — И почему привели ее сюда?
— Это бедная слепая собака, — сказали девочки. — Она налетела на дерево у дороги и была такая несчастная…
— Не имеет значения. Я запретил вам разговаривать с незнакомыми.
Тогда собака сделала шаг вперед, поклонилась родителям и сказала:
— Я прекрасно понимаю, что в вашем доме нет места для слепой собаки, я не стану вас долго задерживать и пойду своей дорогой. Но, прежде чем уйти, разрешите мне сказать вам, что у вас очень умные и послушные дети. Я шла себе по дороге, не видя девочек, как вдруг до меня донесся запах телятины. Поскольку я не ела со вчерашнего дня, то была очень голодна, но девочки не разрешили мне притронуться к корзинке. Тогда я напустила на себя грозный вид. И знаете, что они мне сказали?
«Телятину мы несем родителям, а все, что принадлежит родителям, — не для собак». Вот как они мне ответили. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но, когда мне случается встретить двух таких разумных и послушных девчушек, как ваши, я забываю о голоде и думаю, что их родителям здорово повезло…
Мать улыбалась, глядя на девочек, и было видно, что отец тоже гордится ими.
— Что ж, очень рад, если так, — сказал он, — раз у меня такие хорошие девочки. Я бранил их только для того, чтобы они помнили об осторожности и не заводили опасных знакомств, но сейчас я рад, что они привели вас к нам домой. Вы получите тарелку хорошего супа и можете остаться здесь на ночь. Но как же случилось, что вы ослепли и бродите одна по дорогам?
Тогда собака еще раз поведала им свою историю о том, как она взяла на себя болезнь своего хозяина, а он покинул ее. Родители слушали с интересом, не скрывая волнения.
— Вы самая замечательная собака, — сказал отец, — единственное, в чем вас можно упрекнуть, — в том, что вы слишком добры. Вы проявили столько милосердия, и я тоже кое-что сделаю для вас. Оставайтесь у нас жить сколько захотите. Я сделаю вам прекрасную будку, и каждый день вы будете получать тарелку супа, не говоря о костях. А поскольку вы исходили много дорог, вы расскажете нам о далеких краях — для нас это будет лишняя возможность что-то узнать.
Девочки покраснели от удовольствия, и каждая поздравила себя с таким исходом дела. Даже кот умилился, и, вместо того чтобы топорщить шерсть и ворчать себе в усы, дружески поглядывал на собаку.
— Я так счастлива, — вздохнула собака. — Я не надеялась, что найду дом, где меня так хорошо примут, после того как меня покинули…
— У вас был плохой хозяин, — сказал отец. — Он злой человек, эгоистичный и неблагодарный. Но пусть он только когда-нибудь сунет сюда нос, я встречу его, как он того заслуживает, потому что мне стыдно за его поведение.
Собака тряхнула головой и грустно сказала:
— Мой хозяин уже сейчас получил по заслугам. Я вовсе не имею в виду угрызения совести из-за того, что он меня оставил, но я знаю, как он ленив. Теперь, когда он уже не слепой и ему нужно зарабатывать себе на жизнь, я уверена, он сожалеет о прекрасных временах, когда ему ничего не нужно было делать, — его водили по дорогам, и ему только и оставалось, что получать свой кусок хлеба и сострадание людей. Признаюсь, я даже обеспокоена его судьбой, поскольку нет на свете человека более ленивого, чем он.
И тогда кот прыснул в усы. Он находил довольно глупым беспокоиться о хозяине, который тебя бросил. Родители были согласны с котом и не постеснялись об этом сказать.
— Полноте! Неприятности ничему не научат его, он всегда будет таким, какой есть.
Собаке было стыдно, и она слушала их, опустив голову. Но девочки обняли ее за шею, а Маринетта сказала коту, глядя ему в глаза:
— Это потому, что она очень добрая! А ты, кот, чем хихикать в усы, тоже мог бы быть подобрее.
— А когда с тобой играют, — добавила Дельфина, — поменьше царапайся, чтобы потом нас не ставили в угол.
— Как вчера вечером!
Кот приуныл, теперь ему стало стыдно. Он повернулся к девочкам спиной и вразвалку, с хмурым видом направился к дому. Он ворчал, что к нему несправедливы, что если он царапается, так только для того, чтобы их развлечь или нечаянно, но что на самом деле он тоже добрый, как собака, а может, и еще добрее.
Общество собаки девочкам очень нравилось. Когда они шли за покупками, то говорили ей:
— Ты пойдешь с нами за покупками, собака?
— О, конечно! — отвечала собака. — Скорее надевайте мне ошейник.
Дельфина надевала ей ошейник. Маринетта брала за поводок (или наоборот), и они втроем отправлялись за покупками.
По дороге девочки говорили, что вот там, на лугу, пасется стадо коров, а на небе туча, и собака, которая не могла всего этого видеть, радовалась и стаду и туче. Правда, они не всегда знали, как называется то, что они видели, и тогда собака спрашивала их:
— Скажите мне, какого цвета эти птицы и какой формы их клювы?
— Слушай: у самой большой перья на спине желтые, а крылья черные, а хвостик и желтый и черный…
— А-а, тогда это иволга. Вы сейчас услышите, как она поет.
Иволга не всегда тут же начинала петь, и собака, чтобы показать девочкам, как она поет, подражала ее пению, но ничего, кроме лая, у нее не выходило, и это было так смешно, что они даже останавливались — насмеяться всласть.
Иногда им встречался заяц или лиса, пробегавшие по опушке леса; тогда собака предупреждала девочек. Она утыкалась мордой в землю и говорила, поводя носом:
— Я чувствую, где-то тут заяц… посмотрите-ка вокруг…
Они веселились чуть не всю дорогу. Соревновались, кто быстрей проскачет на одной ноге, и собака всегда выигрывала, потому что скакала на трех лапах.
— Это несправедливо, — говорили девочки, — мы-то ведь на одной ноге.
— Еще бы! — отвечала собака. — С такими длинными ногами, как у вас, это не так уж трудно!
Кот всегда немного огорчался, когда видел, что собака отправляется с девочками за покупками. Он так подружился с ней, что готов был с утра до вечера мурлыкать, устроившись возле нее. Пока Дельфина и Маринетта были в школе, кот с собакой почти не разлучались. В дождливые дни они сидели в собачьей будке, болтая о том о сем, или дремали один подле другого. Но когда погода была хорошая, собака могла хоть целый день бегать по полям, и тогда она говорила своему другу:
— Великий лентяй кот, поднимайся и иди прогуляться.
— Мур-мур, — говорил кот.
— Пошли, пошли. Покажешь мне дорогу.
— Мур-мур, — говорил кот (это он так играл).
— Не притворяйся спящим, я-то знаю, ты не спишь. А-а, понимаю, чего ты хочешь… Ну-ка полезай!
Собака пригибалась, кот вспрыгивал ей на спину, устраивался поудобнее, и они шли гулять.
— Иди все время прямо… — говорил кот, — теперь поворачивай налево… Знаешь, если ты устала, я могу и сам идти.
Но собака почти никогда не уставала. Она говорила, что кот весит не больше голубиного пуха. Вот так, гуляя по полям и лугам, они беседовали о жизни на ферме, о девочках и их родителях. Хотя кот иногда все-таки царапал Дельфину и Маринетту, но на самом деле он стал очень добрым. Его заботило, довольна ли собака своей судьбой, сыта ли она, хорошо ли спала.
— Хорошо тебе на ферме, собака? — спрашивал он.
— О, конечно! — вздыхала она. — Мне не на что жаловаться, все так милы со мной…
— Ты говоришь да, но я вижу — что-то тебе мешает.
— Да нет же, уверяю тебя, — возражала собака.
— Скучаешь по своему хозяину?
— Нет, кот, правда, не скучаю, я даже немного сердита на него… Как бы ни был счастлив и каких хороших друзей ни имел, но ведь глаза-то теперь не вернешь…
— Конечно, — вздыхал кот, — конечно…
Однажды, когда девочки спросили собаку, пойдет ли она с ними за покупками, кот выразил явное недовольство и сказал им, чтобы они шли одни и что это не дело, когда слепая собака бродит по дорогам в компании двух легкомысленных особ. Сначала девочки просто рассмеялись, потом Маринетта предложила коту идти с ними. Кот почувствовал себя уязвленным и надменно ответил:
— Чтобы я, кот, пошел за покупками!
— Я думала, тебе будет приятно, — сказала Маринетта, — но если ты предпочитаешь остаться — дело твое!
Видя, как он рассердился, Дельфина наклонилась, чтобы его погладить, но он до крови расцарапал ей руку. Маринетта рассердилась на него за то, что он поцарапал сестру, тоже наклонилась, и, дернув его за усы, сказала:
— В жизни не видела такого скверного животного, как этот старый кот!
— Смотри-ка! — сказал кот в ответ и сильно царапнул ее. — Сама напросилась!
— Ах! Он и меня оцарапал!
— Да, оцарапал, а сейчас пойду скажу родителям, что ты дернула меня за усы — пусть тебя поставят в угол.
Он уже было направился к дому, но собака, которая ничего не видела и отказывалась верить своим ушам, строго сказала ему:
— И правда, кот, я не знала, что ты такой злой. Вынуждена признать, что девочки правы и что ты действительно плохой кот. Ох-ох-ох! Уверяю тебя, все это мне совсем не нравится… Пусть себе остается, пойдемте, девочки, нам нужно идти за покупками.
Кот страшно смутился, не нашелся даже что ответить, и они ушли, не услышав от него ни слова раскаяния. Уже на дороге собака обернулась и крикнула ему:
— Все это мне очень не нравится!
Кот остался посреди двора — он уже сожалел о том, что сделал. Теперь он прекрасно понимал: не нужно было царапаться, он вел себя очень плохо. Но что особенно огорчало — собака больше не любит его и считает плохим котом. Он так расстроился, что целый день просидел на чердаке. «Ведь я, вообще-то, добрый, — думал он, — если я и царапаюсь, так ведь ненамеренно. Я все время думаю о том, что натворил, — значит, я добрый.
Но как доказать ей, что я добрый?» Вечером, когда девочки вернулись с покупками, он не посмел выйти и сидел на чердаке. Высунув нос в чердачное окно, он увидел собаку, которая кружила по двору и говорила, нюхая носом воздух:
— Я не слышу кота, не чувствую его запаха. Вы не видели его, девочки?
— Нет, — ответила Маринетта, — и предпочитаю не видеть. Он такой злой.
— Это правда, — вздохнула собака, — после того, что он сегодня устроил, иначе не скажешь.
Кот чувствовал себя несчастным. Ему хотелось высунуть голову в слуховое окно и крикнуть: «Это неправда! Я добрый!» — но он не осмелился это сделать, думая, что теперь, после всего, что он натворил, собака ему не поверит. Он плохо провел ночь, просто не мог сомкнуть глаз. На следующее утро, очень рано, он спустился с чердака с покрасневшими глазами и растрепанными усами и пошел к собачьей будке. Он уселся перед ней и робко сказал:
— Здравствуй, собака… Это я, кот…
— Здравствуй, здравствуй, — проворчала собака хмуро.
— Ты плохо спала эту ночь, собака? Ты какая-то грустная…
— Нет, я спала хорошо… Но когда я просыпаюсь, всякий раз бываю неприятно удивлена тем, что не вижу света.
— И то правда, — сказал кот, — мне тоже очень грустно, что ты не видишь света; я подумал, если бы ты захотела отдать мне свою болезнь, я бы стал слепым вместо тебя и сделал бы для тебя то, что ты сделала для своего хозяина.
Сначала собака не могла вымолвить ни слова, так она была потрясена, а потом ей захотелось плакать.
— Кот, какой же ты добрый, — пробормотала она, — я этого не хочу… ты слишком добр…
Услышав такой ответ, кот просиял. Он никогда не думал, что быть добрым так приятно.
— Так и сделаем, — сказал он, — я беру твою болезнь.
— Нет, нет, — запротестовала собака, — я не хочу… Она стала отказываться, говоря, что уже почти привыкла так жить и что для счастья достаточно просто иметь хороших друзей. Но кот не уступал и отвечал ей так:
— Тебе, собака, глаза необходимы, для того чтобы быть полезной в доме. А мне зачем смотреть на белый свет, я тебя спрашиваю? Я — существо ленивое, мне бы только спать на солнышке или у камелька.
Верно говорю, у меня и так глаза почти все время закрыты. Даже если ослепну, так не замечу.
Он говорил так складно и проявил такую твердость, что собака наконец уступила его настояниям. Тут же и произошел обмен, прямо возле будки, где они сидели. Снова увидев свет, собака закричала во все горло:
— Кот очень добрый! Кот очень добрый!
Девочки выбежали во двор и, когда узнали, что произошло, стали плакать и обнимать кота.
— Ах, до чего же он добрый! — говорили они. — Какой он добрый!
А кот склонил голову и был счастлив оттого, что он такой добрый; он не видел даже того, что теперь он ничего не видит.
С тех пор как к ней вернулось зрение, собака была очень занята, у нее минутки не было, чтобы отдохнуть у себя в будке, разве только в самый полдень или ночью. Остальное время то ее посылали охранять стадо, то хозяева брали ее с собой, когда уходили по делам или в лес, в общем, всегда находился кто-нибудь, кто брал ее на прогулку. Она не жаловалась — наоборот. Никогда она не была так счастлива, а, вспоминая времена, когда она бродила по дорогам со своим хозяином, от поселка к поселку, она радовалась, что случай привел ее на ферму. Ее только огорчало, что у нее так мало времени для кота, который оказался таким добрым. По утрам она поднималась очень рано и возила его на спине по окрестным полям. Для кота это было лучшее время дня. Собака рассказывала ему обо всем, что делает, и никогда не упускала случая поблагодарить его и пожалеть. Кот хоть и говорил, что это, мол, ничего, об этом и говорить не стоит, но с грустью вспоминал о том, как все-таки хорошо видеть белый свет. Теперь, когда он ослеп, на него не так уж много обращали внимания. Конечно, девочки то и дело гладили его, но им было куда приятнее бегать и прыгать вместе с собакой, а такой игры, в которую можно было бы поиграть с бедным слепым котом, не было.
И все-таки кот ни о чем не жалел. Он думал о том, что собака, его приятельница, очень счастлива и что это самое главное. Это был очень добрый кот. Днем, когда ему не с кем было поговорить, он спал вволю на солнышке или в кухне, у огня, и мурлыкал:
— Мур-мур… я добр… мур-мур… я добр.
Однажды летом, в жаркий день, когда он, ища прохлады, устроился на последней ступеньке лестницы, ведущей в подвал, и, по обыкновению, мурлыкал, он почувствовал, как что-то шуршит рядом с ним. Ему незачем было видеть — он и так понял, что это мышь, и тут же схватил ее лапами. Она так перепугалась, что даже не пыталась убежать.
— Господин кот, — сказала она, — отпустите меня. Я совсем маленькая мышка, и я заблудилась…
— Маленькая мышка? — сказал кот. — Очень хорошо. Вот я тебя и съем.
— Господин кот, если вы меня не съедите, я обещаю сделать для вас все, что захотите.
— Нет, лучше я тебя съем… Хотя…
— Что хотя, господин кот?
— А вот что: я слепой. Если ты станешь слепой вместо меня, я отпущу тебя на волю. Ты сможешь свободно разгуливать по двору, даю тебе слово, что я тебя не съем. Поручается, что быть слепой тебе даже выгодно. Ты всегда дрожишь, как бы не попасть мне в когти, а теперь будешь жить совершенно спокойно.
Мышь колебалась, но поскольку она извинилась за свои колебания, он великодушно ответил:
— Подумай как следует, мышка, не решай сплеча. Я не так уж тороплюсь, могу и подождать несколько минут. Главное, чтобы ты самостоятельно приняла решение.
— Понимаю, — сказала мышь, — но если я скажу «нет», вы меня съедите?
— Разумеется, мышка, разумеется.
— В таком случае предпочитаю быть слепой, чем съеденной.
В полдень, когда Дельфина и Маринетта вернулись из школы, они очень удивились, увидев мышь, разгуливающую по двору прямо перед носом у кота. Но они удивились еще больше, когда узнали, что мышка ослепла, а кот уже больше не слепой.
— Это доброе маленькое животное, — сказал кот, — у нее золотое сердце, и я советую вам заботиться о ней.
— Можешь быть спокоен, — ответили девочки, — она ни в чем не будет нуждаться. Мы будем кормить ее и устроим ей постельку.
Когда в свою очередь вернулась домой собака, она была так счастлива, узнав об излечении своего друга, что не могла скрыть свою радость от мышки.
— Кот очень добрый, — сказала она, — и смотрите, что получилось: сегодня ему воздалось за его доброту!
— И правда, — сказали девочки, — он такой добрый…
— И правда, — прошептал кот, — я такой добрый…
— Гм, — хмыкнула мышь, — гм, гм…
Однажды утром в воскресенье собака дремала у себя в будке рядом с котом. Девочки гуляли во дворе с мышкой. Вдруг собака беспокойно потянула носом воздух, ворча встала и пошла к дороге, где уже были слышны человеческие шаги. По дороге устало тащился бродяга с изможденным лицом и в драной одежде. Проходя мимо дома, он бросил взгляд во двор и внезапно удивился, увидев собаку. Он быстро приблизился и забормотал:
— Собака, обнюхай меня… Ты меня не узнаешь?
— Узнаю, — сказала собака, опустив голову. — Вы мой бывший хозяин.
— Я плохо поступил с тобой, собака… Но если бы ты знала, какие муки совести пришлось мне вытерпеть, ты бы меня наверняка простила…
— Я прощаю вас, но прошу вас, уйдите отсюда.
— С тех пор как я стал зрячим, я очень несчастен. Я так ленив, что не могу заставить себя работать, и мне удается поесть в лучшем случае раз в неделю. Когда я был слепым, мне не нужно было работать. Люди давали мне еду и кров и жалели меня… Помнишь? Нам было хорошо с тобой… Если хочешь, собака, я верну свою болезнь, снова буду слепым, и ты опять поведешь меня по дорогам…
— Вам-то, может, и было хорошо, — ответила собака, — но мне-то не слишком. Наверное, вы забыли о пинках, которыми награждали меня за усердие и доброту? Вы были плохим хозяином, я поняла это теперь, когда нашла хороших хозяев. Я злобы на вас не держу, но не ждите, что снова пойду с вами по дорогам. К тому же теперь вы не можете ослепнуть вместо меня, потому что я больше не слепая. Кот был так добр, что взял на себя слепоту, а потом…
Но человек уже не слушал и отошел, бормоча что-то о неблагодарных животных; он подошел к коту, который мурлыкал около будки, и сказал ему, гладя по спинке:
— Бедный старый кот, ты так несчастен.
— Мур-мур, — ответил кот.
— Уверен, ты много бы дал, чтобы снова видеть. Если хочешь, я буду слепым вместо тебя, а взамен ты будешь водить меня по дорогам, как некогда это делала собака.
Кот широко открыл глаза и, не сдвинувшись с места, ответил:
— Если бы я был слепым, я, может, и согласился бы на ваше предложение, но я теперь зрячий — после того как мышь по доброй воле взяла на себя мою болезнь.
Это очень доброе животное, и если вы обратитесь к ней с вашим предложением, она не откажется служить вам. Пожалуйста, вон она спит на камушке — девочки уложили ее спать после прогулки.
Некоторое время человек колебался, прежде чем подойти к мышке, но мысль о том, что ему нужно трудом зарабатывать себе на хлеб, была для него невыносима. В конце концов он решился, наклонился к ней и тихо сказал:
— Бедная мышка, ты достойна сочувствия…
— О, месье, конечно! — сказала мышь. — Девочки очень хорошо относятся ко мне, и собака тоже, но я так хотела бы снова видеть.
— Хочешь, я ослепну вместо тебя?
— Да, месье.
— Взамен ты будешь моим поводырем. Я привяжу тебе на шею веревочку, и ты будешь водить меня по дорогам.
— Это не так уж трудно, — сказала мышь, — я поведу вас, куда захотите.
Девочки, стоя у ворот вместе с собакой и котом, видели, как слепой отправился в путь следом за мышкой, держась за кончик веревки. Он шел медленно и очень осторожно, потому что мышь была такая маленькая — все ее силы уходили только на то, чтобы натягивать веревку, малейшее движение слепого отбрасывало бедного зверька назад, а слепой этого даже не замечал. У Дельфины, Маринетты и кота вырвался сочувственный вздох — на душе у них было неспокойно. А собака дрожала всем телом, видя, как человек спотыкается о камни на дороге и шатается на каждом шагу. Девочки взяли ее за ошейник и погладили по голове, но она резко вырвалась и побежала вслед за слепым.
— Собака! — закричали девочки.
— Собака! — крикнул кот.
Она продолжала бежать, будто ничего не слышала, и когда слепой привязал веревку к ее ошейнику, она все шла, не оборачиваясь, чтобы не видеть девочек, которые плакали вместе с ее другом котом.
КОРОБКА С КРАСКАМИ
Однажды утром, во время каникул, Дельфина и Маринетта взяли коробку с красками и пошли на луг, за фермой. Краски были совсем новенькие. Накануне их принес дядя Альфред, потому что Маринетте исполнилось семь лет. Девочки в знак благодарности спели ему веселую песенку о весне. Дядя Альфред радовался вместе с ними и то и дело подпевал, не радовались только родители. Весь остаток вечера они ворчали: «Надо же выдумать такое! Краски! Этаким-то двум озорницам! Теперь в кухне непременно будет кавардак, а все платья перепачканы. Краски. И что с ними делать, с этими красками? Короче говоря, и не думайте утром заниматься малеваньем. Пока мы будем в поле, соберите фасоль в огороде и нарвите клевера для кроликов». Как ни печально, девочкам пришлось пообещать выполнить все, что им поручили. Но на следующее утро, когда родители ушли, а они отправились на огород собирать фасоль, им повстречался селезень, который заметил, что они расстроены. У селезня, надо заметить, было доброе сердце.
— Что случилось, малышки? — спросил он.
— Ничего, — ответили они, при этом Маринетта шмыгнула носом, и Дельфина вслед за ней сделала то же самое.
Но селезень продолжал дружески расспрашивать их, и они рассказали ему про краски, фасоль и клевер для кроликов.
Собака и боров, которые были неподалеку, подошли послушать, в чем дело, и возмущению их не было конца, как, впрочем, и негодованию селезня.
— Это возмутительно, — объявил он. — Родители — вот кто виноват во всем. Но не надо так отчаиваться, мои маленькие, идите и раскрашивайте все, что хотите. А мы с собакой займемся фасолью.
— Правда? — спросили девочки собаку.
— Конечно, — ответила та.
— Что касается клевера, — сказал боров, — можете рассчитывать на меня. Я обеспечу кроликам прекрасный провиант.
Девочки очень обрадовались. Уверенные, что родители ничего не узнают, они расцеловали своих друзей, взяли краски и пошли на луг. Едва они налили в стаканчики чистой воды, с другого края луга к ним подошел осел.
— Здравствуйте, девочки. Что вы собираетесь делать с этой коробкой?
Маринетта ответила ему, что они собираются рисовать красками, и объяснила, как и что.
— Если хочешь, — добавила она, — я нарисую твой портрет.
— О, конечно! Очень хочу, — сказал осел. — Мы, животные, лишены возможности видеть себя.
Маринетта велела ослу повернуться в профиль и принялась рисовать. Дельфина в это время рисовала кузнечика, сидевшего на травинке. Увлекшись, девочки некоторое время молча трудились, высунув языки и склонив головы набок.
Через некоторое время осел, который стоял не шевелясь, спросил:
— Можно посмотреть?
— Подожди, — ответила Маринетта, — я как раз рисую уши.
— А-а, тогда ладно. Смотри не торопись. Что касается ушей, я вот что хочу сказать. Конечно, они длинные, спору нет, но уж не настолько, сама понимаешь.
— Да, да, стой спокойно, я делаю, как надо.

В это время Дельфину постигло разочарование. Она нарисовала кузнечика на стебельке травы и увидела, что оба они совершенно потерялись на большом белом листе бумаги, и, поскольку недоставало чего-то еще, она сделала зеленый фон. Но, к несчастью, кузнечик был тоже зеленый, так что он совсем исчез среди зелени. Это было очень досадно.
Маринетта закончила портрет осла и позвала его посмотреть. Он не заставил себя упрашивать. То, что он увидел, невероятно удивило его.
— Как мало себя знаешь, — сказал он с грустью. — Никогда не думал, что у меня голова, как у бульдога.
Маринетта покраснела, а осел продолжал:
— Мне всегда говорили, что у меня длинные уши, но я бы никогда не подумал, что они такие, как здесь.
Маринетта смутилась и покраснела еще больше. И правда, уши на портрете занимали почти столько же места, сколько туловище. Осел продолжал рассматривать рисунок, и взгляд его становился все печальнее. Вдруг он с криком подскочил на месте:
— Что это значит? У меня только две ноги!
На этот раз Маринетта почувствовала себя увереннее и ответила:
— Ну конечно. Ведь я вижу только две ноги. И могу нарисовать только две.
— Да, но у меня-то их все-таки четыре!
— Нет, — вмешалась в разговор Дельфина. — В профиль у тебя только две.
Осел больше не возражал. Он чувствовал себя оскорбленным.
— Хорошо, нечего сказать, — проговорил он, отступая, — значит, у меня только две ноги.
— Но подожди, подумай сам…
— Нет уж, у меня две ноги, и разговор окончен.
Дельфина и Маринетта рассмеялись, хотя их несколько мучили угрызения совести. Потом, забыв об осле, они стали думать, кого бы им нарисовать еще. Из-за дома появились два вола и через луг отправились на водопой к реке. Оба были совершенно белые, без единого пятнышка.
— Доброе утро, девочки! Что это у вас такое?
Им объяснили, что это краски для рисования, и тогда оба вола заявили, что им очень хотелось бы посмотреть на свои портреты. Однако Дельфина, наученная горьким опытом с кузнечиком, с сомнением покачала головой:
— Ничего не получится. Вы же совершенно белые, такого же цвета, как бумага. Вас не будет видно. Белое на белом — это все равно как будто вас вообще нет.
Волы переглянулись, и один из них обиженно сказал:
— Ну что ж, раз нас нет вообще, тогда до свидания.
Девочки растерялись. В это время за спиной у них послышались чьи-то голоса, и, обернувшись, они увидели, что к ним подходят лошадь и петух — они громко бранились.
— Так вот, — раздраженно говорил петух, — было бы неплохо, если бы у вас было хоть чуточку ума. И сделайте одолжение, перестаньте усмехаться, я в два счета мог бы поставить вас на место.
— Жалкое ничтожество! — небрежно бросила лошадь.
— Ничтожество! Вы тоже не бог весть какое величие! И в один прекрасный день я докажу вам это, вот увидите!
Девочки хотели вмешаться, но заставить петуха замолчать было нелегко. Это удалось Дельфине, которая все уладила, предложив обоим спорщикам написать их портреты. И вот сестра принялась рисовать петуха, а она лошадь. Казалось, ссора утихла. В восторге от того, что ему нужно позировать, петух гордо поднял голову, увенчанную гребешком, расправил жабо и распушил свои самые красивые перья. Но долго молчать он не мог.
— Должно быть, очень приятно рисовать мой портрет, — сказал он Маринетте. — Ты хорошо сделала, что выбрала меня. Я не хочу себя хвалить, но у меня действительно очень красивые перья.
Он еще долго расхваливал свое оперение, гребешок, пышный хвост и добавил, искоса взглянув на лошадь:
— Конечно, лучше рисовать меня, чем некоторых бедных животных, у которых такая невзрачная и унылая шкура.
— Мелкие животные и должны быть ярко раскрашены, — сказала лошадь. — Иначе их можно вообще на заметить.
— Сами вы мелкое животное! — выкрикнул взъерошенный петух и стал сыпать оскорбления и угрозы, в ответ на которые лошадь только улыбалась.
Девочки с увлечением рисовали. И вскоре обе модели уже могли любоваться своими портретами. Лошадь, видимо, была довольна своим. Дельфина нарисовала ей очень красивую гриву, на удивление длинную и будто утыканную колючками, что делало ее похожей на дикобраза, а хвост состоял из обилия толстых волосин; некоторые из них по толщине и красоте не уступали, пожалуй, ручке от мотыги. Наконец, поскольку лошадь стояла в пол-оборота, ей повезло, и у нее были все четыре ноги. Петух тоже не жаловался. Правда, он не преминул заметить, что его хвост напоминает метлу, бывшую в употреблении. Лошадь, которая все еще разглядывала свой портрет, бросила взгляд на портрет петуха и вдруг увидела нечто бесконечно ее огорчившее.
— Что я вижу? — сказала она. — Петух больше меня?
И действительно, на рисунке Дельфины, которая, возможно, была расстроена неудачным опытом с кузнечиком, лошадь едва занимала половину листа, в то время как петух, размашисто нарисованный Маринеттой, заполнял все пространство.
— Петух больше меня, это уж слишком.
— Ну да, конечно, больше, моя дорогая, — обрадовался петух. — Разумеется. Откуда вы свалились? Что касается меня, я и не надеялся, что сведу с вами счеты, всего-навсего поставив рядом наши портреты.
— А ведь и правда, — сказала Дельфина, сравнивая рисунки, — ты получилась меньше петуха. Я и не заметила, когда рисовала, но это неважно.
Она спохватилась, но было поздно, — лошадь обиделась. Она повернулась спиной, а когда Дельфина позвала ее, сухо ответила, не поворачивая головы:
— Ну что ж, пусть будет так. Я меньше петуха, но это неважно.
Не слушая объяснений девочки, она ушла, а на некотором расстоянии за ней следовал петух, все время повторяя: «А я больше тебя! А я больше тебя!»
В полдень, когда родители вернулись с поля, они увидели, что дети в кухне, и взгляды их сразу же обратились на передники девочек. К счастью, обе тщательно следили за тем, чтобы не посадить ни одного пятнышка на свою одежду. Когда родители спросили, чем они занимались, девочки ответили, что нарвали большую охапку клевера для кроликов и собрали две полные корзины фасоли. Родители убедились в том, что все это правда, и остались очень довольны, судя по их широким улыбкам. Если бы они взглянули на фасоль поближе, то несомненно были бы удивлены, обнаружив там собачью шерсть и утиные перья, но им не пришло это в голову. Они никогда не были в таком прекрасном настроении, как в тот день за обедом.
— Ну что ж! Мы очень довольны вами, — сказали они девочкам. — Вы собрали прекрасную фасоль, а кроликам теперь хватит еды по крайней мере на три дня, а поскольку вы так хорошо поработали…
В этот момент из-под стола донеслось какое-то бульканье; наклонившись, родители увидели под столом собаку, похоже было, что ей трудно дышать.
— Что с тобой?
— Ничего, — ответила собака (на самом деле она едва удерживалась, чтобы не рассмеяться, девочки испугались, что так оно и будет), — абсолютно ничего. Я просто подавилась. Знаете, как это бывает? Попадет не в то горло…
— Ну ладно, ладно. Довольно об этом. Так о чем мы говорили? Ах, да! Вы хорошо поработали.
Но и на этот раз они умолкли, потому что из дверей, к которым они стояли спиной, послышались какие-то сдавленные звуки, только более сдержанные. Это был селезень, который просунул голову в полуоткрытую дверь и так же, как и собака, не мог удержаться от смеха. Стоило родителям повернуть голову, как он исчез, но девочкам стало жарко.
— Это, должно быть, дверь скрипит от ветра, — сказала Дельфина.
— Очень возможно. Так, о чем это мы? Ах, да, о клевере и фасоли. Мы и вправду гордимся вами. Так приятно иметь послушных и трудолюбивых детей. Вы заслужили вознаграждение. Вы должны понять, что у нас и в мыслях не было отбирать у вас коробку с красками. Сегодня утром мы только хотели убедиться, что вы достаточно умные дети и поймете, что все это только для вашей же пользы. Мы довольны вами. А теперь можете идти рисовать до вечера.
Девочки поблагодарили родителей таким тихим голосом, который едва долетел до края стола. Родители же были в таком прекрасном настроении, что не обратили на это внимания и до конца обеда только и делали, что шутили, пели и загадывали загадки.
Потом все вышли из-за стола, и, пока девочки убирали посуду, родители пошли в хлев почистить осла, который должен был везти на поле мешки посевного картофеля.
— Осел, пора в путь.
— Очень сожалею, — сказал осел, — но у меня только две ноги, и я не могу быть вам полезен.
— Две ноги? Что ты плетешь?
— Увы! Это так. Две ноги. Мне и стоять-то трудно. Не знаю, как это удается вам, людям.
Родители подошли поближе и, внимательно оглядев осла, увидели, что у того действительно только две ноги — одна передняя и одна задняя.
— Однако странно. Еще утром у него были все четыре. Хм! Посмотрим-ка волов.
В хлеву было тёмно, и все сразу разглядеть было трудно.
— Эй, волы, где вы? — крикнули родители в глубину. — Не пойдете ли вы с нами в поле?
— Нет, не пойдем, — послышались из темноты их голоса. — Не хочется вас огорчать, но на самом деле нас вообще нет!
— Вас вообще нет?
— Посмотрите сами.
В самом деле, когда родители подошли ближе, то увидели, что в стойле никого нет. Если приглядеться, виднелись только две пары рогов, которые будто висели в воздухе над яслями для сена.
— Да что же это такое творится в хлеву? Можно с ума сойти. Пойдем посмотрим, как там лошадь.
Лошадь помещалась в глубине, где было темнее всего.
— Ну так что же, наша лошадка, ты пойдешь с нами в поле?
— С радостью, — ответила лошадь, — но если вы собираетесь меня запрягать, то хочу предупредить вас, что я стала совсем маленькой.
— Вот тебе раз! И тут новости. Совсем маленькой!
Пройдя в глубь хлева, родители ахнули. В полутьме, на соломенной подстилке, они увидели крошечную лошадку, которая была в два раза меньше петуха.
— Не правда ли, я очень мила? — спросила она со скрытой издевкой.
— Какое несчастье! — вырвалось у родителей. — Такая прекрасная лошадь и так хорошо работала. Что все-таки произошло?
— Не знаю, — уклончиво ответила лошадь, что наводило на размышления. — Я ничего не видела.
Они спросили остальных, но осел и волы ответили то же самое. Родители чувствовали — все что-то скрывают. Они вернулись в кухню и некоторое время подозрительно смотрели на девочек. Когда на ферме происходило нечто необычное, их первым побуждением было спрашивать именно с них.
— Ну-ка отвечайте, — сказали они детям, и голоса их были похожи на рычание страшного великана. — Что произошло сегодня утром, пока нас не было дома?
— Фасоль… мы собирали фасоль, — решилась прошептать Дельфина.
— И рвали клевер, — едва слышно проговорила Маринетта.
— Как получилось, что у осла только две ноги, волов вообще нет, а лошадь стала величиной с трехнедельного кролика?
— Вот именно, как это получилось? Сейчас же выкладывайте правду!
Девочки, которые не знали еще ужасной новости, были сражены, но тут же прекрасно поняли, почему все так произошло: сегодня утром они рисовали с таким усердием, что их представление о тех, кого они хотели запечатлеть, перешло на живые модели; это часто случается, когда рисуют впервые; со своей стороны, животные приняли все происходящее на лугу так близко к сердцу, они так долго и обстоятельно все обдумывали, что их новый облик быстро стал реальностью.
И наконец — в этом девочки были убеждены — большую роль сыграло их непослушание. Они были готовы броситься перед родителями на колени и во всем признаться, но тут увидели селезня, который стоял в дверях и подмигивал им, покачивая головой. Набравшись храбрости, они пробормотали, что сами ничего не понимают.
— У вас упрямые деревянные лбы. Ну что ж, прекрасно. Мы идем за ветеринаром.
Девочки задрожали. Ветеринар был человеком необыкновенно ученым. Можно было не сомневаться — он сразу же распознает причину. Девочкам так и слышалось: «Так, так, причину этого несчастья я усматриваю в рисовании; не рисовал ли кто-нибудь у вас сегодня утром?» Ну а дальше все ясно.
Как только родители ушли, Дельфина объявила селезню, что из всего этого может выйти и почему нужно опасаться ветеринарской учености. Селезень мигом нашел выход.
— Не будем терять время, — сказал он. — Берите краски и выпустите животных на луг. Что красками испорчено, красками должно быть и исправлено.
Прежде всего девочки решили вывести осла, но оказалось, это не так-то просто, поскольку ему было весьма трудно идти на двух ногах, не теряя равновесия, а когда они наконец пришли на луг, пришлось приладить ему под брюхо табурет, иначе он бы просто упал. С волами все было гораздо проще, нужно было только идти вместе с ними. Если бы в тот момент кто-то проходил по дороге, то был бы порядком удивлен, увидев в воздухе две пары рогов, которые пересекают двор, и, должно быть, решил, что у него плохо со зрением. Лошадь же, выйдя из хлева, сначала все боялась оказаться рядом с собакой, которая казалась ей огромным чудовищем, но вдруг расхохоталась.
— Какое все огромное вокруг меня, — воскликнула она, — все-таки забавно быть такой маленькой!
Однако настроение у нее тут же испортилось: как только бедную лошадку увидел петух, он с разъяренным видом подскочил к ней и прокричал в самое ухо:
— А-а, вот мы и встретились, сударыня! Надеюсь, вы не забыли, что я обещал задать вам трепку?
Лошадка задрожала всем телом. Селезень хотел уладить ссору, но не тут-то было; девочкам это тоже не удалось.
— А вот я его сейчас съем, — сказала собака.
Оскалив клыки, она бросилась на петуха, и тот удрал так поспешно и так далеко, что еще три дня его никто не видел, а если и видели, то с понурой головой.
Как только все собрались на лугу, селезень откашлялся, прочищая горло, и обратился к лошади, ослу и волам:
— Дорогие старые друзья, вы и представить себе не можете, как мне горько видеть вас в подобном положении. Грустно думать, что такие прекрасные белые волы, которые всегда радовали глаз, нынче как бы не существуют; что наш осел, прежде такой грациозный, влачит жалкое двуногое существование, а наша прекрасная большая лошадь превратилась в какую-то скорченную фитюльку. У меня от всего этого сердце щемит, однако заверяю вас — ия совершенно уверен в том, что говорю, — эта нелепая история — результат плохого взаимопонимания. Да, да, именно так, плохого взаимопонимания. У девочек и в помине не было обижать кого бы то ни было — напротив. То, что все произошло по их вине, печалит их не меньше, чем меня, и я уверен, что и вы со своей стороны пребываете в сильном унынии. Так не упрямьтесь же! Пусть девочки вернут вам обычный вид.
Но животные враждебно молчали. Вперив глаза в землю, осел хмуро разглядывал свое единственное переднее копыто. Лошадь, у которой сердце все еще колотилось от страха, казалось, вообще не была способна что-либо понять. Волы же, поскольку их не было вовсе, выглядели никак — одни рога, но хоть эти рога и были лишены какого бы то ни было выражения, они хранили многозначительную неподвижность. Первым отозвался осел.
— У меня две ноги, — сухо сказал он. — Что ж, две так две. Незачем что-либо менять.
— А нас вообще нет, — сказали волы, — а потому — что мы можем?
— А я совсем маленькая, — сказала лошадь. — Это еще хуже.
Дело не сдвигалось с места, наступило гнетущее молчание. Тут собака, разозлясь на них за несговорчивость, обернулась к девочкам и проворчала:
— Вы слишком добры к этим скверным животным. Предоставьте действовать мне. Я сейчас возьму да хорошенько их искусаю!
— Искусать нас? — сказал осел. — О! прекрасно! Посмотрим, как у нее получится!
И он засмеялся, а волы и лошадь присоединились к нему.
— Вы, конечно, понимаете, что это шутка, — поспешил уладить дело селезень. — Собака просто решила всех нас развеселить. Но вы не знаете всего. Слушайте же! Родители отправились за ветеринаром. Меньше чем через час он будет здесь и осмотрит вас — он без труда поймет, что произошло. Родители запретили девочкам рисовать сегодня утром. И если вы будете продолжать вести себя таким образом, на них будут кричать, их накажут, а может, даже выпорют.
Осел посмотрел на Маринетту, лошадь на Дельфину, а рога повернулись в воздухе в сторону девочек.
— Конечно, — прошептал осел, — лучше ходить на четырех ногах, чем на двух. Куда удобнее.
— Когда вместо тебя видят только пару рогов, в этом тоже ничего хорошего нет, — сознались волы.
— Смотреть на всех немножко свысока — все-таки довольно приятно, — вздохнула лошадь.
Увидев, что дело приняло нужный оборот, девочки открыли краски и принялись за работу. Маринетта нарисовала осла и на этот раз была внимательнее — изобразила все четыре ноги. Дельфина нарисовала лошадь во весь рост, а петуха уменьшила до его настоящих размеров. Работа продвигалась. Селезень очень радовался. Когда портреты были закончены, оба — осел и лошадь — заверили всех, что теперь они очень довольны рисунками. Однако недостающие две ноги у осла не появлялись, а лошадь не увеличилась в размерах. Это было большим разочарованием, а селезень стал беспокоиться. Он спросил у осла, не чувствует ли тот хотя бы зуда в том месте, где должны быть недостающие ноги, а у лошади — не тесно ли ей в ее шкуре. Но они ничего не чувствовали.
— Нужно подождать, — сказал селезень девочкам. — Пока вы рисуете волов, все будет в порядке, я уверен.
Дельфина и Маринетта стали рисовать каждая одного вола, начиная с рогов, а затем просто по памяти, надеясь, что она их не подведет. Они взяли для этого серую бумагу, на которой белые волы были прекрасно видны. Волам тоже очень понравились их портреты — они нашли их очень похожими. Тем не менее, по-прежнему, кроме рогов, ничего не было видно. Лошадь и осел не чувствовали никаких признаков того, что скоро они приобретут свой обычный вид. Селезень с трудом скрывал тревогу, даже его красивые перья потускнели.
— Подождем еще, — говорил он, — подождем.
Прошло четверть часа, но все оставалось по-прежнему. Увидев голубя, что-то клевавшего на лугу, селезень направился к нему переговорить.
Голубь улетел, но скоро вернулся и уселся на рог одного из волов.
— Я видел машину, которая проезжала мимо высокого тополя, — сказал он. — В ней родители и какой-то человек.
— Ветеринар! — вскричали девочки.
Конечно, это мог быть только он, и машина скоро будет здесь. Дело нескольких минут. Видя испуг девочек и представив себе, как рассердятся родители, животные совсем загрустили.
— Ну давайте же, — уговаривал селезень, — еще одно усилие. Подумайте о том, что все произошло по вашей вине, просто потому, что вы слишком обидчивые.
Осел сильно встряхнулся, чтобы вытрясти еще две ноги, волы напряглись изо всех сил, чтобы стать видимыми, а лошадь сделала глубокий вдох, чтобы раздуться, но ничего не помогало. Бедные животные чувствовали себя очень неловко. И тут они услышали шум машины на дороге — надеяться больше было не на что. Девочки побледнели и дрожали от страха в ожидании всезнающего ветеринара. Осел так расстроился, что приковылял на двух ногах к Маринетте и стал лизать ей руку. Ему хотелось попросить у нее прощения, сказать какие-нибудь ласковые слова, но он был слишком взволнован, голос у него срывался, из глаз потекли слезы и закапали на портрет. Эти слезы шли из глубины сердца. Едва они упали на бумагу, как осел почувствовал боль в правом боку и тут же оказался на всех четырех ногах. Это очень подбодрило всех остальных, и у девочек появилась надежда. По правде сказать, времени почти не оставалось, потому что машина была метрах в ста от фермы. Но селезень понял, что надо делать. Он взял в клюв портрет лошади, сунул ей под самый нос и очень обрадовался, когда на него упала слеза. Лошадь стала увеличиваться в размерах прямо на глазах, и не успели они сосчитать до десяти, как она стала такой же большой, как прежде. Машина была уже метрах в тридцати от фермы.
Волы, всегда немного медлительные, неторопливо подошли к своим портретам. Один из них, которому удалось уронить слезу, обрел очертания в тот самый момент, когда машина въезжала во двор. Девочки захлопали в ладоши, но селезень все еще был обеспокоен. Другой-то вол оставался невидимым. Он бы и рад был помочь, но не мог выжать ни слезинки. Всех его чувств и стараний хватило лишь на одну капельку, едва увлажнившую ресницы.
Времени было в обрез, поскольку пассажиры уже выходили из машины. По указанию селезня собака побежала им навстречу, чтобы как-то оттянуть время; она так радушно бросилась к ветеринару, что сбила его с ног и тот плюхнулся носом в пыль.
Родители бегали по двору в поисках палки, которую они поклялись сломать о спину собаки. Потом они заботливо помогли ветеринару встать на ноги и отряхнули с него пыль. Все это заняло несколько минут.
А в это время на лугу все собравшиеся с тревогой смотрели на рога второго вола, которого так и не было. Бедняга хоть и старался от всего сердца, но никак не мог заплакать.
— Простите меня, — сказал он девочкам, — у меня ничего не получится.
Все растерялись. Даже селезень и тот не знал, что делать. Сохранял хладнокровие лишь другой вол, уже имевший обычный вид. Ему пришла в голову мысль спеть своему другу песенку, которую они когда-то распевали вместе, в те времена, когда оба были телятами. Эта песенка начиналась так:
Песенка была такая тоскливая, что навевала на слушателей печаль. В самом деле, уже с первого куплета появился кое-какой результат. У вола, для которого пелась песенка, вздрогнули рога. Когда были пропеты последние строчки, у него появилась в глазу одна-единственная слезинка, но такая крохотная, что она никак не могла пролиться. К счастью, Дельфина заметила ее и, сняв кончиком кисточки, перенесла на портрет. В ту же секунду вол появился — его можно было увидеть и потрогать. И вовремя. Родители с ветеринаром были уже на лугу. Увидев волов, осла, прочно стоящего на четырех ногах, и лошадь натуральной величины, они остолбенели от удивления. Ветеринар, у которого, после того как его сбили с ног, испортилось настроение, спросил, усмехаясь:
— Так-так, значит, это и есть волы, которых нету, осел, у которого исчезли две ноги, и лошадь, которая стала величиной с кролика? Судя по тому, что я вижу, не похоже, чтобы они мучились от того, что с ними произошло.
— Мы ничего не можем понять, — бормотали родители. — Только что в хлеву…
— Вам это пригрезилось, а может, вы так плотно поужинали, что вам изменило зрение.
Мне кажется, вам стоит вызвать врача. Во всяком случае, не могу понять, зачем побеспокоили меня. Никак не могу понять!
Поскольку бедные родители стояли понурив головы и твердили извинения, ветеринар смягчился и добавил, показывая на Дельфину и Маринетту:
— Ну что ж, на этот раз, пожалуй, простим вас — я смотрю, у вас две такие славные девочки. Сразу видно — умные и послушные. Правда, малышки?
Девочки покраснели и собрались вроде что-то сказать, но тут селезень, нисколько не смущаясь, ответил:
— О да, месье! Послушней не бывает.
ЛЕБЕДИ
Родители собрались в путь рано и, уезжая, сказали дочерям:
— Мы вернемся поздно вечером. Не шалите тут без нас, а главное — не уходите далеко от дома. Можете играть во дворе, на лугу и в саду, но ни в коем случае не переходите через дорогу. А не то — берегитесь! — И посмотрели на девочек ужасно строго.
— Не беспокойтесь, — ответили им Дельфина и Маринетта, — мы не будем переходить через дорогу.
— Ну посмотрим! — сказали родители. — Посмотрим!
Они уехали, напоследок бросив на своих дочерей взгляд суровый и подозрительный. Девочкам поначалу было немного не по себе, но, поиграв во дворе, они обо всем забыли. Около девяти часов утра девочки — разумеется, совершенно случайно! — оказались возле самой дороги, которую, впрочем, ни та, ни другая переходить не собирались. Но вдруг Маринетта заметила маленького белого козленка, который шагал по ту сторону дороги. И не успела Дельфина остановить сестру, как та быстро перескочила через дорогу и оказалась возле козленка.
— Здравствуй, — сказала Маринетта.
— Здравствуй, здравствуй, — ответил козленок, не останавливаясь.
— Как ты быстро! Куда ты идешь?
— Я иду на Место Встречи Ничьих Детей. Некогда мне разговаривать.
И белый козленок вошел в поле пшеницы, которая была такой высокой, что совершенно его скрыла. Девочки были очень озадачены. Они бы, конечно, вернулись к дороге, но вдруг увидели недалеко двух маленьких, желтых и пушистых утят. Они, казалось, очень спешили.
— Здравствуйте, утята, — сказали девочки, подбегая к ним.
Утята остановились, припав к земле. Казалось, они были не прочь отдохнуть.
— Здравствуйте, девочки, — сказал один из них. — Не правда ли, хорошая погода? Жарковато, правда. Мы с братцем так устали!
— Да и правда. А вы издалека?
— Издалека! А осталось идти еще больше.
— Но куда вы идете?
— Мы идем на Место Встречи Ничьих Детей. Ну вот отдохнули — и в путь. Опаздывать никак нельзя!
Дельфина и Маринетта, по правде говоря, ничего не поняли, но утята были уже далеко и вскоре тоже скрылись в поле пшеницы. Девочкам очень хотелось пойти за ними, и они минутку колебались, но вспомнили о родителях и о том, что дорогу-то переходить нельзя! По правде говоря, вспомнили они об этом довольно поздно, потому что дорога была уже далеко. А когда они совсем было решили вернуться, Дельфина показала сестре белое пятнышко, которое перемещалось по лугу вдоль кромки леса. Разве можно было не посмотреть, что это там такое? А это оказался белый щенок, совсем маленький, размером в полкошки, он изо всех сил ковылял в траве. Но его лапы были еще очень слабыми, он спотыкался на каждом шагу. Девочкам он ответил:
— Я иду на Место Встречи Ничьих Детей, но боюсь, что не успею. Представляете, нужно прийти в полдень, а на таких лапах, как у меня, я иду медленно и очень устал.
— А что ты будешь делать, когда придешь на Место Встречи Ничьих Детей?
— Сейчас расскажу. Когда нет родителей, как вот у меня, то там можно найти семью. У меня есть один знакомый щенок, так его в прошлом году усыновил лис. Но я, кажется, все равно опаздываю.
Вдруг белый щенок заметил стрекозу и, вскочив, стал лаять и прыгать, три раза перевернулся через голову, покатился по траве и в конце концов остановился, тяжело дыша и высунув язык.
— Вот видите, — сказал он, отдышавшись, — я еще и отвлекаюсь на каждом шагу. Но что я могу поделать.
Я же не нарочно. Я ведь еще маленький. Только из-за этого я уже и не надеюсь прийти вовремя. И думать нечего. Если бы мне такие большие ноги, как у вас, тогда другое дело.
Щенок грустно вздохнул, а Дельфина и Маринетта посмотрели друг на друга, потом — на дорогу, которая была уже далеко.
— Послушай, щенок, — сказала наконец Дельфина, — а если я отнесу тебя на Место Встречи Ничьих Детей, тогда ты успеешь?
— Еще бы! — обрадовался белый щенок. — С такими-то ногами!
— Ну тогда в путь! Чем быстрее мы пойдем, тем быстрее вернемся. А где это твое Место Встречи?
— Не знаю, я там еще никогда не был. Видите, перед нами летит сорока? Вот она мне и показывает дорогу. Вы можете идти за ней. Она приведет вас прямо на место.
Дельфина и Маринетта пустились в путь, по очереди неся щенка. Сорока летела перед ними, она то вдруг садилась на тропинку или на луг, то опять поднималась. Белый щенок заснул сразу, как только Дельфина взяла его на руки, и спал всю дорогу. Он проснулся только часа через два, когда девочки подошли к большому пруду. Сорока села на плечо Маринетте и сказала:
— Стойте там, в камышах. За вами придут. Ну, счастливо!
Сорока улетела, а девочки, осмотревшись, увидели, что они здесь были не одни. На берегу пруда стояло много молодых животных, и постоянно подходили все новые. Тут были ягнята, козлята, котята, утята, цыплята, щенки, зайчата и много других. Уставшие от долгого пути девочки присели на траву, и Дельфина начала уже было дремать, как вдруг Маринетта закричала:
— Смотри-ка, лебеди!
Дельфина открыла глаза и увидела сквозь камыши, как два лебедя плыли к ним от острова, а навстречу этим лебедям плыли другие, и у каждого на спине сидел утенок. Немного дальше два других лебедя тащили плот, на нем стоял ревущий от страха теленок. По всему пруду плыли большие белые птицы. Девочки не переставали ими любоваться. Вдруг из камышей вынырнул большой белый лебедь. Подплыв к девочкам, он строго посмотрел на них и сухо спросил:
— Ничьи Дети?
— Да, — ответила Маринетта, показав на белого щенка, спавшего у нее на коленях.
Повернув голову, лебедь издал свистящий звук, и почти тотчас к ним подплыли два других лебедя с плотом.
— Поднимайтесь, — скомандовал тот, который, видимо, должен был следить за погрузкой.
— Но… послушайте, — попыталась было возразить Дельфина, — я вам сейчас все объясню…
— Некогда сейчас, — отрезал лебедь. — Объясните на острове, если захотите. Ну быстрее!
— Но, позвольте сказать…
— Молчи!
Лебедь вытянул свою длинную шею и, казалось, готов был укусить девочек за ноги.
— Ну быстрее, — сказал один из лебедей, впряженных в плот, — будьте умницами. Нам нельзя терять ни минуты.
Испуганные девочки не осмеливались больше возражать и поднялись на плот. Лебеди поплыли к острову. Поездка, впрочем, была довольно приятной, и девочки уже ни о чем не жалели. Навстречу им с острова плыли лебеди, которые, без сомнения, только что высадили там своих пассажиров. Другие лебеди с котенком или поросенком на спине плыли к острову. Белый щенок так был рад прогулке, что несколько раз чуть не свалился с плота, намереваясь, видимо, немного порезвиться в воде.
Путешествие длилось немногим более четверти часа. Оказавшись на острове, девочки слезли с плота, и лебедь отвел их к большой березе, запретив куда-либо уходить без разрешения. В группе животных, которые стояли там же, Дельфина и Маринетта увидели знакомого козленка, двух утят и еще многих других. Маринетта насчитала около сорока малышей, а лебеди подвозили все новых и новых. Малыши мечтали о семье и от волнения стояли тихо-тихо.
На другом конце острова виднелась группа других животных. Было ясно, что они уже большие и взрослые, хотя кусты мешали рассмотреть их как следует. Зато девочкам хорошо было слышно, как они болтают.
Вскоре Дельфина увидела старого лебедя, который топтался перед малышами и, видимо, должен был их опекать. Он ходил, покачивая головой, и вид у него был довольно добродушный. Видя, что его подзывает Дельфина, он подошел и ласково произнес:
— Здравствуйте, дети. Какой славный весенний денек, не правда ли? Вам нравится?… Но должен вас предупредить, я не очень хорошо слышу.
— Мне нужно вам сказать, что мы с сестрой хотели бы вернуться домой.
— О спасибо, для моего возраста я чувствую себя превосходно, — ответил лебедь, который и в самом деле слышал не очень хорошо.
— Нам нужно вернуться домой, — сказала Дельфина как можно громче.
— В самом деле начинает припекать.
Тогда Дельфина прокричала изо всех сил прямо в ухо старому лебедю:
— Нам некогда ждать! Нам нужно вернуться домой!
Она еще не кончила, как тот самый лебедь, который вез их на плоту, выглянул из-за кустов и проворчал:
— Опять эти девчонки! Только их и слышно, боже мой! Они уже начинают надоедать.
— Моя сестра хотела сказать… — начала было Маринетта.
— Да замолчите вы, невоспитанные девчонки! А то я брошу вас рыбам в пруд. На место, обе!
Лебедь удалился, оборачиваясь время от времени и бросая свирепые взгляды. Девочки не надеялись уже, что их услышат, и, разморенные жарой, уснули под березой.
Проснувшись, они были очень удивлены. В нескольких шагах от группы малышей, повернувшись к ним спиной, полдюжины лебедей — три справа и три слева — сидели на холмике, который образовал нечто вроде эстрады. Перед ними, выстроившись в ряд, стояли взрослые животные, которые только что болтали на другом конце острова. Свиньи, зайцы, утки, кабаны, олени, быки, козы, лисы, журавль и даже одна черепаха. Все они смотрели на холм и, казалось, кого-то ждали. И вот наконец вышел лебедь, сел между своими братьями и, поприветствовав собравшихся, сказал:
— Друзья, вот мы опять собрались с вами на Встречу Ничьих Детей. Благодарю, что вы не забыли о ней. Выбор большой, думайте не только о своих вкусах, но и о своих возможностях! Итак, начинаем.
Первым на холм поднялся ягненок, которого тут же усыновил большой бык, стоявший в самом первом ряду. Потом семейство кабанов решило взять поросенка. И все шло своим чередом, без происшествий, до тех пор пока какой-то старый лис не пожелал усыновить двух утят, тех самых, которых девочки встретили утром.
— Им не найти лучшего отца, чем я, — провозгласил он, — вы можете поверить, что я окружу их самой большой заботой!
Лебедь, который открыл собрание, шепотом посовещался со своими братьями и ответил ему:
— О лис, я не хочу сомневаться в твоих намерениях по отношению к этим малышам. Более того — я даже убежден, что ты готов окружить их самой большой заботой, боюсь только, что их счастье будет недолгим. Два утенка — это слишком большое искушение для лиса.
При этих словах Дельфина и Маринетта почувствовали большое облегчение, — ведь если никто не захочет их удочерить, значит, их отпустят домой. В последнем ряду они заметили белого щенка, который спал в окружении своей новой семьи, и девочки подумали: хорошо, что он уснул, а то бы, чего доброго, упросил своих приемных родителей-бульдогов, чтобы те их тоже удочерили!
— Ну что, — спросил лебедь, — так никто и не решится их взять? Но нельзя же в самом деле, чтобы две маленькие девочки остались без семьи. Послушай, лис, ты так хотел усыновить утят, может быть, ты лучше что-нибудь сделаешь для этих детей?
— Я бы с радостью, — ответил лис, — но, видите ли, я слишком добрый. Боюсь, что мне не хватит строгости, чтобы правильно воспитать двух таких непоседливых девочек. Нет, я, пожалуй, их не возьму. Мне очень жаль, но, право же, так будет лучше для них.
Тогда лебедь обратился к оленю, который только что усыновил олененка.
— Я было подумывал о том, чтобы взять их, — ответил олень, — но с моей стороны это было бы безумием. Подумайте только: я живу на бегу, спасаясь от людей, собак и ружей. Нет, не могу. Очень сожалею. Они так очаровательны.
Лебедь спрашивал и других, но никто так и не решился взять девочек. Тогда черепаха, сидевшая в первом ряду, вытянула шею из панциря и медленно сказала:
— Раз никто не хочет, тогда я их беру.
Это предложение вызвало взрыв смеха у животных. И сами девочки не могли не улыбнуться при мысли о том, что могли бы стать дочерьми черепахи. Успокоив всех, лебедь сердечно поблагодарил черепаху за доброту и все же, стараясь не обидеть, дал ей понять, что она слишком мала, чтобы воспитывать таких больших девочек, и слишком медленно ходит. Черепаха ничего не возразила, но втянула голову в панцирь с таким видом, что всем стало понятно: она все-таки обиделась. Никто не хотел брать девочек себе, и лебедь стал тихо совещаться со своими братьями. Дельфина и Маринетта, которые видели себя уже свободными, только радовались этому замешательству. Лебедь вернулся на место и провозгласил:
— Мои братья и я, мы сами удочерим этих девочек. Мы постараемся справиться с этими непослушными и невоспитанными детьми. Я думаю, в будущем году, когда мы все снова соберемся на нашу Встречу Ничьих Детей, вы их просто не узнаете.
Девочки попытались было снова объясниться, но их не стали слушать, а велели спуститься с холма и отвели в дальний конец острова, где они снова попали под наблюдение старого лебедя. Издалека они могли видеть, как другие звери разъезжаются, переправляются через пруд.
— Когда переправа окончится, — сказала Дельфина своей сестре, пытаясь ее успокоить, — лебеди вернутся на остров и, наверное, выслушают нас. Ну сколько можно затыкать нам рот!
— А время идет, — ответила Маринетта. — Родители скоро отправятся в обратный путь и наверняка вернутся домой раньше нас… А они запретили нам переходить дорогу. Ох, лучше об этом и не думать.
Часам к четырем вечера все животные переправились на берег, но лебеди, похоже, возвращаться не спешили. Они ловили рыбу вдалеке, а остров был по-прежнему пуст. Дельфина и Маринетта беспокоились все больше и больше. Видя, что девочки загрустили, старый лебедь попытался их развеселить.
— Вы не можете себе представить, как я вам рад, — говорил он. — Я уже чувствую, что мы с вами поладим. Может быть, сегодня вам и не очень весело. Но вас оставили на острове, чтобы вы отдохнули, а завтра мы будем плавать, ловить рыбу. Сами увидите, как здесь чудесно. Но вы, наверное, хотите есть?
В самом деле девочки были голодны — они ведь ничего не ели с самого утра. Лебедь попросил их немного подождать и через несколько минут вернулся с рыбиной в клюве.
— Вот, — сказал он, кладя ее перед девочками. — Ешьте, пока она живая. А я вам еще поймаю.
Но девочки попятились, дружно тряся головами, а Маринетта взяла рыбину и выпустила ее обратно в пруд. Лебедь очень удивился.
— Ну как можно не любить рыбу? — воскликнул он. — Так приятно чувствовать, как она трепещет в горле. Ну ладно, придется предложить вам что-нибудь другое.
Но девочки были так обеспокоены, что уже не чувствовали голода. Они видели, как на том берегу пруда солнце уже заходит за лес. Наверное, было часов шесть вечера, и родители уже направлялись к дому. Испуганные Дельфина и Маринетта стали плакать.
При виде их слез старый лебедь, совершенно потеряв голову, стал кружить вокруг них.
— Ну что с вами? Что случилось? Как плохо быть старым и ничего не слышать! Такие хорошенькие девочки! Но постойте: у меня есть идея. Пошли за мной. На воде я слышу все, что мне говорят!
Лебедь вошел в пруд, и пока он стоял, опустив клюв в воду, Дельфина рассказала ему, как, не послушав родителей, они с Маринеттой перешли через дорогу и что из этого вышло. Когда лебедь все это услышал, он выплыл на середину пруда и зашипел изо всех сил. И тут же лебеди, ловившие неподалеку рыбу, собрались в кружок вокруг него.
— Несчастные бездельники! — закричал им старый лебедь, весь дрожа от гнева. — Гнать вас всех отсюда надо. Вы — позор нашего рода. Вот две девочки, которые были так добры, что принесли сюда маленького несчастного щенка, а вы отблагодарили их тем, что не выпускаете отсюда и не даете им рта раскрыть!
Лебедям стало стыдно, они опустили головы.
— Если только девочкам из-за вас попадет от родителей — берегитесь! — произнес старый лебедь, увлекая всех остальных к острову.
Когда все приблизились к Дельфине и Маринетте, он закричал:
— А ну просите прощения!
Поднявшись на берег, лебеди встали перед девочками и одновременно склонили свои длинные шеи. Дельфине и Маринетте стало даже неловко.
— А теперь приготовьте плот и не теряйте ни минуты. Мы повезем девочек по каналу до реки и поднимемся по реке до моста, как можно ближе к дороге. Не бойтесь, мы проводим вас до дома. Ну быстрее, бездельники!
Лебеди очень торопились, и вскоре плот был готов. В него было запряжено пять лебедей, а шесть других плыли впереди, расчищали путь и отклоняли ветки, которые могли бы помешать переправе. Старый лебедь плыл возле плота и за всем наблюдал. Когда лебеди вошли в канал, они, обеспокоенные тем, что старый лебедь очень устал, хотели было отсоветовать ему плыть со всеми. «В таком возрасте, — говорили они, — путешествие может стать опасным!» Дельфина и Маринетта тоже стали просить его вернуться на остров.
— И не пытайтесь остановить меня, — отвечал тот. — Какое значение имеет жизнь старого лебедя, если у двух девочек могут быть неприятности? Ну быстрее, быстрее, скоро уже будет темно.
В самом деле солнце скрылось, и над прудом опустился вечер. Идя по течению, плот быстро прошел канал. Пять лебедей не жалели сил. Старый лебедь совсем запыхался, но, когда его пытались остановить, сердито кричал:
— А ну быстрее, копуши, а то девочек из-за вас будут ругать.
Когда плот вошел в реку, было уже совсем темно. Лебедям пришлось бороться против сильного течения. К счастью, вскоре взошла луна, и плыть стало легче. Наконец старый лебедь дал команду пристать к берегу. Видя, как он устал, Дельфина и Маринетта стали уговаривать его, отдохнуть, но тот и слушать ничего не хотел.
— Нельзя терять времени, боюсь, как бы мы не опоздали.
Девочки вышли на дорогу и чуть было не вскрикнули: в ста метрах впереди них по направлению к дому шли родители. В руках они несли корзинки.
Старый лебедь сразу все понял. Он провел девочек к другой стороне дороги, вдоль которой тянулась изгородь, и тихо сказал:
— Если вы пойдете вдоль этой изгороди, то вскоре опередите родителей. Когда будете рядом с домом, мы постараемся отвлечь их как-нибудь, чтобы вы могли перейти дорогу. А сейчас главное — уйти вперед.
Девочки и хотели бы послушаться его совета, но они так устали и были так голодны, что ноги их совсем не слушались. Дельфина и Маринетта шли гораздо медленнее, чем их родители. Расстояние между ними увеличивалось.
— Да, это усложняет дело, — прошептал старый лебедь. — Нужно выиграть время. Позвольте мне!
И он побежал за родителями, крича им:
— Добрые люди! Вы ничего не потеряли по дороге? Родители остановились и при свете луны стали рыться в корзинках, проверяя, все ли на месте. Старый лебедь больше не бежал, наоборот, он старался идти как можно медленнее, чтобы девочки смогли наконец перегнать родителей. А те уже начинали нервничать.
— Ничего не потеряли? — спрашивал их лебедь. — А то я нашел на дороге красивое белое перо, а раз оно не мое, я подумал, что, может быть, это вы его потеряли?
— Ты что, считаешь нас дураками вроде тебя? Думаешь, мы носим перья? — сказали рассерженные родители, удаляясь.
Старый лебедь перешел на другую сторону дороги. Девочки теперь были немного впереди родителей, но те шли гораздо быстрее и вскоре должны были догнать и перегнать детей. Лебедь уже шатался от усталости. Но, подбодрив Дельфину и Маринетту, он еще нашел в себе силы бежать впереди всех. Девочки увидели, что молчаливая стая больших птиц вдруг исчезла. А родители продолжали свой путь и разговаривали о дочерях, которые ждут их дома.
— Надеемся, что они вели себя хорошо и не выходили на дорогу, — говорили они.
У Дельфины и Маринетты, которые все это слышали, ноги подкосились от страха. Вдруг родители остановились и открыли рты от изумления: впереди них посреди дороги двенадцать белых лебедей танцевали при свете луны. Они расходились по двое, кружились, взмахивали крыльями, выстраивались в круг, их длинные шеи вытягивались, и двенадцать голов касались друг друга кончиками клювов. Птицы вращались так быстро, что сливались в большое белое облако. Или это был снежный вихрь?
— Как красиво! — сказали родители. — Жаль только, времени нет. И так уже поздно.
Пройдя мимо лебедей, они продолжали свой путь, не оборачиваясь. По другую сторону изгороди девочки, ушедшие немного вперед, опять слышали шаги родителей и уже потеряли всякую надежду вернуться домой раньше них. Старый лебедь оторвался от своих товарищей и пытался бежать рядом с девочками, чтобы их подбодрить, но он так устал, что спотыкался на каждом шагу и чуть было не падал. После долгого пути этот танец совсем измучил его. Когда наконец, на исходе сил, он догнал девочек, родители уже были недалеко от дома.
— Не бойтесь, — сказал он, — вас не будут ругать. А я сейчас должен уйти. Мои друзья станут вас охранять. Обещайте слушаться их во всем. Они помогут вам перейти дорогу, когда наступит подходящий момент.
Он отошел от изгороди, затем, собрав последние силы, перебежал через дорогу. Старый лебедь чувствовал, что ноги становятся ватными, и, дойдя до луга, он упал, чтобы уже никогда не подняться. Тогда — как все лебеди перед смертью — он запел. Песня его была такой прекрасной, что у всех, кто ее слышал, наворачивались на глаза слезы. Родители, взявшись за руки, повернулись спиной к дому. Они шли по лугу и слушали этот голос. И уже после того как затих последний звук, они все шли по росе и не думали возвращаться.
Дельфина и Маринетта шили на кухне при свете лампы. Стол был накрыт к ужину, и в очаге горел огонь. Войдя, родители поздоровались так тихо, что девочки едва их услышали. Глаза родителей были влажными и — что совсем странно — смотрели куда-то вверх.
— Какая жалость, — сказали они девочкам. — Какая жалость, что вас сейчас не было на дороге. Лебедь пел на лугу.
ЛОШАДЬ И ОСЛИК
Дельфина и Маринетта уже лежали в своих кроватках, но луна так ярко светила в окно что девочки никак не могли уснуть.
— А знаешь, кем я хочу быть? — спросила Маринетта, приподняв светловолосую головку с подушки. — Лошадкой! Да, белой лошадкой. У меня будет четыре хорошеньких копыта, грива, настоящий хвост, и я буду быстрее всех бегать. Хорошо я придумала?
— А я… — задумалась Дельфина. — Нет, мне что-нибудь другое. Я буду просто серым осликом с белым пятнышком на голове. Но у меня тоже будет четыре копыта, а еще длинные уши — я научусь ими шевелить! — и добрые глаза.
Они еще немножко поговорили и уснули, и очень им хотелось, чтобы Маринетта стала лошадкой, а Дельфина осликом с белым пятнышком на голове. Через час спряталась и луна. Настала ночь, такая темная и страшная, какой раньше никогда не бывало. Назавтра многие в деревне говорили, что слышали в темноте тихую музыку и завывание бури, хотя никакого ветра и в помине не было. Кот, которому на самом деле многое было известно, ночью несколько раз подходил к окнам девочек и громко-громко звал их. Но они спали так крепко, что ничего не слышали. Кот посылал и собаку, но у той тоже ничего не вышло.
Утром, когда Маринетта открыла глаза, ей вдруг почудилось: на подушке, там, где должна быть голова сестры, лежали два длинных серых уха. А сама Маринетта чувствовала себя как-то странно, словно плохо выспалась, и ей почему-то мешали простыни и одеяло. Но все же сон взял верх над любопытством, и она снова закрыла глаза. А потом и Дельфина спросонок взглянула на кровать сестры, какую-то невероятно огромную, и тоже уснула. Но вскоре девочки проснулись окончательно и прежде всего покосились на свои ноги, которые как-то странно удлинились и вообще были не такими, как раньше. Повернув голову к кровати Маринеты, Дельфина вскрикнула: вместо светловолосой головки сестры на подушке лежала лошадиная голова! Но и Маринетта очень удивилась, когда увидела перед собой морду ослика. И тоже вскрикнула. Две сестрички, вытянув шеи, во все глаза всматривались друг в друга и с трудом понимали, что с ними произошло. Каждая думала: что за странное животное лежит в кровати сестры? Маринетта даже засмеялась, но, когда взглянула на себя и увидела лошадиные ноги с копытами, она сразу поняла, что желания, о которых они говорили вечером — увы! — осуществились. Дельфина разглядела свою серую шерстку, копыта, а на белом одеяле тень ушастой головы и тоже все поняла. И тяжело вздохнула.
— Это ты, Маринетта? — спросила она сестру таким слабым и дрожащим голоском, что сама его не узнала.
— Да, — ответила Маринетта. — А это ты, Дельфина? Не без труда они вылезли из кроватей и встали на свои копыта. Дельфина, превратившаяся в хорошенького ослика, была на целую голову меньше своей сестры, которая стала крупной и сильной лошадью.
— Какая у тебя красивая шерстка, — сказала Дельфина сестре, — а если бы ты видела свою гриву, она бы тебе понравилась.
А бедная лошадь грустно смотрела на платье, которое вечером повесила на спинку стула у своей кровати, и когда она подумала, что, может быть, никогда уже не сможет его надеть, то задрожала всем телом. Ослик пытался ее успокоить, но, видя, что никакие слова не помогают, просто пощекотал лошадиную шею большими мягкими ушами. Когда мама вошла в комнату, они стояли совсем рядом, лошадь склонила шею к голове ослика, глаза их были опущены. Маме показалось странным, что ее дочери додумались привести в свою комнату этих животных. Да чьи они? Мама была очень недовольна.
— И где же мои глупышки? Наверное, спрятались где-нибудь.
А вот их платья висят на стульях. Ну выходите! Некогда мне с вами играть…
Никого не увидев, она стала ощупывать кровати и, когда наклонилась, чтобы заглянуть под них, услышала тихий шепот:
— Мама… мама…
— А, слышу, слышу. Ну выходите. Я не очень-то вами довольна!
— Мама… — Снова услышала она.
Это были слабые, хриплые голоса, которые она с трудом узнала. Не найдя дочерей в комнате, она повернулась, чтобы расспросить странных животных, но лошадь и ослик смотрели на нее такими грустными глазами, что она очень удивилась. Ослик заговорил первым.
— Мама, — сказал он, — не ищи здесь ни Маринетты, ни Дельфины. Видишь лошадь? Это Маринетта, а я — Дельфина.
— Это что еще за глупости? Неужели я не вижу, что вы вовсе не мои дочери!
— Мама, — сказала Маринетта, — мы и есть твои дочери.
Но наконец бедная мать и сама узнала голоса Маринетты и Дельфины. Низко опустив голову, она заплакала вместе с ними.
— Постойте-ка тут немного, — сказала она. — Сейчас схожу за отцом.
Пришел папа и тоже заплакал, а потом стал думать, что же теперь делать, раз уж такое случилось. Ну прежде всего им нельзя было больше жить в своей комнатке, она была слишком мала для таких больших животных. Значит, их нужно будет отвести в конюшню, там есть свежая подстилка и кормушка с сеном. Отец вывел их во двор и, взглянув на лошадь, рассеянно пробормотал:
— Красивое все-таки животное…
Погода была солнечная, ослик и лошадь не захотели долго оставаться в конюшне, а пошли на луг, там они щипали траву и говорили о том, какими были раньше.
— А помнишь, — сказала лошадь, — когда мы еще были девочками и играли на этом лугу, однажды пришел гусь и отнял у нас мячик.
— Да, и стал щипать нас за ноги.
И они опять горько заплакали.
Во время обеда, когда родители сидели за столом, ослик и лошадь приходили на кухню, устраивались рядом с собакой и грустно смотрели на маму и папу. Но уже через несколько дней им сказали, что для кухни они слишком большие и вообще — нечего им там делать.
Тогда им пришлось стоять во дворе, просунув голову в окно. Родители, конечно, были очень огорчены тем, что случилось с Дельфиной и Маринеттой, но через месяц они вполне привыкли к лошади и ослику. И, честно говоря, не очень-то обращали на них внимание. Мама больше не заплетала Маринетте в лошадиную гриву ленточку, как в первые дни, и не надевала браслет на ногу ослику. А однажды, когда родители завтракали на кухне в плохом настроении, папа, увидев головы в раскрытом окне, закричал:
— Эй, вы, убирайтесь отсюда оба! Нечего глазеть. И вообще — хватит таскаться по двору с утра до вечера! Во что дом превратили? А вчера я вас в саду видел, это уж совсем ни на что не похоже! Ну, ничего, с сегодняшнего дня вы будете у меня ходить только из конюшни на луг и обратно!
Лошадь и ослик ушли, низко опустив головы, несчастные, как никогда. И с этого дня старались не показываться на глаза отцу и видели его только в конюшне, когда он приходил сменить подстилку. Родители были такими строгими и сердитыми, что животные чувствовали себя виноватыми, хотя и не понимали, в чем же они провинились.
Однажды в воскресенье, когда лошадь и ослик паслись на лугу, они увидели, что приехал дядя Альфред. Еще издалека он закричал родителям:
— Добрый день! Это я, дядя Альфред. Я пришел вас навестить и обнять малышек… Где же они?…
— Вот незадача! — ответили родители. — А они как раз уехали к тете Жанне!
Ослик и лошадь хотели было сказать дяде Альфреду, что малышки никуда не уезжали и что они просто превратились в двух несчастных животных, которых он видит перед собой. Конечно, помочь он ничем не мог, он бы просто поплакал вместе с ними, и им бы стало легче. Но они ничего не сказали, потому что очень боялись рассердить родителей.
— Вот жалость-то, — сказал дядя Альфред, — так я их и не увижу… Но какие у вас красивые лошадь и ослик! Я никогда их раньше не видел, да и в последнем письме вы ничего о них не писали.
— Да они только месяц у нас.
Дядюшка Альфред поглаживал животных и был очень удивлен, какие у них грустные глаза. Но он удивился еще больше, когда лошадь склонила перед ним колени и сказала:
— Вы, наверное, очень устали, дядя Альфред. Садитесь ко мне на спину, я довезу вас до кухни.
— А мне дайте ваш зонтик, — сказал ослик, — он, наверное, вам мешает. Прицепите мне его за ухо.
— Вы очень любезны, — ответил дядя, — но идти совсем недалеко, и мне бы не хотелось вас беспокоить.
— Нам было бы это так приятно, — вздохнул ослик.
— Ну, хватит, — прервали их родители, — оставьте дядю в покое и ступайте себе на луг. Ваш дядя уже вполне на вас насмотрелся.
Дядю, право, немного удивило, что ослику и лошади сказали про него «ваш дядя», но животные были такие славные, что ему это не было неприятно. И когда он шел к дому, то несколько раз оборачивался и махал им зонтиком. Вскоре кормить стали хуже. Сена стало меньше, его берегли для волов и коров, — ведь волы работали, а коровы давали молоко. Овса лошадь и ослик не видели уже давно, а теперь им даже не разрешали ходить пастись на луг, потому что берегли траву для нового урожая сена. Они лишь изредка могли пощипать травы в канавах и на пригорках.
Родители, которые были не так богаты, чтобы даром кормить всех этих животных, решили волов продать, а ослика и лошадь заставить работать. Однажды утром отец запряг лошадь в повозку, а мать погнала на рынок ослика, повесив ему на спину две тяжелые корзины с овощами. В первый день родители были еще терпеливы. Да и назавтра только делали замечания. Но уж потом стали так ругаться и кричать, что лошадь обиделась и вообще перестала понимать, куда ей идти, тянула повозку вкривь и вкось. Отец так свирепо хлестал ее вожжами, что она даже заржала от боли.
Однажды им нужно было подняться на очень крутую гору. Лошадь совсем запыхалась, шла с трудом и каждую минуту останавливалась. Груз был очень тяжелым, она еще не привыкла к такому. Сидя на повозке с вожжами в руках, отец был очень недоволен такой медленной ездой. Сначала, подгоняя лошадь, он щелкал языком. Это не помогало, тогда он стал ругаться и кричать, что в жизни не видел такой противной клячи. От испуга лошадь споткнулась и вовсе остановилась.
— Но! — кричал отец. — Но, проклятая! Ну я тебе покажу!
И от злости схватил свой кнут и отхлестал ее по бокам. Лошадь не заплакала, а только повернула к нему голову и посмотрела так грустно, что отцу стало стыдно. Он спрыгнул с повозки и, прижавшись к лошадиной шее, попросил прощения за то, что был таким жестоким.
— Я забыл, кто ты для меня. Мне все кажется, что ты самая обыкновенная лошадь.
— Все равно, — ответила лошадь. — Даже если бы я была обыкновенная лошадь, нельзя же так больно стегать кнутом.
Папа обещал, что он так больше не будет, и в самом деле долго не пользовался своим кнутом. Но однажды, когда очень торопился, он не сдержался и снова отхлестал ее.
Дальше — больше, он бил свою лошадь не задумываясь. Иногда, когда ему все же бывало немножко стыдно, он пожимал плечами и говорил:
— Или ты лошадь, или ты не лошадь. Надо же в конце концов слушаться!
Нужно сказать, что ослику тоже приходилось несладко. Каждое утро в любую погоду ему надевали на спину тяжелую корзину и заставляли ехать в город. Когда начинался дождь, мать открывала зонтик, нисколько не заботясь, что там с осликом. Однажды он сказал:
— Раньше, когда я была девочкой, ты не позволяла мне мокнуть под дождем.
— Ну если с ослами нянчиться так же, как и с детьми, — ответила мать, — зачем ты мне вообще был бы нужен?
Его тоже часто били. Как и все ослы, этот был иногда очень упрямым. На некоторых перекрестках он непонятно почему останавливался и отказывался идти дальше. Сначала мать пыталась договориться по-хорошему.
— Ну, пожалуйста, — говорила она, лаская его, — будь умницей, моя маленькая Дельфина. Ты же всегда была такой хорошей, такой послушной девочкой.
— А я не маленькая Дельфина, — отвечал он спокойно. — Я осел и не хочу никуда идти!
— Не упрямься, тебе же будет хуже. Ну, считаю до десяти. Думай!
— Я уже подумал!
— Раз, два, три, четыре…
— Все равно не пойду!
— …пять, шесть, семь…
— Пускай мне отрежут уши!
— …восемь, девять, десять! Ну, я тебя заставлю, глупая тварь!
Она начинала колотить ослика палкой по спине, и тот в конце концов трогался с места.
Но больше всего лошадь и ослик страдали оттого, что их разлучили.
Раньше ни в школе, ни дома Дельфина и Маринетта не расставались ни на минуту. А теперь лошадь и ослик не виделись целыми днями, а к вечеру, когда приходили в конюшню, так уставали, что только-только успевали пожаловаться друг другу на своих жестоких хозяев. Зато с каким нетерпением ждали они воскресенья! Они были совершенно свободны и, выйдя из конюшни, вместе гуляли. Они попросили разрешения у родителей играть со своими старыми куклами, укладывали их спать в кормушках на соломе. Рук у них не было, и поэтому они не могли укачивать своих кукол, одевать их, причесывать и вообще играть как раньше. Они могли только смотреть на своих кукол и разговаривать с ними.
— Это я, твоя мама Маринетта, — говорила лошадь. — Видишь, я теперь совсем другая.
— Это я, твоя мама Дельфина, — говорил ослик. — Не обращай внимания на мои уши.
Вечерами они паслись вдоль дороги и разговаривали о своих несчастьях. Лошадь, которая вообще была энергичнее, чем ее спутник, говорила очень возмущенно.
— Главное, что меня удивляет, — говорила она, — почему это другие животные не жалуются, когда с ними так жестоко обращаются! Нам еще повезло, что мы домашние! Знаешь, не будь они нашими родителями, я бы давным-давно сбежала отсюда.
При этом лошадь плакала, и ослик тоже начинал шмыгать носом.
Однажды в воскресенье родители вошли в конюшню с каким-то незнакомым человеком. Голос у него был очень грубый. Он остановился возле лошади и сказал:
— Вот она! Это ее я видел на дороге. О! Память у меня отменная: если я однажды увидел лошадь, я узнаю ее из тысячи. Такая уж у меня работа. — Он засмеялся и легонько похлопал лошадь. — А она не так безобразна, как другие! Вполне в моем вкусе.
— Мы показали ее вам просто так, чтобы вам было приятно, — сказали родители, — об остальном и думать нечего!
— Все так сначала говорят, — ответил незнакомец. Он все ходил и ходил вокруг лошади, осматривал ее со всех сторон, ощупывал бока и ноги.
— Простите, вы скоро кончите? — спросила его лошадь. — Знаете, мне не очень нравится, когда со мной так обращаются.
Человек расхохотался и полез лошади в рот, чтобы рассмотреть зубы. Потом повернулся к родителям.
— Сто франков вас устроит? — спросил он.
— Нет, нет, — закачали те головами, — ни двести, ни триста! И не будем больше об этом.
— А пятьсот?
Родители помолчали. Оба они покраснели и не решались взглянуть друг на друга.
— Нет, — прошептала наконец мать так тихо, что ее едва было слышно. — О, нет!
— А тысяча? — вскричал незнакомец своим людоедским голосом, который начинал уже пугать лошадь и ослика, — А? Если тысяча?
Отец хотел было что-то ответить, но голос его не послушался, он закашлял и знаками стал показывать, что им было бы удобнее поговорить на улице. Они вышли из конюшни и очень быстро обо всем договорились.
— С ценой все ясно, — сказал человек, — но сначала надо посмотреть, как она бегает.
Едва только кот, дремавший у колодца, услышал эти слова, как прибежал в конюшню и зашептал лошади на ухо:
— Когда тебе велят выйти во двор, притворись, что хромаешь.
Лошадь послушалась совета и, едва вышла из дверей конюшни, принялась хромать, как будто у нее болела нога.
— Э, нет! — закричал покупатель. — Так не пойдет. Вы не сказали мне, что у нее больная нога. Это меняет дело.
— Да это она так, притворяется, — уверяли его родители. — Еще утром она была совершенно здорова.
Но тот ничего не хотел слушать и уехал, даже не взглянув на лошадь. Родители, очень недовольные, привели ее обратно в конюшню.
— Это ты нарочно, проклятая кляча! — ругался отец. — Я знаю, это ты нарочно!
— Проклятая кляча! — вздохнул ослик. — И так вы называете свою младшую дочку! Нечего сказать — любящие родители.
— Буду я еще слушать всяких ослов, — ответил отец. — Но давайте уж разберемся раз и навсегда. Можно подумать, что мы и впрямь родители лошади и осла. Вы что, думаете, мы готовы проглотить такую глупость? Кому рассказать, что две девочки превратились — одна в лошадь, а другая в осла! Да если уж по правде — вы оба животные, и все тут! И больше того — не могу сказать, чтобы вы были примерными животными!
Ослик даже не нашел что ответить, так он был огорчен, что собственные родители их не признают.
И потерся головой о шею лошади, он хотел ей сказать, что если родители и забыли ее, то на своего товарища по конюшне она всегда может рассчитывать.
— С моими копытами и большими ушами я все равно остаюсь твоей сестрой Дельфиной, пусть они говорят, что хотят!
— Мама, — спросила тогда лошадь, — а ты тоже думаешь, что мы не твои дочки?
— Вы, конечно, животные неплохие, — ответила мать не очень уверенно, — но я твердо могу сказать: вы не мои дочери!
— И совершенно на них не похожи, — отрезал отец. — И вообще, хватит об этом! Пойдем отсюда, жена.
— Раз вы так уверены, что мы не ваши дочери, почему же вы ни о чем не беспокоитесь? Вот странные родители: в один прекрасный день две ваши дочери исчезли, а вам хоть бы что! А вы искали их в колодце, в пруду, в лесу? А в полицию заявляли?
Родители ничего не ответили, но как только они вышли во двор, мать сказала, вздохнув:
— Ну а все-таки, а если это наши малышки?
— Нет и нет! — закричал отец. — Ну что ты говоришь? Давай кончать с этими глупостями. Ну виданное ли это дело, чтобы ребенок — да хотя бы и взрослый — превратился в осла или еще в кого-нибудь! Мы поначалу еще наивно верили в то, что они нам тут порассказали. Но сколько можно? Это уже смешно, в конце концов.
И родители сделали вид, что совершенно не верят в подобные глупости, а может быть, и вправду не верили. Во всяком случае, они никогда не спрашивали, видел ли кто-нибудь Дельфину и Маринетту, и сами никому не рассказывали об их исчезновении и всем говорили, что дочери гостят у тетушки Жанны. Иногда, когда родители приходили в конюшню, ослик и лошадь принимались петь песенку, которой когда-то отец научил своих дочек.
— Ты не узнаешь песенку, которую сам нам пел? — спрашивали они его.
— Узнать-то узнаю, — отвечал отец, — но эту песенку можно услышать где угодно.
А через несколько месяцев тяжелой работы лошадь и ослик уже и сами не помнили, кем они когда-то были. А если и вспоминали иногда случайно, то словно о какой-то сказке, в которую и сам не очень-то веришь. Да и воспоминания эти были какими-то странными. Например, им казалось, что обе они были Маринеттами, однажды лошадь и ослик даже поссорились из-за этого, а потом решили никогда больше не вспоминать ни о чем.
И нужно сказать, что с каждым днем работа интересовала их все больше и больше, им даже нравилось быть домашними животными, а то, что попадало иногда от хозяев, тоже казалось вполне справедливым.
— Сегодня утром, — говорила лошадь, — мне опять задали взбучку. Что-то я стала слишком рассеянной.
— И со мной вечно такая же история, — говорил ослик. — Мне часто достается из-за моего упрямства. Пора уже исправляться.
Они больше не играли в куклы и вообще не могли понять, как в них играют. И воскресений больше не ждали. Отдых казался таким длинным, им нечего было даже сказать друг другу. Они теперь постоянно спорили: что лучше — реветь по-ослиному или ржать. В конце концов они поссорились и обозвали друг друга упрямым ослом и противной клячей.
А родители были вполне довольны своими лошадью и осликом. Они говорили, что никогда в жизни не видели таких послушных животных. В самом деле — лошадь и ослик так хорошо работали, что родители разбогатели и даже могли купить две пары башмаков.
Но однажды утром отец вошел в конюшню, чтобы дать овса лошади, и был очень удивлен: на том месте, где обычно спали животные, лежали две девочки, Дельфина и Маринетта. Бедняга не мог поверить своим глазам, он подумал о своей милой лошади, которую больше никогда не увидит. Он позвал жену, и они вдвоем отнесли спящих девочек домой и положили в кроватки.
Когда Дельфина и Маринетта проснулись, было уже пора идти в школу. Девочки ужасно растерялись, они не знали, что делать с руками. В школе они наделали очень много глупостей и отвечали совершенно неправильно. Учительница сказала, что никогда еще не видела таких глупых детей, и поставила им по десять двоек. Увидев столько плохих отметок, родители рассердились и оставили девочек без обеда.
Но, к счастью, Дельфина и Маринетта все быстро вспомнили. Они очень старались в школе и стали получать только хорошие отметки. Дома они вели себя превосходно, и ругать их было совершенно не за что. А родители были очень рады, что наконец нашлись их девочки, которых они нежно любили. Ведь, по правде говоря, это были очень хорошие родители.
КОШАЧЬЯ ЛАПА
Вечером, когда родители вернулись с поля, они увидели кота, который сидел на колодезном срубе и приводил себя в порядок.
— Ну вот — сказали они, — если кошка водит лапой за ухом, значит, завтра будет дождь.
И правда, на следующий день дождь лил не переставая. Нечего было и думать идти работать в поле. Вынужденные не высовывать носа за дверь, родители были раздражены и не очень-то ласковы с девочками. Дельфина, старшая, и Маринетта, та, у которой волосы были посветлее, играли в кухне в «птица летает», в бабки, в куклы, в «волк, ты где?» и прыгали через веревочку.
— Только бы играть, — ворчали родители, — только бы развлекаться. А ведь уже большие девочки. Похоже, и в десять лет они все еще будут играть. Вместо того чтобы заняться шитьем или написать письмо дяде Альфреду. Всё больше пользы.
Поворчав на девочек, они принимались выговаривать коту, который сидел на подоконнике и смотрел на дождь.
— И этот тоже. Целый день только и делает, что бездельничает. А мыши то и дело шмыгают из подвала на чердак. Но этот господин предпочитает, чтобы его кормили за безделье. Так проще!
— Вы только и знаете — твердить одно и то же, — отвечал кот. — День для того и существует, чтобы спать или развлекаться.
Зато ночью, когда я бегаю туда-сюда по чердаку, тут вас нет, чтобы меня похвалить.
— Ах, вот как! Еще бы, ты, как всегда, прав!
К вечеру дождь так и не перестал, а поскольку у родителей были дела на конюшне, девочки играли в пятнашки, бегая вокруг стола.
— Вам бы не следовало так играть, — сказал кот. — Вполне может случиться, что вы что-нибудь разобьете. И родители потом будут кричать.
— Тебя послушать, — сказала Дельфина, — вообще ни во что нельзя играть.
— Да уж, — поддержала Маринетта. — Нашему Альфонсу (такое имя они придумали коту) только бы спать.
Альфонс больше не настаивал, и девочки снова принялись бегать. На столе стояло фаянсовое блюдо, которое было в доме с незапамятных времен и которым родители очень дорожили. Бегая, девочки задели ножку стола, и он немного накренился, а они даже не заметили этого. Фаянсовое блюдо тихо соскользнуло, упало на каменные плиты пола и разбилось вдребезги. Кот, который так и сидел на подоконнике, даже головы не повернул. Девочкам сразу расхотелось бегать, уши у них так и горели.
— Альфонс, тут было фаянсовое блюдо, а теперь оно разбилось. Что же делать?
— Соберите осколки и выбросьте их в сточную канаву. Может, родители ничего и не заметят. Впрочем, нет, уже поздно. Они возвращаются.
Увидев осколки фаянсового блюда, родители пришли в ярость и как блохи запрыгали по кухне.
— Несчастные! — кричали они. — Фамильное блюдо, которое в семье с незапамятных времен! Вы разбили его вдребезги! Ничего другого от вас и не дождешься, от этаких чудовищ! Но вы будете наказаны. Никаких игр и сидеть на черством хлебе!
Сочтя наказание недостаточно суровым, родители немного подумали и продолжали, глядя на девочек с жестокой улыбкой:
— Нет, не нужно черствого хлеба. Но завтра, если не будет дождя… завтра… так-так-так… завтра вы отправитесь навестить тетю Мелину!
Дельфина и Маринетта побледнели как полотно и умоляюще сложили руки, глядя на родителей.
— И нечего нас упрашивать, ничего не выйдет! Если не будет дождя, вы отправитесь к тете Мелине и отнесете ей банку варенья.
Тетя Мелина была очень старая и злая, рот у неё был беззубый, а подбородок зарос бородой.
Когда девочки приезжали к ней в деревню, она все время целовала их, что было не очень приятно из-за ее бороды, а она так и старалась лишний раз их уколоть или дернуть за волосы. Большое удовольствие также ей доставляло пичкать их хлебом и сыром, который она специально хранила до тех пор, пока он не заплесневеет, в ожидании их приезда. Кроме того, тетя Мелина находила, что обе маленькие племянницы очень похожи на нее, и утверждала, что еще до конца года обе превратятся в две точные ее копии, а об этом было даже подумать страшно.
— Бедные дети, — вздохнул кот, — за какое-то старое выщербленное блюдо такое суровое наказание.
— А ты что вмешиваешься? Может, раз ты их защищаешь, ты им и блюдо помог разбить?
— О нет, нет! — сказали девочки. — Альфонс все время сидел на окне.
— Помолчите! А-а, вы тут все хороши. У вас тут круговая порука. Стоит одному что-нибудь натворить, как другой тут же спешит на выручку. Даже кот, который целыми днями только и делает, что спит…
— Ну, раз вы заговорили в таком тоне, мне лучше уйти. Маринетта, открой мне окно!
Маринетта открыла окно, и кот спрыгнул во двор. Дождь к этому времени перестал, и легкий ветерок разогнал облака.
— Похоже, небо очищается, — довольно заметили родители. — Завтра будет прекрасная погода, как раз, чтобы идти к тете Мелине. Вот как повезло. Ну ладно, хватит плакать! Блюда этим не склеишь. А теперь принесите-ка побыстрее дров из сарая.
В сарае девочки увидели кота, который сидел на поленнице дров. Сквозь слезы Дельфина смотрела, как он сидит и умывается.
— Альфонс, — сказала она с радостной улыбкой, удивившей ее сестру.
— Что тебе, моя маленькая?
— Я вот о чем подумала. Завтра, если ты захочешь, никто к тете Мелине не пойдет.
— Меня не надо упрашивать, я согласен, но что бы я ни сказал родителям, они все равно не послушают, к нашему несчастью.
— Конечно, но родители здесь ни при чем. Помнишь, как они сказали? Что мы пойдем к тете Мелине, если не будет дождя.
— Ну и что же?
— Вот тебе раз! Ведь стоит тебе провести лапкой за ухом, как завтра пойдет дождь, и не надо будет идти к тете Мелине.
— А ведь и правда, — сказал кот, — я об этом не подумал. Клянусь честью, это прекрасная мысль.
И он тут же стал водить лапой за ухом. Он проделал это больше пятидесяти раз.
— Сегодня вы можете спать совершенно спокойно. Завтра будет такой дождь, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит.
За ужином родители много говорили о тете Мелине. Они уже приготовили для нее банку варенья.
Девочкам стоило большого труда сохранять серьезность, и Маринетта, встречаясь взглядом с сестрой, то и дело вынуждена была делать вид, будто она поперхнулась, чтобы родители не заметили, как ей смешно. Перед тем как идти спать, родители высунулись в окно.
— Что за прекрасная ночь! — сказали они. — Замечательная ночь. Никогда еще звезды так ярко не сверкали на небе. Отличная погода будет завтра, как раз, чтобы отправиться в дорогу.
Но назавтра погода была пасмурная, и с самого раннего утра пошел дождь. «Ничего, ничего, — сказали родители, — это ненадолго». Они нарядили девочек в воскресные платья и повязали им розовые банты. Но дождь шел все утро и целый день, до самого вечера. Пришлось в конце концов снять воскресные платья и розовые банты. Однако родители не унывали.
— Будем считать, что дело откладывается. Вы пойдете к тете Мелине завтра. Небо начинает проясняться. Было бы очень странно, если бы в середине мая дождь шел не переставая три дня подряд.
В этот вечер, умываясь, кот опять водил лапкой за ухом, и на следующий день опять шел дождь. Нечего было и думать о том, чтобы послать девочек к тете Мелине. Настроение у родителей начало портиться. Мало того, что из-за плохой погоды наказание все откладывалось и откладывалось, так и в поле нельзя было работать. Ни с того ни с сего они напустились на детей и кричали, будто они только на то и годны, чтобы бить посуду. «Так или иначе, вы все равно пойдете к тете Мелине, — добавили они. — В первый же погожий день отправитесь к ней с самого раннего утра». Когда их раздражение достигло предела, они натолкнулись на кота, которому сначала наподдали метлой, потом деревянным башмаком и при этом обозвали бесполезным лодырем.
— О-о! — сказал кот. — Вы еще злее, чем я думал. Ни за что побили меня, но, честное слово кота, вы еще пожалеете об этом.
Если бы родители не побили его, кот, вероятно, не стал бы больше вызывать дождь, потому что он любил лазать по деревьям, бегать по полям и лесам, и это было уж слишком — приговорить себя к такому длительному заточению, только чтобы избавить своих подружек от унылого визита к тете Мелине. Но воспоминания о метле и башмаке были так живы в его памяти — малышкам даже не пришлось просить его провести лапкой за ухом. Отныне и впредь это стало его личным делом. Всю неделю подряд с утра до вечера, не переставая лил дождь. Родители, вынужденные сидеть дома и смотреть, как их посевы гниют на корню, были вне себя от досады. Они забыли про фаянсовое блюдо и про тетю Мелину, но мало-помалу стали искоса поглядывать на кота. Они часто совещались между собой, причем шепотом, чтоб никто не мог догадаться, о чем они говорят.
Однажды рано утром, когда пошла вторая неделя дождей, родители решили пойти на станцию и, несмотря на плохую погоду, отправить в город мешки с картошкой. Проснувшись, Дельфина и Маринетта увидели, что они шьют в кухне еще один мешок. На столе лежал большой камень весом не менее трех фунтов. На вопрос девочек, что они делают, родители ответили с несколько смущенным видом, что они готовят еще один мешок с картошкой. Затем в кухню вошел кот и вежливо всех приветствовал.
— Альфонс, — сказали ему родители, — около плиты тебя ждет большая миска парного молока.
— Благодарю вас, хозяева, вы очень любезны, — ответил кот, несколько удивленный подобным обращением, к которому он не слишком привык.
Когда он лакал приготовленное для него парное молоко, родители схватили его за лапы — один за передние, другая за задние, — запихнули головой в мешок, сунули туда трехфунтовый камень и затянули мешок крепкой веревкой.
— Что это на вас нашло? — кричал кот и метался в мешке. — Вы совсем голову потеряли, хозяева!
— А то, что никому не нужен кот, который водит лапой за ухом каждый вечер. Хватит с нас дождя. Ты так любишь воду, дорогой, — теперь у тебя ее будет вдоволь. Через пять минут будешь умываться на дне реки.
Дельфина и Маринетта стали кричать, что они не позволят бросить Альфонса в реку.
А родители кричали, что никто не помешает им утопить эту гнусную тварь, которая специально устраивает дождь. Альфонс мяукал и метался в своей тюрьме как безумный. Маринетта через мешковину обняла его, а Дельфина на коленях умоляла сохранить жизнь коту. «Нет, ни за что! — жестко отвечали родители. — И нечего просить и умолять за такого скверного кота!» Вдруг они увидели, что уже почти восемь часов и они могут опоздать на вокзал. Второпях они застегнули крючки на своих накидках, подняли капюшоны и сказали детям, выходя из кухни:
— Сейчас у нас нет времени идти на реку. Мы пойдем туда в полдень, когда вернемся. Имейте в виду, не смейте развязывать мешок. Если к полудню Альфонса там не будет, вы тут же отправитесь к тете Мелине на полгода, а может быть, на всю жизнь.
Едва родители успели выйти на дорогу, как Дельфина и Маринетта развязали веревку. Кот высунул голову из мешка и сказал им:
— Малышки, я всегда знал, что у вас золотое сердце. Но я был бы жалким котом, если бы, спасая себя, обрек вас жить полгода, а может, и больше, у тети Мелины. Такой ценой — никогда, лучше пусть меня сто раз бросят в реку.
— Тетя Мелина не такая уж и злая, как все говорят, а полгода пролетят быстро.
Но кот ничего не желал слушать и, чтобы показать, как непреклонно его решение, засунул голову обратно в мешок. Дельфина все пыталась уговорить его, а Маринетта пошла во двор — посоветоваться с селезнем, который барахтался в луже под дождем. Это был весьма опытный селезень, характера очень серьезного. Чтобы лучше думалось, он даже спрятал голову под крыло.
— Я тут изрядно поломал мозги, — сказал он наконец, — но я не представляю себе, как убедить Альфонса выйти из мешка. Я его знаю, он очень упрям. Если его выгнать оттуда насильно, ничто не помешает ему предстать перед родителями, когда они вернутся. И должен сказать, он абсолютно прав. Что касается меня, я бы не мог жить в мире с собственной совестью, если бы вы по моей вине попали в подчинение к тете Мелине.
— А как же мы? Если Альфонса утопят, разве наша совесть сможет оставаться спокойной?
— Конечно, нет, — сказал селезень, — и говорить нечего. Надо найти какой-то выход. Правда, я уж тут искал-искал, но ничего найти не удалось.
Тогда Маринетта решила посоветоваться со всеми животными фермы, и, чтобы не терять времени, она пригласила в кухню всех сразу. Лошадь, собака, волы, коровы, боров, домашние птицы — все пришли в кухню и заняли места, отведенные им девочками. Кот, который оказался посередине образованного круга, согласился высунуть голову из мешка, и селезень, который был рядом с ним, взял слово, чтобы ввести присутствующих в курс дела. Когда он закончил, все погрузились в молчание и стали думать.
— У кого какие мнения? — спросил селезень.
— У меня, — сказал боров. — Так вот. В полдень, когда родители вернутся, я с ними поговорю. Я скажу им, что, несмотря на недобрые замыслы, они в душе порядочные люди. Я объясню им, что жизнь животных священна и что они совершат тяжкое преступление, если бросят Альфонса в реку. Они наверняка меня поймут.
Селезень сочувственно покивал, хотя было видно, что его это не слишком убедило. По мнению родителей, боров — это не более чем кадка с солониной, и его доводы вряд ли могли иметь для них такой уж большой вес.
— Кто еще хочет высказаться?
— Я, — сказала собака. — Единственное, что вы можете сделать, это предоставить мне свободу действий. Как только родители возьмутся за мешок, я стану кусать их за икры до тех пор, пока они не освободят кота.
Эта мысль всем понравилась, но Дельфина и Маринетта, хотя и испытывали некоторое искушение, все-таки не хотели, чтобы собака кусала за икры их родителей.
— Верно, — вздохнула собака, — я слишком послушна.
— Есть еще выход — лучше и проще, — сказал белый вол. — Нужно только, чтобы Альфонс вышел из мешка, а мы положим туда обыкновенное полено.
После этих слов по рядам прошел гул восхищения, но кот отрицательно покачал головой.
— Это невозможно. Родители почувствуют, что в мешке никто не шевелится, не говорит, не дышит, и тут же обнаружат обман.
Пришлось признать, что Альфонс прав. Все чувствовали некоторую растерянность. Среди всеобщего молчания слово взяла лошадь. Это была очень старая лошадь, облезлая, на трясущихся ногах, которую уже не использовали на работах. Стоял даже вопрос, не продать ли ее на бойню.
— Я все равно долго не проживу, — сказала она. — Так как дни мои сочтены, будет лучше, если я хоть на что-то пригожусь.
Альфонс молод. Альфонса ждет прекрасное кошачье будущее. Будет совершенно естественно, если я займу его место в мешке.
Предложение лошади растрогало всех. Альфонс был так взволнован, что вылез из мешка и стал тереться о ее копыта, выгибая спину.
— Ты — лучший из друзей и великодушнейшее из животных, — сказал он старой лошади. — Если мне повезет и меня сегодня не утопят, я никогда не забуду ту жертву, на которую ты пошла ради меня, и благодарю тебя от всего сердца.
Дельфина и Маринетта захлюпали носом, а боров — ведь и он обладал чрезвычайно чувствительной душой — зарыдал. Кот вытер глаза лапой и продолжал:
— К несчастью, то, что ты предлагаешь, невозможно, и я сожалею об этом, потому что уже был готов принять твою жертву, на которую ты шла из самых дружеских чувств. Но мешок сшит в расчете на меня, и даже речи быть не может, чтобы ты заняла мое место. Г олова — и та не пролезет.
И тут стало совершенно очевидно — и для девочек, и для всех животных, что замена действительно невозможна. Рядом с Альфонсом старая лошадь выглядела великаншей. Петуху, который не отличался хорошими манерами, такое сопоставление показалось смешным, и он громко рассмеялся.
— Замолчите! — сказал ему селезень. — Нам не до смеха, я думал, это понятно. А вы, оказывается, просто безобразник, и больше ничего. Сделайте одолжение, выйдите за дверь.
— Вот еще! — ответил петух. — Занимайся своими делами и не суй нос в чужие! Разве я к вам лезу?
— Боже мой, как он груб, — прошептал боров.
— Вон! — закричали животные. — Выйди вон! Вон, грубиян! Вон!
Петух, у которого покраснел гребешок, прошел через кухню под неодобрительные возгласы и поклялся, что еще отомстит. Поскольку на улице лил дождь, он укрылся в конюшне. Немного погодя из дома вышла Маринетта и стала тщательно выискивать подходящую деревяшку в поленнице.
— Не могу ли я помочь тебе найти то, что ты ищешь? — любезно спросил петух.
— Нет, нет. Мне нужна деревяшка в форме… ну, словом, определенной формы.
— В форме кота, вероятно. Но, как правильно заметил Альфонс, родители сразу догадаются, что деревяшка лежит неподвижно.
— А вот и нет, — ответила Маринетта. — У селезня появился план…
Вспомнив, как в кухне говорили, что петуху доверять нельзя, и испугавшись, что она и так слишком много сказала, Маринетта умолкла и вышла из конюшни, прихватив полено, показавшееся ей подходящим. Петух видел, как она пробежала под дождем через двор и скрылась в кухне. Через некоторое время Дельфина вышла вместе с котом и, открыв ему дверь, ведущую в амбар, остановилась, ожидая его возвращения. У петуха округлились глаза, он напрасно пытался понять, что все это означает. Время от времени Дельфина подходила к окну кухни и в тревоге спрашивала, который час.
— Половина двенадцатого, — ответила Маринетта первый раз. — Без десяти двенадцать… Без пяти двенадцать…
Кот больше не появлялся.
За исключением селезня, все животные вышли из кухни и попрятались кто где.
— Который час?
— Двенадцать. Все пропало. Кажется… Ты слышишь? Машина едет. Значит, возвращаются родители.
— Ничего не поделаешь, — сказала Дельфина. — Пойду закрою Альфонса в амбаре. В конце концов ну не умрем же мы оттого, что полгода проживем у тети Мелины.
Только она протянула руку, чтобы закрыть дверь, как Альфонс появился на пороге, с живой мышью в зубах. Машина родителей, которая ехала на самой большой скорости, показалась в конце дороги.
Кот, а следом за ним Дельфина поспешили в кухню. Маринетта открыла горловину мешка, где уже лежало полено, завернутое в тряпки, чтобы на ощупь казалось помягче. Альфонс бросил туда мышь, которую держал за шкирку, и мешок тут же завязали. Машина подъехала к саду.
— Мышь, — сказал селезень, наклонившись над мешком, — кот был так великодушен, что подарил тебе жизнь, но при одном условии. Ты меня слышишь?
— Слышу, — ответил тоненький голосок.
— От тебя требуется только сновать туда-сюда по полену, которое лежит в мешке, так, чтобы думали, что оно живое.
— Это очень просто. А потом?
— Потом придут люди, которые возьмут мешок и понесут его, чтобы бросить в реку.
— Да, но тогда…
— Никаких но. На дне мешка есть маленькая прореха. Ты прогрызешь ее, чтобы она стала побольше, если это понадобится, и когда услышишь, что поблизости залаяла собака, выпрыгнешь. Но не раньше, чем залает собака, иначе тебя убьют. Поняла? В любом случае, что бы ни случилось, не произноси ни слова и не смей кричать.
Машина родителей въехала во двор. Маринетта спрятала Альфонса в сундук, а мешок положила сверху. Пока родители ставили машину под навес, селезень вышел из кухни, а девочки терли себе глаза, пока они не покраснели.
— Что за мерзкая погода! — сказали родители, входя в кухню. — Даже накидки промокли. И подумать только, все из-за какого-то паршивого кота!
— Если бы я не сидел в завязанном мешке, — сказал кот, — я, может, и посочувствовал бы вам.
Кот, съежившийся на дне сундука, сидел как раз под мешком, так что казалось, его приглушенный голос идет именно оттуда. А мышь, посаженная в мешок, бегала туда-сюда по полену, так что видно было — в мешке кто-то есть.
— Мы-то здесь хозяева, и нечего нас жалеть. Кого надо пожалеть, так это тебя. И поделом тебе.
— Что ж, хозяева, посмотрим. Вы не такие злые, какими хотите казаться. Выпустите меня из мешка, и я, так и быть, прощу вас.
— Он нас простит! Это уж слишком! Или, может, это из-за нас всю неделю не переставая идет дождь?
— О нет! — сказал кот. — Это не в ваших силах. Но, с другой стороны, именно вы ни за что ни про что меня побили. Чудовища! Палачи! Бессердечные люди!
— Ах ты, сквернейший из котов! — вскричали родители, — Он еще нас оскорбляет.
Они так разозлились, что стали колотить по мешку ручкой от метлы. Удары приходились по закутанному в тряпки полену, перепуганная мышь металась в мешке, а Альфонс завывал, изображая, как ему больно.
— Вот тебе, получай еще раз! Ты и теперь будешь говорить, что мы бессердечные люди?
— Я больше ничего не скажу, — ответил Альфонс. — А вы можете говорить, что хотите. Я рта больше не раскрою ради таких злых людей, как вы.
— Как тебе будет угодно, дорогой ты наш. И вообще, пора с этим кончать. Хватит, мы идем на реку.
Родители взялись за мешок и, не обращая внимания на крики девочек, вышли из кухни. Собака, которая ждала во дворе, отправилась вместе с ними с таким горестным видом, что они даже немного растерялись.
Когда они проходили мимо конюшни, к ним обратился петух:
— Так что же, хозяева, идете топить бедного Альфонса? Но знаете ли, он, наверное, уже умер. Он совсем не шевелится, будто в мешке не он, а деревяшка.
— Очень возможно. Он получил такую взбучку метелкой, что вряд ли еще жив.
С этими словами родители покосились на мешок, который несли под накидкой.
— Однако он мог хотя бы пошевелиться.
— И то правда, — сказал петух, — но мудрено этого дождаться, если у вас в мешке деревяшка вместо кота.
— Вообще-то он сказал нам, что рта больше не раскроет, даже отвечать нам ничего не будет.
Тут уж петух не решился больше высказывать свои сомнения и пожелал им доброго пути.
В это время Альфонс вышел из сундука и кружился в хороводе с девочками посреди кухни. Селезень, смотревший на их шалости, игре не мешал, но встревоженно думал о том, что будет, если родители обнаружат подмену.
— А теперь, — сказал он, когда танцы наконец прекратились, — надо подумать об осторожности. Я имею в виду, что родители могут вернуться и увидеть в кухне кота. Альфонсу нужно укрыться на чердаке и сидеть там целый день.
— Каждый вечер, — сказала Дельфина, — ты найдешь на прежнем месте еду и миску молока.
— А днем, — пообещала Маринетта, — мы будем подниматься на чердак, чтобы тебя проведать.
— А я буду приходить к вам в комнату повидаться. Вечером, перед тем как лечь спать, оставьте окно приоткрытым.
Девочки вместе с селезнем проводили кота до амбара. Они пришли туда как раз в тот момент, когда мышь, выскользнувшая из мешка, возвращалась к себе на чердак.
— Ну что? — спросил селезень.
— Я совершенно промокла, — сказала мышь. — Это возвращение под дождем длилось не знаю, сколько времени. И представьте себе, меня чуть не утопили. Собака залаяла в самый последний момент, когда хозяева были уже на берегу реки. Им ничего не стоило бросить меня в воду вместе с мешком.
? — Ну ладно, все кончилось благополучно, — сказал селезень. — Однако не задерживайся, скорее беги на чердак.
Когда родители вернулись домой, то увидели, что девочки накрывают на стол, распевая песни, и были страшно возмущены.
— По правде сказать, не видно, чтобы смерть бедного Альфонса вас слишком огорчила. Уж, наверно, вы так громко распелись не из сострадания к тому, кто ушел от нас. Он, в любом случае, заслуживал большей преданности от друзей. В сущности, он был прекрасным котом, и нам будет очень недоставать его.
— О, мы так скорбим, — возразила Маринетта, — но раз он умер, как ни крути, его больше нет. И ничего тут не поделаешь.
— И кроме того, он это заслужил, — добавила Дельфина.
— Не нравится нам ваш тон, — проворчали родители. — Вы — бессердечные дети. Все-таки очень хочется, да, да, очень хочется, отправить вас к тете Мелине.
В тот момент, когда говорились эти слова, стол уже был накрыт, но родители были такие грустные, что едва притронулись к еде, и сказали девочкам, которые ели за четверых:
— Скорбь не убавила вам аппетита. Если бы бедный Альфонс мог видеть всех нас, он понял бы, кто его настоящие друзья.
После обеда они больше не могли сдержать слез и рыдали, прижимая платки к глазам.
— Ну же, — говорили девочки, — ну перестаньте, будьте мужественны. Надо взять себя в руки. Слезами Альфонса не воскресишь. Конечно, вы сунули его в мешок, побили палкой от метлы и бросили в реку, но все это вы сделали для общего блага, чтобы солнышко вернулось на наши поля. Будьте же благоразумны. Ведь только что, отправляясь на реку, вы были такие смелые и веселые!
Весь остаток дня родители были печальны, но на следующее утро небо было чистым, солнце светило вовсю, и они больше не вспоминали о коте.
В последующие дни и того меньше. Солнце все пригревало, и работа в поле не оставляла им времени на сожаления.
Что касается девочек, им не надо было думать об Альфонсе. Он с ними почти не расставался. Пользуясь тем, что родителей целый день не было дома, он с утра до вечера был во дворе и прятался только на время обеда и ужина.
Поздно вечером он приходил в комнату девочек.
Однажды вечером, когда родители вернулись на ферму, к ним подскочил петух и сказал:
— Не знаю, что и думать, но, кажется, я видел во дворе Альфонса.
— Этот петух просто идиот, — проворчали родители и даже не остановились.
Но назавтра петух опять попался им навстречу:
— Если бы Альфонс не был на дне реки, я мог бы поклясться, что сегодня днем видел, как он играет с девочками.
— Он дуреет с каждым днем, совсем помешался со своим Альфонсом.
После этого родители стали относиться к петуху с участливым вниманием. Они говорили при нем шепотом, следя за ним взглядом.
— Бедный петух повредился в уме, — говорили они, — но выглядит он прекрасно. Он постоянно у нас перед глазами, вот мы и не заметили перемены. Сказать по правде, он откормлен в самый раз, и вряд ли имеет смысл тратить на него корм и дальше.
На следующий день, рано утром, петуха зарезали как раз в тот момент, когда он собирался сказать об Альфонсе. Из него сварили куриный суп, и всем он очень понравился.
Прошло две недели, с тех пор как Альфонса сочли погибшим, и погода все это время была прекрасная. Ни одной капли дождя не упало. Родители все повторяли, что это большое везение, но в их словах начало проявляться легкое беспокойство.
— Если и дальше так пойдет, то это уже ни к чему. Тогда будет засуха. Хороший дождь был бы очень кстати.
Прошло больше трех недель, а дождя все не было. Земля так засохла, что ее было невозможно обрабатывать. Пшеница, рожь, овес — все перестало расти и начало жухнуть.
— Если такая погода постоит еще неделю, — говорили родители, — все сгорит. — Они жаловались, громко сожалея о погибшем Альфонсе, и во всем винили детей.
— Если бы вы не разбили фаянсовое блюдо, не случилась бы вся эта история с котом, и он был бы сейчас с нами и помог бы нам с дождем.
Вечером, после ужина, они сидели во дворе и, глядя в небо, где не было ни облачка, в отчаянии ломали руки и громко призывали Альфонса.
Утром родители вошли в комнату девочек, собираясь их разбудить. Кот, который допоздна играл с детьми, задремал в кровати Маринетты. Когда он услышал скрип открывающейся двери, у него хватило времени только на то, чтобы залезть под одеяло.
— Пора вставать, — сказали родители, — просыпайтесь. Солнце уже светит вовсю, и сегодня опять не будет дождя… О! Но что это?…
Они замолчали и, вытянув шеи, округлившимися глазами смотрели на кровать Маринетты. Альфонс, который решил, что он хорошо спрятался, не подумал о том, что его хвост торчит из-под одеяла. Дельфина и Маринетта, еще не совсем проснувшиеся, натянули одеяла на головы. Родители осторожно подкрались к кровати и двумя парами рук ухватились за хвост, который все так же свисал из-под одеяла.
— Ах, вот оно что! Это же Альфонс!
— Да, я, но отпустите же меня, мне больно. Сейчас вам все объяснят.
Родители посадили кота на постель. Дельфина и Маринетта вынуждены были рассказать обо всем, что произошло в день, когда утопили Альфонса.
— Это для вашего же блага, — заключила Дельфина, — чтобы вы не были виноваты в смерти бедного, ни в чем не повинного кота.
— Вы не послушались нас, — сердились родители. — Сказано — сделано. Вы отправляетесь к тете Мелине.
— Ах так? — вскричал кот, прыгая на подоконник. — Ну хорошо же! Тогда я тоже пойду к тете Мелине, причем сейчас же!
Понимая, что они поступили неправильно, родители стали просить Альфонса остаться на ферме — ведь от него зависит судьба будущего урожая. Но кот ни за что не соглашался. Наконец после продолжительных уговоров и получив с родителей обещание, что девочек никуда с фермы не отправят, он согласился остаться.
Вечером того же дня — самого жаркого, который когда-либо был, — Дельфина, Маринетта, родители и все животные фермы встали во дворе в большой круг. Посередине на табурете сидел Альфонс. Не торопясь, он занялся своим туалетом и, моясь лапкой, провел за ухом больше пятидесяти раз. На следующее утро, на двадцать шестой день засухи, выпал обильный дождь, освеживший и животных и людей. В саду, в поле — везде — все возродилось к жизни и зазеленело. А на следующей неделе произошло еще одно радостное событие. Тетя Мелина, которой пришла в голову замечательная мысль сбрить бороду, без труда нашла себе мужа и уехала жить с новым супругом за тысячу километров от фермы, где жили девочки.
ПАВЛИН
Как-то раз Дельфина и Маринетта сказали родителям, что не желают больше носить сабо. А началось все вот с чего. Недавно у них на ферме целую неделю гостила Флора, их взрослая кузина из города. Флоре скоро должно было исполниться четырнадцать лет. Месяц назад она сдала выпускные экзамены, и папа с мамой купили ей часы, серебряное колечко и туфли на высоком каблуке. Одних только нарядных платьев у нее было целых три. Одно розовое с золотым пояском, другое зеленое с шелковыми оборками на плечах, а третье — кружевное. Флора никогда не выходила без перчаток. Она то и дело смотрела на свои часы, изящно оттопыривая локоток, и все время болтала о нарядах, шляпках и прическах.
Так вот, как-то раз, когда Флора уже уехала, девочки и завели этот разговор, подталкивая друг друга в бок для храбрости. Начала Дельфина.
— Ходить в сабо не так уж и удобно, — сказала она. — Во-первых, все пятки отобьешь, во-вторых, вода заливается. Туфли куда надежнее. Да и красивее все-таки.
— Между прочим, это и платьев касается, — сказала Маринетта. — Чем ходить каждый день в старье да надевать фартуки, не лучше ли почаще доставать из шкафа наши нарядные платья?
— Между прочим, это и причесок касается, — сказала Дельфина. — Гораздо удобнее, когда волосы не болтаются, а зачесаны наверх. Да и красивее.
Родители ахнули, сердито посмотрели на дочек и сказали страшным голосом:
— Это еще что за разговоры! Сабо им не годятся, нарядные платья им понадобились! С ума вы, что ли, сошли? Ишь выдумали — подавай им каждый день туфли и хорошие платья! Да на вас все горит, этак не останется ничего приличного, и не в чем будет пойти к дяде Альфреду. Ну а высокие прически — это еще почище! В вашем-то возрасте! Попробуйте только заикнуться о прическах…
Что ж, больше девочки не смели заговаривать о прическах, платьях и туфлях. Но как только они оставались одни — например, шли в школу или из школы, пасли коров на лугу, собирали землянику в лесу, — они тут же подкладывали под пятку камешек, будто ходили на каблуках, надевали платья наизнанку и воображали, что они новые, или стягивали волосы на затылке веревочкой. И то и дело спрашивали друг друга: «А талия у меня тонкая?», «А походка у меня изящная?», «А нос, как по-твоему, не вытянулся в последнее время? А рот? А зубы?», «Как ты думаешь, что мне больше к лицу, розовое или голубое?»
Дома они без конца смотрелись в зеркало, мечтая об одном: быть красивыми и носить красивые платья. Порой они даже краснели, ловя себя на мысли о том, какой чудесный воротник выйдет из шкурки их любимца белого кролика, когда его съедят.
Однажды Дельфина и Маринетта сидели перед домом в тени плетня и подрубали платочки. А рядом стояла большая белая гусыня и глядела, как они работают. Это была степенная птица, любительница обстоятельных бесед и здоровых развлечений. Она спрашивала, для чего подрубают платочки и как это делают.
— Мне бы, наверно, понравилось шить, — сказала она задумчиво, — особенно подрубать платочки.
— Нет уж, спасибо, — сказала Маринетта, — по-моему, куда лучше шить платья. Ах, будь у меня, скажем, метра три сиреневого шелку, я бы сшила платье с круглым вырезом, присборенное по бокам.
— А я, — сказала Дельфина, — сделала бы такое красное, вырез мысочком, и белые пуговицы в три ряда до самого пояса.
Слушая их, гусыня качала головой и приговаривала про себя:
«Вы как хотите, а по мне, лучше всего подрубать платочки».
В это время по двору трусила толстенная свинья. Родители — они как раз вышли из дому и собрались идти в поле — остановились перед ней и сказали:
— Она жиреет с каждым днем. Красота, да и только!
— Правда? — спросила свинья. — Я так рада, что вы считаете меня красивой. Я и сама так думаю…
Родители слегка смутились, но промолчали и пошли своей дорогой. Проходя мимо дочек, они похвалили их за усердие. Дельфина и Маринетта склонились над лоскутками и с головой ушли в работу, они шили молча, словно забыв обо всем на свете. Но как только родители отошли подальше, они снова принялись болтать о платьях, шляпках, лакированных туфлях, прическах, золотых часиках, и иголки то и дело замирали у них в пальцах. Они стали играть в гости, и Маринетта, поджав губки, как настоящая дама, спрашивала Дельфину:
— Ах, сударыня, где вы шили этот прелестный костюм?
Гусыне все это было малопонятно. От их трескотни она совсем одурела и уже было задремала, но тут прямо перед ней остановился праздно разгуливавший по двору петух и сказал:
— Не в обиду тебе будь сказано, но до чего же у тебя дурацкая шея!
— Дурацкая шея? — удивилась гусыня. — Почему это дурацкая?
— Она еще спрашивает! Да потому что слишком длинная! Вот посмотри на мою…
Гусыня оглядела его и ответила, качая головой:
— Что ж, у тебя и в самом деле шея коротковата. И ничего красивого в этом, на мой взгляд, нет.
— Коротковата! — закричал петух. — Выходит, это моя шея плоха? Ну уж, во всяком случае, покрасивее твоей будет.
— Не думаю, — возразила гусыня. — Впрочем, что тут спорить? У тебя слишком короткая шея, это всякому ясно.
Если бы девочки не были так увлечены нарядами и прическами, они бы заметили, что петух страшно обиделся, и постарались бы все уладить. Петух же усмехнулся и язвительно сказал:
— Ладно, не будем спорить. Да и не в шее дело, я все равно красивее тебя. Взглянуть хотя бы на мои перья: синие, черные, даже желтые есть. А главное, у меня на голове роскошный султан, а у тебя и посмотреть не на что.
— Сколько я на тебя ни гляжу, — отвечала гусыня, — вижу только какой-то пучок растрепанных перьев, и больше ничего.
А уж что до этого красного гребня у тебя на голове, так любому, у кого есть хоть капля вкуса, на него и смотреть-то противно. Впрочем, тебе этого не понять. Тут петух рассвирепел. Он подскочил к гусыне и заорал во все горло:
— Старая дура! Я красивее тебя! Ясно? Красивее тебя!
— Врёшь! Фитюлька несчастная! Это я красивее!
Наконец шум отвлек девочек от беседы о платьях, и они уж было собрались вмешаться, как вдруг свинья, услышавшая этот спор, примчалась с другого конца двора к гусыне с петухом и сказала, отдуваясь:
— Да вы что? В своем уме? Самая красивая — я!
Девочки и даже петух и гусыня покатились со смеху.
— Не понимаю, что тут смешного, — сказала свинья. — Но теперь-то вы сами видите, кто красивее всех.
— Ты шутишь, — сказала гусыня.
— Бедная свинья, — сказал петух, — если бы ты только могла видеть, как ты безобразна!
Свинья сокрушенно взглянула на них и сказала со вздохом:
— Мне все понятно, да-да, все понятно. Вы оба просто завидуете. Нет никого красивее меня. Вот и родители так говорят. Ну не притворяйтесь. Признайтесь, что я красивее всех.
Спор был в самом разгаре, когда в воротах появился павлин, и при виде его все замолчали. Его крылья отливали медью, сам он был синий, а длинный зеленый шлейф весь усыпан синими пятнышками с золотым ободком. Он гордо вышагивал, высоко держа увенчанную хохолком голову. Павлин мелодично рассмеялся и, повернувшись боком, чтобы предстать во всей своей красе, сказал, обращаясь к девочкам:
— Я слышал их спор из-за плетня, и, не скрою, он меня безумно рассмешил. Просто безумно… — Он снова сдержанно засмеялся и продолжал: — Да, вот вопрос так вопрос: кто из этой троицы самый красивый. Взять хотя бы свинью: как хороша ее гладкая розовая кожа! Недурен и петух со своим огрызком на голове и с перьями, которые торчат во все стороны, как иголки у дикобраза. А с какой непринужденной грацией движется наша почтенная гусыня, с каким достоинством держит голову!.. Ох, сил нет, как смешно! Но шутки в сторону. Скажите-ка, барышни, не кажется ли вам, что тем, кто так далек от совершенства, следовало бы поменьше говорить о своей красоте?
Девочки покраснели от стыда за свинью, петуха и гусыню, да, пожалуй, и за себя.
Но упрекать павлина в бестактности они не решились, к тому же им было так приятно, что он назвал их барышнями.
— Впрочем, — продолжал павлин, — разумеется, если не имеешь представления о настоящей красоте, это вполне простительно.
И он стал медленно поворачиваться на месте, принимая разные позы, чтобы каждый мог вдоволь на него насмотреться. Свинья и петух, онемев от восхищения, глядели на него во все глаза. Гусыня же, казалось, не слишком удивилась. Она спокойно окинула павлина взглядом и сказала:
— Что ж, вы, конечно, недурны, но мы видали красавцев не хуже вас. Вот, к примеру, я сама знала одного селезня с таким же красивым опереньем. И он не важничал. Правда, у него не было ни хохолка, ни этого длиннющего хвоста, которым вы сгребаете всю пыль с дороги. Но к чему, скажите на милость, порядочной птице такие украшения? Только представьте себе меня с кисточкой на голове и с метровым хвостом! Нет-нет. Вздор.
Пока она говорила, павлин еле сдерживал зевоту, а когда кончила, даже не дал себе труда ответить. Тут и петух снова расхрабрился и уже открыл было рот, чтобы сравнить свои перья с павлиньими, но в ту же минуту у него захватило дух: павлин распустил длинные перья своего хвоста и раскрыл его огромным веером. Даже гусыня была ослеплена этим зрелищем и невольно вскрикнула от восторга. А изумленная свинья шагнула вперед, чтобы получше рассмотреть перья, но павлин отскочил от нее.
— Пожалуйста, не подходите ко мне, — сказал он. — Я птица исключительная, я не привык якшаться с кем попало.
— Простите, — пробормотала свинья.
— Нет, это вы меня простите за то, что я высказался столь резко. Видите ли, для того чтобы быть таким красивым, как я, приходится прикладывать немало усилий. Сохранять красоту почти так же трудно, как и приобрести ее.
— Как? — удивилась свинья. — Разве вы не всегда были красивы?
— Конечно, нет. Когда я родился, мою кожу покрывал только жалкий пушок, и ничто не обещало, что когда-нибудь все будет по-другому. Лишь постепенно я изменился и стал таким, как сейчас, и это стоило мне большого труда. Я шагу не мог ступить, без того чтобы мать не напомнила мне: «Не ешь червяков, хохолок будет плохо расти. Не прыгай на одной ножке: хвост покривится. Не объедайся. Не пей за едой. Не ходи по лужам».
И так без конца. Мне не разрешали водиться с цыплятами и с другими животными в замке. Я ведь живу в замке, вон там — видите? Да, было не очень-то весело. Только иногда хозяйка замка брала с собой на прогулку меня да еще борзую, а все остальное время я был один. А стоило матушке лишь заподозрить, что я развлекаюсь или думаю о чём-нибудь веселом, как она принималась в отчаянии кричать: «Ты с ума сошел! Смеешься, развлекаешься, посмотри на себя: ведь у тебя уже и в походке, и в хохолке, и в хвосте появилось что-то вульгарное!» Так и говорила.
Ох, туго мне приходилось! И даже теперь, поверите ли, я все еще соблюдаю режим. Чтобы не потолстеть и не утратить яркость оперения, я должен придерживаться строгой диеты, делать зарядку, заниматься спортом… Не говоря уж о том, сколько часов отнимает туалет.
По просьбе свиньи павлин стал подробно перечислять все, что нужно делать, чтобы быть красивым, и, проговорив целых полчаса, не рассказал еще и половины. Между тем с каждой минутой подходили все новые животные, и все толпились вокруг павлина. Сначала пришли волы, потом овцы, за ними коровы, кот, куры, осел, лошадь, утка, теленок-все, включая даже мышку, которая проскользнула между лошадиных копыт. Все напирали друг на друга, чтобы лучше видеть и слышать.
— Не толкайтесь! — кричал то теленок, то осел, то баран, то еще кто-нибудь. — Не толкайтесь! Тише! Да не наступайте же мне на ноги… Кто повыше, станьте сзади… Подвиньтесь-ка… Тише, вам говорят… Вы у меня дождетесь…
— Успокойтесь, — говорил павлин. — Повторяю еще раз: утром, как встанете, съесть семечко райского яблочка и выпить глоток воды. Поняли? Тогда повторите.
— Семечко райского яблочка и глоток воды, — хором сказали все домашние животные.
И хотя Дельфина и Маринетта постеснялись повторять вместе с ними, но ни один школьный урок не слушали они так внимательно, как этот, преподанный павлином.
Следующее утро принесло родителям одни неожиданности. Началось это в хлеву, когда они принялись, как обычно, наполнять ясли и чаны. Лошадь и волы вдруг недовольно заявили:
— Не надо, не надо, зря стараетесь! Если уж хотите угодить, дайте нам семечко райского яблочка и глоток воды.
— Что, что? Семечко? Какое еще семечко?
— Ну да, семечко райского яблочка.
Ничего другого мы в рот не возьмем до самого обеда, и так будет каждый день.
— Ждите, как же! — сказали родители. — Так вам и станут подавать семечко райского яблочка! Нечего сказать, сытная пища! Самая подходящая для рабочего скота! Ну, хватит. Вот сено, вот овес и ботва. Извольте есть. И не морочьте нам голову.
Из хлева родители пошли во двор задать корму курам и прочим птицам. Корм был отличный, но никто к нему даже не притронулся.
— Мы хотим, — сказал родителям петух, — семечко райского яблочка. Ничего другого нам не надо.
— Опять это семечко! Что это вам всем вдруг приспичило питаться яблочными семечками? Послушай, петух, в чем дело?
— Скажите-ка, родители, — отвечал петух, — хотите видеть меня с хохолком на голове и с пышным веером длинных разноцветных перьев?
— Нет, — мрачно ответили родители. — Мы хотим тебя видеть в супе. Суп — это да. А он от перьев вкуснее не станет.
Петух отвернулся и громко сказал птицам:
— С ними вежливо разговариваешь, а они вон как отвечают!
Родители пошли кормить свинью. Но, едва учуяв запах мятой картошки, она закричала из своего закута:
— Уберите сейчас же это месиво! Я хочу только семечко райского яблочка и глоток воды!
— И ты туда же! — сказали родители. — Да что случилось?
— Просто я хочу быть красивой — такой стройной, такой ослепительной, чтобы каждый встречный останавливался и говорил мне вслед: «Посмотрите, как хороша! Как бы я хотел быть такой бесподобной свиньей!»
— Бог с тобой, свинья, — сказали родители, — понятно, что ты заботишься о своей красоте, но только зачем же отказываться как раз от самого главного? Разве ты не понимаешь, что быть красивой — это значит быть жирной?
— Расскажите это кому-нибудь другому! — сказала свинья. — Ну так как же? Дадите вы мне семечко райского яблочка и глоток воды?
— Ладно. Мы подумаем об этом и, может, когда-нибудь…
— Не когда-нибудь, а сейчас же. И это еще не все. Каждое утро меня надо выводить на прогулку. И еще следить, чтобы я занималась спортом, следить за моим рационом, сном, за моими знакомствами, за моей походкой… в общем… за всем…
— Ладно. Вот наберешь еще килограммов десять — и начнем. А пока ешь, что дают.
Наполнив чан свиньи, родители вернулись на кухню и увидели, что Дельфина и Маринетта уже собрались идти в школу.
— Уже уходите? Но… но ведь вы еще не завтракали? Девочки вспыхнули, и Дельфина, запинаясь, пробормотала:
— Что-то не хочется. Наверно, объелись вчера вечером.
— Нам лучше выйти на воздух, — прибавила Маринетта.
— Ну и ну! — сказали родители. — Такого еще не бывало! Что ж, как хотите…
А когда девочки были уже на полдороге к школе, родители заметили в кухне на столе разрезанное пополам райское яблочко, в котором не хватало двух семечек.
Обитатели хлева недолго соблюдали предписанную павлином диету. Яблочное семечко в желудке вола или лошади — это все равно что ничего. И, отказавшись от погони за красотой, они на следующее же утро вернулись к своей обычной пище. Дольше продержались обитатели птичьего двора, и какое-то время казалось, что такая жизнь им очень подходит. Несколько дней кокетство превозмогало колики в животе. Куры, цыплята, петух, утка, даже гусыня только и говорили, что о посадке головы да цвете перьев, а кое-кто из молодежи, возомнив о себе бог весть что, стал сетовать на ужасные условия, в которых приходится жить птицам такой необыкновенной красоты. Услышав эти бредни, гусыня сразу опомнилась и заявила, что скудная пища, которой довольствуются птицы, уже I довела некоторых из них до умопомрачения, а скоро спятит и весь птичник. Что же до обещанной красоты, то она, гусыня, видит пока только запавшие глаза, поникшие перья да тощие шеи. Одни птицы, поразумнее, тут же согласились с гусыней. Другие сдались не сразу. Самым стойким сторонником павлиньей диеты остался петух да с ним кучка его обожателей-цыплят. Они крепились до тех пор, пока однажды петух не свалился от голода посреди двора и не услышал, как родители сказали: «Надо его поскорее, пока не поздно, зарезать». Перепуганный петух вскочил и бросился поедать зерно и кашу, да так объедался, бедняга, несколько дней подряд, что у него расстроился желудок. Та же участь постигла цыплят.
Через две недели от павлиньей диеты отказались все, кроме свиньи. Тем, что она съедала за день, не насытился бы и крохотный цыпленок, а она к тому же совершала долгие прогулки, делала зарядку и занималась разными видами спорта. За неделю она похудела на тридцать фунтов. Остальные животные уговаривали ее поскорее вернуться к сытной пище, но она как будто и не слышала и только спрашивала:
— Ну, как я выгляжу?
И животные грустно отвечали:
— Ты совсем отощала, бедная свинья. Кожа на тебе так сморщилась и обвисла, что просто смотреть жалко.
— Вот и хорошо, — говорила свинья. — Вы еще не так удивитесь! — И она хитро подмигивала и продолжала, понизив голос: — Да, кстати! Сделайте одолжение, взгляните мне на макушку… Видите?
— Что?
— Там что-то растет, что-то наподобие хохолка.
— Да ничего там нет.
— Странно, — говорила свинья. — Ну а шлейф? Его-то вы видите?
— Ты имеешь в виду свой хвостик? Хорош шлейф! Он у тебя еще больше стал похож на штопор.
— Странно. Может, я мало занимаюсь спортом?… Или все еще слишком много ем… Ну ничего, я подтянусь.
Глядя, как свинья все худеет и худеет с каждым днем, Дельфина и Маринетта потеряли охоту быть красивыми. И уж, во всяком случае, решили не голодать. Павлинья диета, которую они пытались соблюдать тайком от родителей, уже не соблазняла их. Тут помогли и советы гусыни. Когда девочки при ней обсуждали, какие у них талии да сколько граммов им надо сбросить, она твердила:
— Поглядите, до чего дошла несчастная свинья из-за того, что не ест досыта. Вы что, хотите, чтобы и ваша кожа повисла складками, а ваши славные ножки превратились в дрожащие прутики? Нет, поверьте мне, все это глупости. Уж я-то, кажется, недурна собой, и перья у меня отличные, так вот — что я вам скажу: красота не самое главное в жизни, куда важнее подрубать платочки, чем щеголять пестрым хвостом.
— Конечно, — отвечали девочки, — вы совершенно правы.
Однажды свинья отдыхала после гимнастических упражнений у колодца; рядом, на краю сруба, лежал и мурлыкал кот. И вот, когда свинья стала спрашивать его, не видно ли еще ее хохолка, коту стало жаль ее, и, притворившись, будто что-то пристально разглядывает, он ответил:
— В самом деле, кажется, что-то заметно. Чуть-чуть, но заметно.
— Наконец-то! — вскричала свинья. — Растет! Уже заметно! Вот счастье… А шлейф… Ну-ка, котик, шлейф тоже виден?
— Еще и шлейф! Ох ты, господи… Нет, мне очень жаль, но…
— Не может быть! Не может быть!
Свинья пришла в такое отчаяние, что кот не выдержал.
— Честно говоря, — сказал он, — до шлейфа еще далеко, но уже пробивается этакий хорошенький маленький веничек.
— Ну да, он еще должен вырасти, — согласилась свинья.
— Вот именно, — подхватил кот. — Но чтобы он вырос, тебе надо побольше есть. Это и к хохолку относится. Павлинья диета была очень хороша для начала, но теперь, когда хохолок и хвост уже прорезались, им необходимо питание.
— А ведь верно, — сказала свинья. — Об этом я и не подумала.
И она тотчас же понеслась к своему чану, съела все, что в нем было, и побежала к родителям за добавкой.
Наконец, наевшись, она принялась скакать по двору и горланить:
— У меня хвост и хохолок! У меня хвост и хохолок!
Животные пытались образумить ее, но она говорила, что все они ей завидуют и что у них глаза не на месте. На другой день она долго спорила с петухом, пока, измученный ее упрямством, он не отступился, сказав со вздохом:
— Да она ненормальная… просто ненормальная…
Свидетели спора, а их было немало, громко расхохотались, и от этого смеха свинье стало не по себе. Целый час за ней по пятам ходила орава цыплят и пищала:
— Ненормальная пошла! Ненормальная! Держите ее! Держите!
Да и другие птицы не могли устоять, чтобы не захихикать или не отпустить ей вслед какое-нибудь обидное словечко. С тех пор свинья ни с кем не говорила о своем хохолке и шлейфе. Но ходила по двору, высоко задрав голову и выпятив грудь, будто аршин проглотила, а если кто-нибудь проходил у нее за спиной, пусть даже на некотором расстоянии, она сейчас же отпрыгивала, словно боялась, как бы ей не наступили на хвост. В таких случаях гусыня указывала на нее девочкам и говорила:
— Вот что бывает с теми, кто слишком занят своей красотой. Они сходят с ума, как наша свинья.
А девочки при этих словах жалели бедную кузину Флору — уж она-то, верно, давно свихнулась. И все-таки Маринетта, та, что посветлее, в глубине души восхищалась свиньей.
Однажды погожим утром свинья пошла гулять и забрела довольно далеко. На обратном пути сгустились тучи, и прямо над головой у свиньи засверкали молнии; ее это ничуть не удивило — она решила, что это трепещет на ветру и поблескивает ее хохолок. И только отметила, как он вырос: таким большим стал, что лучше и не надо. Между тем дождь все усиливался, и свинья укрылась под деревом, пригнув голову, чтобы не повредить хохолок.
Скоро дождь и ветер поутихли, и она пошла дальше. А когда она подходила к ферме, падали уже последние капли, и сквозь тучи пробивалось солнце. Дельфина и Маринетта вместе с родителями вышли из кухни, птицы выбрались из сарая, где пережидали дождь. И в тот самый миг, когда свинья показалась в воротах, девочки закричали, указывая пальцем в ее сторону:
— Радуга! Какая красивая!
Свинья обернулась и тоже вскрикнула. Она увидела у себя за спиной развернутый громадным веером хвост.
— Глядите! — сказала она. — Я распустила хвост!
Дельфина и Маринетта печально переглянулись, а животные зашептались и закачали головами.
— Ну, довольно кривляться, — сказали родители. — Ступай на место, в свой закут. Уже поздно.
— На место? — сказала свинья. — Но вы же видите, что я не могу. Мой хвост так широк, что и во двор-то не влезает. Никак не пройдет между этими деревьями.
Родителям это надоело, и они уже поговаривали, не взять ли палку, но тут девочки подошли к свинье и ласково сказали ей:
— Да ты сложи хвост. И он легко пройдет.
— В самом деле, — сказала свинья. — А я и не догадалась. Знаете, с непривычки…
Она напрягла спину, так что хрустнули кости. И в тот же миг радуга исчезла с неба и заиграла на ее коже такими нежными и яркими красками, рядом с которыми померкли бы даже павлиньи перья.
ВОЛЫ
Дельфина получила похвальный лист, а Маринетта почетную грамоту. Учитель расцеловал обеих сестричек, стараясь не измять их нарядные платьица, а специально прибывший из города супрефект в мундире, расшитом серебром, произнес речь.
— Дорогие мои дети, — сказал он, — образование — вещь хорошая, и те, кто его не имеют, достойны сожаления. По счастью, к вам это не относится. Вот, например, здесь две девочки в розовых платьях, на их белокурых головках я вижу золотые короны. Это значит, что они хорошо поработали. Сегодня девочки вознаграждены за свои труды. И посмотрите на их родителей, они горды не меньше детей. Да, да… Вот еще что: взять, к примеру, меня, не хочу хвалиться, но если бы в свое время я не делал как следует уроки, то никогда не был бы супрефектом и не носил бы этого мундира. Вот почему надо прилежно учиться, а невеждам и лентяям внушать, что без образования не обойтись.
Супрефект поклонился, ученики спели песенку, и все разошлись. Вернувшись домой, Дельфина и Маринетта сменили свои выходные платьица на будничные. Но, вместо того чтобы играть в лапту, в чехарду, в кошки-мышки или в дочки-матери, в классики или в прятки, они принялись обсуждать речь супрефекта. Им очень понравилась эта речь. Они даже расстроились, что под рукой нет ни одного невежды, которому можно было бы внушить, какие блага несет образование.
Дельфина вздохнула.
— Только подумай! У нас два месяца каникул, два месяца, которые мы могли бы провести с большой пользой. Но что поделаешь? Никого нет…
В хлеву у них на ферме было два вола одного роста и возраста, один белый, другой в рыжих пятнах. Волы — как туфли: их всегда бывает пара, потому и говорят — пара волов. Маринетта подошла сначала к рыжему, погладила его и спросила:
— Послушай, вол, а ты не хочешь научиться читать? Сначала большой рыжий вол не ответил. Он решил, что это просто шутка.
— Образование — вещь хорошая! — поддержала сестренку Дельфина. — Нет ничего приятнее, сам увидишь, когда научишься читать…
Рыжий еще некоторое время двигал челюстями, пережевывая эту мысль, хотя у него уже было свое мнение на сей счет.
— Зачем мне учиться читать? Повозка моя, что ли, от этого станет легче? Что, мне еды больше дадут? Разумеется, нет. Стало быть, я буду надрываться попусту? Благодарю покорно, не такая уж я глупая скотина, как вы считаете, милые. Нет, учиться читать ни за что не буду, боже упаси!
— Подожди, — возразила Дельфина, — ты, Рыжий, рассуждаешь неразумно и даже не представляешь себе, сколько теряешь! Подумай только!..
— Все обдумано, красавицы, я отказываюсь. Вот если бы вы предложили мне учиться играть, тогда дело другое.
Маринетта, у которой не только волосы были чуть-чуть посветлее, чем у сестры, но и ум чуть поживее, заявила, что тем хуже для него, пусть прозябает в невежестве и на всю жизнь останется дурным волом.
— Неправда, — сказал Рыжий, — я не дурной вол. Я всегда хорошо делал свое дело, и упрекнуть меня не в чем. Ну и смешны же вы мне со своим образованием. Будто без него не проживешь! Заметьте, я не против образования вообще, я просто говорю, что оно не для волов, вот и все. Вам нужны доказательства? Да кто когда видел образованного вола?
— Это вовсе не доказательство, — быстро нашлась Маринетта. — Волы ничего не знают только потому, что никогда ничему не учились.
— Уж я-то, во всяком случае, учиться не буду, можете быть спокойны.
Дельфина опять попыталась заставить его внять голосу разума, но тщетно: он не желал ничего понимать. Девочки отвернулись от него, удрученные его постыдной нерадивостью и равнодушием. Когда они обратились к белому волу, тот, казалось, был тронут их вниманием. Белому нравились девочки, и он очень не хотел огорчать их своим отказом.
К тому же его самолюбию льстила мысль, что со временем он сможет выделиться среди своих жвачных собратьев. Это был славный вол, даже очень славный, ласковый, кроткий, работящий, но немного заносчивый и честолюбивый.
Его надменность проявлялась даже в том, как он поводил ушами, когда хозяин в поле делал ему замечание. Но у всех волов свои слабости, идеальных нет, а у Белого, несмотря на некоторые недостатки, был очень хороший характер.
— Послушайте, — сказал он, — в общем, я бы ответил, как Рыжий: зачем мне читать? Но мне хочется сделать вам приятное. И в конце концов, если образование волу не приносит пользы, то и вреда от него не будет, а иной раз оно, может, и развлечет. Если это не очень хлопотно, я согласен попробовать.
Девочки очень радовались, что удалось найти вола-добровольца, и хвалили его за благоразумие.
— Мы уверены, что ты будешь хорошо учиться и добьешься блестящих успехов.
Он гордо втягивал голову, слушая эти комплименты, отчего шея его собиралась в складки, словно мехи аккордеона, ну почти как у нас с вами, когда мы пыжимся, важничая.
— В самом деле, — бормотал он, — пожалуй, у меня есть способности.
Дельфина и Маринетта пошли уже было за букварем, когда Рыжий остановил их своим серьезным вопросом:
— Скажите, девочки, а вы не хотите научиться пережевывать жвачку?
— Пережевывать жвачку? — прыснули они. — А зачем?
— Вот то-то и оно, — сказал Рыжий. — Зачем?
Дельфина и Маринетта решили хранить в тайне занятия с белым волом, чтобы устроить родителям сюрприз. Зато потом, когда вол станет ученым, то-то отец удивится!
Девочки и не мечтали, что первые шаги окажутся такими легкими. Вол и в самом деле проявлял незаурядные способности, а кроме того, был страшно самолюбив.
Из-за насмешек Рыжего он притворялся, что ему доставляет несказанное удовольствие повторять буквы. Меньше чем за полмесяца он стал узнавать их и даже выучил алфавит. По воскресеньям, в дождливые дни и почти каждый вечер после возвращения волов с поля Дельфина и Маринетта тайком от родителей занимались с Белым. У бедняги из-за этого ужасно болела голова, а иногда он просыпался посреди ночи и громко повторял:
— Б, а — ба; б, е — бе; б, и — би…
— Ну и надоел же ты своим «б, а — ба», — ворчал рыжий вол. — С тех пор как из-за этих девчонок у тебя мания величия, и поспать спокойно нельзя. Добро бы еще знать, что потом об этом не пожалеешь.
— Да ты и представить себе не можешь, — возражал белый вол, — какое блаженство знать гласные и согласные, читать слоги. Это украшает жизнь, и теперь я понимаю, почему так расхваливают образование. Я себя чувствую совсем другим волом, не то что три недели назад. Какое счастье учиться! Ну да ничего не поделаешь, это ведь не каждому дано. Нужны способности.
Видя, как счастлив Белый, рыжий вол порой сомневался, разумно ли с его стороны так упорствовать в своем невежестве. Но в тот год у корма был чудесный вкус лесного орешника, солому подстилали неколкую, и он легко обошелся без духовной пищи.
На первых порах Дельфина и Маринетта могли гордиться своей затеей. Их ученик делал поразительные успехи. К концу месяца он начал считать, читал довольно бегло и даже выучил маленькое стихотворение. Белый вол столь усердно занимался, что в кормушке перед ним всегда стояла раскрытая книга, страницы ее он переворачивал языком. То это была «Арифметика», то «Грамматика», то «История» или «География», а иногда даже и сборник стихов. Любознательность Белого была под стать его прилежанию: всякое печатное слово казалось ему интересным.
— Как только я мог жить, не ведая об этих прекрасных вещах! — бормотал он каждую минуту.
В поле или на пастбище, просто на дороге — везде и всюду не переставал он размышлять о прочитанном. Надо сказать, что ему было шесть лет, а волы в этом возрасте столь же разумны, сколь иные люди бывают лет в двадцать пять, а то и в тридцать. Только, к несчастью, учеба его очень утомляла: во-первых, он был чересчур старательным; во-вторых, эти новые занятия не избавляли его от работы в поле, а, наоборот, добавлялись к ней.
Ужаснее всего было то, что, постоянно погруженный в свои мысли, он сплошь и рядом забывал попить и поесть. Девочки, видя, как он отощал и осунулся, как запали и потускнели его желтые глаза, не на шутку тревожились.
— Мы очень довольны твоими успехами, — сказали они. — Ты теперь знаешь почти столько же, сколько мы сами, а может, еще больше, если это возможно… Так что ты заслужил отдых, да и для здоровья твоего он необходим.
— Плевать я хотел на свое здоровье. Я думаю только о духовной красоте.
— Но послушай, будь благоразумным. Если бы ты ходил, как мы, в школу, то увидел бы, что так много заниматься нельзя, всему свое время. Недаром же есть переменки, чтобы передохнуть, и, наконец, каникулы.
— Ах, каникулы? Что ж, давайте поговорим о каникулах, я вовсе не прочь о них поговорить!
Девчушки, не вполне понимая, к чему он клонит, исподтишка толкали друг друга локтями и словно спрашивали: «Что это с ним? Какая муха его укусила?»
— Я вас насквозь вижу, — сказал вол. — Нечего друг друга в бок пихать. Я вовсе не спятил и отдаю себе отчет в том, что говорю. Вы тут про каникулы толкуете, про то, про се, дескать, мне нужно отдохнуть. Могу ответить, что и я того же мнения. Каникулы — это прекрасно, но тогда уж настоящие каникулы, чтобы можно было заниматься тем, чем хочешь, сообразно своим вкусам и склонностям. О, иметь возможность посвятить свой досуг поэзии, познакомиться с трудами ученых… вот это настоящая жизнь!
— Но поиграть когда-то ведь тоже нужно, — сказала Маринетта.
— С вами невозможно разговаривать, — вздохнул вол, — вы же дети.
И он вновь погрузился в учебник географии, помахивая хвостом, чтобы дать понять девочкам, что их присутствие его раздражает. Дальше разговаривать не имело смысла: вол уперся на своем.
— Раз уж ты отказываешься от каникул, — сказала Маринетта, — по крайней мере постарайся, чтобы тебя не застигли врасплох за учебой. Когда я думаю, что ты не расстаешься с книгой и что наши родители могут застать тебя врасплох…
Нетрудно догадаться: давая такой совет, наши беляночки теперь вовсе не были уверены, что их затея так уж хороша.
Во всяком случае, своими успехами они не хвастались.
Разумеется, хозяин не мог не заметить перемен в поведении белого вола. Однажды под вечер он ахнул, увидев его сидящим на пороге хлева. Было похоже, что вол созерцает природу.
— Вот еще новости, — сказал хозяин, — что это ты здесь делаешь? И почему это ты сидишь?
Вол, раскачивая головой и полуприкрыв веки, отвечал нараспев:
Хозяин не знал или забыл, что это стихи Виктора Гюго, и сначала только удивился:
— Складно этот вол говорит. — Но заподозрил, что за такой красивой речью что-то таится, и добавил: — Гм, не знаю, в чем тут дело, но в последнее время он какой-то странный, очень странный.
Он не видел, как смутились и покраснели Дельфина и Маринетта, присутствовавшие при этой неприятной сцене. Но когда отец закричал: «Ну-ка, пошел в стойло! Не хватало еще, чтобы вол ломался!» — они совсем залились краской и чуть не заплакали.
Вол поднялся, бросив на хозяина взгляд, полный грусти и гнева, и встал на свое место рядом с рыжим собратом. Вскоре ученые бдения Белого сказались и на работе в поле. Голова его была настолько забита стихами, историческими датами и афоризмами, что он весьма рассеянно слушал приказания хозяина. Иногда и вовсе их не слушал, и плуг заносило к самой меже, а то и прямо на нее.
— Будь внимательней, — шептал ему на ухо Рыжий, толкая его плечом, — нам же влетит из-за тебя.
Белый гордо встряхивал ушами и, едва выровнявшись, тут же снова тащил упряжку вбок.
Как-то утром посреди борозды он вдруг остановился, хотя хозяин ничего такого не приказывал, и принялся рассуждать вслух. Вот что он говорил:
— Цилиндрический резервуар высотой семьдесят пять сантиметров наполняется из двух кранов со скоростью двадцать пять кубических дециметров в минуту. Зная, что один из кранов наполнил бы емкость за тридцать минут, тогда как другой сделал бы это втрое быстрее, чем если бы оба крана были открыты одновременно, определите объем резервуара, его диаметр и время заполнения. Интересно… Очень интересно…
— Что это он там лопочет? — спросил хозяин.
— Ну-ка, ну-ка, допустим, что оба крана закрыты. Что же тогда происходит?
— Да разъясни ты мне наконец, о чем ты?
Но вол так глубоко ушел в поиски решения, что ничего не услышал и продолжал, не сдвигаясь с места, бормотать цифры. Во все времена волы славились кротостью, не в пример мулам и ослам. Видано ли, чтобы вол не сходил со своего места? Хозяин был на редкость удивлен подобным капризом. «Должно быть, животина заболела», — подумал он. Оставив ручку плуга, он подошел к упряжке и очень дружелюбно спросил:
— Тебе, кажется, нехорошо. Скажи мне честно, что с тобой творится?
Но вол, топнув копытом, злобно ответил:
— Что, право, за несчастье, нет никакой возможности хоть минутку спокойно подумать! Сам себе не принадлежишь! Будто на их плуге у меня свет клином сошелся. Да мне это ярмо поперек горла!
Хозяин застыл в оцепенении, решая, не рехнулся ли вол. Рыжий очень расстроился из-за этого случая, однако виду не подал. Он-то знал, чем вызвана эта вспышка, но был хорошим товарищем и не хотел выдавать друга, выслуживаясь перед хозяином. Наконец белый вол опомнился и уныло извинился:
— Ладно, я был рассеян. Не будем больше об этом, вернемся к работе.
В тот день за обедом девочки всерьез испугались, услышав слова отца.
— Наш белый вол совсем спятил, — говорил он, — сегодня я опять чуть из себя не вышел из-за его выходок. Он в упряжке плохо идет и отвечает, как последний нахал. Я, видите ли, и замечания ему сделать не могу. Как вам это нравится, а? Если он не перестанет валять дурака, продам его мяснику…
— Мяснику? — переспросила Дельфина. — Зачем это?
— Что за вопрос! Да чтобы его просто-напросто съели! Дельфина зарыдала, а Маринетта запротестовала:
— Съесть белого вола? Но я не согласна.
— И я, — заявила Дельфина. — Не есть же его за то, что у него плохое настроение, или за то, что ему грустно…
— Может, его надо было утешить?
— Конечно! Во всяком случае, есть его никто не имеет права!
— И его не съедят!
Поняв наконец, в какую опасную историю они втравили своего друга, девчонки разбушевались: стали топать ногами, кричать и подняли такой рев, что отец сердито заорал на них:
— Тише вы, болтушки! Такие дела девчонок не касаются. Упрямый вол годится только на мясо. Если наш не исправится, его съедят, как он того и заслуживает!
Как только девочки вышли, отец сказал матери, смеясь и уже совсем беззлобно:
— Послушать их, так пусть вся скотина подыхает от старости… А что до белого вола, так его еще долго не продашь: он сейчас такой тощий, что за него много не возьмешь. Кстати, нехудо бы узнать, с чего это он все худеет. Тут что-то не так.
Тем временем Дельфина и Маринетта побежали в хлев предупредить несчастного о том, что ему грозит.
Белый вол как раз зубрил грамматику. Увидев их, он закрыл глаза и без единой ошибочки выпалил очень трудное правило образования причастий.
Но Маринетта отобрала у него учебник, а Дельфина бухнулась перед ним в солому на колени:
— Миленький, похоже на то, что, если ты не перестанешь борозду кривить и папе дерзить, тебя продадут.
— Какая разница, девочка? На этот счет я совершенно согласен с Лафонтеном: «Хозяин — вечный враг наш».
Малышки нашли, что это неблагородно с его стороны. Уж с ними-то ему должно быть грустно расставаться.
— Видите, какой он стал, — заметил Рыжий. — Что ему теперь родственники, что друзья!
— Какая мне разница? — снова заговорил Белый. — Может, на новом месте меня даже будут больше ценить.
— Бедный, — сказала ему Дельфина, — тебя же продадут мяснику.
— И съедят, — добавила Маринетта, обиженная его неблагодарностью. — Тебя съедят, а мы будем виноваты, потому что дали тебе образование, а оно — тут никуда не денешься — тебя испортило. Если не хочешь, чтобы тебя съели, немедленно забудь все, что выучил.
— Я же говорил, что волам это ни к чему, — вздохнул рыжий вол, — но меня и слушать не стали.
Белый посмотрел на своего напарника сверху вниз и сухо ответил ему:
— Да, сударь, я презрел ваши советы, как презираю их и сегодня. Знайте, что я ни о чем не жалею и забывать что бы то ни было отказываюсь.
Мое единственное желание, единственное стремление — учиться еще и учиться всегда. Погибну, но не отступлю.
Рыжий вол вовсе не рассердился на него, а дружески сказал:
— Если ты умрешь, знаешь, мне будет очень грустно.
— Да, да… Все так говорят, а на самом деле…
— Не говоря уже о том, — продолжал Рыжий, — что и тебе несладко придется… Однажды в городе я проходил мимо мясной лавки и видел там быка со вспоротым брюхом, подвешенного за ноги. А голова его лежала отдельно на блюде. С него содрали шкуру, и мясник ножом отрезал куски мяса от его окровавленной туши. Вот до чего и тебя может довести образование, если вовремя не спохватишься.
Белому совсем расхотелось умирать, и он уже был вполне согласен с девочками, хотя для виду все еще артачился.
— Понимаешь, — говорили они ему, — супрефект не имел в виду волов. Если бы мы толком подумали, то научили бы тебя играть в разные игры: в горелки, в кошки-мышки, в салочки, в куклы, в прятки…
— Ну, знаете!.. — возмутился белый вол. — Игры — это для детей.
— А по-моему, — сказал Рыжий, громко смеясь, — мне, по-моему, понравится играть. Например, в салочки или в прятки; не знаю, что это такое, но наверняка что-нибудь очень веселое.
Девочки пообещали научить его разным играм, а Белый поклялся, что отныне будет прилежно работать в поле и в присутствии хозяина не позволит себе отвлекаться.
За целую неделю вол не прочел ни строчки, но был так несчастен, что похудел за это время на двенадцать килограммов и двести граммов, а это даже для вола не пустяк. Дельфина и Маринетта сами поняли, что так он долго не протянет, и принесли ему несколько книжек, выбрав, по их мнению, самые скучные: научный труд о производстве зонтов и очень старый трактат о лечении ревматизма. Волу обе книги показались такими замечательными, что он не только перечитал их несколько раз, но и выучил обе наизусть.
— Дайте еще, — попросил он девочек, когда покончил с этими двумя, и им пришлось уступить.
С тех пор его вновь захватила пагубная страсть к учению, и ничто не могло ее истребить: ни опасность угодить в мясную лавку, ни хозяйский гнев, ни дружеские предостережения Рыжего, который тоже сильно изменился в последнее время.
Дельфина и Маринетта в надежде, что ученый вол не устоит против соблазна сыграть в салочки, в прятки или в жмурки, научили всем этим играм Рыжего. Тот очень увлекся ими, даже чуть-чуть больше, чем пристало взрослому волу; он стал легкомысленным и смешливым. Так что теперь напарники оказались вовсе не парой и ссорились на каждом шагу.
— Не понимаю, — строгим голосом говорил белый вол, печально поглядывая на товарища, — не понимаю…
— Погоди, дай отсмеяться, — перебивал его Рыжий. — Ой, как смешно! Сил моих нет!..
— Не понимаю, как можно быть настолько несерьезным и совсем потерять достоинство. Когда знаешь, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон, что Рейн берет свое начало в горах Сен-Готарда, что Карл Мартелл разбил арабов в семьсот тридцать втором году, тебя охватывает отчаяние при виде взрослого шестилетнего вола, который целиком отдался каким-то идиотским играм и сознательно отказался приобщиться к чудесам…
— Ха-ха-ха! — веселился Рыжий.
— Дурак! Если бы хоть тихо играл и не мешал моим занятиям. Замолчи ты!
— Послушай, старина, отложи-ка ты свои книжонки и давай-ка сыграем во что-нибудь!
— Он совсем с ума сошел! Будто у меня на это есть время…
— В «колечко, колечко, выйди на крылечко», ну хоть полчасика, ну пять минуток!
Иногда белый вол поддавался на уговоры, вырвав у Рыжего обещание, что тот даст ему потом спокойно позаниматься. Но, вечно поглощенный своими мыслями, он играл плохо и, как правило, сдавался. Случалось даже, что это выводило Рыжего из себя, и он очень злился, говоря, что Белый нарочно проигрывает.
— Всякий раз ты сбиваешься, и с первого же раза. Ты что, не знаешь, что такое крыльцо, ты, такой ученый? А если знаешь, почему говоришь: «Крылечко, крылечко, выйди на колечко?» Не очень-то ты хорошо соображаешь, как я погляжу.
— Не хуже твоего, — отвечал Белый, — только я не способен принимать всерьез всякие глупости и этим горжусь.
Игры их по большей части заканчивались взаимными оскорблениями, если не пинками.
— Ну и манеры! — сказала им Маринетта, застав их однажды вечером в разгар ссоры. — Вы не можете разговаривать повежливее?
— Это он виноват, вынудил меня играть с ним в «колечко, колечко, выйди на крылечко».
— Да нет, это все он! С ним и пошутить нельзя!
Дошло до того, что они не могли больше выносить друг друга, и упряжка стала из рук вон. Белый вол, день ото дня все более рассеянный, пятился, когда надо было идти вперед, тянул направо, когда надо было налево, а Рыжий на каждом шагу останавливался и хохотал во все горло или оборачивался к хозяину, предлагая разгадать какую-нибудь загадку.
— Две ноги на трех ногах, а четвертая в зубах. Что это такое?
— Пошли, пошли, мы здесь не для того, чтобы глупости болтать. Н-но!
— Да, — хохотал рыжий вол, — вы так говорите, потому что не знаете ответа.
— И знать не хочу. За работу!
— Две ноги на трех ногах — это совсем нетрудно. Хозяину приходилось бить его кнутом, чтобы заставить работать, но тогда останавливался другой вол, раздумывая, верно ли, что прямая линия есть наикратчайшее расстояние между двумя точками, а Наполеон — величайший полководец всех времен (случались дни, когда он решал этот вопрос в пользу Цезаря).
Фермер огорчался, что его волы теперь совсем не работники, и грустно глядел, как один тянет вкривь, а другой — вкось. Иногда целое утро они прокладывали одну борозду, а после обеда вновь принимались за нее.
— Эти волы с ума меня сведут, — говорил он, приходя домой. — Ах, если б можно было их продать, но ведь о продаже Белого нечего и мечтать, он все худеет и худеет. Ну а если я избавлюсь от Рыжего, который тоже стал никудышным, что мне делать с Одним-единственным волом?
Дельфина и Маринетта испытывали угрызения совести, слушая все это, но очень радовались, что ни одного из волов мяснику не продадут.
Они и не знали, что Белый, не умевший держать язык за зубами, все испортит.
Однажды вечером, вернувшись с поля, Рыжий играл с девочками в «выше ноги от земли» во дворе фермы.
Вообще-то, он не взбирался ни на дно перевернутой кадки, ни на верхнюю ступеньку лестницы во дворе, ни на бельевой бак. Для этого он был слишком большим. Но его — по уговору — уже нельзя было осалить, если он успевал поставить копыто хотя бы на краешек. Хозяин неодобрительно глядел на эти забавы.
Когда большой рыжий вол коснулся копытом края колодца, изображая, что забрался на него, хозяин грубо потянул его за хвост и сердито сказал:
— Кончил валять дурака? Нет, вы только посмотрите, как этот болван развлекается!
— Ну и что, — сказал вол, — уж и поиграть нельзя?
— Я разрешу тебе играть, когда работать будешь как следует. Иди в хлев.
Потом он увидел белого вола, ставившего опыт по физике в чане, из которого только что пил.
— И тебе тоже советую быть поприлежнее, — сказал хозяин. — Я уж найду средство заставить тебя работать! А пока и ты иди в хлев! Ну на что это похоже — возиться в воде? Проваливай отсюда!
Белый вол, раздраженный тем, что прервали его опыты, а еще более того оскорбленный хозяйским тоном, решил дать отпор:
— Я еще допускаю, что вы могли так грубо разговаривать с волом невежественным, вроде моего коллеги, — эти существа другого языка и не разумеют. Однако с таким волом, как я, с ученым волом, следовало бы обращаться иначе.
Подошедшие поближе девочки делали знаки, чтобы он прикусил язык, но Белый продолжал:
— Так вот, говорю я, с волом, сведущим в науках, изящной словесности и философии…
— Как? Вот уж не знал, что ты такой образованный…
— Тем не менее, это так. Я прочел больше книг, чем вы прочтете за всю свою жизнь, месье, и знаю гораздо больше, чем вся ваша семья, вместе взятая. Неужели вы считаете, что столь выдающемуся волу к лицу заниматься полевыми работами? И полагаете, что место философии — у плуга? Вы ругаете меня за плохую работу в поле, но ведь я создан для дел более важных!
Хозяин слушал внимательно, время от времени качая головой. Девочки думали, что он очень сердит и, конечно, когда Белый расскажет все, рассердится еще больше, и им было очень не по себе, но вдруг они услышали, как отец сказал:
— Что же ты раньше мне ничего не говорил? Если бы я знал, то уж, будь уверен, не заставил бы тебя заниматься такой тяжелой работой: я слишком уважаю науку и философию.
— И изящную словесность, — добавил вол. — Вы, похоже, забыли про изящную словесность.
— Разумеется, и изящную словесность тоже. Конечно, пусть будет так: отныне ты останешься дома для завершения образования в полном покое. Я больше не хочу, чтобы ты отрывал от сна часы для чтения и раздумий.
— Вы замечательный хозяин. Чем отблагодарить вас за великодушие?
— Заботой о своем здоровье. Наука, философия и изящная словесность хороши, когда они пышут здоровьем. Теперь твое дело — учиться, есть и спать. А Рыжий будет работать за двоих.
Вол не уставал восхищаться таким хозяином и нахваливал его за ум, а девочки гордились отцом.
Только рыжему волу радоваться было нечему.
Впрочем, он тоже приноровился к новым порядкам, и, хотя работал он не безупречно, ему все-таки легче было тянуть лямку, чем прежде, когда его собрат по рассеянности или просто назло портил ему всю работу.
Что до белого вола, то он, можно сказать, зажил совершенно счастливо.
Решительным образом он сосредоточился на философии, и так как свободного времени у него было хоть отбавляй, а корм был преотличный, мысли его текли безмятежно. Он нагуливал все больше жира и выглядел отменно. Как раз к тому времени, когда вол создал очень стройную философскую систему, хозяин заметил, что он прибавил семьдесят пять килограммов, и решил продать его мяснику вместе с рыжим волом. По счастью, в тот день, когда он отвел быков в город, большой цирк разбил шатер на центральной площади. Владелец цирка, проходя мимо, услышал, как белый вол разглагольствовал о науке и поэзии. Подумав, что ученый вол пригодится ему в цирке, он предложил за него хорошую цену. Вот тут-то рыжий вол и пожалел, что не стал учиться.
— Возьмите и меня, — сказал он, — я, правда, неученый, но знаю забавные игры и смогу смешить публику.
— Возьмите его, — попросил белый вол, — это мой друг, я не могу с ним разлучиться.
После некоторых колебаний владелец цирка согласился купить и Рыжего, и жалеть об этом ему не пришлось, потому что волы имели большой успех.
Назавтра девочки пришли в цирк и хлопали своим друзьям, показавшим замечательный номер. Им было чуть-чуть грустно думать, что они видят волов в последний раз, и даже Белый, который раньше только и мечтал о путешествиях для расширения кругозора, едва удержался от слез.
Родители купили другую пару волов, но девочки уже не собирались учить их читать: теперь они знали, что волам грамота ни к чему (разве что посчастливится устроиться в цирк!) и что самые прекрасные книги сулят им самые ужасные беды.
ДАНИЕЛЬ БУЛАНЖЕ
ЧТЕНИЕ
Свеча погасла, и Побер, подбежав к двери, распахнул ее в ночь, полыхающую грозой. Ветер грохотал так, будто мимо проезжала повозка. Он вернулся в нижнюю гостиную, в кресло, где раньше сидел, и взялся за книгу — он только что читал ее — кожаная обложка была еще влажной. Новый удар грома потряс дом до основания, и тут же, в свете молнии, появился на фоне окна силуэт дерева на перекрестке дорог. Побер снова подошел к двери — мрак сгущался в непроглядную темень. Там, где была тень, которая то уходила, то наплывала на него весь день, пока он читал, не отпуская его, будто узника, скрытого завесой книжных строк, Побер различил в свете молний чей-то силуэт — кто-то пересек дорогу, прошел через поле и скрылся за церковью. Книга больше не интересовала его. Побер бросил ее на кресло и вышел. Ему показалось, он услышал крик. Над поселком неистовствовала гроза, но он увидел, как человек вышел из своего укрытия. Перед ним показалась зеленая кладбищенская стена, вспыхнувшая на миг ярко-красным, и снова опустился занавес ночи, еще более мрачный, чем черное небо над головой. Побер вошел за ограду, туда, где, вероятно, начинались могилы, и направился к апсиде[167], подле которой были погребены самые Давнишние мертвецы. Стелы со стершимися именами сменялись урнами и колоннами, на которых виднелись даты эпохи того самого рассказа, который Побер закончил при свете свечи, потому что электричество погасло в тот самый момент, когда герой напрасно умолял ту, которую любил, все бросить и следовать за ним.
Печальное пламя, освещавшее Побера, колебалось, будто танцуя, стыдливо пригибалось, похожее на прекрасную, охваченную смущением недотрогу, пока совсем не погасло. Тут как раз кончился рассказ, можно было отдохнуть, уйти, исчезнуть.
В который уже раз Побер спросил себя, что побуждает его рыться в библиотеке хозяев, исследуя двойные ряды полок, выбрать какую-нибудь из книг в строгом переплете, открыть где попало и окунуться в ее содержание или вдруг завладеть другой, одурманивающей до дрожи, как только начнешь чтение, спрятаться с ней в кресле, будто зверь, спасающий свою добычу, в каком-нибудь укромном углу, пока он сам не стал добычей охотничьего капкана.
Хозяева уже давно ушли к себе в комнату, и Побер коротал время в нижней гостиной, даже не закрыв ставень, а ночь тем временем окутывала все вокруг, стирая очертания дороги, деревьев, церкви. События, о которых он читал, происходили в этих самых местах, и рассказывалось там о двух знатных семьях, которые решили породниться, поженив своих детей. Их согласия не спросили, а молодые люди совсем не любили друг друга — история, противоположная той, которая произошла с Ромео и Джульеттой. Вечером, в день помолвки, родители отправили их погулять, надеясь, что, оставшись наедине, жених и невеста скрепят свои отношения хотя бы поцелуем, поскольку эти паршивцы отказывались целоваться при всех. Молодая пара вышла из дома, и, по доброй или злой воле, отправилась наугад, в сторону болот.

— До чего они глупы! — сказала она.
— У нас еще есть шанс, — ответил он. — Ведь вы терпеть меня не можете, а я вас.
— Я не собираюсь разыгрывать для них комедию, а для вас и подавно.
— Тогда что же нам делать, скажите на милость!
Не успела она ответить, как перед ними возникло дивное создание, прозрачное и будто светящееся изнутри.
— Нужно только позвать меня, — сказало видение, — крикнуть или прошептать мое имя.
— Кто это? — в один голос спросили молодые люди. Облако скользнуло между ними, окутало их и прошептало каждому таинственное имя.
— Где же вы обитаете? — спросила молодая девушка.
— Подле церкви.
— Вы сказали нам правду? — спросил юноша.
— Попытайтесь и убедитесь сами. Но ни один человек не может произнести мое имя более одного раза, — добавило волшебное видение, исчезая из виду.
Молодые люди посмотрели друг на друга и вместе произнесли магическое имя, которое автор книги в тексте не приводил.
А в городке тем временем гости ели-пили и были очень довольны тем, что новобрачных так долго нет — они не осмеливались и надеяться на такое. Утро занялось, когда подвыпившие гости расходились по домам, возвращаясь к обычным делам, а коровницы шли домой после ранней дойки. В полдень новобрачные не вернулись, и вечером того же дня все снова собрались, пытаясь понять, в чем же дело. Может, они поехали в город, в Париж, к знакомым, в гостиницу, а может, заблудились в лесу? Сельский полицейский переворошил всех браконьеров, дровосеков, заготовителей древесного угля и владельцев транспортных средств. Но молодых так и не нашли. Поскольку люди ничем не могли помочь, рассказ переходил на увлеченное описание общих мест, красот пейзажа и вещей, среди которых жили молодые люди. Какая-нибудь ваза, стул или окно вызывали у Побера больше страха или волнения, чем упоминание об отце или матери пропавших. Постоянные возвращения автора к одному и тому же наводили на мысль, что он испытывает сильное искушение раскрыть таинственное имя. Побер подумал, что угадал его, но тут же вслух сказал себе — так было убедительнее и определеннее, — что, по крайней мере, один раз ежечасно кто-нибудь да говорит о смерти, или видит ее во сне, или запросто ее призывает: «Смерть, я жду тебя, я весь в ожидании, я не боюсь тебя, или я ненавижу тебя», — но ни один из этих призывов никак не влиял на ее действия с незапамятных времен.
Прошла неделя, когда один из рабочих песчаного карьера подтвердил, что видел какую-то молодую пару около болот, после чего все пруды и болота прощупали батогами, но так ничего и не нашли. Новобрачные исчезли, и никто их больше не видел.
Побер закрыл книгу и стал думать, как же могли звать очаровательное видение. Он машинально перебирал всех, кто приходил на ум: женщин, которых любил, приятельниц, знакомых и тех, кого уже забыл, героинь всех известных ему сочинений — в журналах, книгах, театре, даже тех, чье имя он когда-то услышал среди толпы, но призрак не появлялся.
И вдруг с его губ сорвались звуки, которые зазвучали в мозгу почти против воли.
Раздался удар грома, и свет в доме погас. Побер повторил заколдованное имя. Молния осветила окна, и ветер задул свечу, которую он только что зажег. Он встал, направился к двери, чувствуя, что книга обманула его надежды и не надо было ее читать, и тут что-то повлекло его к лесу молний, вздымавшихся над кладбищенской оградой. На одном из клинков, украшавших апсиду, ему привиделось сказочное имя. Буквы вычерчивались светлячками, и каждый нажим пера — это трепет скопища насекомых, вытянувшихся в точно обозначенную линию; и тут же маленькие существа, танцующие и светящиеся, исчезали в глубине камня, шурша крыльями, — он быстро поглощал их. И вот уже перед глазами Побера не осталось ничего, кроме серого рельефа, по которому его взгляд заскользил в ночь, ставшую теперь спокойной и тихой. Он вернулся в хозяйский дом.
Гостиную вновь заливали потоки неяркого электрического света. Побер выключил его и поднялся к себе в комнату. Еще до того, как хозяева встали, он до зари вышел из дома, горя нетерпением найти при свете дня могилу, прятавшую имя, которое он напрасно пытался вспомнить. Перед ним был камень без всяких надписей, осевший в землю, вокруг которого проходил маленький, почти стершийся от времени желобок. Покой этих мест наполнил его ощущением сладости жизни, дерево украшали гирлянды птиц.
ВЕРКОР
ХРАНИТЕЛЬ ЛОМСКОГО ЛЕСА
Я хочу рассказать тебе о замужестве Батильды. История эта, сама по себе весьма необычная, случилась, когда Батильде шел девятнадцатый год. Отец ее был небогат. Однако вел происхождение от бургундов[168] и был настоящим бароном. За добрую службу король Гундагар пожаловал ему одно из своих поместий, но такое крошечное, что на доходы с него было не прожить; к тому же за каждый клочок своей земли барону приходилось бесконечно воевать с окрестными сеньорами, отчего он разорялся еще больше. Так что не только добрые феи навещали маленькую Батильду, когда та еще лежала в колыбели. Были среди них и зловредные. И вот однажды — малышке минуло в ту пору несколько месяцев — родители заметили, что она ничего не слышит. А в те времена уж если кто рождался глухим, поневоле должен был остаться на всю жизнь и немым; тогда еще не умели обучать таких людей речи (специальных-то школ, как сейчас, и в помине не было!). Самое большее, что было дано Батильде, — разбирать по губам, о чем идет речь; но отвечать она могла только жестами. Девочка росла в странном мире без шумов, слов, музыки, без птичьего пения. И все же музыки ей хватало: музыкой стали для нее цвета и краски; это было то, что она слышала, если можно так сказать, глазами. А глаза у нее были такие большие и зеленые, что приводили в восхищение каждого, кто бы на нее ни посмотрел.
Эти глаза лучились добротой и умом. И все жалели девочку от всей души.
Однажды, когда Батильда, еще совсем юная, гуляла по саду, разбитому в замке, мать заметила, что она рвет цветы, но не собирает их в букеты. Девочка раскладывала цветы по земле, подбирая по цвету, однако не голубые с голубыми, желтые с желтыми или красные с красными; наоборот, она с такой удивительной гармонией смешивала тона, что, казалось, и вправду возникает музыка. Мать Батильды была потрясена увиденным и, решив, что у дочери глаза и душа художника, купила для нее разноцветную шерсть, большой ткацкий станок и обратилась к лучшему из мастеров, ткавших ковры у них в округе, пообещав, что не постоит за расходами, лишь бы он обучил девочку всем тайнам своего ремесла. В самом деле, та схватывала на лету любую премудрость ткацкой работы. И вскоре ее ковры по красоте, цвету и выдумке стали превосходить ковры ее учителя. О Батильде заговорили. Отовсюду приходили люди, чтобы взглянуть на ее искусство. Богатые соседи — те, с которыми барон жил в мире, — желали украсить ее коврами стены своих замков. Взамен они предлагали посуду из позолоченного серебра, золотые чаши, серебряные кувшины для воды и драгоценные камни. Судьба улыбнулась барону благодаря мастерству его дочери. И все же тоска не покидала его; он не сомневался, что дочь останется одинокой вопреки таланту и красоте: кто же захочет взять в жены глухонемую девушку?
Севернее их замка жил один сеньор со своим сыном, у которых тоже было большое горе. Однажды во время охоты на лис пятнадцатилетний мальчик неудачно упал с лошади, ударился головой о пень — и вскоре ослеп. Юношу звали Жоффруа. Он всегда любил музыку, а после несчастья она стала единственной отрадой его жизни; он играл на разных инструментах и напевал мягким баритоном чувствительные и грустные песни, которые сам же и сочинял. Слава об этих песнях разнеслась по окрестностям, и многие знатные дамы заглядывали в замок послушать певца; барышни вздыхали, глядя на его прекрасное лицо, — но что же поделать, если он слеп?
От людей, ездивших и полюбоваться мастерством Батильды, и послушать его собственные песни, Жоффруа все чаще слышал о молодой ковровщице; и столько добрых слов было сказано о ее красоте и таланте, и столько было говорено о ее несчастье, что сердце юноши дрогнуло. Он был слепым, но до пятнадцати лет успел насмотреться на многие чудеса природы, и когда ему описывали ковры Батильды, юноша представлял их верхом совершенства.
День ото дня он все больше надеялся — и все больше отчаивался: он понимал, что вместе с любовью в его сердце стучится злосчастие. И вправду, если представить, что в один прекрасный день они бы встретились, Жоффруа не смог бы увидеть юную мастерицу; Батильда же, напротив, прекрасно сумела бы разглядеть юного певца, но не услышала бы его; он же, в свой черед, услышал бы даже шепот ее губ, но она-то была немой! Так что никогда они не сумели бы заговорить друг с другом и, стало быть, узнать друг друга. Навсегда они должны были остаться чужими людьми, даже если бы поженились. Тщетные мечты! И он угасал от печали.
Несмотря на свою беду, Жоффруа любил прогуливаться по окрестной равнине в сопровождении верного пса Обри. И при этом воображение рисовало ему все, что происходит вокруг, — ведь он слышал множество звуков и отзвуков; это не дано зрячим людям, которые не развивают слух, нуждаясь в нем меньше, чем в зрении. Слепой юноша различал и тончайшую трель далекого жаворонка, и легчайшее поскрипывание насекомого в траве, и тишайшее прикосновение к камню дождевого червя. В одну из таких прогулок, когда, напряженно вслушиваясь, он брел за своим псом, ему почудился стон. Но Жоффруа не смог понять, откуда шел этот стон. Странное дело: стоило пойти в одну сторону, как звук раздавался с другой. Всякий раз, думая к нему приблизиться, Жоффруа замечал, что тот звучит позади него. Бросаясь то вперед, то назад, юноша вскоре сбился с дороги и уже не знал, где оказался; ни палка, ни пес не могли ему помочь. Наконец Жоффруа нащупал какую-то тропу и пошел по ней, думая, что она ведет в замок.
Но, к его удивлению, Обри вместо того, чтобы бежать вперед, принялся тянуть поводок назад.
— Ну же, пошли! — звал его Жоффруа. — Что с тобой, Обри?
И он стал дергать поводок к себе.
Вдруг послышался отрывистый визг — так визжит собака, если потащить ее за лапу, — а потом поводок рванулся с такой силой, что выскользнул из рук Жоффруа. Тот хотел поднять его, но животное убежало.
Долго он звал:
— Обри!.. Обри!..
Пес не возвращался. Как же теперь, одному, найти дорогу домой? Бедняга Жоффруа призвал на помощь все свое мужество, чтобы хладнокровно решить, как поступить дальше. Теперь его мог выручить только ветер.
Юноше помнилось, что, когда он покидал замок, ветер дул в лицо. Быть может, повернувшись к ветру спиной, он найдет дорогу? Жоффруа нащупывал палкой тропу, боясь оступиться, и вдруг снова услышал впереди себя стон, который его так озадачил. На этот раз каждый шаг приближал его к цели. Звук становился все яснее и все больше походил на человеческий голос. Это была почти песня, скорее даже молитва, исполненная большой тоски. Жоффруа показалось, что дорога пошла под уклон. Это его удивило, ведь он всегда прогуливался по равнине. Юноше стало не по себе, и он хотел уже повернуть назад, но тут мольба зазвучала вновь, и с такой горечью, что Жоффруа не выдержал и сделал еще шаг. Несмотря на недуг, он был смел и любопытен и пошел вперед, осторожно нащупывая землю по сторонам дороги. Но вот и справа, и слева палка наткнулась на стены. Он поднял ее над головой, и она уперлась в потолок. Жоффруа понял, что спускается под землю.
Это и взволновало его, и успокоило. Он, конечно, не знал, куда идет, но теперь уже мог безошибочно подняться наверх: этот коридор непременно вывел бы его к тому месту, которое он покинул. Так Жоффруа продвигался вперед, и стон, похожий на безутешную скорбную песню, звучал все ближе и ближе. Вдруг юноша задел ногой камень — и камень покатился, стукаясь о стены. Когда все смолкло, раздался тревожный вопрос:
— Кто здесь?
Голос немного дрожал, и Жоффруа понял, что перед ним старик. При всем желании Жоффруа не мог бы увидеть ни его лица, морщинистого, как сушеное яблоко, ни длинной белой бороды, падающей между узловатых коленей, ни рубахи, свисающей лоскутьями, ни, наконец, цепи, которая тянулась от ноги старика к стене пещеры: кругом была сплошная чернота. Впрочем, для Жоффруа эта темень не имела никакого значения, он все равно был слеп. В темноте у него было даже преимущество перед другими людьми: тонкий слух, готовый уловить малейшее колебание воздуха. По тяжелому дыханию узника юноша понял, что это очень старый человек; по шуршанию одежды — что она уже давно превратилась в лохмотья; по металлическому позвякиванию на земле — что бедный старик прикован.
— Кто здесь? — повторил тот.
— Молодой сеньор здешних мест, — ответил Жоффруа. — Но вы, бедняга, вы-то что здесь делаете?
— Увы! — вздохнул старик. — Я горько расплачиваюсь за ошибку молодости.
Меня зовут Изамбер, и я был не самым прилежным школяром. Однажды я надсмеялся над духом — хранителем Ломского леса: я утверждал, что он не существует, поскольку его никто не видел. Но как-то раз, когда я с несколькими приятелями охотился в этом лесу на оленя, мой конь понес, я ударился головой о дубовый сук, потерял сознание и очнулся вот здесь. В темноте я услышал суровый голос: «Эта темница — кара за твои скверный слова, Изамбер. Не видать тебе свободы, пока не разберешь и не прочтешь, громко и внятно, надпись, что вырезана в каменной стене перед тобой. Ты будешь получать еду и питье, но никогда не увидишь дневного света…»
Ах, ну как же я могу прочесть эту надпись здесь, где не видать ни зги? Тогда мне было двадцать лет. Теперь, наверно, сто. Я потерял счет времени. Я не вижу, как проходят дни, месяцы, годы. А они идут и идут без конца…
— Бедный Изамбер! — воскликнул Жоффруа.
— Ты пришел спасти меня? — взволнованно спросил старик. — Ты будешь щедро вознагражден за это. Тот страшный голос еще сказал: «Если ты сам не сможешь прочитать надпись, но какая-нибудь милосердная душа захочет это сделать за тебя, — ты будешь свободен, а любое желание твоего спасителя исполнится. Но запомни: только одно желание. И знай: если он не сможет прочесть эту надпись, он будет навечно прикован к стене вместе с тобой!..»
Я понял, что к моим мучениям прибавляется еще одно, самое невыносимое, — пытка ожиданием. Конечно же, я стал надеяться. Но кто отважится на такой риск? Я все ждал и ждал, но никто не приходил ко мне… Ты первый…
Но нет! Это невозможно! — вскричал старик, удрученно вздохнув. — Я не могу, я не смею просить тебя о такой услуге! Ведь в этой темноте ты не сможешь прочесть ни слова и будешь прикован, как я!.. Так что прощай! Прощай! Оставь меня в моей беде! Уходи поживей, пока не поздно!..
Но сострадание Жоффруа было так велико, а сердце столь отзывчиво, что он не решился уйти. Он задумался. Конечно, даже самые зоркие глаза не смогут ничего разглядеть в кромешной тьме. Но, может быть, ему помогут острый слух и чувствительные пальцы? Ведь кроме чуткого слуха слепые обладают не менее тонким осязанием! Жоффруа не забыл о грозившей ему опасности, но решился и поднял свою палку. Он стал медленно водить ею по противоположной стене до тех пор, покуда конец палки не уперся в одну из букв, вырезанных в камне. Еле слышный звук дал ему понять, что место надписи найдено. Благодаря своему тончайшему осязанию Жоффруа сумел определить форму первой буквы, потом и всех остальных; через несколько часов упорного, необычного, труда он соединил все буквы в слова.
Надпись гласила:
Он прочитал эту надпись старику, и тот голосом, сдавленным от волнения, но тем не менее громко и внятно, повторил ее слово в слово. Тотчас оковы упали, из глубины пещеры налетел ветер и мощным порывом приподнял старика и юношу в воздух; их ноги едва касались земли, и обоих несло, точно палую листву, к выходу из подземелья. Когда они были уже снаружи, узник обернулся, чтобы взглянуть на выход из своей темницы, — но тот бесследно исчез. Изамбер и Жоффруа сжали друг друга в объятиях. Слепой почувствовал, что руки Изамбера сжимают его крепко, с юношеской силой, и, пораженный, вскричал:
— Ты снова молод, Изамбер!
И вправду, борода Изамбера потемнела и укоротилась, кожа стала чистой и гладкой, а ногам вернулась их прежняя гибкость, они так и норовили пуститься в пляс. В то же время недавний узник с отчаянием заменил, что его новый друг слеп. Он воскликнул:
— Мой спаситель! Ты вернул мне свободу и молодость, а сам остался слепым! Вспомни, что сказал тот голос в пещере: первое твое желание будет исполнено!
Изамбер нисколько не сомневался, что Жоффруа тут же пожелает стать зрячим. Но тот, в ответ на его слова, покачал головой. У Жоффруа была благородная душа и рыцарское сердце, и сильнее всего на свете он любил Батильду, хотя она об этом и не догадывалась. Громко и звучно юноша произнес:
— Я желаю, чтобы та, которую я люблю, стала слышать и говорить!
В тот же миг вокруг него поднялся вихрь и засвистел ветер, затем звук стал стихать, и наконец, только эхо прозвучало вдалеке, словно отзываясь на человеческий призыв. Жоффруа понял, что его желание исполнилось. Он радостно сжал руку Изамбера и попросил, чтобы тот отвел его назад в замок.
А в это время в нескольких лье от них, в другом замке, юная Батильда, как обычно, ткала большой ковер.
На нем, окруженные цветами и птицами, сражались лев и единорог[169]. Дрова потрескивали в высоком камине, в церкви звонили колокола, славки, иволги и коноплянки щебетали у окна, но девушка ничего этого не слышала, и мать глядела на нее, как всегда, с нежностью, полной восхищения и грусти. Вдруг Батильда резко вскочила и в ужасе закричала, схватившись обеими руками за голову, словно от нестерпимой боли. Мать бросилась к дочери, которая металась по комнате, прижав ладони к ушам и ничего не видя вокруг.
— Что с тобой? Что с тобой, доченька? — испуганно повторяла женщина, прижав ее к себе.
Но бедная Батильда была немой: как могла она ответить, что внезапное нашествие в ее беззвучный мир сотен шумов и голосов повергло ее в панику? Она растерянно выкрикивала какие-то невнятные звуки, раз от разу все тише и тише, словно свыкаясь с ними; наконец она неуверенно отняла одну руку от уха, склонила голову, как будто приготовилась слушать, и робкая улыбка коснулась ее губ, постепенно превращаясь в счастливый смех. Она опустила другую руку, выскользнула из материнских объятий и бросилась к окну, где во все горло распевали синицы и зяблики. Затем девушка повернулась к матери. Она не могла сказать: «Я слышу! Звонят колокола, поют птицы, шумит ветер!» Но лицо ее, счастливое и восхищенное, говорило об этом красноречивее любых слов, и мать Батильды, упав на колени, возблагодарила небо за чудо. Откуда ей было знать, что это Жоффруа, обратившись к хранителю Ломского леса, пожертвовал своим счастьем ради ее дочери.
Невозможно описать ликование Батильды, с которым она что ни день открывала для себя мир слов и музыки; девушка была сообразительна и вскоре научилась понимать на слух то, что раньше могла прочесть только по губам. Она быстро выучилась говорить и думала только о радостях, выпавших на ее долю. Но мало-помалу, сама не зная почему, Батильда загрустила. Точно почувствовала, что своим счастьем обязана чужому горю. Теперь, когда собирались соседи полюбоваться ее коврами, она все чаще слышала имя одного юного сеньора — говорили, он замечательно пел, аккомпанируя себе на цитре[170], но бедняга был слеп! Вскоре она преисполнилась глубокого сострадания к незнакомцу и захотела его послушать. Батильда легко уговорила мать сопровождать ее, и вот однажды, добравшись верхом до замка Жоффруа, они смешались с толпой слушателей, ожидавших в большом зале выхода музыканта. Разумеется, все обратили внимание на Батильду — ту самую, которая ткет такие прекрасные ковры! — и дамы стали перешептываться, повторяя ее имя.
Услышал его и юный Изамбер. Он сел в кресло позади девушки, не сказав ей ни слова.
Когда появился Жоффруа, его лицо показалось Батильде мужественным и благородным, а темные незрячие глаза юноши — самыми красивыми на свете. Едва он запел, Батильда ощутила такую нежность и одновременно такую печаль, что готова была разрыдаться. В этот миг Изамбер наклонился к ее уху и прошептал, что Жоффруа уже давно мог стать зрячим, если бы не его любовь к ней, Батильде. Ошеломленная девушка потребовала, чтобы он немедленно объяснился. И тогда Изамбер поведал ей свою историю и рассказал о том, как Жоффруа спас его и освободил и как, вместо того чтобы вернуть себе зрение, он предпочел пожелать, чтобы Батильда обрела слух. Можешь себе представить, как она была потрясена, услышав этот рассказ!
Ей и подумать было страшно о необходимости представиться Жоффруа. Она поспешно покинула замок. Вконец растерянная, девушка вернулась домой. Всю ночь она не могла сомкнуть глаз и решила любой ценой возвратить Жоффруа зрение.
Утром она оседлала лучшего коня и отправилась в Ломский лес. Это был храбрый поступок: лес кишел волками и другими дикими животными. Но любовь не страшится смерти, а мужество заставляет смиряться даже свирепых зверей. Никто из них не осмелился тронуть наездницу, пока она, повторяя про себя рассказ Изамбера, скакала что есть мочи сквозь чащу и кричала во весь голос:
— Старый хранитель Ломского леса! Если ты существуешь, отзовись!
Батильда надеялась, что эти слова его разгневают, и хранитель волей-неволей даст о себе знать.

Но время проходило, а ответа не было. И вот, когда она проезжала под ветвями необъятной ели, огромной, как крепостная башня, и такой высокой, что ее верхушка терялась в облаках, вдруг, точно из-под земли, раздался оглушительный голос:
— Кто здесь осмелился оскорблять меня?
Батильда остановила коня и, подняв глаза, увидела между громадными ветвями нечто напоминающее зеленую бороду вокруг черного дупла, похожего на рот.
— Хранитель! — воскликнула она. — Я не хотела тебя оскорбить. У меня к тебе всего лишь смиренная просьба. Мне кажется, ты совершил две ошибки…
— Я? — удивился голос.
— Во-первых, ты из-за пустяка целых сто лет продержал в пещере бедного юношу, вина которого невелика…
Батильду прервал громовой хохот.
— Во-первых, он там пробыл не сто лет, а всего сто минут. Это я так сделал, чтобы каждая минута казалась ему годом. Но я наказал его ему же на пользу: пусть учится хорошенько думать и не утверждает то, чего не знает. Выходит, я был прав, и он уже начал исправляться. А во-вторых?
— Во-вторых, — продолжала Батильда, — другой юноша спас его. В награду за это ты решил исполнить одно его желание. Юноша слеп, но ничего не попросил для себя. Ты не должен был его слушать. Ты обязан был вернуть ему зрение.
— Что же он пожелал? — спросил голос.
— Это не столь важно, — ответила Батильда.
Вновь раздался хохот.
— Как будто я не знаю, ведь он попросил наделить тебя слухом! Теперь ты слышишь. Так неужели ты по-прежнему несчастна?
— Да, — сказала Батильда, — я была счастлива, но с тех пор, как увидела Жоффруа и услышала его голос, жить мне стало горше прежнего.
Хранитель Ломского леса был суров, но добр, и горе Батильды его растрогало. Он решил испытать ее.
— Решилась бы ты снова оглохнуть, чтобы Жоффруа прозрел?
— Да! — без колебаний ответила девушка.
— Что ж, храбрости тебе не занимать! Если так, срежь кусочек коры с моего ствола. Не опасайся, ты не причинишь мне вреда. Возьми кору с собой. Свари на меду бруснику, терновую ягоду и дикую малину. Затем брось туда кору и снова все провари. Дай это питье твоему слепому, а вместе с ним выпей и сама. И всей душой пожелай, чтобы к нему вернулось зрение. Тогда он прозреет, но ты снова оглохнешь.
— Я все сделаю, — сказала Батильда, — однако разреши возразить: так будет несправедливо.
— Почему?
— Ведь если я опять оглохну, получится, что ты не исполнил желание Жоффруа.
— Верно, — ответил голос, — но тут я уже бессилен. Я всего-навсего хранитель этого леса, скромный подданный Хранителя Всех Лесов; мои возможности ограничены: я могу исполнять только одно желание в награду за один мужественный поступок. И если ты хочешь, чтобы Жоффруа прозрел, но ты слышала бы по-прежнему, нужен еще один, третий, смельчак, готовый пожертвовать всем ради вас обоих. Иначе ничего не выйдет.
Конечно, для бедной Батильды такой договор был слишком жестоким, но куда невыносимее сознавать, что она слышит ценой слепоты Жоффруа! Девушка приблизилась к еловому стволу и срезала с него кусочек коры.
— Так, — раздался голос. — Теперь запомни: я могу исполнять желания в награду лишь за бескорыстные поступки. В противном случае любое желание обернется против того, кто его загадает. Берегись: если в последний миг ты отступишь, заколеблешься или в глубине души пожалеешь о затеянном, ты рискуешь навлечь большую беду и на Жоффруа, и на себя. Так что подумай хорошенько! А теперь прощай и будь отважна.
Это мрачное предостережение повергло Батильду в дрожь, но, полная решимости, она отправилась в замок, собирая по дороге бруснику, терн и малину. Тотчас по возвращении она сварила на меду кусочек еловой коры и ягоды. Питье было готово. Теперь осталось самое трудное: дать его выпить Жоффруа и одновременно выпить самой.
Батильда вспомнила, что иногда, в перерывах между песнями, юный певец пил воду, чтобы голос звучал лучше. Первым делом следовало уговорить мать еще раз посетить замок Жоффруа, но это не составило большого труда. Разумеется, свой план Батильда хранила в тайне от матери, которая воспротивилась бы ему всеми силами.
И вдруг, когда они уже скакали к замку, та спросила: — Что за серебряный кувшинчик у тебя на поясе? — Брусничная вода, — ответила Батильда. — Прошлый раз было душно, а мне так хотелось пить!
— Это ты хорошо придумала, — одобрила мать. — Дашь и мне немного!
Бедняжка Батильда совсем опечалилась: она не могла отказать матери, но если бы та выпила напиток одновременно с ней и Жоффруа, к чему бы это привело? Вдруг бы она, ее матушка, ослепла или оглохла? Всю оставшуюся дорогу девушка трепетала от страха, еще и еще раз спрашивая себя, как поступить, и с ужасом чувствуя, что мужество ее покидает.
Тем не менее она все думала и думала, пока наконец не нашла верный, как ей показалось, способ избавить мать от страшного риска. Для этого и для того, чтобы ей самой выпить одновременно с Жоффруа хотя бы глоток напитка, нужен был сообщник. Батильда выбрала на эту роль славного Изамбера, которого надеялась вновь повстречать в замке. И впрямь, к ее большой радости, с первого же взгляда она заприметила его в толпе приглашенных.
Она незаметно подозвала юношу и, тихо поведав ему о встрече с хранителем Ломского леса, поделилась своим планом; Изамбер взволнованно обещал сделать все, о чем она просит. Да только не признался, что, пока она рассказывала, он и сам кое-что надумал…
Батильда увидела, как Изамбер наливает приготовленное ею питье в кубок, предназначенный для Жоффруа. Затем он принес еще два кубка — один для нее, другой для ее матери. Но девушка не заметила четвертый кубок, который Изамбер приготовил для себя.
Вскоре появился Жоффруа. Он почтительно приветствовал собравшихся и запел, аккомпанируя себе на цитре. Батильда почувствовала, что мужество опять ее покидает. Она подумала: «Вот чудесный голос, который я никогда больше не услышу!..» Ей стало совсем не по себе, и она чуть не вылила вон брусничный напиток. Это было бы катастрофой. Хранитель Ломского леса предупреждал: если она в последний миг начнет колебаться, ее желание не исполнится, а их обоих, ее и Жоффруа, постигнет страшное несчастье. Между тем юноша уже спел три-четыре песни, все горячо аплодировали, и певец протянул руку к наполненному кубку. Батильда сказала себе, что, если она со всей решимостью не выпьет сейчас вместе с ним, Жоффруа до конца своих дней не увидит солнечного света. Силы к ней вернулись. Твердой рукой она плеснула несколько капель из кувшинчика в свой пустой кубок и в кубок матери, который та ей протянула. Жоффруа поднес кубок к приоткрытым губам. Девушка повторила его движение. В тот же миг сзади, как было условлено, резко поднялся Изамбер и неловко, словно невзначай, толкнул мать Бати льды; кубок ее накренился и напиток полился на пол. Тут произошло то, что задумал Изамбер, не предупредив Батильду: проворно и на этот раз очень ловко он подставил свой кубок, так что ни капли напитка не пропало, и не мешкая поднес его к губам. Жоффруа пригубил свой кубок. Батильда одновременно с ним отпила глоток и, собрав все силы, сказала про себя: «Пусть я снова оглохну, но пусть он прозреет!» В то же время благородный Изамбер осушил свою чашу и прошептал: «Да минует горе прекрасную Батильду! Я готов оглохнуть, чтобы слух не покинул ее!» И оба застыли в томительном ожидании.
Жоффруа, допив кубок, запел следующую песню. И тогда желание Батильды, так же как и желание Изамбера, исполнилось: внезапно и для нее, и для него наступила тишина.
Каждый из них решил, что уже лишился слуха. На самом же деле Жоффруа внезапно оборвал пение. Он так побледнел, так широко раскрыл глаза, что слушатели вздрогнули: все подумали, что ему стало плохо. Но когда он с криком радости опустился на колени, и взгляд его, обращенный к небу, ожил, каждый понял, что к юному певцу внезапно вернулось зрение. Все бросились к Жоффруа — сколько же было объятий, поздравлений, восклицаний и смеха! Один Изамбер не смел присоединиться к общему веселью: он решил, что просьба его была тщетной, и прекрасная отважная Батильда снова утратила слух. Но едва она обернулась к нему, он прочел в ее взгляде изумление и счастье. Батильда бросилась к матери, плача от радости, и тогда Изамбер понял, что все надежды исполнились и каждый мужественный поступок, как то и предрек хранитель Ломского леса, был вознагражден по заслугам.
Жоффруа и без подказки нашел среди всех девушек свою любимую. Она даже показалась юноше прекраснее всего, что рисовало ему воображение. Он тут же попросил у матери Батильды руку дочери, и ему не было отказано в этой просьбе. Несколько дней в замке Жоффруа продолжались свадебные празднества и пиры.
И поскольку Жоффруа и Батильда не уступали друг другу ни в доброте, ни в благородстве, они прожили долгие годы в любви и согласии.
РАЙМОН KEHO
СКАЗКА НА ВАШ ВКУС
1. Желаете ли вы услышать сказку о трех проворных горошинках?
Если да, переходите к 4.
Если нет, переходите к 2.
2. Может быть, вы предпочитаете сказку о трех длинных и тощих жердях?
Если да, переходите к 16.
Если нет, переходите к 3.
3. А может, о трех заурядных, среднего роста кустиках? Если да, переходите к 17.
Если нет, переходите к 21.
4. Жили-были три горошинки; они носили зеленые платьица и мирно спали у себя в стручке. Их круглые-круглые рожицы вдыхали озон в обе дырочки; раздавался приятный, мелодичный храп.
Если вы предпочитаете другую заставку, переходите к 9.
Если эта вас устраивает, переходите к 5.
5. Им ничего не снилось. В самом деле, эти крохотные существа никогда не видят снов.
Если вы предпочитаете, чтобы они видели сны, переходите к 6.
Если нет, переходите к 7.
6. Им снились сны. В самом деле, эти крохотные существа всегда видят сны, и ночи их овеяны прелестными грезами.
Если вы желаете узнать, каковы эти грезы, переходите к 11.
Если для вас не это главное, переходите к 7.
7. Они погружали свои крохотные ножки в теплые носочки и надевали в постель черные бархатные перчатки.
Если вы предпочитаете перчатки другого цвета, переходите к 8.
Если такой цвет вас устраивает, переходите к 10.
8. Они надевали в постель голубые бархатные перчатки.
Если вы предпочитаете перчатки другого цвета, вернитесь к 7.
Если такой цвет вас устраивает, переходите к 10.
9. Жили-были три горошинки; они день-деньской катались по проезжим трактам. Измученные и усталые, они засыпали, едва наступал вечер.
Если вы желаете знать, что случилось дальше, переходите к 5.
Если нет, переходите к 21.
10. Всем троим снилось одно и то же: в самом деле, они так нежно любили друг друга, что, как сиамские близнецы, всегда видели одни и те же сны.
Если вы желаете знать, какой они видели сон, переходите к 11.
Если нет, переходите к 12.
11. Им снилось, что они отправились в столовую за бесплатным супом и, открыв котелки, обнаружили там чечевичную похлебку. В ужасе они проснулись.
Если вы хотите знать, почему они проснулись в ужасе, справьтесь в словаре, что такое чечевица, и оставим этот разговор.
Если вы не считаете целесообразным углублять свои знания, переходите к 12.
12. «Ой-ой-ой! — закричали они, открыв глаза. — Ой-ой-ой! Что это пригрезилось нам!» — «Дурной знак, — сказала первая». — «Да-да, — сказала вторая, — да-да, конечно, вот мне уже и грустно». — «Не переживайте так, — сказала третья, самая смышленая, — главное осмыслить, а не прочувствовать; короче, я вам это сейчас истолкую».
Если вы немедленно желаете знать толкование этого сна, переходите к 15.
Если вы, напротив, жаждете узнать реакцию окружающих, переходите к 13.
13. «Глупости городишь, — молвила первая. — С каких это пор ты толкуешь сны?» — «Да, с каких пор?» — включилась вторая.
Если вы желаете знать с каких, переходите к 14.
Если нет, все равно переходите к 14, потому что в любом случае не узнаете.
14. «С каких пор?! — вскричала третья. — Откуда же мне знать! Но факт остается фактом — я это делаю. Вот поглядите!»
Если вы тоже хотите поглядеть, переходите к 15.
Если нет, все равно переходите к 15, потому что вы ничего не разглядите.
15. «Ну-ка, ну-ка! Поглядим», — промолвили сестры. — «Ваша ирония не нравится мне, — возразила третья, — и вы ничего не узнаете. И потом, разве несколько оживленный тон нашей беседы не смягчил чувства страха? Не уничтожил его? Так зачем же погрязать в трясине вашего бобового подсознания? Не лучше ли искупаться в источнике и поприветствовать это веселое утро в чистоте тела и священном восторге души?» Сказано — сделано: вот они скользнули из стручка, тихонько выкатились на землю и мелкой рысью весело двинулись к сцене своих омовений.
Если вы желаете знать, что произошло на сцене их омовений, переходите к 16.
Если вы этого не желаете, переходите к 21.
16. Три длинные жерди уставились на них.
Если три длинные жерди вам претят, переходите к 21. Если они вам подходят, переходите к 18.
17. Три заурядных, среднего роста кустика уставились на них.
Если три заурядных, среднего роста кустика вам претят, переходите к 21.
Если они вам подходят, переходите к 18.
18. Убедившись, что на них выкатили зенки, три проворные горошинки, которые были крайне стыдливы, обратились в бегство.
Если вы хотите знать, что они сделали дальше, переходите к 19.
Если вы этого не желаете, переходите к 21.
19. Они быстро-быстро побежали назад к стручку, залезли в него, закрылись изнутри и снова уснули.
Если вы хотите знать, что было дальше, переходите к 20.
Если вы этого не желаете, переходите к 21.
20. Дальше ничего не было, сказке конец.
21. Равным образом и в этом случае — конец сказке.
ПРИМЕЧАНИЯ
СИДОНИ ГАБРИЕЛЬ КОЛЕТТ (1873–1954)
В 1900 г. С. Г. Колетт опубликовала автобиографический роман «Клодина в школе», подписанный, как и три последующих автобиографических романа, псевдонимом ее первого мужа — Вилли. Начиная с книги «Диалоги животных» (1904) выступает под своей фамилией. Ею написано более пятидесяти романов, множество статей, рассказов о животных, лирических очерков, несколько пьес. В 1936 г. избрана в Бельгийскую академию, с 1944 г. — член Академии Гонкуров. Для творчества Колетт характерны глубокий психологизм, интерес к любовным переживаниям героев, свежесть восприятия и способность тонко чувствовать красоту природы. Наиболее значительные произведения писательницы: романы «Скиталица» (1910) — об артистической богеме, «Шери» (1920) и «Конец Шери» (1926) — о дамах полусвета, книги воспоминаний — «Дом Клодины» (1922), «Сидо» (1930), лирические дневники — «Рождение дня» (1929), «Вечерняя звезда» (1946, посвящен оккупации Франции) и «Голубой фонарь» (1949).
Тексты «Сентиментальности», «Путешествие» и «Ужин запаздывает» взяты из сборника «Диалоги животных» (Париж, 1904), на русский язык переведены впервые по изд.: Colette. La naissance du jour. Oeuvres choisies. M., 1983.
АНАТОЛЬ ФРАНС (наст. имя Анатоль Франсуа Тибо) (1844–1924)
Член Французской академии (с 1896), лауреат Нобелевской премии (с 1921), прозванный за остроумие, вкус к философии, скептицизм и приверженность гуманистическим идеалам Возрождения «современным Вольтером». Известность писателю принес роман «Преступление Сильвестра Боннара» (1881) — книга о преодолении сухой книжной мудрости и торжестве высоких человеческих чувств.
Перу А. Франса принадлежат сатирическая тетралогия «Современная история» (1897–1901), политические романы «Остров пингвинов» (1908) и «Восстание ангелов» (1914), роман о французской революции «Боги жаждут» (1912), в котором нашли отражение сомнения писателя в возможности преобразования общества на основе справедливости. А. Франс — блестящий стилист, признанный мастер новеллы. В сборниках «Валтасар» (1889), «Перламутровый ларец» (1892), «Колодезь святой Клары» (1895), «Клио» (1900), «Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов» (1904) и «Рассказы Жака Турнеброша» (1908) он выступает как автор остросатирических произведений, иронически переосмысляющих традиционные сюжеты, стилизованных под средневековые «жития святых», фаблио, новеллы итальянского Возрождения, хроники.
Тексты «Семь жен Синей Бороды», «История герцогини де Сиконь и г-на де Буленгрена, проспавших сто лет вместе со Спящей Красавицей» и «Рубашка» взяты из сборника «Семь жен Синей Бороды и другие чудесные рассказы» (Париж, 1909), публикуются по изд.: Франс А. Собр. соч. В 8-ми т. Т. 6, М., 1959.
АНРИ ДЕ РЕНЬЕ (1864–1936)
Рано начал писать стихи, в середине 80-х годов примкнул к поэтам — символистам. Ритмическая строгость его стихов роднила его с парнасцами. Известность писателю принес сборник рассказов «Яшмовая трость» (1897), им написано несколько псевдоисторических романов, в их числе «Двойная возлюбленная» (1900) — отнесенная к XVIII в. история унижений молодого французского офицера, сына бесчестной матери, а также романы о современности: «Каникулы скромного молодого человека» (1903) — о мелочности интересов буржуазной молодежи конца XIX в., «Героические иллюзии Тито Басси» (1916) — о неудавшейся судьбе актера, и др.
Текст «Возмущение Тай Пу» взят из сборника «Лаковый поднос» (Париж, 1913). публикуется по изд.: Ренье А. де. Собр. соч. в 19-ти т. Т. 13. Л., 1926.
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР (наст. имя Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий) (1880–1918)
Французский поэт, эссеист, драматург польского происхождения; с 1899 г. жил в Париже, печататься начал с 1901 г. В 1905–1907 гг. сотрудничал в различных журналах. Склонность к формалистическому экспериментаторству соединялась в нем со стремлением к реализму. В его творчестве причудливо сочетались лиризм и сатира. Известность ему принес опубликованный в 1909 г. сборник «Ересиарх и компания», который включает фантастические, полные горькой иронии новеллы с неожиданными поворотами сюжета. Несколько новелл этого сборника обличают лицемерие служителей церкви. Аполлинер вошел в историю французской литературы прежде всего как поэт, автор афористических четверостиший «Бестиарий, или Кортеж Орфея» (1911), воплотивших тему жестокости жизни, и сборника стихов «Алкоголи» (1913), в котором он выступил как знаток наследия прошлого, продолжатель традиций французской лирики и в то же время изобретатель «новой мифологии», новых форм и идей. Трагизм первой мировой войны (поэт воевал, был ранен в голову) запечатлен в сборнике «Калиграммы» (1918).
Тексты «Король Артур, король в прошлом, король в грядущем» (1914), «Продолжение Золушки, или Крыса и шесть ленивых ящериц» (1919), «День четвертый» (посмертно опубл, в 1954 г.) переведены на русский язык впервые по изд.: Apollinaire G. Oeuvres complètes. T. 1. Paris, 1965.
БЛЕЗ САНДРАР (наст. имя Фредерик 3аузер) (1887–1961)
Сын швейцарского дельца, в 15 лет убежал из дома. Объездил весь свет. Побывал и в России, часто возвращался к русской теме (поэма «Проза транссибирского экспресса и маленькой Жанны Французской», 1913, посвящена событиям первой русской революции, свидетелем которых был поэт). Во время первой мировой войны вступил в иностранный легион, воевал на стороне Франции, в результате ранения потерял руку. Около 1910 г. познакомился с Аполлинером. Подобно ему стремился к созданию социально насыщенной лирики (поэма «Пасха в Нью-Йорке», 1912). Романы Б. Сандрара «Золото» (1925), «Ром» (1930) и «Жизнь, полная риска» (1938) посвящены искателям приключений. В начале второй мировой войны был военным корреспондентом. В послевоенные годы создавал произведения автобиографического характера: «Ампутированная рука» (1946), «Уволенный» (1948). Писатель изучал негритянское искусство, в 1921 г. составил и опубликовал антологию негритянской поэзии.
Тексты «Ветер» и «Бывает-не-бывает» взяты из сборника «Негритянские сказочки для белых детей» (Париж, 1928), на русский язык переведены впервые по изд.: Cendrars В. Petits contes nègres pour les enfants des blancs. Paris, 1980.
ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ (1884–1960)
Родился в Уругвае. Творчество Сюпервьеля — поэта и прозаика — пронизано мыслью о необходимости сознавать и крепить единение человека с природой. Среди лучших его поэтических сборников следует назвать «Тяготения» (1925, перераб. 1932), «Неведомые друзья» (1934), «Сказание о мире» (1938), пронизанные болью произведения военных лет: «Стихотворения о несчастной Франции» (1941) и «1939–1945. Стихотворения» (1946). Ж. Сюпервьель является также автором нескольких романов, пьес и прозаических сборников.
Тексты «Хромые из поднебесья» и «Дитя морской стихии» взяты из к сборника «Дитя морской стихии» (Париж, 1931), на русский язык переведены впервые по изд.: Supervielle J. L’enîant de la haute mer. Paris, 1931.
АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900–1944)
Жизнь А. де Сент-Экзюпери — почтового, потом военного пилота — была связана с авиацией, которой посвящается большинство его книг. Среди авиаторов находил он своих героев: людей, способных с честью вынести самые суровые испытания, о них рассказывает он в своих романах «Южный почтовый» (1929), «Ночной полет» (1931), «Планета людей» (1939). Во время второй мировой войны писатель был среди тех, кто сражался за Францию. В документальном репортаже «Военный летчик» (1942) выразил мучительные чувства человека, преданного идеалам гуманизма, но вынужденного, ради отчизны и свободы, взяться за оружие. 31 июля 1944 г. он не вернулся из разведывательного полета.
Текст «Маленький принц» (Нью-Йорк, 1943) публикуется по изд: Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц. М., 1987.
МАРИ НОЭЛЬ (наст. имя Мари Руже) (1883–1967)
Поэтесса, сказочница, драматург. Стихотворные сборники «Песни и часы» (1920), «Песни благодарности», «Цветник радостей», «Песни и псалмы осени» (1961) составляют главное в литературном наследии писательницы, их отличает искренность, глубина и сила выражения чувств.
Ее стихи близки народной песне, иногда напоминают по звучанию торжественные гимны, религиозные песнопения. Ей принадлежат также книга воспоминаний детства «Раннее утро» (1951) и пьеса «Осуждение Дон-Жуана» (1955). М. Ноэль свойственны ясность и чистота стиля, интерес к психологии, стремление подвергнуть анализу тончайшие душевные переживания.
Текст «Золотые башмачки» взят из сборника «Сказки» (Париж, 1949), переведен на русский язык впервые по изд.: Noel М. Contes. Paris, 1949.
БОРИС ВИАН (1920–1959)
Романист, поэт, драматург, журналист, актер кино, музыкант. Страдая неизлечимой болезнью сердца и предчувствуя скорую кончину, Б. Виан работал с исключительной интенсивностью: оставив профессию инженера, он всего лишь за двенадцать лет творческой жизни создал несколько романов, принесших ему европейскую известность («Пена дней», 1947, — история любви, погубленной враждебным ей обществом; «Осень в Пекине», 1947, где затронута тема труда, не приносящего человеку удовлетворения, превращающего его в живую машину; антиклерикальная сатира «Красная трава», 1950), остросатирические, имеющие антиимпериалистическую направленность пьесы («Всеобщая живодерня», 1946, и «Завтрак для генералов», 1959), сборники стихов, новелл, множество текстов популярных песен. В творчестве Б. Виана злая сатира на буржуазные нравы сочетается с проникновенным лиризмом. Ему удалось создать особый, фантастический, одновременно поэтичный и жестокий мир, позднее названный критикой «виановской вселенной».
Текст «Водопроводчика» взят из сборника «Мурашки» (Париж, 1949), текст «Печальной истории» — из сборника «Волк-оборотень» (Париж, опубл, посмертно, 1970), публикуются по изд.: Виан Б. Пена дней. Новеллы. М., 1983.
ПОЛЬ ЭЛЮАР (наст. имя Эжен Эмиль Поль Грендель) (1895–1952)
В 1913 г. Поль Элюар опубликовал сборник «Первые стихи». В 1914 г. был призван в армию. Фронтовые впечатления отразились в сборнике стихов «Долг и тревога» (1917). В 1919 г. примкнул к дадаистам, в 20-х годах — к сюрреалистам, от которых отдалялся, по мере того как в его творчестве получали развитие 1уманистические тенденции и высокая гражданственность. В период второй мировой войны П. Элюар выступал в подпольной печати: его стихотворения «Свобода» и «Поэзия и правда 1942 г.» в листовках распространялись на территории оккупированной Франции. В 1942 г. вступил в Компартию Франции, в 1953 г. (посмертно) ему была присуждена Международная премия мира.
Текст «Пушинка» (Париж, 1951) публикуется на русском языке в новом переводе по изд.: Eluard P. Oeuvres complètes. T. 2. Paris, 1968.
ЖАК ПРЕВЕР (1900–1977)
В начале 30-х годов Жак Превер был близок к сюрреалистам, создал поэмы, построенные на игре ассоциаций и показывающие абсурдность бытия, но уже в них прозвучали антибуржуазные и антиклерикальные мотивы, которые в дальнейшем усилились и способствовали его отдалению от сюрреалистов. В предвоенные годы написал поэму «Штык в землю» (1936), высмеивающую претензии церковников на роль миротворцев и спасителей человеческих душ. Превер известен и как автор множества шуточных стихотворений и замечательных по глубине чувств, искренности интонации и простоте выражения стихов о любви (многие из них положены на музыку), о Париже, о народе Франции, вошедших в наиболее известные сборники: «Слова» (1945), «Истории» (1946), «Зрелище» (1951) и «Большой весенний бал» (1955). Ж. Превер много работал для кино, им написаны сценарии и диалоги фильмов «Дети райка», «Набережная туманов», «Собор Парижской богоматери» и др.
Текст «Хроника Баламутских островов» (Париж, 1952) переведен на русский язык впервые по изд.: Prévert J. Lettre des îles Baladar. Paris, 1977.
РОБЕР де ла БИШ (1924)
В 50-х годах Робер де ла Биш работал правительственным чиновником в африканском «заморском департаменте» Франции Берег Слоновой Кости (с 1960 г. — независимое государство Республика Кот Дивуар) и одновременно занимался литературной деятельностью. В сборнике новелл «Небылицы» (1954) описал быт, нравы и верования местного населения.
Текст «Дорога Какао» взят из сборника «Небылицы» (1954), на русский язык переведен впервые по изд.: Nouvelles. Т. 3. Paris, 1958.
КРИСТИАН ПИНО (1904)
Писатель и общественный деятель. Участник движения Сопротивления. Во время второй мировой войны был узником лагеря смерти в Бухенвальде, рассказу об этом периоде жизни он посвятил книгу воспоминаний «Просто правда» (1960). Член руководства Французской социалистической партии. В 1945–1958 гг. — министр снабжения, общественных работ, финансов, иностранных дел. Автор романа-памфлета «Дорогой мой депутат» (1959), в котором он подвергает резкой критике избирательную систему, дельцов от политики, буржуазную прессу, состояние дел в сельском хозяйстве и в системе финансов. В романе «Лестница теней» (1963) попытался ввести мистику в критическое повествование о современной Франции. К. Пино написано множество сказок, в них он часто использует фольклорные сюжеты, которым умеет придать современное звучание; наибольшей известностью пользуются сборники «Сказки неведомых времен» (1952), «Перышко и лосось» (1954) и «Планета пропавших детей» (1960).
Тексты «Сказка о молодом волке» и «Грот кокеток» взяты из сборника «Перышко и лосось» (Париж, 1954), публикуются по изд.: Пино К. Сказки. М., 1959; текст «Боа Бао» взят из сборника «Планета потерянных детей» (Париж, 1960) и переведен на русский язык впервые по изд.: Pineau Ch. La planète aux enfants perdus. Paris, 1960.
МАРСЕЛЬ ВЕРИТЕ (1904)
Современная детская писательница; активно сотрудничает в издательстве «Гастерман».
Тексты «Старый дрозд», «Как ежик оделся в скорлупу каштана» и «Лис-отшельник» взяты из сборника «Солнечные сказки» (Париж, 1956). На русский язык переведены впервые по изд.: Vérité М. Contes du soleil. Paris, 1956.
МИШЕЛЬ БУТРОН (1915)
Автор ряда книг, в которых с большой силой проявилось его мастерство рассказчика: «Ганс» (1950), «Жюльетта с гор» (1952), «Дети утренней поры» (1953), «Живое серебро» (1955). Известность ему принесли в первую очередь новеллы, такие, как «Сюита в черных тонах» (1958). Несколько его произведений малой формы были включены в антологии рассказов, по которым студенты английских и канадских университетов знакомятся с литературой Франции.
Текст «История мышки Вострушки» взят из сборника «Новеллы» (Париж, 1957); переведен на русский язык впервые по изд.: Nouvelles. Т. 2. Paris, 1957.
РЕНЕ КУЗЕН (1922)
Поэт, журналист, сотрудничает в журналах Франции и Бельгии, много работает в области радиовещания.
Текст «Смерть поэта» взят из сборника «Новеллы» (Париж, 1958), переведен на русский язык впервые по изд.: Nouvelles. Т. 8. Paris, 1958.
ЛИЯ ЛАКОМБ (?)
Современная писательница, журналистка. Первая ее книга — роман «Дома без дверей» (1956) — ставит проблему положения женщины в современном обществе. Во втором ее романе — «Слепцы» (1957) — рассказывается о тех, кто из-за узости взглядов не способен правильно оценить ни происходящие события, ни окружающих их людей. В романе «Наис» (1959) звучит важная для писательницы тема, пронизывающая все ее творчество: тема взаимного непонимания, разобщающего людей, и преодоления этого непонимания.
Текст «Большая белая молния» взят из сборника «Новеллы» (Париж, 1958), переведен на русский язык впервые по изд.: Nouvelles, Т. 5. Paris, 1958.
ЖИЗЕЛЬ ПРАССИНОС (1920)
Поэтесса и романистка, очень рано «открытая» сюрреалистами. Печататься начала с 1935 г., когда появилась первая ее книга «Артрический кузнечик». Она автор нескольких сборников поэм и поэтических сказок: «Когда работает шум» (1937), «Двойная борьба» (1938) и др. В прозаическом сборнике «Всадник» (1961) звучат темы беззащитности человека в жестоком, порою абсурдном мире. В романе «Лицо, тронутое страданием» (1965), рассказывающем о существе, наделенном искусственным мозгом, получили дальнейшее развитие свойственные ее творчеству элементы сказочного искажения реальности, фантастическое видение мира.
Текст «Особняк XVII века» взят из сборника «Всадник» (Париж, 1961), переведен на русский язык впервые по изд.: Prassinos G. Le Cavalier. Paris, 1961.
МАРСЕЛЬ ЭМЕ (1902–1967)
Первая книга писателя — «Брильбуа» (1926), роман о пьянице и бездельнике, прошла незамеченной, известность ему принес роман «Зеленая кобыла» (1933), в котором в фарсовой манере описаны нравы крестьян. Мрачен тон повествования в романах о жизни бедноты: «Безымянная улица» (1930), «Приземистый домик» (1935), «Мельница на Сурдине» (1936). М. Эме является и автором популярных сатирических комедий: в пьесе «Чужая голова» (1952) он высмеивает буржуазное судопроизводство, «Лунные птички» (1955) содержат едкую критику «морали преуспеяния», в «Синей мухе» (1957) показаны издержки стандартизации, присущей американскому образу жизни. Эти пьесы проникнуты скептицизмом, бытописательство сочетается в них с фантастикой.
Свойственное М. Эме неприятие буржуазной ограниченности звучит в его «Городских и сельских сотях» (1958), отмеченных дерзкой игрой фантазии и истинно галльским остроумием, в его рассказах и сказках: сборники «Колодезные лики» (1932), «Карлик» (1934), «Человек, проходивший сквозь стены» (1943), «Назад» (1951).
Сказка «В лунном свете» дается в новом переводе; сказка «Оскар и Эрик» публикуется на русском языке впервые. Тексты взяты из сборника «Оскар и Эрик» (Париж, 1961), переведены на русский язык по изд.: Aymé М. Oscar et Erik. Paris, 1961. Тексты «Олень и собака», «Лебеди», «Лошадь и ослик», «Баран», «Злой гусак» переведены на русский язык впервые по изд.: Aymé М. Les contes bleus du chat perché. Paris, 1963. Тексты «Коровы», «Собака», «Кошачья лапа», «Коробка с красками» переведены на русский язык впервые по изд.: Aymé М. Les contes rouges du chat perché. Paris, 1963. Тексты «Павлин» и «Волы» взяты из сборника «Розовые сказки кота Мурлыки» (Париж, 1963), публикуются по изд.: Как запело дерево: Сборник рассказов и сказок французских писателей XX века. М., 1985.
ДАНИЕЛЬ БУЛАНЖЕ (1922)
Прежде всего Д. Буланже известен как замечательный рассказчик, мастер малой формы. Он неоднократно был удостоен литературных премий, в том числе Гонкуровской премии и премии Французской академии за прозаические сборники «Свадьба дрозда» (1964), «Извилистые дороги» (1966), «Пальцем в небо» (1971), «Погоняй, кучер» (1974), «Дерево в Вавилоне» (1979). Д. Буланже — неподражаемый хроникер провинциальной жизни с ее бесчисленными условностями, с ее странностью и скрытым драматизмом. С особым психологизмом создает он образы одиноких стариков, чудаков, людей, отторгнутых от общества. Д. Буланже — автор многочисленных киносценариев (среди которых известный детектив «Человек из Рио»), десятка романов, нескольких сборников стихов, один из которых («Ретушь», 1970) также принес ему литературную премию.
Текст «Чтение» взят из сборника «Сад Армиды» (1969), на русский язык переведен впервые по изд.: Boulanger D. Le Jardin d'Armide. Paris, 1969.
ВЕРКОР (наст. имя. Жан Брюллер) (1902)
Писатель, художник. В 30-е годы выпускал пользовавшиеся популярностью альбомы сатирических рисунков. Известность как писателю ему принес опубликованный в годы гитлеровской оккупации подпольно, под псевдонимом Веркор, рассказ «Молчание моря» (1942), в котором утверждалась мысль о невозможности восприятия французами идеологии фашизма, показан был молчаливый, но упорный отказ от сотрудничества с оккупантами. Из произведений послевоенного периода наибольший интерес представляет фантастический роман «Люди или животные» (1952), описывающий парадоксальную ситуацию: открыто неизвестное прежде племя то ли обезьян, то ли людей, находящихся на низшей ступени развития, и ответ на вопрос, кто они, должен выявить меру гуманности нашей цивилизации. В романе «Квота, или Сторонники изобилия» (1966, в соавт. с Коронелем) Веркор дает блестящую сатиру на «общество потребления»; в философских романах «Сильва» (1960) и «Плот „Медузы» (1969) он продолжает исследование человеческой природы, начатое в романе «Люди или животные».
Текст «Хранитель Ломского леса» взят из книги «Сказки для горчичников» (1971), переведен на русский язык впервые по изд.: Vercors. Contes des cataplasmes. Paris. 1971.
РАЙМОН KEHO (наст, имя Мишель Прель) (1903–1976)
Романист и поэт, в конце 20-х годов участвовал в движении сюрреалистов, что наложило отпечаток на все его дальнейшее творчество, для которого характерны воинствующий анархизм, осмеяние возвышенного стиля и прекраснодушных излияний, активное экспериментирование в области языка и формы. Так, его роман «Дуб и собака» (1937) написан стихами, а поэтический сборник «Собака с мандолиной» (1958) содержит, наряду со стихами, прозаические пародии на псевдореалистическое письмо. В книге «Стилистические упражнения» (1947) он в различных литературных стилях рассказывает о заурядном уличном происшествии; его «Маленькая портативная космогония» (1950) — это отмеченное мрачным юмором изложение истории цивилизации. В сборник Р. Кено «1014 сонетов» (Cent mille milliards de poèmes) (1961) вошли четырнадцать сонетов, написанных так, что любая строчка одного сонета может быть с успехом включена в любой другой.
Текст «Сказки на ваш вкус» взят из сборника «Потенциальная литература» (Париж, 1973), на русский язык переведен впервые по изд: Il était une fois… Contes littéraires français XII–XXemes siècles. M., 1983.
Наталья Полторацкая

Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно её удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Гейне Г. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 6, М.; Л., 1958, с. 214.
(обратно)
2
Франс А. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М., 1960, с. 17.
(обратно)
3
Там же.
(обратно)
4
Берри — историческая область в центре Франции.
(обратно)
5
…похожий на Бога, каким я когда-то и был. — В Древнем Египте кот считался богом музыки.
(обратно)
6
«Нет ничего лучше родины!» — сокращенный рефрен популярной в то время песни Дж. X. Пэна на музыку X. Р. Бишопа.
(обратно)
7
Мирабель — сорт сливы.
(обратно)
8
Трюфели — грибы с подземными плодовыми телами. Наиболее ценный из них — французский черный, очень ароматный, снаружи бородавчатый.
(обратно)
9
…школа сравнительной мифологии. — Речь идет о так называемой солярной теории, разработанной английским филологом-востоковедом, специалистом по мифологии Максом Мюллером (1823–1900). Со-гласно этой теории в мифах и легендах разных народов отразились представления о роли солнца в их жизни.
(обратно)
10
…с Диоскурами, освободившими похищенную Тезеем Елену. — Диоскуры (греч. миф.) — братья Кастор и Полидевк, родившиеся из яйца, снесенного Ледой. Из второго яйца появилась на свет их прекрасная сестра Елена, плененная афинским царем Тезеем и освобожденная братьями.
(обратно)
11
Маршалде Рэ (Жиль де Лаваль, 1404–1440) — бретонский барон, отличившийся в битвах с англичанами. Сожжен на костре по обвинению в колдовстве и убийствах, в том числе в похищении и убийстве 140 мальчиков.
(обратно)
12
Рейнак Соломон (1858–1932) — французский филолог-классик и археолог.
(обратно)
13
Перро Шарль (1628–1703) — автор популярного сборника волшебных сказок, основанных на французском фольклоре.
(обратно)
14
Тит (39–81) — римский император с 79 г., во время Иудейской войны захватил и разрушил Иерусалим.
(обратно)
15
Тиберий (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император с 14 г., пасынок Августа.
(обратно)
16
Тацит Корнелий (ок. 58 — ок. 117) — римский историк, главные труды которого посвящены истории Рима и Римской империи; изобразил Тита в своей «Истории», а Тиберия — в «Анналах».
(обратно)
17
…в правление покойного короля Людовика… — Людовика XIII (1610–1643).
(обратно)
18
…истории Дирки… привязанной сыновьями Антиопы… Ниобеи… Прокриды, подставляющей грудь под дротик Кефала. — Дирка (греч. миф.) — жестокая супруга фиванского царя Лика, в рабство к которой была отдана Антиопа, мать близнецов Зета и Амфиона, рожденных ею от Зевса и отомстивших Дирке за страдания своей матери. Ниобея (греч. миф.) — жена фиванского царя Амфиона, дети которой (по разным легендам их было от 12 до 20) погибли в один день, пораженные волшебными стрелами богов. Прокрида (греч. миф.) — жена охотника Кефала. Со гласно мифу, Кефал случайно убил её во время охоты, когда она тайно следила за ним, подозревая мужа в неверности.
(обратно)
19
Тифон (греч. миф.) — огнедышащее чудовище, олицетворение пламени, извергаемого вулканами.
(обратно)
20
Генрих II (1519–1559) — французский король с 1547 г., из династии Валуа. В 1559 г. подписал Като-Камбрезийский мир, положивший конец итальянским войнам 1494–1559 гг.
(обратно)
21
…в сражении при Маринъяно. — В 1515 г. вблизи итальянского города Мариньяно французскими войсками были разбиты войска миланского герцога.
(обратно)
22
Тюренн Анри де ла Тур д’Овернь, виконт (1611–1675), — полководец, маршал Франции.
(обратно)
23
…в сражении при Дюнах… — В 1658 г. в битве при Дюнах, недалеко от Дюнкерка, Тюренн одержал победу над принцем Конде, возглавившим испанские войска.
(обратно)
24
Флави Гильом де (ок. 1398–1449) — французский полководец.
(обратно)
25
Институт — во Франции Институт объединяет пять академий: Французскую академию, Академию надписей и литературы, Академию наук, Академию искусств и Академию политических и нравственных наук.
(обратно)
26
Артур — легендарный король бриттов, изображенный в средневековом цикле рыцарских романов «Круглого стола», за один из подвигов получивший в награду попугая и прозванный поэтому Рыцарем с Попугаем. По преданию, он воскреснет в будущем; надпись на его могиле в Гластонберийском монастыре (Западный Уэльс) гласит: «Здесь покоится Артур, король в прошлом, король в грядущем».
(обратно)
27
Шартье Жан (XV в.) — французский летописец, монах бенедиктинского ордена, автор хроники «История Карла VII».
(обратно)
28
Жанна д'Арк, Орлеанская дева (ок. 1412–1431), — народная героиня Франции; во время Столетней войны (1337–1453) возглавила борьбу французского народа против английских захватчиков. Англичане объявили её колдуньей и предали церковному суду, по приговору которого она была сожжена на костре.
(обратно)
29
Гюго Виктор Мари (1802–1885) — французский писатель, поэт, автор романтической пьесы «Эрнани» (1829) и известного исторического романа «Собор Парижской богоматери» (1831), направленного против церкви и монархии.
(обратно)
30
…ведь макушки башен были снесены еще по приказу кардинала Ришелье. — В результате военных действий против гугенотов, длившихся восемь лет, в 1629 г. королевские войска захватили их главный оплот — город-порт Ла-Рошель, после чего, по приказу Ришелье, в Лангедоке многие крепости были частично разрушены, и им запрещено было держать гарнизоны.
(обратно)
31
Вейте бегущую нить, бегите, кружась, веретена. (Катулл, XIV, 327) — Здесь и далее цифрами помечены примечания автора
(обратно)
32
…о короле Клоше… — Клош по-французски значит неспособный, неловкий человек, неудачник.
(обратно)
33
Королева Титания — королева эльфов, персонаж английского фольклора.
(обратно)
34
Королева Маб — добрая фея снов из английского фольклора.
(обратно)
35
Вивиана — фея из романов «бретонского цикла» (романы «Круглого стола»), возлюбленная волшебника Мерлина, воспитательница рыцаря Ланселота (романы XII в. «Волшебник Мерлин», «Детство Ланселота»).
(обратно)
36
…Мелюзина, историю которой написал Жан Аррасский… — Мелюзина — фея из легенд Артуровского цикла, считавшаяся покровительницей рода Лузиньянов. По преданию, каждый раз, когда кто-нибудь из этого рода должен был умереть, она поднималась на башню замка и испускала зловещие крики. Мелюзине посвящен роман французского писателя Жана Аррасского (XIV в.) «Мелюзина, великая фея из Пуату» (ок. 1390; 1-е изд. 1478). (Пуату — историческая область в западной части Франции, простирается до побережья Атлантического океана.)
(обратно)
37
Уржела — фея из легенд Артуровского цикла
(обратно)
38
Анна Бретонская — дочь бретонского герцога Франциска II, жена французского короля Людовика XII (1462–1515).
(обратно)
39
…Мург, увлекшая Ожье Датчанина в Авалонские края. — Мург — имеется в виду фея Моргана, сестра легендарного короля Артура, которая перенесла рыцаря «Круглого стола» Ожье Датчанина на волшебный остров Авалон — остров блаженных, рай кельтских легенд.
(обратно)
40
Госпожа де Ментенон (Франсуаза д’Обинье, 1635–1719) — фаворитка Людовика XIV, тайно обвенчавшаяся с ним в 1684 г. В своих письмах, которые впоследствии были опубликованы, непрестанно жаловалась на гнет дворцового этикета.
(обратно)
41
…три старые Парки… — Имеются в виду богини судьбы (у греков — мойры, у римлян — парки), которых представляли в виде старух, прядущих нить человеческой жизни.
(обратно)
42
Эпименид Кносский — легендарный критский жрец Кносского храма, поэт и прорицатель, живший в VII в. до н. э.
(обратно)
43
Рассказ о семи спящих эфесцах передан Феодором и Руфином… — В пересказе А. Франсом известной легенды о семи христианских мучениках допущены неточности: исторический Деций правил Римской империей в 249–251 гг.; императора Феодора не существовало. Легенда изложена в сочинении историка и церковного писателя Григория Турского (ок. 538 — ок. 594) «О славе мучеников».
(обратно)
44
Фридрих Барбаросса — германский император (1152–1190). По преданию, он не умер, а спит волшебным сном и когда-нибудь очнется ото сна, чтобы возродить могущество Германии.
(обратно)
45
…Брюнхильду, которая укололась колючкой… — Эпизод из скандинавских эпических сказаний («Эдда»): витязь Сигурд (Зигфрид) разбудил валькирию Брюнхильду, погруженную в волшебный сон.
(обратно)
46
…пропела вполголоса… — Герцогиня де Сиконь спела французскую народную песню «Дочь отшельника».
(обратно)
47
Салический закон. — Согласно правовым нормам древних франков женщины не наследовали землю. Это положение было затем распространено во Франции на наследование королевского престола.
(обратно)
48
Вскормленный Лукрецием… пропитанный учениями Эпикура и Гассенди… — то есть материалистическими воззрениями. Лукреций — см. прим, к с. 106; Эпикур (341–270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист; Гассенди Пьер (1592–1655) — французский философ-материалист.
(обратно)
49
Эндимион, Адонис, Нарцисс (греч. миф.) — прекрасные юноши. Эндимион — возлюбленный богини охоты и луны Артемиды; Адонис — возлюбленный богини любви Афродиты; Нарцисс — юноша, влюбившийся в собственное отражение в водах ручья.
(обратно)
50
«Невеста короля Гарба» — новелла Боккаччо («Декамерон», II, 7), в которой рассказывается о прекрасной дочери Вавилонского султана, бывшей до замужества любовницей многих мужчин.
(обратно)
51
Урания (греч. миф.) — муза астрономии.
(обратно)
52
…г-жи де ла Пуль… — Ла пуль по-французски — курица.
(обратно)
53
Носологически — т. е. в свете носологии (или нозологии), учения о сущности и классификации болезней.
(обратно)
54
Протей (греч. миф.) — морской бог, иначе называемый «Старец морей», менявший, по желанию, свое обличье.
(обратно)
55
Нервнобольным любовь вредна (лат.)
(обратно)
56
…это боль симпатическая — т. е. относящаяся к отделу вегетативной нервной системы.
(обратно)
57
Аконитин — алкалоид растительного происхождения, входит в состав лекарств, применяемых для снятия болей при радикулитах, ревматизме и невралгиях.
(обратно)
58
Каблограмма — телеграмма, переданная по подводному кабелю.
(обратно)
59
…выражаетесь языком босяка Жан-Жака. — Речь идет о Жан-Жаке Руссо (1712–1778), утверждавшем, что счастье — в возврате человека к природному, не затронутому цивилизацией состоянию.
(обратно)
60
…времен Марии Антуанетты… — т. е. конца XVIII в. Мария Антуанетта (1755–1793) — французская королева, супруга Людовика XVI, была казнена во время Великой французской революции.
(обратно)
61
…героем, исключительно неудачливым по части рубашек… — Согласно греческому мифу, лидийская царица Омфала, в рабство к которой попал Геркулес, наряжала его в женские одежды и заставляла прясть. Позднее жена Геркулеса Деянира прислала ему пропитанную отравленной кровью одежду, думая, что эта кровь — волшебное зелье, возвращающее любовь. Надев одежды, он испытал ужасные страдания, из-за которых бросился в огонь и погиб.
(обратно)
62
…некогда в Афинах совершилась социальная революция… — Изложено содержание комедии Аристофана «Женщины в народном собрании» (392 до н. э.).
(обратно)
63
Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф (1749–1791) — деятель Великой французской революции; ходили слухи, что он вступил в сговор с Людовиком XVI и стал тайным агентом двора.
(обратно)
64
Кибела — фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии, Греции и по всей. Римской империи, мать богов и всего живущего на земле, возрождающая умершую природу и дарующая плодородие.
(обратно)
65
Augurium или avigurium (лат.) — гадание по полету птиц.
(обратно)
66
Осмотр священных цыплят не производится уже со времени римлян… — В Древнем Риме имелись специальные жрецы (авгуры), которые предсказывали будущее по полету птиц и их поведению.
(обратно)
67
Счастливцем никого до смерти не зовите. — Герой трагедии древнегреческого поэта Софокла (ок. 496–406 до н. э.) «Царь Эдип» после многих лет счастливой жизни вдруг узнал, что он — отцеубийца и кровосмеситель, женатый на собственной матери.
(обратно)
68
Беллона (рим. миф.) — богиня войны.
(обратно)
69
Маршал Саксонский — Мориц, граф Саксонский (1696–1750) — выдающийся французский полководец; с 1744 г. — маршал Франции.
(обратно)
70
Лис — левый приток Шельды.
(обратно)
71
Борисфен — древнегреческое название Днепра.
(обратно)
72
Алута — левый приток Дуная.
(обратно)
73
«Победа увенчала Цезаря и Наполеона. Но Вольмар превыше их обоих — он венчает самое Победу» (лат.)
(обратно)
74
…лучшую из греческих копий Афродиты Книдской… — В храме города Книда (Малая Азия) находилась статуя Афродиты, изваянная выдающимся греческим скульптором IV в. до н. э. Праксителем; известна нам в копиях.
(обратно)
75
Госпожа де Помпадур — Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV.»
(обратно)
76
…клады Гильдесгейма и Боско-Реале. — Поблизости от города Гилъдесгейма (Нижняя Саксония), а также близ города Боско-Реале (Италия) были найдены клады с серебряными сосудами работы древнеримских мастеров.
(обратно)
77
Кейлюс Анн-Клод-Филипп де Тюбьер, граф (1692–1765), — французский археолог и коллекционер, автор стихов, комедий, меценат и путешественник.
(обратно)
78
… серебристые тона Веронезе, янтарь Тициана, красные отливы Рубенса, рыжеватые краски Рембрандта и серо-розовые оттенки Веласкеса… — Веронезе (наст, имя Кальяри) Паоло (1528–1588) — итальянский художник эпохи Возрождения, его праздничные, светские по духу картины отличаются изысканностью серебристого колорита; Тициан (ок. 1476/77 или 1489/90-1575) — итальянский художник эпохи Возрождения, произведениям которого присуще мощное звучание цвета, особенно удавались ему золотистые тона; Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — голландский живописец, прославившийся исключительным мастерством в использовании светотени, писал портреты, наполненные глубоким психологическим содержанием; Веласкес Родригес де Сильва, Диего (1599–1660) — испанский художник, картины которого замечательны реалистичностью наблюдений, обостренным чувством гармонии, тонкостью и насыщенностью колорита.
(обратно)
79
Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867) — выдающийся французский живописец.
(обратно)
80
…янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль. — Янсенисты — приверженцы реформаторского движения в католической церкви XVII–XVIII вв. Французский математик, физик, религиозный философ Блез Паскаль (1623–1662) по-своему воспринял учение янсенистов. В «Мыслях» (опубл. 1669) Б. Паскаль развивает представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством, человек, по его мнению, не более чем «мыслящий тростник».
(обратно)
81
Лукреций (Тит Лукреций Кар) — римский поэт и философ-материалист I в. до н. э., сторонник учения Эпикура, автор дидактической поэмы «О природе вещей».
(обратно)
82
Шенье Андре Мари (1762–1794) — французский поэт, в элегиях воссоздал светлый мир Эллады.
(обратно)
83
…«Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный…» — Патрокл — древнегреческий герой, близкий друг Ахилла, который вместе с ним принял участие в Троянской войне; погиб от руки троянского героя Гектора. А. Франс цитирует здесь 105-й стих 21-й книги поэмы Гомера «Илиада».
(обратно)
84
«Умирают Парис и Елена», — говорит Франсуа Вийон. — Вийон Франсуа (1431 или 1432 — после 1463) — французский поэт, в поэмах которого нашли отражение сцены из жизни городских низов. Цитируемые слова — из его поэмы «Большое завещание» (1462), рисующей бренность всего живого.
(обратно)
85
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель, сторонник республиканского строя. Сохранилось 58 его речей, 19 трактатов и более 800 писем.
(обратно)
86
Монтень Мишель де (1533–1592) — французский философ-гуманист, автор книги «Опыты». Страдал болезнью мочевого пузыря.
(обратно)
87
…украшенных слезами Андромах, Артемид, Магдалин и Элоиз. — Андромаха (греч. миф.) — супруга троянского героя Гектора, после смерти мужа и гибели Трои попавшая в рабство к грекам. Артемида (греч. миф.) — богиня охоты и луны, безнадежно полюбившая прекрасного юношу Эндимиона, который предпочел получить от богов вечную юность, хотя должен был для этого погрузиться в вечный сон. Артемида спускается в пещеру, где спит Эндимион, и в скорби любуется его красотой. Магдалина (христ. миф.) — раскаявшаяся блудница. Элоиза (1101–1164) — возлюбленная французского философа Абеляра, разлученная с ним и оплакивавшая свою судьбу в монастыре.
(обратно)
88
…Адриенны Лекуврер в роли Корнелии… — Корнелия — жена римского полководца Помпея (I в. до н. э.). Прах Помпея, предательски убитого по указанию египетского царя Птоломея, был прислан Корнелии. Этот исторический факт положен в основу трагедии Корнеля «Смерть Помпея» (1643), в которой роль Корнелии исполнила замечательная трагическая актриса французского театра Адриенна Лекуврер (1692–1730).
(обратно)
89
«Георгики» — поэма древнеримского поэта Вергилия (70–19 до н. э.), содержащая идиллическую картину сельской жизни и нравов.
(обратно)
90
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт. В поэме «Труды и дни» правдиво изобразил тяжелый труд земледельца.
(обратно)
91
Лоррен Клод (наст. фам. Желле, 1600–1682); Пуссен Никола (1594–1665) — французские живописцы.
(обратно)
92
Героновы фонтаны — игрушечные фонтанчики, названные по имени древнегреческого математика и механика из Александрии Герона Старшего, жившего, как предполагают, в I в. до н. э.
(обратно)
93
Мандарины — данное португальцами название чиновников феодального Китая.
(обратно)
94
Король Артур… — см. прим, к с. 54.
(обратно)
95
Букингемский дворец (XIX–XX вв.) — резиденция английских королей.
(обратно)
96
…сын Иджерны, брат Утера Пендрагона… — Король Артур, по преданию, сын Утера по прозвищу Пендрагон (т. е. «Драконья голова»), впоследствии это прозвище было присвоено всему роду короля Артура. Иджерна — герцогиня Тинтагильская, легендарная возлюбленная Утера Пендрагона.
(обратно)
97
…похожий на господина Ж. ка К.п. в роли Томаса Поллока Нажуара… — Имеется в виду Копо Жак (1879–1949) — французский режиссер и актер, руководивший долгое время театром «Вьё коломбье» («Старая голубятня»), на сцене которого он сыграл Поллока в пьесе П. Клоделя «Обмен» (постановка 1914).
(обратно)
98
…лицом напоминающий господина Ф. л…са Фм. ма… Имеется в виду Фенеон Феликс (1861–1944) — французский писатель, близкий к символистам.
(обратно)
99
Сесострис (Сезострис) — имя, которое носили три египетских фараона двенадцатой династии; самый известный из них — Сесострис Великий, или Рамзес V Великий, — царствовал в XV или XVI в. до н. э.
(обратно)
100
Вестминстер — один из исторических районов Лондона, местонахождение королевской резиденции, парламента и других правительственных учреждений.
(обратно)
101
Ланселот — см. прим, к с. 57.
(обратно)
102
Георг V (1865–1936) — король Великобритании с 1910 г.
(обратно)
103
Пуанкаре Раймон (точнее, Ремон, 1860–1934) — французский государственный деятель, проводивший реакционную милитаристскую политику. В 1913–1920 гг. — президент Франции.
(обратно)
104
Фор Поль (1872–1960) — французский поэт, представитель второго поколения символистов, провозглашенный в 1912 г. поэтами Франции «королем поэтов». Осуществил публикацию «Канонического издания французских баллад и хроник» (т. 1-17, 1922–1958).
(обратно)
105
Скифия — название Северного Причерноморья в сочинениях античных писателей.
(обратно)
106
Билли Андре (1882–1971) — французский писатель, литературный критик, друг Аполлинера.
(обратно)
107
«Откровения святой Бригитты». — Святая Бригитта (1302 или 1304–1373) канонизирована в 1391 г. Ею написаны содержащие пророчества «Откровения», которые впервые появились во французском переводе в 1536 г. под названием «Чудесное пророчество святой Бригитты».
(обратно)
108
«Столетия» Нострадамуса. — Нострадамус (наст, имя Мишель Нотр-дам, 1503–1566) — французский врач и астролог Екатерины Медичи, лейб-медик Карла IX, автор «Столетий», написанных рифмованными четверостишиями и якобы содержавших «предсказания» будущего.
(обратно)
109
«Предсказания волшебника Мерлина». — Мерлин — легендарный уэльский мудрец, живший, по преданию, в VI в., во времена легендарного короля Артура. Его «Предсказания» появились в более позднюю эпоху.
(обратно)
110
…на улице Бюси… — небольшая парижская улица на левом берегу Сены.
(обратно)
111
…в рукописях в Оксфорде — т. е. в библиотеке Оксфордского университета, основанной в 1602 г. и известной на весь мир своим рукописным фондом.
(обратно)
112
…слово «искусства» звучит по-французски точно так же, как «ящерицы». Игра слов: lézards — ящерицы, les arts — искусства; по-французски эти слова звучат одинаково.
(обратно)
113
Армонидор — имя музыканта звучит по-французски как «Золотая гармония»
(обратно)
114
Гран Шатле — старинная парижская крепость на правом берегу Сены, в которой находилось уголовное ведомство. Была разрушена в 1802 г.
(обратно)
115
Лигуры — один из самых древних и воинственных народов Европы. Во времена античной древности лигуры (что значит «народ гор», «горцы») населяли гористую область Северной Италии.
(обратно)
116
…розмарина… как тот, что рос на могиле Мальбрука… — Ссылка на французскую песню «Мальбрук в поход собрался», где есть слова: «Вокруг его могилы посажен розмарин». Популярность этой песни была столь велика, что её мелодию использовал Бомарше в «Свадьбе Фигаро» (романс пажа, д. II, сц. 4). Герой песни Мальбрук — знаменитый английский полководец герцог Мальборо (1650–1722), одержавший ряд побед над французами в войне за Испанское наследство.
(обратно)
117
Монмор Пьерде (1576–1648) — получил широкую известность среди современников как большой любитель чужих застолий, где умел показать себя остроумным собеседником и неутомимым едоком.
(обратно)
118
«Камбасерес» — намек Аполлинера не вполне ясен: в историю вошли, по крайней мере, четыре человека, носившие эту фамилию. Самые прославленные из них — это Камбасерес Жан Жак Режи де, герцог Пармский (1753–1824), — прожженный политикан, прекрасно устраивавшийся при любом режиме, и Камбасерес Этьен Франсуа, аббат де (1721–1802), — французский священник, автор трех томов проповедей, знаменитый обличитель пороков двора Людовика XV.
(обратно)
119
…омлет Льва X… — Лев X (Медичи Джованни, 1475–1521) — римский папа с 1513 г., отличался пристрастием к роскошным пиршествам и изысканным блюдам.
(обратно)
120
…в память о Касторе и Полидевке. — См. прим, к с. 37
(обратно)
121
Келарь — монах, учитывающий имущество монастыря.
(обратно)
122
Гораций Квинт Флакк (65-8 до н. э.) — древнеримский поэт, автор крылатых выражений «золотая середина», «лови день».
(обратно)
123
Плиний — Плиний Старший (23 или 24–79) — древнеримский писатель, автор «Естественной истории» в 37 книгах, содержащей естественнонаучные знания античности, а также сведения по истории и искусству.
(обратно)
124
Фабий Пиктор Квинт (ок. 254 до н. э. — ?) — древнеримский историк, автор «Анналов» — изложения истории Рима по годам с мифических времен до 201 до н. э.
(обратно)
125
…в Оверни… — Овернь — историческая область и современный экономический район в центральной части Франции.
(обратно)
126
Каталонцы — жители Каталонии, исторической области на северо-востоке Испании.
(обратно)
127
Версенжеторикс (Верцингеториг) (? — 46 до н. э.) — вождь анти-римского восстания галлов. Войсками Цезаря был взят в плен и позже казнен. Его именем названа одна из парижских улиц, расположенная непо-далеку от Монпарнасского вокзала.
(обратно)
128
Сен-Клу — французский поэт начала XIII в., первый автор знаменитого «Романа о Лисе», который был продолжен другими стихотворцами.
(обратно)
129
Монтень — см. прим, к с. 107.
(обратно)
130
Мери Жозеф (1798–1865) — французский прозаик, поэт, драматург и либреттист.
(обратно)
131
…с вдохновением Ронсара… главой «Плеяды». — Ронсар Пьер де (1524–1585) — французский поэт, глава «Плеяды» — первой национальной поэтической школы эпохи Возрождения, совершившей смелую реформу литературы; деятельность «Плеяды» (куда входили Ж. Дора, Ж. Дю Белле, Ж. А. де Баиф и др.) протекала в третьей четверти XVI в.
(обратно)
132
Навсикая (греч. миф.) — прекрасная дочь царя феаков, нашедшая на берегу моря потерпевшего кораблекрушение Одиссея.
(обратно)
133
Лукулл Луций Лициний (ок. 117 — ок. 56 до н. э.) — римский полководец и политический деятель, прославившийся роскошью жизни и богатством пиров, вошедших в поговорку («лукуллов пир»).
(обратно)
134
Брийя-Саварен КнтелыА (И55-1826) — автор сочинения «Физиология вкуса» (1825), эпиграфом к которому выбраны следующие слова: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты»; большой авторитет в гастрономии.
(обратно)
135
«Фея Мелюзина» — см. прим, к с. 57.
(обратно)
136
«Кребийон» — эту фамилию носили два французских писателя: драматург Проспер Жолио Кребийон-отец (1674–1762) и Клод Проспер Кребийон-сын (1707–1777), автор романов, описывающих забавные любовные похождения.
(обратно)
137
«Перевозчик». — Возможно, намек на Харона (греч. миф.), переправлявшего души умерших через реку забвения Лету в царство теней.
(обратно)
138
Священная бутылка. — Путешествие к оракулу Священной бутылки, находящейся в подземном храме сказочной страны Фонарии (т. е. страны света, знания), описано в книге Фр. Рабле (1495–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)
139
Калебасы — сосуды из тыквы.
(обратно)
140
…готы… вестготы, гунны… — Готы — группа германских L» племен. В III в. жили в Северном Причерноморье; делились на остготов (восточных готов) и вестготов (западных готов). Совершали набеги на Римскую империю. Гунны — кочевой народ, сложившийся во II–IV вв. в Приуралье. Массовое передвижение гуннов на Запад послужило толчком великому переселению народов; совершали набеги на Римскую империю.
(обратно)
141
Прозрачность Теней позволяла даже малым детям все видеть с любого места, им для этого не требовалось даже становиться на цыпочки.
(обратно)
142
Кишера Луи-Мари (1799–1884) — французский филолог, автор известного латинско-французского словаря (1851).
(обратно)
143
Гольцер Анри (1853–1929) — французский филолог, специалист по древнеримской литературе, автор латинско-русского словаря.
(обратно)
144
Форштевень — крайний носовой брус, заканчивающий корпус судна.
(обратно)
145
Стрингер — продольный элемент конструкции корпуса судна, выполненный в виде деревянного или металлического плоского бруса.
(обратно)
146
Леон Верт — писатель, друг А. де Сент-Экзюпери, адресат известного «Письма к заложнику» (1942).
(обратно)
147
…урожденной де Бриджпорт, из графства Уилшир. — Бриджпорт. — город на северо-востоке США; графства Уилшир в Англии не существует.
(обратно)
148
«Deep South Suite» (англ.) — «Южная сюита в низких тонах».
(обратно)
149
Фаррер Клод (наст, имя Фредерик Шарль Эдуар Б ар гон, 1876–1957) — французский писатель, известный романами, действие которых происходит в странах Индокитая. В тексте намек на его бороду.
(обратно)
150
Уен — точнее, Уан. Святой Уан (609–683) — епископ Руанский; в городе сохранилась церковь, которая носит его имя.
Б. Виан пародирует одновременно жанр трогательной рождественской сказки и легендарные «жития святых», вот почему он присваивает героям имена почитаемых во Франции святых.
(обратно)
151
Флавия, — Святая Флавия Домицилла жила во второй половине I в., приняла христианство. Хотя она была замужней женщиной и за веру не пострадала, церковь тем не менее провозгласила её святой девственницей и мученицей.
(обратно)
152
Шаранта — река на Западе Франции, устье которой, при впадении её в Бискайский залив, сильно расширяется в сторону моря.
(обратно)
153
…дромадеры — известные трезвенники… — Дромадеры — одногорбые верблюды. Ср.: пить, как верблюд.
(обратно)
154
На местном диалекте, малоизученном досель, «Жизнь» обозначается словом «Карусель».
(обратно)
155
…на этом посланном провидением плоту «Медузы»… — «Плот „Медузы» — название картины основоположника романтизма во французской живописи Теодора Жерико (1791–1824). На полотне представлена трагедия пассажиров фрегата «Медуза», затонувшего в 1819 г.: из 150 человек, поместившихся на плоту, к моменту появления корабля-спасителя в живых осталось только 15, именно их и изобразил художник.
(обратно)
156
Земля, предоставленная администрацией для эксплуатации, а вовсе не участок для погребения.
(обратно)
157
Сирены (греч. миф.) — полуптицы-полуженщины, своим волшебным пением увлекавшие мореходов, которые служили этим хищным существам добычей.
(обратно)
158
Такое самоубийство было бы достойно самой Клеопатры. — Клеопатра (69–30 до н. э.) — последняя царица династии Птолемеев. Покончила с собой, избрав смерть от укуса ядовитой змеи.
(обратно)
159
«Где ныне прошлогодний снег?» — Строка из стихотворения Фр. Вийона (см. прим, к с. 106) «Баллада о дамах былых веков» в переводе Ю. Б. Корнеева.
(обратно)
160
…со времен первых Капетингов. — Капетинги — династия французских королей (987-1328). Основатель — Гуго Капет, отсюда название.
(обратно)
161
…умеет играть на треугольнике… — Треугольник — ударный музыкальный инструмент: стальной прут, согнутый в виде незамкнутого треугольника.
(обратно)
162
…получила степень бакалавра… — т. е. окончила лицей и получила, после сдачи выпускных экзаменов, свидетельство о среднем образовании.
(обратно)
163
Орнитология — раздел зоологии, изучающей птиц.
(обратно)
164
Микроцефал — человек со значительным уменьшением размеров черепа и соответственно головного мозга при нормальных размерах других частей тела.
(обратно)
165
Вернемся к нашим баранам… — т. е. вернемся к предмету нашего разговора. Источник выражения — французский средневековый фарс «Адвокат Патлен».
(обратно)
166
Перевод В. Брюсова.
(обратно)
167
Апсида — выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. В христианских храмах апсида — алтарный выступ, ориентированный обычно на восток.
(обратно)
168
…вел происхождение от бургундов… — Бургунды — племя восточных германцев, в 457 г. бургунды заняли бассейн реки Роны, где образовали новое королевство с центром в Лионе. В 534 г. королевство бургундов было присоединено к Франкскому государству.
(обратно)
169
Единорог — мифический зверь с телом быка или лошади и длинным прямым рогом на лбу.
(обратно)
170
Цитра — популярный в XVI–XVII вв. струнный щипковый музыкальный инструмент, похожий на мандолину.
(обратно)