| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Уничтожить (fb2)
 - Уничтожить [Anéantir-ru] (пер. Мария Александровна Зонина) 2645K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мишель Уэльбек
- Уничтожить [Anéantir-ru] (пер. Мария Александровна Зонина) 2645K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мишель УэльбекМишель Уэльбек
Уничтожить
Michel Houellebecq
Anéantir
© Michel Houellebecq & Editions Flammarion, Paris, 2022
© М. Зонина, перевод на русский язык, 2023
© ООО “Издательство АСТ”, 2023
Издательство CORPUS®
* * *

© Michel Houellebecq
Один
1
Бывает, по понедельникам, в самом конце ноября или в начале декабря, чувствуешь себя как в камере смертников, особенно если живешь один. Летний отпуск давно забыт, до нового года еще далеко; небытие оказывается в непривычной близости.
В понедельник 23 ноября Бастьен Дутремон решил поехать на работу на метро. Выйдя на станции “Порт де Клиши”, он очутился прямо перед надписью, о которой ему уже говорили на днях коллеги. В начале одиннадцатого утра на платформе было пусто.
Граффити в парижском метро заинтересовали его еще в юности. Он часто фотографировал их своим допотопным айфоном – сейчас, похоже, вышел уже 23-й, он остановился на одиннадцатом. Он рассортировывал снимки по станциям и линиям, создав для этой цели множество папок на компьютере. Это могло бы, если угодно, сойти за хобби, но он предпочитал по идее более необязательное, но, в сущности, куда более жесткое определение – времяпрепровождение. Одной из его любимых была, кстати, надпись аккуратными наклонными буквами, обнаруженная им посередине длинного белого коридора на станции “Площадь Италии”, которая напористо возвещала: “Время не проведешь!”
Плакаты “Поэтов метрополитена”, тычущие в нос всякой вялой херней, наводнили в свое время все до единой парижские станции, просачиваясь иногда даже в вагоны, что вызывало у пассажиров многократные приступы безудержной ярости. Так, на станции “Виктор Гюго” он прочел следующее:
Претендую на почетный титул короля Израиля. Иначе поступить не могу.
На станции “Вольтер” ему попалось совсем уж вызывающее и нервозное заявление:
Вот мой окончательный ответ всем телепатам, всем Стефанам, которые решили отравить мне жизнь: НЕТ!
Надпись на “Порт де Клиши”, честно говоря, к граффити не имела отношения: огромные жирные буквы в два метра высотой, выведенные черной краской, тянулись по всей длине платформы в направлении “Габриэль Пери – Аньер-Женвилье”. Да и с противоположной стороны этот текст не получалось охватить взглядом полностью от начала до конца, но он все же ухитрился прочесть его целиком:
Выживают монополии / В сердце мегаполиса.
В этом не было ни чего-то особо тревожного, ни даже ясно выраженного; тем не менее именно такого рода высказывания могли привлечь внимание ГУВБ[1], как и все прочие таинственные, неясные послания, несущие в себе скрытую угрозу, – в последние годы они заполонили общественное пространство, притом что их не удавалось приписать какой-либо известной политической группировке; наиболее показательным и зловещим их примером считались как раз интернет-сообщения, расшифровкой которых он занимался в данный момент.
На его рабочем столе лежал отчет из лаборатории общей лексикологии, его доставили в первой утренней разноске. Лабораторная экспертиза отобранных сообщений позволила выделить пятьдесят три знака, причем это были алфавитные символы, а не идеограммы; наличие пробелов между ними позволило объединить их в слова. Затем они приступили к установке биекции с одним из известных алфавитов, для начала с французским. Судя по всему, они попали в точку с первой попытки: добавив к двадцати шести основным буквам лигатуры, буквы с седилью и диакритическими знаками, они получили в сумме сорок два знака. Плюс одиннадцать традиционных знаков препинания, что в общей сложности дает пятьдесят три символа. Теперь им осталось решить классическую задачу на дешифровку текста, то есть установить взаимно-однозначное соответствие между символами сообщений и буквами французского алфавита в его полном варианте.
К сожалению, после двух недель работы они зашли в полный тупик: при помощи известных систем кодирования никакого соответствия вывести не удалось; за все время существования лаборатории такое произошло впервые. Выкладывать в сеть сообщения, которые никто не сможет прочесть, – нелепая затея, само собой, так что адресаты наверняка существуют – вот только кто они?
Он встал, сделал себе эспрессо и с чашкой в руке подошел к большому панорамному окну. От стеклянного фасада Суда высокой инстанции отражался ослепительный свет. Он никогда не усматривал никаких особых эстетических достоинств в этом затейливом нагромождении гигантских параллелепипедов из стекла и стали, воцарившихся над грязным, унылым пейзажем. В любом случае авторы концепции не гнались за красотой и вовсе не стремились порадовать взор, скорее похвастаться определенным технологическим ноу-хау – как будто им главное было пустить пыль в глаза потенциальным инопланетянам. Бастьену не довелось работать в историческом здании на набережной Орфевр, 36, так что в отличие от старших коллег он не испытывал никакой ностальгии; но даже он не мог не признать, что квартал Новый Клиши с каждым днем все безнадежнее скатывается в самый что ни на есть урбанистический кошмар; торговый комплекс, кафе и рестораны, предусмотренные первоначальным планом развития, так и остались на бумаге, поэтому на новом месте стало практически невозможно перевести дух в течение дня за пределами офиса; зато с парковкой никаких трудностей не возникало.
Внизу, метрах в пятидесяти, на стоянку для посетителей въехал “астон-мартин-DB11”; вот, значит, и Фред. Пристрастие гика Фреда, которому по логике вещей полагалось приобрести “теслу”, к замшелому очарованию двигателей внутреннего сгорания выглядело странной причудой – бывало, он на долгие минуты мечтательно замирал под баюкающее урчание мотора V12. Наконец он вышел, хлопнув дверцей. С учетом процедур безопасности на входе Фред появится у него минут через десять. Он надеялся, что у Фреда есть новости; честно говоря, только на него он, в принципе, и надеялся, рассчитывая сообщить на очередном заседании хоть о каких-то результатах.
Когда, семь лет назад, их взяли на договор в ГУВБ – с более чем пристойной зарплатой для молодых людей без диплома и какого бы то ни было профессионального опыта, – собеседование свелось к демонстрации их умения взламывать различные интернет-сайты. В присутствии полутора десятков агентов БРМСИТ[2] и других технических служб Министерства внутренних дел, собранных по такому случаю, они объяснили, как, войдя в НРИФЛ[3], можно одним кликом дезактивировать и реактивировать карту “Виталь”[4], каким образом они проникают на официальный налоговый сайт и запросто изменяют сумму задекларированных доходов. Кроме того, они показали – это более сложная процедура, поскольку коды регулярно обновляются, – как они ухитряются, зайдя на сайт НАКГО, Национального автоматизированного каталога генетических отпечатков, поменять, а то и вообще уничтожить профиль ДНК, даже если человека уже осудили. Они предпочли умолчать о том, как взломали сайт атомной электростанции в Шо, но и только. На сорок восемь часов они получили полный контроль над системой, и им ничего бы не стоило запустить процедуру аварийной остановки реактора, тем самым лишив электричества несколько французских департаментов. Однако им не удалось бы спровоцировать масштабную ядерную аварию – они не смогли взломать 4096-битный ключ шифрования, необходимый для проникновения в систему управления активной зоной реактора. Фред обзавелся новой хакерской программой, и ему не терпелось ее испытать; но по обоюдному согласию они решили в тот день, что, возможно, перегнули палку; они вышли, избавившись от всех следов своего присутствия в системе, и больше никогда не заговаривали об этом – ни с посторонними, ни между собой. В ту ночь Бастьену приснился страшный сон, за ним гнались чудовищные химеры, скомпонованные из разлагающихся младенцев; в финале этого кошмара ему явилось “сердце” реактора. Они выждали несколько дней, прежде чем снова увидеться, даже не созвонились ни разу и, вероятно, именно в тот момент впервые задумались о том, чтобы поступить на госслужбу. Героями их юности были Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден, так что решение пойти на сотрудничество с властями далось им нелегко, но в середине 2010-х годов во Франции создалась совершенно особая ситуация: после ряда смертоносных исламистских терактов население стало поддерживать полицию и армию, более того, питать к ним добрые чувства.
Однако Фред, проработав всего год, решил не продлевать контракт с ГУВБ; он уволился и создал компанию Distorted Visions, специализирующуюся на визуальных эффектах и компьютерной графике. В сущности, Фред, в отличие от него, никогда не был хакером в полном смысле слова; Фреда никогда не охватывало ликование, сродни тому, что переполняло его самого, когда он мастерским слаломом обходил файрволы и защиту сети, он не упивался своим всемогуществом при запуске атаки методом “грубой силы”, когда он управлял тысячами компьютеров одновременно, взломав их и заставив расшифровывать очередной особо коварный ключ. Фред, как и его учитель Джулиан Ассанж, – в первую очередь прирожденный программист, он способен за несколько дней освоить самые сложные языки, постоянно возникающие на рынке, и использует он свои способности для написания алгоритмов генерации форм и текстур новейшего поколения. Нам то и дело приходится слышать о французских достижениях в области аэронавтики и космоса, и гораздо реже – о визуальных эффектах. Среди клиентов его компании часто попадались создатели самых знаменитых голливудских блокбастеров; за пять лет своего существования она вышла на третье место в мире.
Когда Фред, войдя в его кабинет, развалился на диване, Дутремон сразу понял, что его ждут плохие новости.
– Увы, Бастьен, ничем не могу тебя порадовать. – Фред не замедлил подтвердить его догадку. – Ладно, давай начнем с первого сообщения. Я знаю, вас не оно интересует, но тем не менее это весьма любопытное видео.
Первое всплывающее окно в ГУВБ прошляпили; оно эксплуатировало в основном поисковики авиабилетов и сайты онлайн-бронирования отелей. Как и следующие два, оно состояло из нагромождения пятиугольников, кругов и строк текста на не поддающемся расшифровке языке. Кликая на любую точку внутри окна, пользователь запускал видео. Съемки велись с какой-то возвышенности либо с парящего аэростата; план длился минут десять. До самого горизонта простиралось необъятное поле с высокой травой, на небе не было ни облачка, такие пейзажи характерны для некоторых штатов американского Запада. Порывы ветра прочерчивали на травянистой поверхности гигантские прямые линии; они пересекались, складываясь в треугольники и многоугольники. Когда все стихало, поверхность, насколько хватало глаз, снова становилась абсолютно гладкой; потом опять поднимался ветер, и многоугольники наползали друг на друга, медленно разграфляя равнину от края до края. Это было очень красиво и не вызвало никакой тревоги; шум ветра не записали, и геометрия пространства разворачивалась в полной тишине.
– В последнее время мы часто создаем сцены шторма для военных фильмов, – начал Фред. – A травянистая поверхность такого объема генерится более или менее как водная схожего размера – то есть это не океан, скорее большое озеро. Одно могу сказать тебе наверняка – такие геометрические фигуры, как на этом видео, просто не могут образоваться. А то пришлось бы допустить, что ветер дует одновременно с трех сторон, если не с четырех. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что это компьютерная графика. Сбивает меня с толку другое: сколько их ни увеличивай, 3D-травинки все равно выглядят как настоящие, а это, по идее, неосуществимо. В природе не бывает двух одинаковых травинок; во всех травинках присутствуют неровности, небольшие дефекты, уникальная генетическая подпись. Мы увеличили тысячу травинок, выбрав их в кадре случайным образом: они все разные. Я готов поспорить, что каждая из миллиона травинок на этом видео отличается от другой; охренеть, это сумасшедшая работа; возможно, мы в Distorted могли бы это сделать, но на рендеринг такой продолжительности ушло бы несколько месяцев.
2
На втором видеоролике Брюно Жюж, министр экономики и финансов, с начала пятилетнего срока нынешнего президента занимавший еще и должность министра бюджета, стоял со связанными за спиной руками в саду средних размеров, разбитого, судя по всему, позади загородного дома. Окружающий холмистый пейзаж наводил на мысль о Нормандской Швейцарии, и весной там бы все утопало в зелени, но деревья стояли голые, так что, по всей вероятности, это была поздняя осень или ранняя зима. На министре были темные костюмные брюки и не по сезону легкая белая рубашка с короткими рукавами, без галстука, так что он весь покрылся гусиной кожей.
На следующем плане он предстал в длинной черной хламиде, увенчанной капиротом, тоже черным, придававшим ему облик кающегося грешника на Страстной неделе в Севилье; во времена инквизиции этот головной убор надевали и приговоренные к смерти в знак публичного унижения. Два человека в таком же наряде – с той лишь разницей, что в их капиротах виднелись прорези на уровне глаз, – схватили его под руки и потащили за собой.
В глубине сада они сорвали с министра колпак, и он несколько раз моргнул, привыкая к свету. Они стояли у подножия небольшого, заросшего травой пригорка, на вершине которого возвышалась гильотина. При виде этого сооружения на лице Брюно Жюжа не отразилось ни малейшего страха, разве что мимолетное недоумение.
Один из них, силой заставив министра встать на колени, положил его голову в выемку нижней половины хомута и привел в действие механизм блокировки, второй же в это время устанавливал тесак в тяжелый чугунный груз, предназначенный для стабилизации падения лезвия. При помощи веревки, пропущенной через шкив, они подтянули лезвие с грузом к верхней поперечной балке. Создавалось впечатление, что Брюно Жюжа постепенно охватывает бездонная печаль, но скорее печаль общего порядка.
Через пару секунд, в течение которых министр успел закрыть глаза и тут же открыть их, один из мужчин открыл клещевой захват. Нож обрушился за две-три секунды, одним махом отрубив голову, в корыто хлынула струя крови, а голова покатилась вниз по травянистому склону и замерла наконец прямо напротив камеры, на расстоянии нескольких сантиметров от объектива. В широко открытых глазах министра застыло неподдельное изумление.
Всплывающие окна с этим видео заполонили государственные информационные сайты, такие как www.impots.gouv.fr и www.servicepublic.fr. Брюно Жюж сначала поговорил со своим коллегой из МВД, а тот уже обратился в ГУВБ. После чего они проинформировали премьер-министра, и так дело дошло до президента. Без официального заявления прессе решили обойтись. До сих пор все попытки избавиться от этого видео не увенчались успехом – через несколько часов, а то и минут окно появлялось вновь с другого IP-адреса.

http://guillotine1889.free.fr/?p=536
– Слушай, – продолжал Фред, – мы смотрели это кино часами, увеличивая до максимума, особенно план с обезглавленным телом в тот момент, когда из сонной артерии брызнула кровь. По идее, при значительном увеличении должны возникать геометрические закономерности, искусственные микрофигуры – как правило, можно даже угадать алгоритм, которым воспользовался чувак. Только не в нашем случае – увеличивай сколько душе угодно, все по-прежнему хаотично и неровно, как будто это реальный материал. Меня это так заинтриговало, что я поговорил с Бустаманте, боссом Digital Commando.
– Они ведь ваши конкуренты.
– Да, конкуренты, если угодно, но мы в хороших отношениях, нам и раньше приходилось работать вместе над фильмами. У нас не совсем одинаковые ниши: мы лучше справляемся с воображаемой архитектурой, генерим виртуальные толпы и так далее. Но когда возникает необходимость в зверских спецэффектах, органических монстрах, увечьях и отрубании голов, они круче. Вот только Бустаманте был потрясен не меньше меня: он совершенно не мог понять, как вообще это можно сделать. Если бы нам пришлось давать показания под присягой и, конечно, если бы казнили не министра, а простого смертного, не исключено, что мы бы поклялись, что его обезглавили на самом деле…
Воцарилась мертвая тишина. Бастьен посмотрел в окно, снова окинув взглядом огромные параллелепипеды из стекла и стали. Строение, безусловно, впечатляющее, что и говорить, даже пугающее в ясный день; но ведь Суду высокой инстанции положено внушать ужас населению.
– Ну а третий ролик, ты сам его видел, – снова заговорил Фред, – это длинный план, снятый с рук в железнодорожных туннелях. Довольно гнетущий, желтый какой-то. Саундтрек – классический индастриал. Это, само собой, компьютерная графика, поскольку не существует ни путей десятиметровой ширины, ни моторных вагонов пятидесяти метров в высоту. Этот ролик здорово сделан, очень здорово, мы имеем дело с высококлассной компьютерной графикой, но, как сказать, он не так ошеломляет, как предыдущие, его и мы в Distorted изготовили бы недели за две, я думаю.
Бастьен взглянул на него:
– Что касается третьего сообщения, то меня тревожит не содержание, а масштаб распространения. На этот раз они атаковали не государственный сайт, а нацелились на Google и Facebook, а эти ребята отлично умеют защищаться. И что поразительно, так это напор и внезапность атаки. Я предполагаю, что их ботнет контролирует по меньшей мере сто миллионов компьютеров-зомби.
Фред аж подскочил; это казалось ему невозможным и не имело ничего общего с порядком величин, к которым они привыкли.
– Я знаю, – продолжал Бастьен, – но все изменилось, и в некотором смысле хакерам стало легче жить. Люди по привычке покупают компьютеры, но выходят в сеть в основном со смартфонов, а компьютер не выключают. В настоящий момент в мире сотни миллионов, может быть, миллиарды компов находятся в спящем состоянии, словно ждут не дождутся, чтобы в них запустили бот-программу.
– Увы, ничем не могу тебе помочь.
– Ты уже мне помог. У меня на семь вечера назначена встреча с Полем Резоном из Министерства экономики. Он работает в офисе министра, и я с ним общаюсь по этому делу; теперь я знаю, что ему сказать. Первое: мы имеем дело с кибератакой неизвестных лиц. Второе: они умеют создавать визуальные эффекты, которые лучшие специалисты в этой области считают невыполнимыми. Третье: они в состоянии задействовать неслыханные вычислительные мощности, превосходящие все, что мы видели ранее. Четвертое: их мотивы нам неизвестны.
Они снова помолчали.
– Что он из себя представляет, этот Резон? – спросил наконец Фред.
– Нормальный мужик. Серьезный, даже суровый, в общем, с ним не забалуешь, но говорит резонные вещи. Оказывается, в ГУВБ его хорошо знают, вернее, помнят его отца, Эдуара Резона. Он всю жизнь проработал в конторе, начав еще в бывшей Дирекции общей разведки, почти сорок лет назад. Его уважали; ему доводилось вести очень крупные дела, на самом высоком уровне, напрямую затрагивавшие безопасность государства… Одним словом, его сынок там в каком-то смысле не чужой. Он, конечно, энарх[5] и инспектор финансов, короче, полный набор, но ему известна специфика нашей работы, и, надо думать, он ничего против нас не имеет.
3
Небо низкое, серое, непроницаемое. Кажется, что свет идет не сверху, а от укрывшей землю снежной мантии; но он неумолимо тускнеет, судя по всему, уже сумерки. Промерзшие кристаллики инея, ломкие ветви деревьев. Снежинки кружатся вокруг прохожих, а они идут себе, не видя друг друга, их лица суровеют, покрываются морщинами, в глазах пляшут безумные огоньки. Некоторые возвращаются домой, но, еще не попав к себе, понимают, что их близкие скоро умрут, а может, уже умерли. Поль осознает постепенно, что планета погибает от холода; поначалу это просто предположение, но мало-помалу оно перерастает в уверенность. Правительства больше нет, все то ли разбежались, то ли самоустранились, трудно сказать. Потом Поль оказывается в поезде, он решил ехать через Польшу, но во всех купе поселилась смерть, хотя стены обиты густым мехом. Тогда он понимает, что поездом никто не управляет, он сам мчится на всех парах по пустынной равнине. Температура продолжает падать: – 40°, – 50°, – 60°…
Поль проснулся от холода, сон закончился; было двадцать семь минут первого. В кабинетах министерства отопление всегда выключали в девять вечера, что и так уже считалось довольно поздним часом, в большинстве учреждений служащие уходят с работы гораздо раньше. Он, значит, задремал на диване в своем кабинете, вскоре после ухода парня из ГУВБ. Тот явно испугался, в первую очередь за себя, за свою дальнейшую судьбу, как будто Поль собирался пожаловаться его начальству, потребовать его отстранения, ну, или чего-то в этом роде; ни о чем таком он даже не помышлял. Все равно после третьего видео эта история вышла на мировой уровень. На сей раз мишенью стал непосредственно Google, крупнейшая в мире компания, работающая рука об руку с АНБ[6]. Не исключено, что они проинформируют ГУВБ о первых результатах, но и то просто из вежливости, и еще в связи с тем, что необъяснимым образом все началось с французского министра; но поскольку следственные ресурсы американцев не идут ни в какое сравнение с возможностями французских коллег, они рано или поздно окончательно приберут дело к рукам. Применять какие-либо санкции к парню из ГУВБ было бы не только несправедливо, но и глупо: прошли времена его отца, когда опасности носили локальный характер, теперь они почти мгновенно становятся глобальными.
Пока что Поль проголодался. Он засобирался домой, а что еще остается, подумал он и вдруг понял, что дома шаром покати, что полка, отведенная ему в холодильнике, безнадежно пуста, да и само понятие “домой” свидетельствовало о его безрассудном оптимизме.
Именно раздельное пользование холодильником как нельзя лучше символизировало вырождение их супружеской жизни. Когда Поль, молодой сотрудник Бюджетного управления, познакомился с Прюданс, молодой сотрудницей Казначейского управления, что-то такое, несомненно, вспыхнуло между ними в самые первые минуты; ну хорошо, не в самые первые секунды, выражение любовь с первого взгляда в данном случае было бы преувеличением, но это “что-то” заняло всего несколько минут, уж точно меньше пяти, одним словом – чудное мгновение, в некотором смысле. Отец Прюданс был в юности фанатом Джона Леннона, из его текста, призналась она ему пару недель спустя, он, собственно, и почерпнул ее имя. Dear Prudence, конечно, далеко не лучшая песня “Битлз”, да и вообще Поль никогда не считал “Белый альбом” вершиной их творчества, впрочем, он так и не смог назвать Прюданс по имени и даже в самые нежные мгновения обращался к ней “дорогая”, иногда – “любимая”.
Она никогда не занималась готовкой, ни разу за всю их совместную жизнь, ей казалось, что это не вполне соответствует ее статусу. Она была энархом, как и Поль, инспектором финансов, как и Поль, и нельзя не согласиться, что инспекторша финансов у плиты выглядит как-то несуразно. Они сразу пришли к полнейшему согласию по поводу налога на добавленную стоимость, но оба настолько не умели приветливо улыбаться и легкомысленно трепаться о том о сем, одним словом, обольщать, что их идиллия оформилась, вероятно, благодаря как раз добавленной стоимости во время нескончаемых собраний, проводимых за полночь Управлением налогового законодательства, обычно в зале B87. Они мгновенно достигли сексуального взаимопонимания, редко, впрочем, доходя до экстаза, но ведь многие пары так высоко и не метят, поддержание какой-никакой сексуальной активности между постоянными партнерами – уже настоящий успех, хотя скорее исключение, чем правило, и хорошо осведомленные граждане (журналисты ведущих женских журналов, авторы реалистических романов) в большинстве своем подтверждают этот факт, да и то это касается, как правило, таких относительно пожилых людей, как Поль и Прюданс, медленно, но верно приближающихся к полтиннику, что же до молодых их современников, то сама идея полового акта между двумя автономными индивидами, пусть даже он продлится всего пару минут, представляется им теперь лишь старомодной и, прямо скажем, досадной фантазией.
А вот гастрономические разногласия между Прюданс и Полем не заставили себя ждать. Однако в первые годы Прюданс, движимая любовью или каким-то схожим чувством, обеспечивала своему сожителю питание, отвечающее его запросам, хотя последние в ее глазах отличались нестерпимым консерватизмом. Да, пусть она и не готовила, зато сама ходила за покупками, и предметом ее особой гордости являлись выисканные ею для Поля лучшие стейки, лучшие сыры и лучшие колбасные изделия. Тогда еще на полках общего холодильника мясные деликатесы смешивались в любовной сумятице с органическими фруктами, крупами и бобовыми, составлявшими ее личный рацион.
Веганский заскок, постигший Прюданс еще в 2015 году, в тот самый момент, когда слово “веган” только появилось в словаре “Малый Робер”, положил начало тотальной продовольственной войне между ними, одиннадцать лет спустя они все еще зализывали нанесенные ею раны, так что теперь их любовь вряд ли имела шансы уцелеть.
Первый удар, нанесенный Прюданс, был внезапным, мощным, решительным. По возвращении из Марракеша, куда он ездил с тогдашним министром на конгресс Африканского союза, Поль с удивлением обнаружил, что в холодильник, наряду с привычными овощами и фруктами, вторглось множество на редкость причудливых продуктов питания, тут соседствовали морские водоросли, ростки сои и бесконечные готовые блюда марки “Биозона” с тофу, булгуром, киноа, полбой и японской лапшой.
Все это он не воспринимал как что-то пусть даже отдаленно съедобное и не без некоторой язвительности поделился с ней своими соображениями (“жрешь всякое дерьмо” – вот что конкретно он сказал). Засим последовал краткий, но весьма драматический обмен репликами, в результате которого Полю и была выделена полка под его “жлобскую жрачку”, как выразилась Прюданс – оную жрачку ему теперь вменялось покупать самому, на свои кровные (они сохранили раздельные банковские счета, что является немаловажной деталью).
В течение первых недель Поль пару раз все же рыпнулся, но получил решительный отпор. Любой жалкий ломтик сен-нектера или запеченного паштета, сунутый им в гущу Прюдансовых тофу и киноа, через нескольких часов отправлялся ею на его полку, а то и прямиком в мусорное ведро.
Лет десять спустя все вроде утихло, внешне во всяком случае. Что касается еды, то Поль довольствовался своей полочкой, которую он, постепенно отказавшись от походов за всякими гастрономическими изысками, загружал на скорую руку, составляя сбалансированный в диетологическом смысле набор быстроразогреваемых готовых блюд из надежных сетевых магазинов.
Надо же что-то есть, мудро твердил он себе при виде тажина из птицы от “Монопри Гурмэ”, приобщаясь таким образом к некой форме мрачного эпикурейства. Птица была родом из “стран Евросоюза” – и на том спасибо, рассуждал он, бразильских цыплят не предлагать. Теперь все чаще и чаще его донимали во сне крошечные темнокожие и многорукие существа, суетливо сновавшие взад-вперед.
С самого начала семейного кризиса они спали в разных комнатах. С непривычки ночевать в одиночестве тяжело, холодно и страшно; но они давно миновали эту болезненную стадию и пришли к своего рода стандартному отчаянию.
Закат их отношений начался вскоре после того, как они купили сообща, взяв каждый со своей стороны кредит на двадцать лет, квартиру на улице Лерё, возле парка Берси – потрясающий дуплекс с двумя спальнями и великолепным “общесемейным пространством”, панорамные окна которого выходили прямо на парк. Это совпадение нельзя назвать случайным, улучшению условий жизни часто сопутствует изношенность смысла жизни, особенно совместной. “Прикольный” райончик, заявила как-то Инди, его дура невестка, нанеся им визит весной 2017 года вместе с его бедным братом. Этот визит, к счастью, стал первым и последним, искушение задушить Инди было слишком велико, и он сильно сомневался, что совладает с собой в следующий раз.
Райончик-то прикольный, конечно, что есть, то есть. Их спальня, в те времена когда у них была еще общая спальня, выходила на Музей ярмарочного искусства на авеню Терруар-де-Франс. Метрах в пятидесяти от него, над улицей Кур-Сент-Эмильон, пересекающей от начала до конца четырехугольную пешеходную площадь, именуемую Деревней Берси, с многочисленными ресторанами региональной кухни и альтернативными бистро, зимой и летом реяло облако разноцветных воздушных шаров. Там можно сколько угодно впадать в детство, было бы желание. Да и в самом парке ощущалось похожее стремление к развлекательной мешанине, почетное место в нем было отведено выращиванию овощей, а в специальном павильоне, под эгидой парижской мэрии для населения открыли запись в кружки по садоводству (“Сады в Париже, мечта все ближе!” – гласил слоган, украшавший его фасад).
В общем, они поселились – и железобетонности этого аргумента никто не отменял – в пятнадцати минутах ходьбы от министерства. Сейчас ноль часов сорок две минуты – то есть этих мыслей, хоть они и касались всей его осмысленной взрослой жизни, ему хватило всего на четверть часа. Если выйти сию минуту, к часу он будет дома. Во всяком случае – по месту жительства.
4
Выйдя из кабинета, Поль сразу повернул направо, к северным лифтам, и в конце длинного, тускло освещенного коридора, ведущего к апартаментам министра, он заметил медленно бредущую ему навстречу фигуру в серой пижаме, сильно смахивающей на лагерную робу. Сделав еще несколько шагов, Поль узнал его: это был министр собственной персоной. Два месяца назад Брюно Жюж изъявил желание воспользоваться своей служебной квартирой, которая пустовала практически все время с момента возведения здания министерства. Иными словами, министр, пусть он и не заявил об этом откровенно, решил уйти из семьи, положив тем самым конец браку длиной в двадцать пять лет. Поль понятия не имел, каковы были конкретные причины разлада Брюно с женой, впрочем, он догадывался – в силу уже хотя бы эмпатии, возникающей между западными мужчинами приблизительно одного возраста и круга, – что они мало отличаются от его собственных. В кулуарах министерства шушукались (как же так, почему о подобного рода вещах шушукаются в кулуарах? это навсегда осталось для Поля загадкой, но шушукались несомненно) о том, что подоплека этой истории куда мерзее и все дело в бесконечных супружеских изменах – причем жена изменяла мужу. Нашлись даже свидетели, вроде как приметившие двусмысленные выкрутасы Эванжелины, жены министра, на министерских приемах много лет назад. Жена Поля, к счастью, держалась в стороне от подобных скандалов. У Прюданс, насколько он мог судить, не было никакой сексуальной жизни, для личного расцвета ей, видимо, сполна хватало радостей более аскетичного характера, вроде йоги и трансцендентальной медитации, – вернее, их, может, и не хватало, да и ничего бы не хватило на самом деле, а уж секса и подавно; Прюданс не была женщиной для секса, Поль, по крайней мере, пытался себя в этом убедить, правда, без особого успеха, потому что в глубине души он прекрасно знал, что Прюданс создана для секса в той же, а то и в большей степени, чем подавляющее большинство женщин, и ее сокровенное “я” всегда будет нуждаться в сексе, в ее случае – в гетеросексуальном сексе, и уж если быть совсем точным – во введении члена. Но ужимки социального позиционирования внутри группы, как бы они ни были нелепы и даже недостойны, играют определенную роль, и Прюданс как в сексе, так и в веганстве оказалась первой ласточкой; асексуалов становилось все больше, это подтверждали результаты всех опросов, с каждым месяцем процент асексуалов среди населения возрастал, причем не равномерно, а в ускоренном темпе; журналисты, с их извечной склонностью к приблизительным оценкам и неправильному употреблению научных терминов, решительно объявили этот рост экспоненциальным, попав пальцем в небо, поскольку его темпы никак не соответствовали экстремальным характеристикам настоящей экспоненты – хотя в скорости ему и нельзя было отказать.
В отличие от Прюданс и большинства своих современниц, Эванжелина когда-то отлично вжилась в роль похотливой сучки, а может, и до сих пор из нее не вышла, что, естественно, никак не могло устроить такого человека, как Брюно, любившего, прежде всего, теплый и уютный семейный очаг, где он мог бы на время отвлечься от борьбы за власть, неизбежной составляющей политической игры. Их с Прюданс супружеские неурядицы на самом деле были совершенно иного рода.
– А, Поль, ты тут? – Брюно явно еще не до конца проснулся; говорил он немного озадаченно, неуверенным тоном, впрочем вполне довольным. – Совсем заработался?
– Нет, не совсем. Вообще-то совсем нет. Я заснул у себя на диване.
– Ох уж эти диваны… – Брюно смаковал это слово, будто речь шла о чудесном изобретении, существование которого он только что для себя открыл. – Я плохо спал, – продолжал он уже совершенно другим тоном, – поэтому снова задумался о нашем деле. Зайдешь ко мне выпить? Мы не можем позволить китайцам сохранить монополию на редкоземельные элементы, – заметил он почти без паузы, убедившись, что Поль идет за ним. – Сейчас я завершаю сделку с “Линас”, это австралийская компания, – ты даже не представляешь, как с австралийцами трудно договариваться; с иттрием, гадолинием и лантаном все в порядке, но проблем хватает, особенно с самарием и празеодимом; я сейчас на связи с Бурунди и с Россией.
– Ну с Бурунди будет все путем, – беззаботно отозвался Поль.
Бурунди – африканская страна; этим, в общем, ограничивались его познания о Бурунди; тем не менее он склонялся к мысли, что Бурунди находится недалеко от Конго, из-за синтагмы “Конго-Бурунди”, всплывшей в закоулках его памяти, хотя и не мог приписать ей какое-либо устойчивое семантическое содержание.
– В последнее время в правительстве Бурунди собралась вполне исключительная команда, – гнул свое Брюно, на этот раз не ожидая ответа.
– Я бы чего-нибудь съел, – сказал Поль, – на самом деле я забыл сегодня поужинать, в смысле вчера вечером.
– Правда?.. Кажется, у меня остался сэндвич, ну нечто вроде сэндвича, я собирался съесть его днем. Он, наверное, не особо вкусный, но все лучше, чем ничего.
Они вошли в служебную квартиру, и Брюно обернулся к нему:
– Совсем забыл, я шел в кабинет за одной папкой. Подождешь минутку?
Министерский кабинет, где он принимал политиков, профсоюзных деятелей и боссов крупных компаний, находился в другом крыле, дорога туда и обратно занимала минут двадцать.
А тут, в маленькой комнатке, Брюно обустроил себе запасной офис: на обычной меламиновой столешнице под ясень, со стойкой для принтера, рядом с ноутбуком лежала стопка папок. Шторы он задернул, закрыв вид на Сену.
Новенькая кухня блистала чистотой, сюда, похоже, не ступала нога человека: в раковине не громоздились горы грязной посуды, огромный американский холодильник оказался пуст. В большой спальне, выходящей на Сену, тоже явно никто не жил, кровать была застелена. Брюно, судя по всему, спал в предполагаемой детской, если, конечно, вообразить себе не слишком привередливого ребенка. В комнатушке без окон, со стенами и ковровым покрытием серого цвета стояли односпальная кровать и тумбочка, другой мебели в ней не было.
Поль вернулся в обеденный салон, нависавший прямо над Сеной. За панорамными окнами с трех сторон открывалось захватывающее дух зрелище: аркады воздушного метро были ярко освещены, на Аустерлицкой набережной еще не рассосался сплошной поток машин; между опорами моста Берси плескалась Сена, переливаясь в блеске городских огней золотисто-желтыми цветами. Роскошный свет, заливавший комнату, ассоциировался скорее с какой-то пышной светской жизнью, с ночным Парижем, например, с элегантностью, а то и с пластическими искусствами. У него лично это не вызывало никаких ассоциаций, ни с чем знакомым уж точно, да и для Брюно тоже, надо полагать, все это пустой звук. Посреди стола на восемь персон, покрытого белой скатертью, лежал в нераспечатанной упаковке Daunat сэндвич с куриной грудкой и эмменталем на тостовом хлебе и стояла бутылка безалкогольного пива “Туртель”. Вот, значит, чем питается Брюно; такое бескорыстное служение отечеству внушает невольное уважение, подумал Поль. Наверняка рядом с Лионским вокзалом найдется открытая брассери, обычно возле больших вокзалов попадаются брассери, открытые до поздней ночи, где одиноким путникам предлагают традиционные блюда, что, впрочем, как правило, не может убедить их в том, что им все еще есть место в обычном мире людей, мире, славящемся домашней кухней и традиционными блюдами. Именно на эти героические брассери, официанты которых, насмотревшись на безграничные людские невзгоды, обычно умирают молодыми, и возлагал Поль в тот вечер свои последние гастрономические надежды.
Когда Брюно наконец вернулся с толстой папкой в руках, Поль стоял в маленькой смежной гостиной, погрузившись в изучение статуэтки животного, водруженной на подоконник. Зверь с искусно проработанной мускулатурой повернул голову назад. Он выглядел обеспокоенным, вероятно, услышал за спиной какой-то шум, почуял хищника. Пожалуй, это была коза, или, может, косуля, или лань, Поль плохо разбирался в животных.
– Что это? – спросил он.
– По-моему, лань.
– Да, ты прав, похоже на лань. Откуда она взялась?
– Не знаю, всегда тут стояла.
По-видимому, Брюно впервые заметил ее присутствие. Он снова принялся сетовать по поводу китайских и некитайских редкоземельных металлов, а Поль размышлял, стоит ли рассказать ему о ГУВБ. Он знал, что видео так глубоко задело Брюно, что он уже подумывал, не уйти ли из политики. В реальной политической жизни, ну, скажем так, в активной зоне реактора, Брюно был скорее аутсайдером. Его назначение в Берси почти пять лет назад не вызвало, мягко говоря, энтузиазма в министерстве – более того, ему чуть ли не бронку[7] тогда устроили, если этот термин уместно использовать по отношению к инспекторам финансов в темно-серых костюмах. Он не был инспектором финансов и даже не заканчивал ЭНА; выпускник Политеха, он всю жизнь проработал в промышленном секторе. Там он добился впечатляющих успехов, сначала во главе Dassault Aviation, потом Orano и, наконец, Arianespace, где ему удалось за несколько лет искоренить всяческие поползновения американских и китайских конкурентов, выведя Францию на надежное первое место по запускам коммерческих спутников. Оружейное производство, атомный сектор, космическая индустрия – все это были высокотехнологичные отрасли, и каждая из них естественным образом обеспечивала выпускнику Политеха профессиональный рост и карьеру, идеально сопрягавшуюся с предвыборными обещаниями только что переизбранного президента. Последний действительно отказался от фантазмов start-up nation[8], благодаря которым его избрали на первый срок, он, объективно говоря, добился лишь создания горстки нестабильных и низкооплачиваемых рабочих мест, на грани рабского труда, в неподконтрольных государству транснациональных корпорациях. Заново открывая для себя все прелести командной экономики во французском стиле, он решительно заявил, раскинув руки, что твой Христос (это он хорошо умел, и сейчас еще лучше, чем раньше, его руки распахивались под совершенно немыслимым углом, видно, насобачился с тренером по йоге, иначе никак), на многолюдном парижском митинге, увенчавшем его кампанию: “Я пришел сегодня дать вам надежду, и пусть умолкнут вестники несчастья: сегодня Франция вступает в новое Славное тридцатилетие!”
Брюно Жюж, как никто другой, способен был принять этот вызов. Не прошло и пяти лет, как он чуть ли не перевыполнил свои обязательства. Самым впечатляющим его успехом, о котором больше всего говорили в прессе, успехом, оставившим к тому же глубокий след в общественном сознании, стало эффектное оздоровление промышленной группы PSA[9]. После того как государство значительно увеличило свою долю в ее капитале и уже практически контролировало ее, группа направила свои усилия на завоевание лидирующих позиций в премиум-сегменте, сделав ставку на один из своих брендов – Citroën. В автопроме осталось только два рынка, по крайней мере, так считал Брюно, – эконом и премиум, равно как остались только – о чем, правда, Брюно говорить остерегался, да это и не входило непосредственно в его компетенцию – всего два социальных класса, богатые и бедные, средний класс просто испарился, и средний автомобиль вскоре канет в небытие вслед за ним. Франция продемонстрировала свои компетентности и амбиции на рынке недорогих автомобилей – поглощение Dacia компанией Renault послужило основой для впечатляющей success story, наверняка самой впечатляющей в новейшей истории автомобилестроения. Опираясь на свою репутацию неизменного лидера в индустрии роскоши и элегантности, Франция вполне могла бы принять вызов на рынке автомобилей премиум-класса и составить серьезную конкуренцию немецкому автопрому, думал Брюно. А вот люксовые авто нам недоступны, путь к ним перекрывают британские производители, кстати, не очень понятно, по какой причине, вероятно, это закончится только с исчезновением британской монархии; но премиум-класс, в котором доминировали немецкие производители, был в пределах досягаемости.
С этой задачей, наиболее важной в его министерской карьере, из-за которой он долгие месяцы торчал по ночам в своем офисе в Берси, в то время как его жена распутничала на стороне, он в конечном счете справился. В прошлом году Citroën был на равных с Mercedes почти на всех мировых рынках. И даже на очень стратегически важном индийском рынке вышел в первый ряд, опередив трех немецких конкурентов – саму Audi, королеву Audi, оттеснили на второе место, и экономический журналист Франсуа Ленгле, хоть и не склонен был к излияниям чувств, прослезился, объявляя эту новость в крайне популярной передаче Давида Пюжадаса на канале LCI.
В свою очередь проявив – благодаря изобретательности дизайнеров, которых Брюно подбирал лично, выходя по такому случаю за рамки своей чисто технической роли и решительно навязывая собственное художественное видение – ту же дерзость, что и создатели легендарных моделей Traction и DS, компания Citroën – да нет, бери выше, Франция в целом – сумела снова стать символом роскоши, объектом зависти и восхищения во всем мире, и перелом произошел вопреки ожиданиям вовсе не благодаря сектору моды, а благодаря автопрому, самому знаковому и выдающемуся детищу союза технологической мысли и красоты.
Этот успех, хоть и самый нашумевший, был далеко не единственным, и Франция вновь заняла место пятой экономики мира, наступая на пятки Германии, занимающей четвертое место: ее дефицит теперь составлял менее 1 % ВВП, она постепенно сокращала свой долг, и все это проходило, как ни удивительно, без протестов и забастовок, в атмосфере всеобщего одобрения; деятельность Брюно на посту министра увенчалась грандиозным успехом.
До президентских выборов оставалось уже меньше полугода, но президент, которого переизбрали бы без проблем, ни при каких обстоятельствах не мог выставить свою кандидатуру – после опрометчивой конституционной реформы 2008 года нельзя занимать пост президента более двух сроков подряд.
Что касается выборов, то многое было заранее известно: кандидат от “Национального объединения”[10] выйдет во второй тур – его имя еще не названо, но у них имеется пять-шесть приемлемых претендентов – и потерпит поражение. Оставался простой, но крайне важный вопрос: кто станет кандидатом от партии власти?
Во многих отношениях Брюно подходил больше всего. Президент безоговорочно доверял ему, что немаловажно, поскольку он твердо вознамерился через пять лет вернуться на два новых срока. Как бы там ни было, он, похоже, убедил себя, что Брюно сдержит слово и согласится отойти в тень по истечении первого пятилетнего мандата, не поддавшись упоению властью. Брюно – практик, выдающийся, но практик, а отнюдь не государственный муж, и президенту удавалось, как правило, себя в этом убедить. Но все же в его затее было нечто от сделки с дьяволом, так что все еще вилами по воде писано.
Другой, куда более насущной проблемой стали опросы общественного мнения. Для 88 % французов Брюно был человеком “компетентным”; 89 % сочли его “трудолюбивым” и 82 % – “неподкупным”, такого выдающегося результата не добивался пока ни один политик за всю историю существования опросов общественного мнения, даже Антуану Пине и Пьеру Мендесу-Франсу было до него далеко. Правда, всего лишь 18 % назвали его “сердечным”, 16 % – “чутким”, и какие-то жалкие 11 % признали, что он “близок к народу”, а вот это уже вполне себе катастрофические показатели, его обогнали все до одного представители политического класса, вне зависимости от партийной принадлежности. Одним словом, его уважают, но не любят. Он понимал это и ужасно переживал, поэтому кровавое видео так сильно его задело, и не просто не любят, некоторые, получается, ненавидят его до такой степени, что инсценировали его казнь. Ну а выбор обезглавливания, с соответствующими революционными коннотациями этого метода, лишь подчеркивает образ бездушного технократа, столь же далекого от народа, что и старорежимные аристократы.
Ужасно несправедливо, потому что Брюно – хороший мужик, Поль знал это; но как убедить избирателей? С журналистами Брюно чувствовал себя неуютно, упорно отказывался отвечать на вопросы личного характера и к тому же избегал публичных выступлений. Как же он выдержит президентскую гонку? Что и говорить, его кандидатура вызывала сомнения.
Друзьями они стали относительно недавно. Работая в Управлении налогового законодательства, Поль несколько раз пересекался с Брюно, правда кратко. Масштабное сокращение налогов, проведенное им в первый же год пятилетнего президентского срока, касалось только инвестиций, непосредственно направленных на финансирование французской промышленности – этим непреложным условием он не готов был поступиться. К такому откровенному дирижизму в конторе не привыкли, и Полю пришлось практически в одиночку сражаться буквально со всеми чиновниками своего департамента и твердой рукой составлять директивы и отчеты, исходя из пожеланий министра. Они все-таки одержали верх в этой внутренней войне, которая длилась год с лишним и не прошла бесследно.
Совместная борьба привлекла к нему внимание Брюно, они начали общаться, но более личный характер их отношения приобрели позже, по случаю очередного конгресса Африканского союза, проходившего на этот раз в Аддис-Абебе, а точнее, это произошло в баре отеля “Хилтон” вечером, после окончания первого рабочего дня. Поначалу разговор был неловким и натужным, но когда официантка вернулась, они вдруг расслабились.
– У меня сейчас с женой не клеится… – сказал Брюно, как раз когда она поставила перед ним бокал шампанского.
Поль от неожиданности чуть не опрокинул свой коктейль – какое-то дерьмовое и приторное тропическое пойло, так что он бы не сильно огорчился. В этот самый момент, с потрясающей синхронностью движений, за соседний столик сели две чернокожие проститутки. Брюно никогда прежде не заговаривал, даже вскользь, о своей личной жизни; Поль и понятия не имел, что он женат. Но в конце концов, почему бы и нет, ведь люди, мужчины и женщины, все еще иногда сочетаются браком, это, прямо скажем, обычное явление. А выпускнику Политеха, даже лучшему в своем выпуске, даже бывшему члену Корпуса горных инженеров, ничто человеческое не чуждо; он открылся ему с неожиданной стороны, и с этим теперь придется считаться.
Брюно, впрочем, ничего больше поначалу и не сказал; чуть позже он пробормотал вымученным голосом: “Мы уже полгода не занимались любовью…” Он сказал “занимались любовью”, сразу же отметил Поль, и выбор этого выражения с сентиментальным привкусом вместо глагола “трахаться” (который, вероятно, употребил бы он) или понятия “сексуальной жизни” (многие предпочли бы его, желая смягчить нейтральным термином эмоциональный заряд такого признания) уже очень много о нем говорил. Брюно, даром что выпускник Политеха, занимался любовью, по крайней мере в прошлом; даром что выпускник Политеха (и в эту секунду его образ, включая склонность к жесткому бюджетному регулированию, предстал перед ним в новом свете), Брюно оказался романтиком. Зародился романтизм в Германии, об этом часто забывают, а вернее, зародился он на севере Германии, в среде пиетистов, сыгравших, кроме всего прочего, немаловажную роль на раннем этапе развития промышленного капитализма. Над этой болезненной исторической загадкой Поль иногда размышлял в пору юности, когда дела духовные еще могли его интересовать.
Он едва сдержался, чтобы не ответить резко и цинично: “Полгода? Я-то уже десять лет как, приятель!” И он бы не погрешил против истины, если уж на то пошло, он лет десять не “трахался” и уж точно не “занимался любовью” ни с Прюданс, ни с кем-либо еще. Но подобное замечание вряд ли прозвучало бы уместно на данном этапе их отношений, он вовремя спохватился. Брюно, вероятно, полагал, что у него есть шансы на улучшение или прямо-таки возобновление супружеской жизни; и действительно, если верить многочисленным свидетельствам очевидцев, по прошествии полугода шансы еще остаются.
В Аддис-Абебе вечерело, бар медленно заполнял рокот конголезской румбы. Девушки за соседним столиком, пусть и проститутки, но проститутки премиум-класса, о чем говорило решительно все – наряды от модных дизайнеров, скромный макияж и особая элегантность стиля. Кстати, вполне возможно, это образованные девушки, а то и вообще инженеры или докторантки. Вдобавок весьма красивые девушки, их короткие обтягивающие юбки и приталенные топы сулили море удовольствий. Наверняка эфиопки, судя по величавой осанке, присущей женщинам этой страны. На этом этапе все могло получиться очень просто: им всего-то и требовалось, что пригласить их за свой столик. Они для того сюда и пришли, и не они одни, практически все только для того и съехались на этот чертов конгресс, ну не тут же, право, принимать решения, направленные на развитие Африки, уже к концу первого дня заседаний это стало очевидно. Не исключено, что Брюно и удастся впарить им исподтишка парочку атомных электростанций, это, кстати, его конек – впаривать атомные электростанции на международных конгрессах, да и то они не станут немедленно подписывать контракты, пока что обменяются контактами, а подпишут позже, по-тихому, скорее всего в Париже.
Что же касается самого ближайшего будущего, то они пригласят девушек за свой столик, проведут краткие галантные переговоры, учитывая, что цена вопроса общеизвестна – с атомными электростанциями придется сложнее, но это уже не по его части. Надо еще, конечно, разобраться, кому какая девушка достанется, но тут Поль совсем не волновался: они почти в равной степени ему нравились, были обе одинаково красивы, выглядели милыми и нежными и явно испытывали желание обслужить западный член. На этом этапе Поль вполне готов был уступить право выбора Брюно. Ну а если выбрать будет сложно, ничто не мешает им рассмотреть вариант фантазии на четверых.
И как раз в тот момент, когда эта мысль оформилась в его сознании, он понял, что ситуация абсолютно безнадежна. Его отношения с Брюно за последние несколько минут, бесспорно, приобрели совершенно иной характер, но все-таки они еще не дошли до того, да и вряд ли дойдут однажды, чтобы вместе переспать с девицами в одной комнате, их дружба никоим образом не могла завязаться на такой основе, ни тот ни другой не были и никогда не будут блядунами, не может же он спокойно наблюдать, как Брюно раздумывает, не воспользоваться ли ему услугами шлюхи, еще чего, не говоря уже о том, что Брюно – известный на всю страну политик, и журналисты, косящие под участников конгресса, уже, вероятно, слоняются в холле, отслеживая подступы к лифтам, так что он почувствовал, что облечен некоей миссией прикрытия по отношению к Брюно. В отсутствие элементарной мужской солидарности Брюно не посмеет при нем откликнуться на авансы девушек, и в то же время это создаст куда более прочное взаимопонимание между ними, основанное на целомудренности их реакции, и будет только способствовать возникновению беспрецедентной близости, поскольку они, таким образом, отгораживаются от примитивного братства самцов.
Мгновенно сделав выводы из этого инсайта, Поль встал, сославшись на легкую усталость – наверное, джетлаг виноват, добавил он (довольно идиотское замечание, учитывая, что разница во времени между Парижем и Аддис-Абебой практически отсутствует) – и пожелал Брюно спокойной ночи. Девушки отозвались на это мимолетными телодвижениями и коротко посовещались; и правда, расклад изменился. Что предпримет Брюно? Он может выбрать одну из двух девиц либо взять обеих, он сам, надо думать, так бы и поступил на его месте. А еще – и эта третья гипотеза, увы, казалась ему наиболее вероятной – он мог вообще ничего не предпринимать. Брюно – сторонник поиска долгосрочных перспектив, что в его случае, похоже, касается управления собственной сексуальной жизнью в той же мере, что и промышленной политикой страны. Он не достиг и, возможно, никогда не достигнет присущего все чаще лично ему, Полю, мрачного состояния духа, объяснявшегося сознанием того, что долгосрочной перспективы не существует; что жизнь как таковая не имеет долгосрочной перспективы.
Сейчас, когда это воспоминание неожиданно вернулось к нему четыре года спустя – воспоминание о том мгновении, когда он решил встать и подняться к себе в номер, оставив Брюно один на один с его потенциальной сексуальной судьбой на ближайшую ночь, – Поль понял, что не расскажет ему о встрече с мужиком из ГУВБ, не сейчас, не так сразу.
Назавтра после того вечера, оплачивая счет за мини-бар на стойке администратора, Поль спросил про Брюно и с удивлением узнал, что тот уехал из отеля рано утром, забрав багаж. Этот одинокий утренний побег не имел никакого отношения к любовным приключениям, мобильник Брюно был на автоответчике, и ситуация требовала немедленного принятия решения: надо ли ему прямо сейчас предупредить дипломатические службы? Не мог же он, в самом деле, бросить своего министра на произвол судьбы, но в итоге он предпочел все же дать ему немного времени и заказал такси в аэропорт.
В мини-вэне “мерседес”, который вез его в аэропорт Аддис-Абебы, может поместиться, подумал Поль, многодетная семья. Аддис-Абеба, благодаря своей высоте над уровнем моря, не страдает от чрезмерно высоких температур Джибути и Судана и претендует в будущем на статус ключевого африканского мегаполиса, экономического стержня всего континента. По истечении своего краткого визита в этот город Поль склонялся к мысли, что эта задача вполне осуществима; в том, что касается, к примеру, рынка вспомогательных услуг, вчерашние проститутки были более чем достойного уровня и запросто захомутали бы любого западного бизнесмена, равно как и бизнесмена китайского.
Центральный зал аэропорта был переполнен туристами, некоторые из них, как он понял из их разговоров, приехали фотографировать окапи. Их туроператор явно оказался не лучшим советчиком: окапи обитают лишь в небольшом районе на северо-востоке Демократической Республики Конго, в лесу Итури, где специально для них создан заповедник; кроме того, учитывая осторожные повадки окапи, сфотографировать их очень трудно. В кафетерии аэропорта к нему подошел коренастый жизнерадостный словенец, член делегации ЕС. Ничего умного он сказать не мог, как, впрочем, и другие члены делегаций ЕС. Однако Поль терпеливо внимал ему, потому что именно так и надлежит вести себя с членами делегаций ЕС. Внезапно его ослепило неистовое созвучие красок – из толпы туристов вышла смуглолицая девушка с длинными черными волосами, в белых брюках и красной майке. Но ослепление быстро прошло, да и сама девушка вроде исчезла, растворилась в то перегретом, то прохладном воздухе терминала; хотя подобное исчезновение, не сомневался Поль, практически нереально.
За мгновение до того, как из громкоговорителей раздался последний вызов на посадку, в зале вылета появился Брюно с чемоданом в руке. Он не сказал, чем был так занят и по какой уважительной причине опоздал, а Поль не осмелился спросить его ни тогда, ни после.
Через неделю после их возвращения Брюно предложил ему работать в министерском аппарате. В таком решении не было ничего из ряда вон выходящего, на нынешнем этапе своей административной одиссеи Полю как раз и полагалось пройти через аппарат министра, такова обычная практика. Куда удивительнее был тот факт, что на него, как он тут же понял, не возлагалось никаких конкретных обязанностей. Составление рабочего графика Брюно не тянуло на полную занятость, он оказался гораздо менее плотным, чем Поль мог предположить. Брюно предпочитал работать с документами и почти не назначал встреч; Бернар Арно, например, будучи самым богатым человеком Франции, пытался попасть к нему на прием с начала текущего президентского срока, но тщетно. Просто его вообще не интересовала индустрия роскоши – которая к тому же ничуть не нуждалась в помощи государства.
Постепенно Поль понял, что ему в основном отводилась роль конфидента, когда у Брюно возникала такая необходимость. Он не видел в этом ничего ненормального или унизительного; Брюно стал, пожалуй, самым значительным министром экономики со времен Кольбера, и если ему суждено и впредь нести службу на благо государства, то, видимо, еще в течение многих лет он вынужден будет смиряться со своей особой судьбой и неизбежно присущими ей колебаниями и сомнениями. В советниках он не нуждался и досконально знал текущие дела, до такой степени, что казалось, у него есть второй мозг, компьютерный мозг, пересаженный в мозг обычный, человеческий. Но доверенное лицо, человек, на которого он мог бы по-настоящему положиться, вероятно, чрезвычайно важен для него на данном этапе его жизни.
С тех пор прошло два года, и сегодня ночью Поль уже не очень-то вслушивался в слова Брюно. Отвлекшись от редкоземельных металлов, он обрушился с яростной обличительной речью на китайские солнечные батареи, на немыслимые трансферы технологий, которые Китай выцыганил у Франции во время предыдущего мандата, благодаря чему наводнил теперь Францию своими товарами по бросовым ценам. Он уже подумывал даже об объявлении настоящей торговой войны Китаю, чтобы защитить интересы французских производителей солнечных батарей.
– А что, это, может, и неплохая идея, – сказал Поль, впервые перебив Брюно, ему же надо реабилитироваться перед электоратом экологов, особенно после безоговорочной поддержки французской атомной промышленности. – Я, наверное, пойду, – добавил он. – Уже два часа.
– Да… Да, конечно. – Брюно взглянул на папку, которую так и держал в руке. – Я еще поработаю тут немного.
5
Умом Поль понимает, что находится в помещении министерства, поскольку только что вышел из офиса Брюно; однако он не узнает металлические стены лифта, тусклые и обшарпанные, которые начинают слегка вибрировать, когда он нажимает на кнопку 0. На грязном бетонном полу валяется всякий мусор. Разве в лифтах бывает бетонный пол? Должно быть, он случайно зашел в грузовой. Холодное, скованное пространство, словно кабина держится на невидимом металлическом каркасе, не будь его, она бы обвалилась, осела, как проколотый, сдувшийся воздушный шарик.
С протяжным металлическим скрежетом лифт останавливается на нулевом этаже, но двери не хотят открываться. Поль снова и снова жмет на кнопку 0, но двери словно застыли, и его понемногу охватывает тревога. После недолгих колебаний он нажимает кнопку экстренного вызова; сигнал поступает в круглосуточную диспетчерскую службу, по крайней мере, так обстоит дело с обычными лифтами, и, надо думать, с грузовыми тоже. Лифт тут же едет вниз, на этот раз гораздо быстрее, номера этажей на табло прокручиваются с бешеной скоростью. Затем неожиданно останавливается, с резким толчком, так что Поль чуть не теряет равновесие: он на минус 62-м этаже. А он и не знал, что в министерстве 62 подземных этажа, но, в конце концов, почему бы и нет, он просто никогда не задавался этим вопросом.
На этот раз дверцы открываются быстро, плавно: перед ним уходит в бесконечность светло-серый, почти белый, тускло освещенный бетонный коридор. Он рванулся было наружу, но передумал. Хотя оставаться в лифте тоже боязно, он явно барахлит. Но почему на – 62-м этаже? Кто вообще выходит на – 62 этаже? Коридор перед ним пуст и безлюден, создается впечатление, что он так выглядит уже целую вечность. А что, если лифт уедет без него? Что, если он останется пленником – 62-го этажа и погибнет тут от голода и жажды? Он снова нажимает на кнопку 0. – 62-й этаж, равно как и все промежуточные, вдруг замечает он, не значатся на панели с кнопками; ниже – 4-го ничего нет.
Лифт мгновенно прыгает вверх и несется на этот раз с головокружительной скоростью, цифры наезжают друг на друга, мелькают так стремительно, что он не успевает их разобрать, у него почему-то вдруг возникает ощущение, что знак минуса исчез. Затем лифт, жутко дернувшись, замирает, Поля отбрасывает к задней стенке; кабина продолжает содрогаться еще секунд тридцать, потом все стихает; этот подъем, несмотря на его краткость, показался ему бесконечным.
Он на 64-м этаже. Ну вот, этого не может быть, потому что не может быть никогда, в зданиях Министерства экономики всегда было только шесть этажей, в этом он абсолютно уверен. Двери снова открываются, перед ним очередной коридор, устланный белым ковровым покрытием, с панорамными окнами по обе стороны; его заливает очень яркий, почти слепящий свет; издалека доносятся звуки электрооргана, то развеселые, то печальные.
Поль на этот раз не двигается с места, стоит не шелохнувшись целую минуту, не меньше. По истечении этого времени механизм запускается снова, словно вознаграждая его за покорность: двери плавно закрываются, лифт едет вниз в нормальном темпе. И хотя на дисплее теперь отображаются этажи (40, 30, 20…), соответствующих кнопок на панели нет, все заканчивается на шестом, зато они следуют друг за другом с обнадеживающей регулярностью.
Лифт застывает на нулевом уровне, двери широко открываются. Поль спасен или думает, что спасен, но, выйдя из лифта, понимает, что ни в каком он не в министерстве, а в совершенно незнакомом месте. Это огромный холл, с потолком высотой метров пятьдесят, не меньше. Торговый центр, подсказывает Полю интуиция, вот только магазинов что-то не видать. Возможно, он попал в какую-нибудь латиноамериканскую столицу, постепенно слух возвращается к нему, он улавливает звуки музыки, что подтверждает гипотезу о торговом центре, кроме того, в гомоне голосов вокруг него слышится вроде бы что-то испаноязычное, и гипотеза о латиноамериканской столице кажется вполне состоятельной. Однако довольно многочисленные покупатели, снующие по залу, совсем не похожи на латиноамериканцев, ни вообще на человеческих особей. Их лица, неестественно плоские, практически безносые, отличаются нездоровой бледностью. Поль внезапно проникся уверенностью, что у них длинные цилиндрические языки, причем раздвоенные, как у змеи.
В этот момент до него донесся прерывистый звоночек, короткий, но неприятный, который повторялся снова и снова каждые пятнадцать секунд. Не столько звонок, сколько сигнал уведомления, но на этом месте он неожиданно проснулся и понял, что на его мобильнике звякнуло новое сообщение.
Сообщение оставила Мадлен, спутница жизни его отца. Она звонила в девять утра, а сейчас уже одиннадцать с чем-то. Поль с трудом разбирал ее слова пополам со всхлипами и жутким грохотом транспорта на заднем плане. Он все же понял, что отец впал в кому и его перевезли в больницу Сен-Люк в Лионе. Он сразу ей перезвонил. Мадлен ответила в ту же секунду. Она уже немного успокоилась и смогла объяснить ему, что у отца случился инфаркт мозга, он встал, а она решила поваляться в постели еще чуть-чуть, и тут из кухни до нее донесся глухой удар. Затем она пожаловалась, что скорая ехала ужасно долго, чуть ли не полчаса. Ничего удивительного, ведь отец живет на природе, в труднодоступной деревушке в Божоле, километрах в пятидесяти к северу от Лиона. Да, ничего удивительного, но последствия могли быть очень серьезными, в течение нескольких минут кислород не поступал в мозг, и какие-то его отделы, вероятно, пострадали. Иногда она умолкала, захлебываясь рыданиями, а Поль, разговаривая с ней, смотрел в интернете железнодорожное расписание – ближайший поезд отправлялся в Лион-Перраш в 12.59, он вполне успевает, у него даже будет время зайти в министерство, перекинуться парой слов с Брюно, это ему по пути, заодно он забронировал номер в лионском “Софителе”, судя по всему, он находится недалеко от больницы Сен-Люк, затем Поль разъединился и собрал вещи.
Он подождал пару секунд у входа в офис Брюно.
– У меня встреча с гендиректором “Рено”… – объявил тот, высунувшись по пояс в приоткрытую дверь. – Что-то случилось?
– Отец в коме. Я еду в Лион.
– Я почти закончил.
Ожидая его, Поль просматривал медицинские информационные сайты. Инфаркт мозга – это вариант инсульта, более того, самая распространенная его форма, на которую приходится 80 % всех случаев. Продолжительность кислородного голодания мозга является ключевым фактором в определении жизненного прогноза.
– Они тебе скажут, что сами мало что знают и не вправе делать никаких прогнозов… – сказал Брюно через две минуты. – К сожалению, так оно и есть. Он может очнуться через несколько дней, равно как и оставаться в таком состоянии гораздо дольше. В прошлом году моего отца разбил инсульт, так он полгода пролежал в коме.
– А потом?
– А потом он умер.
На вокзале было на удивление безлюдно, Поль успел купить панини и врапы и теперь медленно жевал их, мчась на скорости 300 км/ч по Бургундии, под серым непроницаемым небом. Отцу семьдесят семь, возраст почтенный, но не слишком, многие теперь живут гораздо дольше, так что это аргумент скорее в его пользу; правда, практически единственный. Заядлый курильщик, любитель мясных деликатесов и крепких вин, его отец, насколько ему было известно, не особенно уважал физические упражнения – полный набор для развития серьезного атеросклероза.
Поль взял такси, хотя больничный центр Сен-Люк находится всего в пяти минутах езды от вокзала Лион-Перраш. Пробка вдоль Роны на набережной Клода Бернара выглядела безнадежной, лучше бы он пошел пешком. Фасад клиники, выложенный прямоугольниками из цветного стекла, наверняка был задуман для улучшения настроения родственников больного, он как бы намекал, что это больница понарошку, больница-лего, больница-игрушка. Эффект достигался лишь частично, стекло местами потускнело и испачкалось, а жизнерадостность не внушала доверия; но стоило посетителю зайти в коридор или в палату, прикроватные мониторы и аппараты ИВЛ быстро возвращали его на землю. Вы сюда не развлекаться пришли; вы сюда пришли умирать, в большинстве случаев.
– Да, месье Резон, вашего папу госпитализировали сегодня утром, – сообщила ему администратор. Ее голос был мягким, слегка успокаивающим, одним словом, идеальным. – Конечно, вы можете к нему зайти, но главврач хотела бы сначала с вами побеседовать. Я скажу ей, что вы здесь.
Главврач оказалась решительной элегантной дамой лет пятидесяти, явно из буржуазной среды – чувствовалось, что она привыкла отдавать распоряжения и ужинать в ресторанах, у нее и серьги были буржуазные, и Поль не сомневался, что под безупречно застегнутым больничным халатом прячется неброское жемчужное колье – честно говоря, она чем-то напомнила ему Прюданс, вернее, Прюданс могла бы стать такой, ей это было на роду написано, и как ни истолковывай эту информацию, хорошего в ней мало. И минуты не прошло, как она нашла историю болезни – на ее рабочем столе царил образцовый порядок, и на том спасибо.
– Вашего папу госпитализировали сегодня утром, в восемь часов семнадцать минут. – Она тоже сказала “папа”, какой ужас, неужели в перечень официальных инструкций входит немедленная инфантилизация родственников? Ему сейчас под пятьдесят, и он уже давно не называет отца “папой”, интересно, сама она, что ли, своего отца называет “папой”, верится с трудом. Проблема в том, что “Эдуара” он тоже не мог из себя выдавить, он же не брат ему и не приятель-ровесник, короче, он совсем не понимал, как к отцу обращаться.
– Мы тут же сделали ему МРТ, – продолжала она, – чтобы определить местонахождение поврежденной мозговой артерии, затем провели тромболизис и тромбэктомию для удаления блокирующего сгустка крови. Операция прошла успешно; к сожалению, ситуацию осложнило повторное кровоизлияние.
– Как вы думаете, есть ли надежда, что он поправится?
– Вполне нормальный вопрос с вашей стороны. – Она удовлетворенно кивнула; ей явно импонировали нормальные пациенты, нормальные родственники и здравые вопросы. – К сожалению, я должна признаться, что мы понятия не имеем; МРТ позволяет определить только, какие области затронуты – в данном случае это лобно-теменная доля, – но не тяжесть повреждений. Предпринимать какие-либо дополнительные медицинские действия не имеет смысла; мы будем просто наблюдать за его состоянием, контролируя кровяное давление и уровень сахара в крови. К вашему папе может вернуться сознание в полном объеме или хотя бы частично; но и смерть мозга в обозримом будущем исключить нельзя, на данном этапе все бывает. Давайте не будем обольщаться… – заключила она без всякой на то необходимости.
– А тут разве кто-нибудь обольщается? – вырвалось у него. Она начинала действовать ему на нервы.
– Ну, надо сказать, что спутница вашего отца… Ее эмоциональные всплески, конечно, вполне объяснимы. Впрочем, после приезда вашей сестры она немного успокоилась.
Значит, Сесиль уже тут; как это она успела добраться сюда из Арраса? В отличие от него, она вставала очень рано, и Мадлен, видимо, прежде всего позвонила ей, с Сесиль она сразу поладила, а вот его всегда немного побаивалась – вероятно, потому что он был старшим сыном, а может, она всех немного побаивалась.
– И последнее… – Она встала, чтобы проводить его до двери. – Вашего папу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, иначе он не смог бы дышать, и я понимаю, что зрелище трахеотомии родственникам трудно вынести. Но ему не больно, уверяю вас, он вообще не страдает.
Действительно, “папа” с трубкой в горле, соединенной с массивным агрегатом на колесах, который заполнял все пространство вокруг монотонным жужжанием, с капельницей в вене у локтя и электродами, прилепленными к черепу и груди, выглядел чудовищно старым и немощным – при взгляде на него казалось, что он недолго протянет. В углу палаты сидели рядом две женщины, создавалось впечатление, что они за последние несколько часов даже не шелохнулись. Мадлен первой заметила Поля и бросила на него взгляд, в котором читались ужас и облегчение одновременно, но встать со стула не осмелилась. А Сесиль подошла и обняла его. Когда же они виделись в последний раз, подумал он. Лет семь назад, может восемь. А ведь Аррас совсем недалеко, менее чем в часе езды на скоростном поезде. Она немного постарела, у нее появилось несколько седых волосков, впрочем, они едва просматривались в ее по-прежнему пышной светло-русой копне. Лицо чуть расплылось, но изысканной тонкости черт она не утратила. Его младшая сестра считалась одной из самых красивых девочек в лицее, он хорошо это помнил, ее ухажерам он тогда счет потерял. Но все же он не сомневался, что она оставалась девственницей до замужества, ей не удалось бы скрыть даже мимолетный роман. Уже тогда она была очень набожной, по воскресеньям ходила к мессе и принимала активное участие в мероприятиях своего прихода. Однажды он застал ее за молитвой, она стояла, преклонив колени, у себя в комнате – он ошибся дверью, когда ночью встал пописать. Он смутился, это он хорошо помнил, как смутился бы, застукав ее с мужиком. Она тоже выглядела слегка смущенной, ей тогда, наверное, было лет шестнадцать, но позже, когда он волновался перед экзаменами – а ему не раз, и небезосновательно, случалось волноваться перед экзаменами, – она обещала “попросить за него Пресвятую Деву”, причем таким естественным тоном, будто собиралась зайти в химчистку за кофточкой. Он правда не знал, откуда у нее взялась такая склонность к мистицизму, в их семье это было уникальное явление. И мужа она выбрала по своему образу и подобию, с виду все же более здравомыслящего – вообще, как правило, провинциальный нотариус – это ходячее здравомыслие, что, собственно, при знакомстве с ним и сбивало с толку, на самом же деле, пообщавшись с Эрве две-три минуты, собеседник начинал улавливать в нем какую-то пронзительность и преисполнялся уверенностью, что он, ни секунды не колеблясь, отдал бы жизнь за Христа или во имя прочих аналогичных идеалов. Поль любил их и считал красивой парой – они с Прюданс им уж точно в подметки не годились, а их брат со стервозой невесткой и подавно.
– Ты в порядке? Держишься? – спросил он наконец, выпустив ее из объятий.
– Да. С трудом. Но я знаю, что папа выкарабкается. Я попросила Господа.
6
Через пару минут в палату вошла медсестра, проверила капельницу, положение дыхательной трубки, записала несколько цифр, высветившихся на контрольных мониторах.
– Мы сейчас его помоем… – сказала она. – Можете остаться, если хотите, но это не обязательно.
– Мне надо покурить, – сообщил ей Поль.
Как правило, ему удавалось сдерживаться в течение определенного промежутка времени, соответствующего нормам о запрете курения в общественных местах; но тут был случай форс-мажора. Он вышел на набережную и тут же продрог до костей. Человек тридцать вышагивали туда-сюда перед воротами больницы с сигаретой в зубах; никто из них не произносил ни слова и, казалось, даже не замечал окружающих, замкнувшись в своем личном маленьком аду. Впрочем, если и есть место, генерирующее тревожные ситуации, место, где потребность в сигарете быстро становится нестерпимой, так это больница. Положим, у вас есть муж, отец или сын, и еще сегодня утром он жил с вами, но пройдет несколько часов, а то и минут, и у вас его заберут; что, как не сигарета, может быть на высоте положения в данной ситуации? Иисус Христос, ответила бы, наверное, Сесиль. Да, наверное, Иисус Христос. Последний раз Поль видел отца в начале лета, еще и полугода не прошло. Он прекрасно выглядел, увлеченно готовился к предстоящей поездке с Мадлен в Португалию – они собирались уехать на следующей неделе, и он как раз бронировал номера в отелях – в поузадас или других подобных заведениях, ему хотелось снова побывать там повсюду, он всегда любил эту страну. Отец интересовался и политическими новостями и долго, со знанием дела, рассуждал о возобновлении деятельности black blocs[11]. Короче, их встреча прошла очень хорошо и обнадежила его; отец вполне соответствовал образу активного пожилого непоседы, которому старость в радость, что же касается его супружеской жизни, то Полю оставалось лишь ему позавидовать – вот типичный пенсионер, думал он, образцовый герой рекламного ролика о ритуальном страховании.
Рабочий день в офисах только что закончился, на набережной Клода Бернара пробка стала еще плотнее, движение фактически застопорилось. На светофоре, прямо напротив больницы, снова зажегся красный свет; раздался первый гудок, похожий на одинокий крик марала, и следом засигналили все, выбросив в загазованный воздух гигантскую звуковую волну. У всех этих людей наверняка полно своих разнообразных забот, личных и профессиональных; они далеки от мысли, что смерть поджидает их прямо тут, на набережной. В больнице родные собирались уходить – у них тоже, конечно, есть личная и профессиональная жизнь. Задержись они еще на пару минут, они увидели бы смерть. Она стояла внизу, недалеко от входа, но уже готова была подняться; этакая сучка, правда сучка буржуазная, стильная и сексуальная. При этом она гребет все кончины подряд, умирающие из бедных слоев общества могут рассчитывать на нее наравне с богачами; как и все бляди, она не привередничает, выбирая клиентов. Больницы не должны находиться в городе, подумал Поль, тут слишком суматошная атмосфера, перенасыщенная планами и желаниями, город не лучшее место для умирания. Он закурил третью сигарету; ему не очень хотелось возвращаться в палату к отцу, лежащему с трубкой в горле, однако он себя заставил. Сесиль была с ним одна, она преклонила колени в изголовье кровати и знай себе молилась – совершенно “беззастенчиво”, невольно подумал он.
– Ты молишься… Богу? – спросил он с ходу, нет, ему явно с этим не свыкнуться, интересно, когда-нибудь он научится задавать не только дурацкие вопросы?
– Нет, – сказала она, вставая, – это обычная молитва, мне сейчас лучше к Пресвятой Деве обращаться.
– Да, понимаю.
– Нет, ты ровным счетом ничего не понимаешь, но это не страшно! – Она чуть не расхохоталась, ее улыбка была ослепительной и немного насмешливой, и внезапно он вспомнил то лето, когда ей исполнилось девятнадцать, незадолго до того, как она познакомилась с Эрве, она точно так же тогда улыбалась. В то время его младшая сестра жила беспечной и какой-то поразительно безоблачной жизнью. Сам же он находился на полпути очередного запутанного романа, ближе к концу полпути на самом деле, Вероника только что сделала от него аборт, причем ей даже в голову не пришло с ним посоветоваться, он узнал эту новость на следующий день после операции, что само по себе было плохим знаком, и действительно, через несколько недель она бросила его, это она произнесла роковые слова, что-то вроде: “Наверное, нам лучше расстаться” или, скорее, “Наверное, нам надо сделать паузу и все хорошенько обдумать”, сейчас и не вспомнишь, в любом случае одно другого стоит, да и вообще, только начнешь что-то обдумывать, как все сразу покатится понятно куда, кстати, не только в плане чувств; обдумывание и жизнь просто-напросто несовместимы. Впрочем, нельзя сказать, что он лишился тем самым какой-то невероятно заманчивой жизненной перспективы, Вероника была заурядной особой, средоточием всей заурядности мира, и вполне могла бы стать ее символом. Он не знал, где она теперь и что с ней происходит, да и желания знать не испытывал, но ее муж, если таковой имелся, наверняка был несчастлив, да и она сама тоже: осчастливить кого-то и самой быть счастливой – это не про нее; она просто не умела любить.
Да и с учебой у него возникли проблемы, тоже отдававшие, как он понимал теперь, по прошествии времени, унылой заурядностью. Он сомневался, что ему удастся окончить ЭНА в числе лучших и, соответственно, получить право выбрать инспекцию финансов – вот что тогда в основном занимало его мысли. У Сесиль и тут все шло как по маслу, она просто нигде не училась, а подписывала один за другим временные контракты в сфере социальной помощи или ухода за больными, она, видимо, тогда уже практически решила, что станет домохозяйкой, в смысле, что работать будет только в случае крайней необходимости, трудовая жизнь никоим образом ее не привлекала, да и учиться она не рвалась. “Я не интеллектуалка”, – любила она повторять. По правде говоря, он тоже не то чтобы зачитывался по ночам Витгенштейном, но с амбициями у него было все в порядке. Амбиции? Сейчас он затруднился бы воспроизвести природу своих амбиций. Явно это были не политические амбиции, ну уж нет, ничего подобного ему и в голову не приходило. Если он и вынашивал амбициозные планы, то они сводились к квартире с великолепным общесемейным пространством, панорамные окна которого выходят на парк Берси, к возможности каждое утро идти по городскому саду, в котором соблюдается биоразнообразие, растут гинкго билоба и разбиты овощные грядки, ну и к женитьбе на ком-нибудь вроде Прюданс.
– Я отправила Мадлен домой спать, – сказала Сесиль, прервав его раздумья. – Ей сегодня досталось.
Он и думать забыл про Мадлен и сейчас вдруг ужаснулся, представив себе, в какой она оказалась ситуации. Десять лет назад отца ушли на пенсию, а через несколько дней умерла мать. Поль тогда серьезно опасался за здоровье отца, да и за его жизнь тоже. Он остался без работы, он остался без жены, он просто не понимал, как дальше жить. Он мог часами сидеть на месте, листая старые дела. У него даже не возникало мысли помыться или поесть; зато, к сожалению, он по-прежнему выпивал, и куда больше, чем раньше. Пребывание в психиатрической клинике Макон-Бельвю решило проблему лишь отчасти, благодаря разнообразным психотропным препаратам, которые он заглатывал с удивительной готовностью, он проявил себя на удивление покладистым пациентом, по выражению главврача. Затем он вернулся в Сен-Жозеф, в свой любимый дом, ставший частью его жизни, но всего лишь частью его жизни. Он работал в ГУВБ, но работа закончилась; его брак тоже закончился; неожиданно его существование в значительной степени упростилось; дом, конечно, никуда не делся, но дома могло оказаться недостаточно.
Поль так и не узнал, получала ли Мадлен зарплату от совета департамента или от регионального совета. Она работала помощницей по хозяйству и выполняла обычные поручения (уборка, покупки, готовка, стирка, глажка), для чего отец был совершенно непригоден, как и все мужчины его поколения, – и не то чтобы мужчины следующего поколения приобрели больше навыков, просто женщины их подрастеряли, так что волей-неволей установилось определенное равенство, в результате чего богатые и полубогатые стали прибегать к аутсорсингу (так это называется в компаниях, передающих уборку и охрану помещений на субподряд внешним поставщикам услуг), у остальных же повально портилось настроение, размножались паразиты, и вообще они зарастали грязью. Так или иначе, отцу срочно требовалась домработница, и этим все бы, по идее, и закончилось. Неужели отец влюбился? А что, разве можно влюбиться в шестьдесят пять лет? Наверное, можно, чего только не бывает на белом свете. А вот Мадлен, несомненно, влюбилась в отца, и от этого непреложного факта Полю становилось не по себе, он не имел ни малейшего желания соприкасаться с его личной жизнью. Ну а чему тут удивляться, отец по-своему человек мощный, кстати, он всегда немного его побаивался, да, побаивался, хотя не слишком, ведь отец к тому же добрый человек, это бросается в глаза, да, по натуре скорее добрый человек, слегка умученный и ожесточившийся на работе в спецслужбах, не имеющих ничего общего со средой, к которой привыкла Мадлен, она-то просто бедная девушка, больше ничего, и жила на редкость дерьмовой жизнью, недолгий брак с алкоголиком, и всё, мы и представить себе не в состоянии, как, в сущности, скудна людская жизнь, даже когда сами принадлежим к этим “людям”, а ведь так оно и есть, практически всегда. Ей было ровно пятьдесят – то есть на пятнадцать лет меньше, чем отцу, – и ей так и не довелось испытать счастье или что-либо схожее с ним. При этом она была все еще красива, а когда-то наверняка даже очень красива – что, бесспорно, способствовало в немалой степени ее горестям, и не потому, что, будь она уродиной, ей бы счастье привалило, отнюдь, но в ее случае несчастье стало бы куда более монотонным, тоскливым и скоротечным, и она, вероятно, умерла бы гораздо раньше. И вот этого обрушившегося на нее напоследок счастья она, того и гляди, лишится из-за какого-то тромба в мозговой артерии. Разве она может отнестись к этому спокойно? Она как собака, потерявшая хозяина. А собака в такой ситуации мечется и воет.
– Ты в каком отеле? – наконец спросил он Сесиль, отвлекаясь от своих одиноких мыслей.
– В “Ибисе”, рядом с вокзалом. Все хорошо, ну, в общем, удобно.
Ну разумеется, “Ибис”. Возможно, в знак христианского смирения. По правде говоря, его немного раздражало это христианское смирение, Эрве все же нотариус, черт возьми, а не бомж. Мадлен, святая пролетарская простота, с радостью согласилась отринуть всякое смирение, христианское и прочее; она почти по-детски обрадовалась, вспомнил он, узнав, что будет ночевать с отцом в роскошных португальских поузадас.
– Я забронировал номер в “Софителе”… Давай поужинаем прямо там, в ресторане, я тебя приглашаю. – Поль сопроводил свои слова эффектным жестом, он видел, что так делают игроки в онлайн-покер. – Это в двух шагах, на набережной Роны, но с той стороны, практически напротив.
– Хорошо, покажи на карте. – Она вынула из сумочки план Лиона. Это было действительно в двух шагах, только мост перейти. – Я посижу тут, они закрываются в полвосьмого. Не купишь мне по дороге одну лионскую колбаску? Ну, для варки, я обещала Эрве. Можешь зайти в “Монталан”, это тебе по пути, на улице Франклина, где-то посередине.
– Хорошо, одну лионскую колбаску.
– Возьми даже две, пожалуй, одну с трюфелями, другую с фисташками. Кстати, себе тоже заодно купи, у них потрясающие лионские колбаски, это одна из лучших лавок мясных деликатесов во Франции.
– Ну готовка, знаешь ли, это не мое.
– При чем тут готовка… – Она снисходительно покачала головой, с оттенком нетерпения, правда. – Опускаешь в кипящую воду на полчаса, вот и вся готовка. Ну, твое дело.
7
Рона – могучая река поразительной ширины, он уже минут пять шагал по Университетскому мосту; величавая река, иначе не скажешь; Сена по сравнению с ней просто жалкий ручеек. У него из кабинета открывался вид на Сену, это была одна из привилегий сотрудников аппарата, но он почти не смотрел на нее в течение дня и теперь, глядя на Рону, понял почему. Когда он был маленьким, в учебниках по географии для начальной школы каждой французской реке непременно сопутствовал определенный эпитет. Луара считалась капризной, Гаронна – неудержимой, а вот про Сену он не мог вспомнить. Мирная? Да, вполне возможно. А Рона? Наверняка именно что величавая.
Зайдя в номер, он проверил сообщения. Вернее, одно-единственное, от Брюно. “Держи меня в курсе пжлст”. Он почти сразу же позвонил ему и постарался, как мог, обрисовать ситуацию, только, честно говоря, он сам практически ничего знал. Он добавил, что, скорее всего, вернется завтра в первой половине дня.
Ресторан “Три купола” ничем не поражал воображение, в меню предлагался обычный показушный набор блюд с более или менее забавным выпендрежем, вроде “Адажио даров нашего края” и “Его Величества омара”. Он с ходу, не задумываясь, выбрал малосольную норвежскую треску, а его сестра продолжала мечтательно изучать меню, вряд ли ей часто приходилась бывать в мишленовских ресторанах. Зато он оттянулся на вине, решительно заказав одну из самых дорогих бутылок в винной карте – “Кортон-Шарлемань”. Вино отличалось “маслянистыми тонами и ароматами цитрусовых, ананаса, липового цвета, печеного яблока, папоротника, корицы, кремня, можжевельника и меда”. Черт-те что, а не вино.
Машин на набережных Роны стало меньше; в темноте на горизонте виднелись два гигантских, ярко освещенных современных здания, одно из которых имело форму карандаша, другое – ластика. Наверное, это квартал Лион-Пар-Дьё. В любом случае в этом зрелище было что-то зловещее. Ему казалось, что между домами парят светящиеся призраки – наподобие, скажем, всполохов северного сияния, только какого-то болезненного оттенка; зеленовато-лиловые, они извивались словно саван, словно злые божества, явившиеся по душу его отца, подумал Поль, ему становилось все тревожнее, на несколько секунд он отключился, он видел, как шевелятся губы Сесиль, но не слышал ее слов, потом все вернулось, она говорила о лионской гастрономической кухне, она всегда обожала готовить. Официант принес комплименты от шефа.
– Я завтра уеду, – сказал он. – Не думаю, что мне есть смысл оставаться.
– Да, действительно, от тебя мало толку.
Он аж подскочил от негодования. Это еще что такое? Неужто она воображает, что в ее присутствии здесь толку больше? Он собрался уже произнести язвительную отповедь, как вдруг понял, о чем она. Да, она считала, что от нее тут будет гораздо больше толку, чем от него. Она будет молиться, неустанно молиться, чтобы отец вышел из комы; иными словами, она полагала, что ее молитвы окажутся более результативными, если она прочтет их у постели больного; ну да, магическое мышление, или религиозное мышление, если между ними есть какая-то разница, следует собственной логике. Поль внезапно вспомнил “Бардо Тхёдол”, читанную в юности под влиянием подружки-буддистки, которая умела сжимать в себе его член, никто ему раньше так не делал, в ее религии пизда называлась йони, какая прелесть, думал он; кроме того, ее йони была непривычно сладкой на вкус. Ее комната, украшенная красочными мандалами, выглядела очень празднично; еще там висела картина, которая произвела на него огромное впечатление, он до сих пор ее помнил. В центре был изображен Будда Шакьямуни, сидящий по-турецки на поляне, под одиноким деревом просветления. Вокруг него, куда ни глянь, на кромке леса толпились звери джунглей: тигры, олени, шимпанзе, змеи, слоны, буйволы… Они не спускали глаз с Будды, с тревогой ожидая результата его медитации, они смутно сознавали, что то, что сейчас происходит в центре поляны, имеет вселенское, космическое значение. Если Будда Шакьямуни достигнет просветления, думали они, то не только он сам и не только человечество освободится от сансары, но поголовно все существа смогут, вослед ему, покинуть царство видимости и тоже достичь просветления.
Пока он – успешно – сдавал вступительные экзамены в ЭНА, Катрин поступала в ветеринарные школы; она все сдала с первой попытки, но ее баллов не хватало для обучения в школе Мезон-Альфора, и ей пришлось удовлетвориться Тулузой. Их разлука причинила ему настоящую душевную боль, ему впервые было грустно при мысли о том, что его отношения с девушкой скоро закончатся. Конечно, время от времени она могла бы приезжать в Париж, а он – навещать ее в Тулузе, – заверяли они друг друга, хоть особо и не обольщались, и, само собой, вскоре у нее кто-то появился. Она была довольно хорошенькой, покладистой и веселой и обожала трахаться; ну а как иначе? Через некоторое время он переспал с другой буддисткой, из Института политических исследований на сей раз, но ее буддизм оказался более заумным, скорее дзен-буддизмом, их отношения резко оборвались сразу после того, как она пожаловалась, что вечерок у нее выдался “полная жесть”: только она попыталась погрузиться в медитацию, точнее, принялась декламировать “Сутру о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы”, как ее прервал жуткий шум на лестничной площадке. Подойдя к входной двери, она прильнула к глазку и увидела незнакомого человека: съежившись на полу, он истекал кровью, его тело сотрясалось в конвульсиях. Она ничего не сделала, даже полицию не вызвала, просто пошла обратно и села по-турецки на коврик, “чтобы не прерывать медитацию”. Такой краткий, впроброс, рассказ о важных вещах сразу же воздвиг между ними невидимый ментальный барьер, но она, судя по всему, вообще его не ощутила, ей и в голову не пришло, что своими словами она могла вызвать у него отвращение. Поль тут же свалил под каким-то предлогом и больше не отвечал на ее звонки. Так что их плотские отношения свелись к одному-единственному половому акту, да и то он не поразил его воображение, девушка хоть и была, конечно, секс-бомбой, зато не умела его сжимать, да и фелляции ее оставляли желать лучшего, в то время как Катрин предавалась этому занятию с прилежанием и энтузиазмом, нет, решительно, тибетский буддизм во всех отношениях лучше, чем дзен. Для тибетских буддистов момент смерти это последний шанс освободиться от круговорота перерождений и смертей, от сансарического существования. В Лионе совсем стемнело. Он помнил, что ламы начинали свои декламации с обращения к умирающему, а то и к умершему: “Благородный сын, не отвлекаясь, внемли этому наставлению”, они считали, что с душой покойника можно еще общаться в течение нескольких недель после кончины.
– Папа не умирает, – упрямо заявила его сестра.
Он уже пять минут сидел молча, погрузившись в воспоминания, но она, похоже, следила за ходом его мысли.
– Да, я знаю, ты говорила, что просила Бога… – сказал он без особого пиетета, хотя совершенно не хотел обидеть ее. – Ты хочешь его соборовать? – попробовал он подлизаться.
– Со времен Второго Ватиканского собора это называется “помазанием больных”, – терпеливо ответила она. – При этом больной должен быть в сознании, и ему самому следует попросить о помазании, навязывать его никому нельзя.
Что ж, он снова встрял некстати. Если он собирается возобновить общение с Сесиль, не вредно будет навести справки обо всех этих католических штучках. Рядом с его домом есть церковь, насколько он помнил, Рождества Богоматери в Берси или что-то в этом духе. У них-то уж точно найдется что почитать о католицизме.
– Не бойся меня обидеть… – мягко сказала она, – мы, католики, ко всему привычные. – Может, она и впрямь читала его мысли? – Я тоже завтра уеду, – добавила она, – но сначала отвезу Мадлен в Сен-Жозеф, думаю, ей лучше не входить одной в дом. Ну и потом, мне надо кое-что проверить перед тем, как мы переберемся, на той неделе я вернусь вместе с Эрве.
– С Эрве? То есть как с Эрве? Он же работает?
– Нет. – Она смущенно отвела глаза. – Я тебе ничего не говорила, но ведь мы правда редко видимся. – В ее тоне не слышалось укоризны, она просто-напросто констатировала факт. – Эрве уже год как безработный.
Безработный? Как нотариус может быть безработным? Он вдруг вспомнил, что Эрве, даром что нотариус, происходит не из богатой семьи, как раз наоборот. Он был родом из Валансьена или Денена, ну, в общем, одного из этих северных городов, где люди поколениями сидят без работы; когда они познакомились и Поль спросил, чем занимаются его родители, тот ответил “они безработные” таким тоном, будто это само собой разумелось.
– Пока его фирма не обанкротилась, он был нотариусом высшей, четвертой категории, – сказала Сесиль. – Найти работу в наших краях непросто, учитывая ужасный кризис в сфере недвижимости, все сделки застыли на мертвой точке. А недвижимость – это хлеб для нотариусов.
– И… как дела? Вы справляетесь?
– Пока ему выплачивают пособие, да, но это долго не протянется. Потом мне придется что-то искать. Но, как тебе известно, у меня нет высшего образования; я никогда даже не работала толком. Кроме готовки и уборки, я ничего и не умею.
С этой минуты Поль весь вечер не мог избавиться от чувства неловкости при мысли о восьми тысячах евро, которые он получал ежемесячно, и то это далеко не заоблачная зарплата, принимая во внимание его университетское образование и послужной список, но избавиться от чувства неловкости он все равно не мог. Он сам выбрал себе работу и жену, которые сделали его несчастным, – впрочем, так ли уж сам? Жену, да, несомненно, в известной мере, да и работу тоже, в известной мере, – но у него хотя бы не возникало проблем с деньгами. В сущности, они с Сесиль пошли диаметрально противоположными путями, и их судьбы, с мучительным детерминизмом, присущим судьбе как таковой, тоже сложились диаметрально противоположным образом.
С профессиональной точки зрения дела у него шли, честно говоря, не так уж плохо, с тех пор как он познакомился с Брюно. Брюно – счастливый случай, единственный счастливый случай в его жизни; всего остального он добился в состязании и борьбе. Боролся ли он за Прюданс? Очень может быть – он тщетно пытался вспомнить; по прошествии стольких лет это звучало очень странно.
– А что твои дочки? Вам удается оплачивать их учебу?
По какой-то непонятной причине тема племянниц представлялась ему более легкой, не столь чреватой драматическими подробностями – просто потому, возможно, что они моложе.
Дебора не пошла учиться, сообщила ему сестра. То есть вся в мать и тоже не интеллектуалка, по любимому выражению Сесиль; она кое-как перебивалась, обычно подрабатывала официанткой, на данный момент – в пиццерии. И пусть это были временные договоры, она не жаловалась, клиенты ценили ее за улыбчивость и расторопность, да и работодатели тоже, так что ей не составляло труда найти очередное место.
А вот Анн-Лиз – совсем другой коленкор, она писала в Сорбонне докторскую о французских писателях-декадентах, в частности об Элемире Бурже и Юге Ребелле. Сесиль сообщила об этом со странной гордостью, хотя явно ничего не знала об упомянутых авторах, удивительно все же, что родители испытывают гордость при мысли о том, что их дети получают образование, даже если – особенно если – ничего не смыслят в предмете их штудий, какое прекрасное человеческое чувство, подумал Поль. Кроме того, Анн-Лиз училась в Сорбонне – Париж IV, на самом престижном филологическом факультете. Это Сесиль усвоила. Анн-Лиз ни о чем их не просила, отказалась от финансовой помощи, а между тем аренда жилья в Париже обходилась дорого, но она нашла работу в каком-то издательстве и обрела финансовую независимость.
Его племянница уже шесть лет живет в Париже, а они так ни разу и не увиделись, вдруг отчетливо осознал Поль. Это была его вина, полностью его вина, он сам должен был связаться с ней, вне всяких сомнений. С другой стороны, где им встречаться? Дома, учитывая состояние его отношений с Прюданс, не очень удобно – таковы нежелательные последствия супружеских передряг, обоим супругам слишком стыдно выставлять напоказ жалкое и банальное зрелище семейного разлада, поэтому постепенно у них пропадает всякое желание приглашать гостей, и все социальные связи рано или поздно сходят на нет. У каждого из них теперь своя спальня и ванная комната. Гостиная, общесемейное пространство, с широким панорамным окном, выходящим на парк, понемногу превратилась в no man’s land, нейтральную полосу, куда не ступает нога человека. Единственным местом общего пользования была кухня; последним совместным предметом обстановки – холодильник. И как прикажете объяснять все это Анн-Лиз?
Его малосольную норвежскую треску еще не убрали, а официант уже принес десерт – пустяковый недочет в безупречном до сих пор обслуживании. Но Поль не пожелал спустить его на тормозах; на извинения официанта он ответил полуснисходительной улыбкой богатого человека – богатого человека, который готов простить, но простить в первый и последний раз.
Как Поль и надеялся, вопрос о дочках Сесиль мгновенно разрядил атмосферу, ведь, в сущности, у молодежи не бывает настоящих проблем, проблем нешуточных, считается, что уж у молодежи-то все устаканится. Что же касается безработного пятидесятилетнего мужчины, то никто не верит, что ему удастся найти работу. Впрочем, все делают вид, что верят, и консультанты в Центре занятости умудряются блестяще изобразить оптимизм, им за это деньги платят, наверняка они посещают даже театральные курсы, а то и мастерские клоунады, в последние годы наметился значительный прогресс в оказании психологической помощи безработным. А вот уровень безработицы, напротив, не снизился, что было одной из редких неудач Брюно на посту министра; ему удалось его стабилизировать, не более того. Французская экономика снова стала мощной и экспортной, а уровень производительности труда взмыл до умопомрачительных показателей, неквалифицированные рабочие места почти полностью исчезли.
– Хочешь поехать со мной в Сен-Жозеф? – спросила Сесиль, прервав его размышления в пользу бедных, все равно он никак не мог повлиять на безработицу во Франции, как и на будущее своей семейной жизни, да и на кому отца тоже. “Что я могу сделать?” Вроде бы Кант где-то задавал этот вопрос. Нет, скорее “Что я должен делать?”, он не помнил точно. Собственно, чем эти вопросы отличаются, может, и ничем. Сен-Жозеф-ан-Божоле был настоящим домом его детства, отец приезжал туда каждые выходные, они проводили там все каникулы.
– Ехать туда без папы я как-то пока не готов, – ответил он, ну вот, пожалуйста, он тоже теперь говорит “папа”, наверное потому, что так приятно впадать в детство, не исключено, что все на самом деле только этого и хотят. Сесиль кивнула, сказала, что понимает. Если честно, она не совсем понимала, дело в том, что в данный момент он не смог бы вынести общество Мадлен, от нее исходила волна жгучей, невыносимой боли, нужен хоть какой-нибудь бог, чтобы принять такие муки. Он, правда, сомневался, что Мадлен верит в Бога в католическом смысле слова, видимо, она верила в некую организующую силу, способную направить или сломать человеческую жизнь, короче, в нечто, в принципе не слишком обнадеживающее, скорее сродни греческой трагедии, чем евангельскому посланию. Но она верила в Сесиль, ей чудилось, что Сесиль с Богом накоротке и силой молитвы способна склонить божество на нужную сторону. Да он и сам, как ни удивительно, начинал воспринимать свою сестру приблизительно так же.
Интересно, о чем мог думать в эти минуты его отец, лежащий на больничной койке в нескольких сотнях метров отсюда, на другом берегу реки? Пациенты в коме лишены цикла бодрствование-сон, но непонятно, видят ли они сны. Никто этого толком не знает, и все врачи, с которыми его сведет судьба, подтвердят, что в данном случае мы имеем дело с недоступным ментальным континентом.
Сесиль снова прервала ход его мыслей, которые все больше затуманивались.
– Я уеду завтра поездом в семнадцать двенадцать. У меня будет три четверти часа, чтобы добраться до Северного вокзала. Хочешь, поедем вместе?
Вот вопрос. Даже два вопроса. Да, за сорок пять минут она спокойно доберется от Лионского вокзала до Северного. Да, он поедет с ней. До пяти побродит по Лиону. Он смутно помнил, что по Лиону можно побродить, по набережным Соны или еще где-нибудь.
8
Вопреки ожиданиям, прогулка по Лиону оказалась почти приятной. На набережных Соны, гораздо менее оживленных, чем набережные Роны, машин практически не было. На противоположном берегу возвышались лесистые холмы, среди них тут и там виднелись старые постройки, относящиеся, вероятно, к началу двадцатого века, в том числе коттеджи и даже несколько особняков. Они выглядели довольно гармонично, и, главное, от них веяло покоем. К сожалению, нельзя не отметить, что в наши дни приятен только пейзаж, который не подвергался вмешательству человека на протяжении по крайней мере столетия. Тут, по-видимому, имело бы смысл сделать выводы политического характера – но, учитывая занимаемую им должность в самом сердце госаппарата, ему предпочтительнее от них воздержаться.
Похоже, ему вообще предпочтительнее воздерживаться от размышлений. Смерть матери, восемь лет назад, стала для него очень жестоким и странным событием в жизни. Сюзанна упала со строительных лесов во время реставрации ангелов, украшающих башню амьенского собора. Она забыла затянуть монтажный пояс; ей оставалось полгода до выхода на пенсию. Ужас и внезапность этого удара словно заморозили его, он не припоминал, чтобы сильно горевал тогда, скорее впал в ступор. Но сейчас по отношению к отцу он испытывал совсем другие эмоции: шагая по набережным Соны, которые постепенно окутывала легкая дымка, он чувствовал, как в нем растет спокойное, безграничное отчаяние при мысли о том, что на сей раз он и правда вступает в последний период своей жизни, в ее заключительную фазу, и что в следующий раз придет его черед или черед Сесиль, но, надо полагать, все-таки его.
Тут он сообразил, что они ни словом не обмолвились об Орельене вчера вечером, даже имени его не произнесли. Ему вообще сказали, что случилось? Судя по всему, нет, Мадлен никогда с ним толком не общалась. Ну и кто возьмет это на себя? Разумеется, Сесиль; когда предстояло справиться с какой-нибудь душевно сложной задачей, ее автоматически взваливали на Сесиль. “Как на католичку…” – лениво подумал он, садясь на скамейку, и это была его последняя связная мысль, за ней наступил довольно долгий перерыв. От реки поднялся туман и сгустился вокруг него, он ничего не видел на расстоянии нескольких метров.
Роскошный комфортабельный автобус мчится по шоссе сквозь пустынный пейзаж с плоскими белыми скалами, редкими зарослями колючих кустарников и суккулентов, наверняка это какой-нибудь штат американского Запада, вроде Аризоны или, возможно, Невады, да и автобус, похоже, “Грейхаунд”. В середине салона сидит высокий суровый брюнет с каким-то сатанинским лицом. Он сидит рядом с другим пассажиром, они, вероятно, знакомы, хотя как знать; в любом случае этот другой пассажир все равно не вмешается, поскольку брюнет олицетворяет Зло и все попутчики знают (и Поль тоже знает, как и они), что в любой момент брюнет может встать и ни с того ни с сего прикончить одного из них; они также знают, что никому из них не удастся оказать ему сопротивление, да у них и мысли такой даже не возникнет.
И вот брюнет встает, направляется к старику, сидящему в передней части автобуса, недалеко от водителя. Старик дрожит, его ужас очевиден, но ему и в голову не приходит сопротивляться. Брюнет встает, силой тащит старика к двери, приводит в действие открывающий механизм и выталкивает его в пустоту. Потом он на мгновение пригибается, чтобы понаблюдать за процессом раздавливания и обезображивания тела, а также за причудливыми формами, образованными брызгами крови на иссохшей земле. После чего возвращается на свое место, и они продолжают путешествие. Поль понимает тогда, что оно не прервется до самого конца, как и внезапные повторяющиеся действия высокого брюнета.
И сразу после этого, прямо перед тем как проснуться на скамейке, он понимает также, что брюнет олицетворяет еще и Бога, в силу чего его решения правильны и обжалованию не подлежат. Вечерело, воздух стал прохладнее, это его, вероятно, и разбудило; вот спасибо, а то уже полпятого, самое время ехать на вокзал. Сесиль не стала долго ломаться и согласилась, чтобы он поменял ей билет на первый класс, а что касается Орельена, то она сама о нем первая заговорила. Орельен никогда не был близок с отцом, а с матерью да, даже чересчур близок, и, глядя на нее, он и выучился на реставратора произведений искусства, глядя на нее, окончил Школу Конде с дипломом “реставратора и хранителя культурных ценностей”, более того, оба они выбрали один и тот же исторический период, конец Средневековья – начало Возрождения, с той лишь разницей, что их мать специализировалась на скульптуре, а он – на гобеленах. Пойдя по стопам матери, выбрав почти такую же профессию, как она, Орельен с завидным постоянством отторгал, пусть вяло, неявно – а иногда и явно – карьеру отца, построенную на служении государству и безоговорочной, по-военному четкой приверженности изменчивым и порой невнятным интересам французской разведки.
Отец ведь, в сущности, никогда не хотел третьего ребенка, этого третьего, родившегося через несколько лет после первых двух, ему в некотором роде навязали, он никогда не входил в его планы, а отец, надо заметить, всегда любил придерживаться намеченного плана. Супружеская пара чаще всего формируется вокруг некоего проекта, за исключением случаев, когда они просто безумно влюблены и их единственный план – вечное созерцание друг друга и взаимное одаривание нежными знаками внимания, пока смерть не разлучит их, есть такие люди, Поль о них слышал, но его родители не принадлежали к их числу, так что, скорее всего, им пришлось совместно выработать некий план, двое детей – это классика жанра, прямо архетип классики жанра, будь у них с Прюданс дети, они бы не дошли до такого, хотя вообще-то дошли бы, как раз напротив, они, возможно, давно бы уже расстались, сейчас детей недостаточно, чтобы спасти брак, они, пожалуй, только ускоряют его распад, к тому же, когда их отношения стали ухудшаться, они еще даже не успели задуматься о детях. Что касается его родителей, то у них был еще один дополнительный план – дом в Сен-Жозефе. Отец хорошо знал эти места, в детстве он проводил там идиллические каникулы у дяди-винодела. Он приобрел еще в 1976 году, вскоре после свадьбы, несколько заброшенных строений неподалеку от Сен-Жозеф-ан-Божоле, в коммуне Вилье-Моргон.
Там стояли рядом три дома разных размеров, принадлежавшие трем братьям, и еще конюшня и большой амбар. Все вместе взятое отец купил по смешной цене; стены и крыша были в порядке, все остальное пришлось перестраивать. Он посвящал этому свои выходные и отпуск в течение десяти следующих лет, сам чертил планы, не имея никакого архитектурного образования, и выполнял своими руками значительную часть плотницких и столярных работ. Именно он придумал зимний сад – застекленную галерею, ведущую из главного дома в их детский домик. Мать тоже увлеклась этим проектом, в силу своей профессии она знала лучших мастеров всех художественных ремесел, и этот дом постепенно занял очень важное место в их существовании, став самым осязаемым и, вероятно, самым долговечным проявлением жизнеспособности их супружества. Результат превзошел все ожидания: в этом доме они с Сесиль прожили несколько лет нереального и острого детского счастья. Окно его комнаты выходило на северо-запад, на холмы, луга, леса и виноградники, осенью пылавшие пурпуром и золотом до зеленеющих отвесных склонов Авенаса.
То время для него безвозвратно закончилось, он больше никогда не испытает такого счастья, оно просто не входит в перечень оставшихся возможностей. А вот Сесиль случалось переживать – и не исключено, что до сих пор случается – подобные мгновения счастья, у нее есть дети, она сама стала ребенком, предав душу в руки Божии, как принято выражаться у католиков. Ему нужно, совершенно необходимо было верить, что она счастлива.
Он смотрел на нее, такую спокойную, тихую, она же не отрывала глаз от пейзажа, мелькавшего за окном поезда в последних проблесках дневного света. Электронное информационное табло сообщило, что в данный момент они едут со скоростью 313 км/ч, на нем также указывалось их географическое положение, и он вдруг с нервной дрожью осознал, что в эту самую минуту, когда он все это вспоминал, они находились чуть южнее Макона, в нескольких километрах от дома в Сен-Жозефе.
Спустя долгое, очень долгое время Сесиль перевела взгляд на него – поезд приближался к станции Ларош-Мижен, двигаясь со скоростью 327 км/ч.
– Я не спросила, как у тебя дела с Прюданс… – осторожно сказала она.
– И правильно сделала. Правильно сделала, что не спросила.
– Так я и думала. Мне жаль, Поль. Ты заслуживаешь счастья.
Откуда она все это знала, откуда она знала жизнь, она, вечная однолюбка, с чудесной прозорливостью выбравшая в мужья образчик неподкупности, верности и добродетели? Возможно, подумал Поль, жизнь на самом деле совсем несложная штука, тут и знать-то особо ничего не надо, а просто плыть по воле волн.
Они почти не разговаривали до самого Парижа. Ход событий теперь предопределен. Максимум через неделю Сесиль вернется с Эрве, и они поселятся в Сен-Жозефе. Им, прежде всего, придется успокоить Мадлен, попытаться наполнить смыслом ее жизнь, чтобы она не путалась весь день под ногами санитарок в больнице Сен-Люк. А потом им останется только ждать, ждать и молиться. Может ли молитва стать совместным ритуалом супругов? Или она в обязательном порядке предполагает личное общение с Богом, один на один?

© Louis Paillard
Они наспех, но крепко обнялись, и Сесиль спустилась в метро, ей надо будет пересесть на Бастилии и доехать потом по прямой до Северного вокзала.
9
Открыв дверь в квартиру, он с изумлением услышал пение китов, доносящееся из общесемейного пространства, и понял, что Прюданс наверняка уже вернулась и в эту самую минуту находится дома, у нее все по расписанию. А вот он свое расписание нарушил; с тех пор как он начал работать в аппарате министра, у него появилась привычка вставать поздно; около полудня он отправлялся на службу, пересекая прогулочным шагом парк Берси – в конечном итоге он чуть ли не полюбил этот парк с его дурацкими овощными уголками, – а потом сад имени Ицхака Рабина. Дойдя до места, он обычно съедал на обед тарелку копченой рыбы – у них своя собственная кухня, не общеминистерская, и превосходный шеф, но днем Поль предпочитал ограничиваться копченой рыбой. И только потом уже встречался с Брюно, впервые за день.
Тот появлялся в офисе очень рано, в семь утра, и с тех пор, как переехал в служебную квартиру, засиживался там до глубокой ночи – зато никогда не назначал встреч до полудня, посвящая это время текущей работе. Должно быть, завидев у себя на столе груду папок, его дневной рацион, он потирал руки от удовольствия по примеру своего далекого предшественника Кольбера – так гласит легенда, во всяком случае. Они обедали с Полем вдвоем – Брюно был большой любитель пиццы, – обсуждая встречи, назначенные на вторую половину дня и вечер, равно как и возможные загвоздки.
Поль, как правило, приходил домой под утро, между часом и тремя, Прюданс поднималась к себе задолго до его возвращения. Иногда он смотрел перед сном документальные фильмы о животных; мастурбировать он совсем перестал. Вообще-то прошло уже несколько месяцев – да нет, почти год, с ужасом подумал он, – как он даже не пересекался с женой, впрочем, все последние годы, если они и пересекались, то редко и ненадолго. Будучи представителями класса привилегированных специалистов с очень высокими доходами, они и не помышляли о нарушении общепринятых правил, им было крайне важно, чтобы их союз шел ко дну цивилизованно, в оптимальных условиях. Тем не менее, заслышав пение китов, он чуть было не ретировался, не сбежал в отель на одну ночь. Но усталость взяла свое, и он распахнул дверь в гостиную.
Прюданс вздрогнула, увидев его, у нее тоже явно нервы сдали. Так, теперь главное – не мешкать и с ходу разрядить обстановку, поэтому он поспешил сказать, что у отца инсульт, он лежит в коме в лионской больнице, чем и объясняется его появление в столь неурочный час, но уже с завтрашнего дня все войдет в колею, такое больше не повторится. Она даже не отреагировала на его заверения; как ни странно, ему показалось, что она пожалела его, лицо ее сморщилось под воздействием чего-то похожего на печаль или, по крайней мере, на озабоченность. Ну и само собой, это что-то испарилось в мгновение ока, но все же оно совершенно точно промелькнуло. Затем она произнесла какие-то более банальные слова, что он должен располагать собой, как ему удобнее, не обращать на нее внимания и т. д. Кстати, ей тоже уже под пятьдесят, интересно, а у нее что с родителями? Классические буржуазные старики-леваки, всю жизнь проработавшие в госсекторе – в сфере высшего образования, в судебном ведомстве, – и наверняка любители утренних пробежек, они, скорее всего, пребывали в отличной форме. Он всегда недолюбливал родителей Прюданс, ну, отец еще куда ни шло, а вот мать – чистый ужас. Есть ведь какая-то старая поговорка, народная мудрость, что-то вроде: “Хочешь выбрать жену – посмотри на тещу”; но дело в том, что в нужный момент он отважно не внял предупреждению. Прюданс, судя по всему, – кто бы мог подумать – обеспокоилась судьбой Эдуара, притом что восемь лет назад довольно безразлично отнеслась к смерти Сюзанны. “В сущности, ты весь в отца”, – сказала она ему однажды. Связаны ли как-то эти два обстоятельства между собой? Может ли тот факт, что она встревожилась, узнав об отце, означать, что она все еще испытывает что-то к нему самому? От таких мыслей голова шла кругом; да и без того, уезжая из Лиона вчера вечером, он чувствовал, что вступил в полосу полнейшей неопределенности. Неужели только вчера? Ему казалось, что все началось гораздо раньше и было куда серьезнее, он не просто попал в некую неопределенную, но строго ограниченную полосу своей жизни, а решительно все в его жизни стало неопределенным, начиная с него самого, как будто его постепенно вытеснял некий непонятный двойник, который тайно сопровождал его уже многие годы, а может быть, и всегда.
Так или иначе, он счел, что разумнее пока на этом с Прюданс остановиться, и объявил, сославшись на усталость, вполне объяснимую совершенным путешествием и переживаниями, что идет к себе. Прюданс улыбнулась, она отнеслась к его уходу с надлежащими спокойствием и благодушием, хотя все же ее замешательство выдавали машинальные движения руки, описывавшей в воздухе мелкие окружности, словно ей хотелось, закрутив в эфире картезианские вихри, создать между ними поле притяжения, аналогичное, возможно, полю гравитации. Однако уже давно было доказано, что эфира и картезианских вихрей не существует, это больше не вызывает ни малейших сомнений у научного сообщества, несмотря на отчаянную попытку Фонтенеля, опубликовавшего в 1752 году “Теорию картезианских вихрей и размышления о притяжении”, но этот труд не вызвал никакого отклика.
Уж лучше бы она ему задницу показала, ну сиськи на худой конец, ошибочно полагать, что откровенный сексуальный запрос оскверняет чистоту горя, часто случается как раз обратное, происходит физическая реакция организма, изнуренного горем, напуганного перспективой стать окончательно непригодным для выполнения простейших биологических функций, так что он, напротив, жаждет воссоединиться хоть с какой-нибудь формой жизни, и чем она проще, тем лучше. Но все это, наверное, не про Прюданс, ее воспитание пошло иным путем, что весьма прискорбно, поскольку им-то надо бы как раз ловить момент.
10
Когда на следующее утро он появился в офисе, Брюно не стал ходить вокруг да около и прямо спросил, каковы шансы его отца на выживание; Поль объяснил ситуацию, как мог. Потом Брюно спросил, есть ли кому с ним сидеть, тогда он рассказал ему про Мадлен, Брюно впал в задумчивость, взгляд его затуманился и, казалось, блуждал в каком-то неясном пространстве; Поль начал привыкать к этой способности Брюно углубляться внезапно в размышления общего характера, в эти мгновения его привычный способ рассуждения, отличавшийся точностью и прагматичностью, уступал место теоретическим умозаключениям.
– Ты говорил, твой отец родился в 1952 году, да? – наконец спросил Брюно. Поль кивнул. – То есть он типичный беби-бумер… И правда, создается впечатление, – продолжал он, – что люди этого поколения не только энергичнее, активнее, креативнее нас и вообще талантливее во всех отношениях, но и приспосабливаются к жизни получше, чем мы, со всех точек зрения, матримониальной в том числе. Даже разведясь – а они, конечно, уже тогда разводились, гораздо реже, чем мы, но все-таки разводились – и будучи даже в преклонном возрасте на момент развода, они умудряются снова себе кого-нибудь найти. У нас, я думаю, будет все сложнее. А уж у следующего поколения и подавно. Вот взять, например, моих сыновей, один из них гомосексуал – ну… гомосексуал в теории, на практике, мне кажется, у него никого нет, ни постоянного партнера, ни проходного, он скорее асексуал с гомосексуальным уклоном. Что касается второго, то я не знаю, по-моему, он вообще ни то ни се и никогда ничем не был, я просто забываю порой о его существовании. Мы хотя бы пытались жить семейной жизнью; довольно часто у нас ничего не получалось, но мы пытались.
Поскольку Брюно, не особо даже скрывая, наняли именно для того, чтобы Франция вновь вступила в Славное тридцатилетие, не было ничего удивительного в том, что его буквально завораживала психология бумеров, отличавшаяся от психологии его сверстников оптимизмом и дерзостью, отличавшаяся так сильно, что с трудом верилось, что их разделяет всего одно поколение. Отец Брюно, насколько знал Поль, был чиновником чуть выше среднего уровня и в этом смысле нетипичным бумером. Классические бумеры, бумеры хрестоматийные, создатели и магнаты промышленности, чьему возрождению во Франции он надеялся поспособствовать, ему никогда не попадались, да и вообще они почти все уже поумирали; поумирали и легендарные бляди семидесятых с волосатыми лобками, сойдя в могилу вслед за ними, образно говоря. В матримониальном плане Полю уж точно нечего было противопоставить нарисованной им унылой картине; он взял еще один кусок копченого угря, и остаток дня прошел относительно спокойно. Важнейшим пунктом в завтрашней повестке был обед с профсоюзными активистами. Идея ежемесячных обедов в Берси с основными профсоюзными лидерами Франции принадлежала ему; такие “неформальные” встречи не предполагали никакой конкретной программы, но позволяли им “измерить среднюю температуру по стране”. Попытка купить благосклонность синдикалистов при помощи “зайца по-королевски” и “жареных голубей конфи” и подходящих к ним породистых вин может показаться примитивной затеей, даже тупой, но факт остается фактом: пятилетний срок президента прошел в атмосфере небывалого социального согласия, а число забастовочных дней не падало до такой низкой отметки с первых дней Пятой республики, притом что количество служащих, занятых в государственном секторе, медленно, но верно сокращалось до такой степени, что некоторые сельские районы с точки зрения коммунального и медицинского обслуживания скатились до уровня какой-нибудь африканской страны.
Новость грянула в начале седьмого, в 18.25 Поль получил мейл от пресс-секретарши министра. В сети только что появилось новое сообщение; оно начиналось, как обычно, с композиции схематично начерченных пятиугольников и кругов, но композиция всякий раз была другой, варьировалось, в частности, число кругов. Ее сопровождал текст, состоящий из уже привычных символов, но на сей раз он оказался значительно длиннее – предыдущие послания состояли из четырех-пяти строк, в этом было около двадцати.
Кликнув в любом месте открывшегося окна, пользователь запускал видео. Бурный серый океан. Камера медленно наезжает на корабль, гигантский контейнеровоз, стремительно и с невероятной легкостью рассекающий волны. На палубе пусто, экипаж словно испарился. Внезапно, без видимых причин, огромное судно поднимается над поверхностью океана и ухает вниз, расколовшись пополам. И минуты не прошло, как обе половины полностью затонули.
Сделано, как всегда, безупречно, подумал Поль, в реальность происходящего нельзя не поверить. Через пару минут он позвонил Дутремону. Тот, само собой, уже занимался этим, но пока ничего не мог сказать; он обещал перезвонить, как только что-нибудь узнает, пусть даже в ночи.
Он позвонил в восемь утра, Поль прослушал сообщение, когда проснулся. Дутремон предпочел особо не распространяться по телефону и предложил встретиться в министерстве во второй половине дня; он придет с одним из своих начальников из ГУВБ.
Он пришел ровно в два в сопровождении комиссара Мартена-Рено; это был человек лет пятидесяти с коротким седым ежиком и, похоже, военной выправкой – он чем-то напомнил Полю отца.
– Вы шеф IT-подразделения?
– Не совсем, я руковожу ГУВБ. Дело в том, что много лет назад мне довелось работать с вашим отцом. Я узнал, что с ним случилось, и очень ему сочувствую, отчасти этим и объясняется мое присутствие здесь, но сначала давайте поговорим о сегодняшних новостях. – Он повернулся к Дутремону.
– Некоторые характеристики нового сообщения, – сказал Дутремон, – отличают его от предыдущих. Во-первых, это касается способа распространения: на сей раз его выложили почти на сотне ресурсов, по всему миру – в том числе в Китае, чего раньше никогда не случалось. Но главное, предыдущие видео построены на спецэффектах – пусть и блестяще сделанных, но спецэффектах. На этот раз у нас возникли серьезные сомнения.
– Вы имеете в виду, что корабль действительно потопили?
– Его регистрационный номер прекрасно виден в кадре, нам не составило труда его идентифицировать. Это контейнеровоз последнего поколения, построенный на шанхайских верфях. Судно длиной чуть более четырехсот метров способно перевозить до двадцати трех тысяч стандартных контейнеров, то есть около двухсот двадцати тысяч тонн груза. Оно ходило по маршруту Шанхай – Роттердам и было зафрахтовано CGA-CGM, четвертой в мире по величине судоходной компанией по перевозке грузов, это французский оператор. Естественно, мы попросили их сообщить нам, не приключилось ли чего с каким-нибудь из их кораблей. Они обязаны нам ответить; пока что не ответили. Мы предполагаем, что они захотят избежать огласки и потребуют от нас соответствующих гарантий.
– Мы отнюдь не уверены, что сможем выполнить их просьбу, – вмешался Мартен-Рено. – Они, судя по всему, считают, что мы в любой ситуации контролируем прессу и решаем, что публиковать, а что нет; это далеко не так. Утечки могут произойти самыми разными способами, и мы их никак не контролируем, тем более что в этом ролике есть один любопытный момент: на борту никого не видно, ни одного члена экипажа – все выглядит так, будто их предупредили о теракте и они успели покинуть корабль. Если это так, то рано или поздно они неизбежно появятся – и их не удастся заткнуть.
– Полагаю, судно такого размера нелегко потопить. Для этого ведь понадобились бы военные ресурсы?
– В определенной степени. Пусковую торпедную установку трудно найти на рынке, зато ее можно смонтировать на обычном корабле. Здесь используется метод дислокации: прямого контакта между торпедой и кораблем не происходит, она взрывается на глубине нескольких метров. Восходящий столб воды, врываясь в газовый пузырь, образовавшийся в результате взрыва, разрезает корабль пополам; тут даже нет необходимости в сверхмощной торпеде. Так что нет, значительные средства задействовать им не пришлось; с другой стороны, наведение и оценка времени должны быть сверхточными, что требует серьезных навыков в расчетах балистики.
– Кто мог это сделать? – Он задал этот вопрос спонтанно, почти непроизвольно; на этот раз Мартен-Рено откровенно усмехнулся.
– Нам самим не терпится это узнать, понятное дело. – Он переглянулся с Дутремоном. – Никто из известных нашим службам людей, во всяком случае. С самых первых сообщений мы пребываем в полной неизвестности. А на этот раз последствия могут быть весьма серьезными. Китайскому руководству не составит труда обезопасить перевозки товаров, производимых его предприятиями, но если к каждому контейнеровозу понадобится приставить эсминец, никаких средств не хватит. Кроме того, морская страховка взвинтит цены.
– То есть это нанесет ущерб мировой торговле? – Этот вопрос задал Дутремон; Полю ответ был очевиден, и глава ГУВБ сформулировал его предельно просто:
– Если кто-то захочет навредить мировой торговле, то лучше способа не найти.
Сама собой напрашивалась мысль об определенных группах активистов, скорее крайне левых, но крайне левые активисты, хоть и доказали свое умение испоганить любую протестную акцию, пока еще все-таки не продемонстрировали никаких военных навыков, да и с финансами у них не очень, а торпедная установка – дорогое удовольствие, независимо от того, как бы они взялись ее добывать.
Мартен-Рено помолчал.
– Я хотел увидеться с вами еще по одному делу… – сказал он наконец. – У вашего отца остались кое-какие важные документы.
Поль удивился: документы? Но ведь он же на пенсии.
– Да, конечно, но когда занимаешь такой пост, на пенсию окончательно уйти нельзя, – заметил Мартен-Рено. – Документы эти не то чтоб прямо документы, ну, трудно объяснить. Можете почитать их, – продолжал он, – но вы мало что поймете. Да-да, можете, никакого грифа секретности на них нет, – прибавил он, – именно поэтому, собственно, мы не принимаем никаких мер предосторожности, чтобы их не украли: вряд ли кому-нибудь удастся почерпнуть из них какую-то информацию.
В общем, он имеет в виду не столько некие досье, сколько подборку странных фактов и сведений, связь между которыми установил только отец Поля; при этом они не дают никаких серьезных оснований, чтобы начать расследование или установить наблюдение. Это, скажем так, что-то вроде головоломок, над которыми он иногда бился годами, угадывая в них угрозу безопасности государства, но не умел при этом определить ее характер.
– У него в кабинете в Сен-Жозефе, я там однажды побывал, – сказал он, – хранится несколько картонных папок. Вот мы и хотели бы, на случай, если произойдет несчастье, ну, на случай неблагоприятного исхода, попросить вас передать нам эти папки.
Сначала Поль подумал, что Мартен-Рено намеренно избегает слова “смерть”, чтобы не сделать ему больно, но, взглянув на комиссара, понял, что тот правда растерян и встревожен.
– Я очень любил вашего отца, – подтвердил он. – Не скажу, что он был моим наставником, хотя он работал со многими другими начинающими агентами моего поколения, но я многому у него научился.
Поль никогда ничего толком не понимал в профессиональной деятельности отца; помнил только, что время от времени ему звонили на защищенный смартфон “Теорем” – иногда посреди обеда или ужина, – и он немедленно выходил из комнаты, прежде чем ответить. Он никогда не рассказывал им потом, о чем шла речь, но явно был чем-то озабочен, и, как правило, его не отпускало до конца дня. Озабочен и молчалив. Да, профессиональная деятельность этого человека неизбежно ассоциировалась со словом озабоченность, это все, что он мог сказать по его поводу.
Естественно, он согласился.
– У меня тоже будет к вам одна просьба… – добавил он. – Люди, ответственные за кибератаки – и теперь за теракт, – располагают, очевидно, значительными ресурсами, но все-таки эти ресурсы не безграничны.
Он знает, что в прошлом предпринимались попытки удалить эти сообщения, но они вскоре появлялись на других ресурсах, а иногда и на том же самом. Теперь, когда накопилось много сообщений, они, возможно, будут уделять меньше внимания самым первым. Видео с отрубанием головы глубоко задело министра. Он по-прежнему из-за него переживает; нельзя ли как-то подумать о том, чтобы его истребить раз и навсегда?
Мартен-Рено с готовностью кивнул:
– Мне кажется, ваши соображения вполне обоснованны… Да, мы займемся этим сразу по возвращении.
К тому моменту, когда встреча закончилась, уже смеркалось; какая жуть этот декабрьский сумеречный свет, подумал Поль; вот уж правда, идеальное время для смерти.
11
На следующий день объявился экипаж. Судно потопили в районе Ла-Коруньи, у самой границы испанских территориальных вод; Поль с удивлением узнал, что этими гигантскими кораблями управляет экипаж человек из десяти. Их допрос мало что дал властям: кто-то связался с ними по радио и, разумеется, не представился. Они выпустили первую торпеду, задев корму, просто показали, что не шутят, а затем дали им десять минут, чтобы покинуть корабль.
Поначалу журналисты с предельным вниманием отнеслись к этому событию – теракт такого типа совершался впервые, – но потом, поскольку никаких новых сведений не поступало, интерес быстро иссяк. О встрече с Мартеном-Рено Поль вкратце рассказал Брюно и изумился, как невозмутимо тот воспринял происходящее. Его и раньше озадачивало относительное безразличие, с которым Брюно отнесся к первым кибератакам, за исключением той, что касалась его непосредственно. Притом что последствия для финансовых операций оказались довольно разрушительными – всеобщая неуверенность в безопасности интернета затронула биржи, и они вернулись в эпоху телефона и факса, скакнув лет на сорок назад; но Брюно всегда испытывал некоторое презрение к финансовому капитализму. На самом деле нельзя выдумать деньги из ничего, считал он, в один прекрасный день разница станет очевидной, без обращения к производству реальных товаров в конечном итоге будет не обойтись, и фактически система материального производства продолжает работать более или менее неизменно, даже когда замедляется финансовый оборот. На этот раз, однако, пострадала реальная экономика; но, по правде говоря, пусть этот аргумент и нельзя озвучить публично, ограничения, наложенные на китайскую внешнюю торговлю, оказались для Франции не такой уж плохой новостью. С самого начала Брюно не играл в эти игры; он вел свою игру.
И еще Поль чувствовал, что Брюно переполняют тревоги иного рода, непосредственно связанные с политикой. Ситуация, в общем-то, не прояснилась: Брюно не только не объявил о выдвижении своей кандидатуры, но и отказался делать какие-либо заявления по этому поводу, повторяя всякий раз, что “еще не время”. У него не было ни одного серьезного конкурента в партии президента: гипотеза о кандидатуре нынешнего премьер-министра иногда мелькала в прессе, но ее тут же отметали: получив этот пост в самом начале пятилетнего мандата президента, он всегда был лишь марионеткой в его руках. С самого начала и до конца президент прислушивался только к Брюно, он один в окружении главы государства имел достаточный авторитет, чтобы влиять на политику страны.
Недавно, откуда ни возьмись, появился новый соперник. Бенжамен Сарфати, он же Бен, а то и Биг Бен, пришел с самого дна телевизионного энтертейнмента. Он сделал карьеру на TF1, начав с ведущего программы для подростков, явно вдохновленной телесериалом “Чудаки”, с той только разницей, что предлагаемые испытания были больше связаны с унижением участников, чем с опасностью для их жизни: спустить штаны, блевать и пердеть – вот из чего складывалась его программа, благодаря которой впервые в истории канал TF1 возглавил рейтинги в подростковом и молодежном сегменте.
Продвигаясь по служебной лестнице, он свято хранил верность каналу и не избежал всеобщей дрюкеризации – телевизионного эквивалента джентрификации городских кварталов, – кульминацией чего явилось приглашение на прощальную передачу Мишеля Дрюкера[12] в день его восьмидесятилетия, ставшую одним из самых знаменательных событий на телевидении двадцатых годов этого века. Через еженедельные, а затем и ежедневные ток-шоу Сарфати прошли ведущие политики и лучшие умы страны – труднее всего оказалось уговорить Стефана Берна[13], он боялся, что пенсионеры, из которых состоит его аудитория, будут обескуражены; но он тоже в конце концов сдался, и это был звездный час в карьере Сарфати, к тому же ему подфартило – практически одновременно сошел с дистанции Сирил Хануна[14]. У Поля вылетело из головы, обвиняли ли последнего в эксгибиционизме, сексуальном домогательстве или даже в изнасиловании, так или иначе, он был уже сбитым летчиком, он-то считал, что у него есть надежная поддержка в профессиональной среде, но увы, в итоге он исчез с экрана и из умов еще быстрее, чем появился, никто и не вспоминал уже, что когда-то работал или вообще пересекался с ним. “Буиг отомстил Боллоре”[15], – скупо прокомментировал Брюно это событие.
Никогда слишком явно не подыгрывая партии президента – что несовместимо с этикой ведущего, – Бенжамен Сарфати исподволь сообщал о своих политических симпатиях хотя бы тем, что выбирал самых невзрачных оппонентов – а в них не было недостатка, – когда надо было столкнуть с кем-то в эфире важного члена правительства. Таким образом, он постепенно начал сближаться с самыми доверенными кругами внутри власти. Ему предстояло сделать еще очень многое, прежде чем его можно будет рассматривать как кандидата на пост президента, но он работал над этим, никто уже этого не оспаривал. Решающим моментом стала, безусловно, его встреча с Солен Синьяль, президентом политтехнологической фирмы “Слияния”, которая с тех пор занималась его пиаром.
В отличие от большинства своих конкурентов, Солен сомневалась в необходимости получить важную площадку в интернете. Интернет, любила она повторять, имеет только два назначения: скачивать порно и безнаказанно оскорблять ближнего; в сущности, в сети самовыражаются лишь немногочисленные, особо злобные и вульгарные граждане. Но все же интернет считается своего рода обязательным элементом с точки зрения построения легенды, необходимым компонентом сторис, но, по ее мнению, достаточно, и даже предпочтительно, просто создать ощущение, что человек популярен в сети, даже если это часто не имеет никакого отношения к действительности. Ведь можно, ничем не рискуя, похвастаться сотнями тысяч, если не миллионами просмотров, проверить это все равно не получится.
Настоящим прорывом Солен стал второй этап, следующий обычно сразу же за работой в интернете и постепенно ставший под ее влиянием обязательным в создании современных сторис для всех пиар-агентств, а именно этап селебов-посредников (перспективных актрис, многообещающих певцов). Их функция в средствах массовой информации, к которым они имели доступ – как правило хайповым, но иногда и к тяжелой артиллерии, – заключалась в том, чтобы неустанно транслировать один и тот же месседж по поводу кандидата: о его человечности, его близости к народу и эмпатии – а еще о его патриотичности, основательности, приверженности республиканским ценностям. Этот этап, самый важный, по ее словам, оказался и самым долгим и, безусловно, гораздо более затратным с точки зрения времени и личного участия, ведь с селебами-посредниками надо встречаться, говорить с ними, потакать их эго, столь же раздутому, сколь и жалкому. В этом отношении Бенжамен был в шоколаде – благодаря своей телевизионной раскрученности и немыслимому рейтингу его программы, он стал незаменимым собеседником селебов. Они могли позволить себе максимум легкие разногласия с ним, а вот ссориться с Бенжаменом – нет, для селебов это не вариант.
На третьем этапе, на третьей ступени ракеты, Солен не привнесла никаких новшеств, ее контакты были точно такими же, что и у всех ее конкурентов. Она знала тех же сенаторов, тех же начальников аппарата, тех же журналистов из ведущих ежедневных изданий; она рассчитывала увеличить разрыв как раз на втором этапе (а некоторое время назад Бенжамен Сарфати явно перешел на третий); Солен, конечно, влетала в копеечку, но ее компания была еще молода, и она не могла позволить себе совсем уж завысить цены.
Несмотря на то что Сарфати становился все более серьезным кандидатом, он тоже пока еще не заявил о себе; после праздников все так или иначе определится.
После той случайной встречи Поль и Прюданс взяли в привычку видеться раз в неделю – обычно в воскресенье после обеда. Общение по-прежнему давалось им нелегко и в основном оставалось вербальным, ничего больше дружеского поцелуя они ни разу себе не позволили, но и просто поболтать – это уже неслыханное достижение, отметил про себя Поль, они и думать о таком забыли. Прюданс говорила почти исключительно о своей работе – она, как и прежде, служила в Казначейском управлении. Прошел месяц, а Поль так толком не узнал, с кем она дружит и чем занимается в свободное время. В ней вроде бы появилось что-то новое – какое-то смирение, печаль, что ли, теперь она говорила тягучим, чуть ли не старушечьим голосом; зато физически почти не изменилась.
Еще она регулярно справлялась о его отце – в конце концов, именно это их и сблизило. Поль пытался держать ее в курсе дела – правда, с тех пор он в Лион не возвращался, но часто звонил Сесиль, которая переехала в Сен-Жозеф. Пока что отец из комы не вышел, ситуация была стабильной. Сесиль, однако, вовсе не отчаивалась – и, судя по всему, безгранично верила в силу молитвы.
Однажды в субботу, в середине декабря, Поль отправился в церковь Рождества Богоматери в Берси, на площадь Лашамбоди, в пяти минутах ходьбы от дома. Эта крохотная церквушка, построенная, вероятно, в девятнадцатом веке, несуразно смотрится в их модернистском, а то и постмодернистском квартале. В нескольких метрах от нее проходит Юго-Восточная железная дорога, тут проезжают высокоскоростные поезда на Макон и Лион, и он наверняка уже сто раз проезжал мимо этой церкви, даже не подозревая о ее существовании. Из обнаруженного у входа проспекта он узнал чуть больше: церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур была построена в 1677 году, разрушена в 1821-м и лежала практически в руинах, пока в 1823-м ее не начали восстанавливать. Во время Парижской коммуны ее снова разрушили, потом, чуть позже, построили точно такую же. Затем ее затопило во время разлива Сены в 1910 году, в апреле 1944-го она пострадала от бомбардировок железнодорожных путей и была частично уничтожена пожаром в 1982 году. Короче говоря, эта церковь настрадалась на своем веку, да и сейчас не то чтобы процветала, в этот субботний день тут не было ни души, и возникало ощущение, что это ее обычное состояние. Чтобы наглядно представить себе злоключения христианства в Западной Европе, лучшей иллюстрации, чем церковь Рождества Богоматери в Берси, и не придумаешь.
12
Двадцать пятое декабря пришлось на пятницу, поэтому Поль мог провести в Сен-Жозефе целых три дня. Прюданс уехала в прошлую субботу, он не знал, куда именно, вероятно, в Бретань, в загородный дом родителей, который, если ему не изменяла память, из загородного уже превратился в основной, они перебрались туда окончательно несколько лет назад, когда ее отец вышел на пенсию. Проходя через общесемейное пространство – теперь, надо заметить, оно вполне заслуживало своего названия, поскольку тут, собственно, и имели место их воскресные послеобеденные беседы, – он увидел на буфете разноцветный красочный листок и вспомнил, что буфет Людовика XVI в свое время приобрела Прюданс, она души в нем не чаяла, он достался ей “даром”, считала она, эта женщина была способна приходить в восторг в определенные моменты по определенному поводу. Листок оказался приглашением на саббат Йоль в Гретц-Арменвилье 21 декабря. Его украшала фотография юных девушек, облаченных в длинные белые платья, с венками из живых цветов на голове, они резвились на залитом солнцем лугу, принимая прерафаэлитские позы. Чем-то это напоминало мягкое порно семидесятых; что за бред? Во что еще ввязалась Прюданс?
Впрочем, последовательность эзотерических символов чуть ниже гарантировала, видимо, серьезность мероприятия. A краткое пояснение, предназначенное, похоже, для нерадивых адептов, напоминало, что саббат Йоль традиционно ассоциируется с надеждой и возрождением после смерти прошлого. Если уж на то пошло, это вполне соответствовало их семейной ситуации. Во всяком случае, вряд ли это уж прямо жесткая секта, скорее какие-то женские штучки с экстрактом эфирных масел. Он успокоился, положил приглашение обратно на буфет и отправился на вокзал.
Он провел беспокойную ночь и поэтому заснул через несколько секунд после того, как занял свое место в вагоне первого класса – подголовник на кресле пришелся очень кстати, да и пассажиров почти не было. Он стоял посреди зеленого луга – трава выглядела так, будто ее подстригли ножницами, и ослепительно зеленела в лучах солнца под идеальным голубым небом, оттененным парой облаков, облаков не страшных, облаков декоративных, которые ни разу за все время своего облачного существования даже не собирались пролиться дождем. Интуитивно он понимал, что находится в Южной Баварии, неподалеку от австрийской границы – горы, запирающие горизонт, были, несомненно, Альпы. Вокруг него стояло человек десять пожилых мужчин, они производили впечатление мудрецов. При этом они были одеты в классические костюмы – костюмы офисных работников, – но их офисная работа, он мгновенно понял это, всего лишь прикрытие, на самом деле они носители высшего знания. Все единодушно признали, что Поль Резон подготовку прошел и к полету готов. Тогда он побежал вниз по склону, не отрывая взгляда от горных хребтов, обозначавших горизонт на юге, но это продолжалось всего несколько секунд или несколько десятков секунд, уж точно меньше минуты, и вдруг, совершенно не собираясь ничего такого делать и вовсе не ожидая этого, он очутился в воздухе, метрах в двадцати над землей. Затем он медленно замахал руками, чтобы удержать равновесие, и завис. Эти якобы офисные работники, а на самом деле мэтры, преподававшие ему искусство полета, собрались внизу, прямо под ним, и комментировали его первый взлет, на их взгляд похвальный во всех отношениях. Успокоившись, Поль предпринял первую попытку переместиться в воздухе – то есть просто произвел несколько гребков брассом, меняя направление поворотом рук, как будто и правда плыл, хотя и, естественно, в менее плотной среде. Он потренировался пару минут и смог сделать несколько кувырков и даже робких петель, а потом поднялся еще немного, набрав как нечего делать стометровую высоту. Двигаясь вперед плавным брассом, Поль направился к горной гряде; никогда он не был так счастлив.
Когда он очнулся, поезд проезжал Шалон-сюр-Сон; он мчался со скоростью 321 км/ч. Его телефон издавал слабое, но настойчивое гнусавое жужжание: девятнадцать пропущенных звонков. Он попытался прослушать сообщения, но не было сети. Плакатики на стене настойчиво рекомендовали ему звонить в тамбуре “из уважения к другим пассажирам”. Он вышел в тамбур, но там сети тоже не было. Пройдя через два таких же пустых вагона, он оказался в буфетном отсеке. Он позаботился о том, чтобы в салонах подвижного состава иметь при себе проездной документ, а бонусной карты у него отродясь не было; работник буфетного отсека по имени Джордан выдал ему креативный бургер от Поля Констана, салат из киноа и полбы и 175-граммовую бутылочку кот-дю-рон “Традисьон”. На случай необходимости в его распоряжении тут имелся дефибриллятор, но сети все равно не было; поезд прибывал на вокзал Макон-Лоше через двадцать три минуты.
Несет ли он ответственность за этот мир? В определенной степени да, ведь он служит в госаппарате, однако этот мир ему не нравился. Он не сомневался, что и Брюно стало бы не по себе от этих креативных бургеров, дзен-кабин, где во время пути можно заказать массаж шейно-воротниковой зоны под щебет птиц, от причудливых багажных наклеек “для контроля безопасности”, короче, от общего направления, которое принял ход вещей, от этой натужно-развлекательной атмосферы, а в действительности чуть ли не фашистской стандартизации жизни, постепенно отравившей каждый закуток повседневного существования. Но при этом Брюно все же нес ответственность за миропорядок, и в гораздо большей степени, чем он сам. Фраза Раймона Арона о том, что люди “не знают той истории, которую творят”, всегда казалась ему бессодержательным бонмо, если это все, что Арон имел сказать, то лучше бы уж он молчал. Во всем этом чувствовалось нечто гораздо более мрачное, а очевидное расхождение между намерениями политиков и реальными последствиями их действий представлялось ему нездоровым и даже зловредным, общество не может и впредь функционировать на этой основе, думал Поль.
Незадолго до прибытия в Макон туман рассеялся, и великолепное солнце осветило окрестный пейзаж, луга, леса и виноградники, припорошенные инеем. Выйдя из вагона, он тут же увидел Сесиль, она пробежала несколько разделявших их метров и со слезами на глазах бросилась ему в объятия. В жизни человека есть много причин для слез, и ей потребовалась почти минута, чтобы выговорить наконец:
– Папа проснулся! Сегодня утром папа вышел из комы!.. – И она снова разрыдалась.
Два
1
Эрве курил, поджидая их у машины. Он долго жал Полю руку и, судя по всему, был рад встрече. Люди меня любят, с удивлением подумал Поль; вернее, ценят, не стоит преувеличивать. Эрве любил его сестру и старался как мог ценить и, да, в некотором смысле даже любить шурина, назначенного ему судьбой; и он в этом преуспел, подумал Поль, обнаружив в нем некие свойства, достойные уважения и даже любви. Что не соответствует никакой объективной реальности, подумал следом Поль, и является лишь результатом стороннего взгляда, а точнее, доброты Эрве, позволяющей ему замечать вокруг себя, куда ни глянь, сплошь достойных уважения личностей и полагать, что люди в большинстве своем хорошие люди.
За то время, что они не виделись, он сильно сдал: живот вырос, волос поубавилось, вот оно, классическое старение, но безработица вроде не слишком на нем отразилась, мелькнула у Поля дурацкая мысль. А чего он, собственно, ожидал? Что у него рожки вырастут? Он отнюдь не производил впечатление человека, коротающего ночи в тревожных раздумьях о бесплодных поисках работы; безработица, считал он, широко распространенное, естественное состояние человека уже на протяжении многих поколений, в некотором роде смирившихся с ним как с приговором судьбы. Благодаря многотрудной учебе ему удалось избежать этого на некоторое время, но потом судьба настигла его.
А главное, он был женат.
– Поехали, дусик? – спросила Сесиль, открывая правую переднюю дверцу.
Дусик?.. Неужели правда, что в любящих глазах человек не меняется, даже физически, что любящие глаза способны свести на нет обычные законы восприятия? Неужели правда, что первый образ человека, запечатлевшийся в любящих глазах, будет вечно накладываться на то, во что он превратится со временем? Когда они въезжали на трассу А6, Поль вспомнил, как ходил на церемонию приведения к присяге Эрве лет двадцать тому назад. Там собралось полтора десятка кандидатов в диковинных костюмах восемнадцатого века – черные кюлоты, белые чулки, что-то типа редингота и бикорн. Церемония проходила в бывшем Дворце правосудия в Париже и прекрасно вписывалась в декорации. Судья говорил, что им надлежит честно исполнять свои обязанности, “в соответствии с законом и совестью”, что-то в этом роде. Эрве, услышав свою фамилию, торжественно произнес “клянусь”, волнующее было зрелище. После чего он получил личную печать и вместе с ней – право заверять нотариальные акты; как тут не испытать определенную гордость, особенно сыну рабочего.
Все-таки ему необходимо найти работу, подумал Поль, они просто обязаны в конце концов найти работу, либо он, либо Сесиль. Похоже, Эрве не позволял себе неоправданных трат – его “дачия-дастер” в хорошем состоянии, но это всего-навсего “дачия-дастер”. Зимнее солнце сияло все ярче, потоки света заливали салон автомобиля; плавно повернув, они въехали на пологий склон холма, и Полю почудилось, что он окунулся в сноп света. Он сидел сзади, рядом с Мадлен. Сначала они расцеловались два раза, такая у них сложилась привычка, они уже приноровились. Затем на протяжении километров десяти – примерно до Сен-Семфориен-д’Ансель – он соображал, о чем бы таком с ней поговорить, но вскоре пришел к заключению, что, вероятно, ему лучше помолчать, что Мадлен любит тишину, что в данный момент она очень счастлива и любые слова только приглушат ее безграничную радость. Тут он представил себе более отчетливо, хоть и мимолетно, каковы были отношения Мадлен с его отцом, чем для отца стало это мирное, почти животное присутствие Мадлен подле него, – и в тот же миг осознал, что все еще не может думать о нем иначе как в прошедшем времени.
Словно уловив мгновенно его мрачные мысли, Сесиль поспешила нарушить молчание и принялась рассказывать, как провела этот богатый событиями день. Приехав в Париж из Арраса, она как раз перебиралась с вокзала на вокзал, чтобы пересесть на лионский поезд, когда раздался звонок из больницы – это произошло на станции метро “Жак Бонсержан”, уточнила она. Отец вышел из комы, это единственное, что ей удалось понять. Она все утро пыталась дозвониться до больницы, но ей не везло, сеть то и дело пропадала, и разговоры обрывались до обидного быстро, к тому же она практически ничего не слышала и, только добравшись до Лиона, смогла наконец разобраться, что к чему. Выход из комы – событие непредсказуемое и внезапное и к тому же принимает самые разные формы. Иногда человек просто умирает. А бывает и так, что он полностью восстанавливается и возвращается к нормальной жизни, так что его выписывают чуть ли не на следующий день. Существуют и промежуточные варианты, как, например, в случае с отцом Поля, когда восстанавливаются лишь некоторые функции организма, и число их невелико. Отец открыл глаза, что считается главным критерием выхода из комы; он также в состоянии нормально дышать; но его парализовало, он не может ни говорить, ни контролировать отправление естественных надобностей. Такое состояние врачи называли раньше “вегетативным”, но большинство из них теперь отвергают этот термин, опасаясь, что он ассоциируется с распространенной метафорой, уподобляющей пациента овощу, и что это просто семантическая уловка, заранее оправдывающая эвтаназию; они предпочитают использовать понятие “пробуждения при отсутствии реактивности и осознания”, кстати, более точное: у пациента восстанавливается функция восприятия окружающего мира, но не взаимодействия с ним.
Они уже проезжали пригороды Лиона; пробки на дорогах грозили затянуться до бесконечности. Эрве вел машину спокойно, казалось, в это утро ничто не способно вывести его из себя. На небе не было ни облачка, даже туман рассеялся.
Когда они припарковались на больничной стоянке, Мадлен повернулась к нему.
– Вам лучше побыть с ним наедине, – сказала она.
Старший сын – это важно, считала она, этим нельзя пренебрегать, она, вероятно, уже никогда не сможет относиться к нему иначе как с робким уважением.
– Сесиль, пошли со мной! – позвал Поль сестру неожиданно для самого себя отчаянным, почти умоляющим тоном. Только теперь он понял, что боится.
2
Отца успели уже перевести в другую палату, более того, на другой этаж, это первое, что узнал Поль, зайдя на рецепцию больничного комплекса.
– Обычное дело, ему же теперь не нужна реанимация, – сказала Сесиль. – Я говорила утром с главврачом. Ее сейчас нет, ей пришлось уйти сегодня пораньше, но она примет нас в понедельник, у нее не будет отпуска между Рождеством и Новым годом. Сможешь приехать в понедельник?
Поль понятия не имел, разберемся, ответил он, сейчас это не самое главное. Скорее всего да, тут же подумал он: с понедельника 28-го по четверг 31-е продлится очередная четырехдневная рабочая неделя, так называемое перемирие кондитеров[16]. Брюно, несомненно, засядет в офисе, он не припоминал, чтобы Брюно вообще когда-либо брал отпуск, но никаких встреч у него не назначено, так что Поль ему не понадобится, он предпочтет в одиночестве корпеть над бумагами, и будет ему счастье. Работа отвлекает, подумал Поль. Медсестра, за которой они шли по коридору, шагала быстро, не пройдет и минуты, как он снова увидится с отцом, его сердце билось все сильнее, волна ужаса накрыла его, и уже у самых дверей палаты у него чуть ноги не подкосились.
Он поразился произошедшим переменам: Эдуар полусидел в постели, опираясь на две подушки. Из его горла уже не торчала трубка, убрали и шумный аппарат. Не было больше ни капельницы, ни электродов, прикрепленных к черепу. Перед ним снова был его отец, с серьезным, даже строгим лицом, а главное, широко открыв глаза, он пристально смотрел прямо перед собой неподвижным немигающим взглядом.
– Естественная вентиляция легких возобновилась, он уже не нуждается в ИВЛ. Именно этот аппарат обычно так впечатляет родственников, – заметила медсестра.
Застыв на месте, Поль вглядывался в глаза отца.
– Он видит? – спросил он наконец. – Слышит и видит?
– Да, но не может ни двигаться, ни говорить, он полностью парализован, восстановились только его зрительные и слуховые функции. Однако нельзя с уверенностью сказать, способен ли он интерпретировать то, что слышит и видит, и соотносить это с чем-то ему известным, будь то понятия или воспоминания.
– Ну нас-то он помнит, разумеется! – категорически перебила ее Сесиль.
– Как правило, пациенты в вегетативном состоянии больше реагируют на знакомые голоса, чем на лица, – не моргнув глазом продолжала медсестра. – Поэтому с ним надо разговаривать, не стесняйтесь с ним разговаривать.
– Здравствуй, папа, – сказал Поль, а Сесиль как ни в чем не бывало погладила отца по руке. Поль задумался на мгновение и спросил: – Долго он будет в таком состоянии?
– Чего не знаем, того не знаем, – ответила медсестра с каким-то даже удовлетворением, она давно ждала этого вопроса, обычно родственники задают его сразу, и тот факт, что Сесиль так и не затронула эту тему, тревожил ее. – Мы провели все необходимые обследования: КТ, МРТ, ПЭТ-сканирование и, разумеется, сделали электроэнцефалограмму, и это еще не конец, но в настоящее время не существует метода, который позволяет с уверенностью предсказать эволюцию пациента в вегетативном состоянии. Он через несколько дней может прийти в нормальное сознание или остаться таким до конца жизни.
– Конечно, он к нам вернется, но это займет больше чем несколько дней, – вмешалась Сесиль. Она говорила с невероятным апломбом, как будто получала информацию прямиком от сверхъестественных сил; мистические закидоны его сестры определенно приобрели иной размах, подумал Поль. Он покосился на медсестру, но она, судя по ее виду, даже не рассердилась, только рот открыла от изумления.
Отца, по крайней мере, вся эта суета вокруг явно не занимала. Его взгляд, устремленный в неопределенную точку пространства, и глаза, которые видели, но не могли ничего выразить, производили бесконечно тревожное впечатление, казалось, он впал в состояние чистого восприятия, отключился от лабиринта эмоций, но Поль подумал, что это, конечно, не так, отец наверняка сохранил способность испытывать эмоции, даже если лишился возможности их выразить, но все же трудно представить себе боль или радость, которые нельзя проявить мимикой, стоном, улыбкой или жалобами. Медсестра, преисполнившись самых добрых намерений, жаждала, похоже, сообщить все имеющиеся в ее распоряжении медицинские сведения. Она несколько раз предусмотрительно напомнила, что правильнее им будет обратиться за подтверждением к главврачу, но она и сама явно была в теме. Да, у его отца определенно присутствует мозговая деятельность, сказала она Полю. На электроэнцефалограмме отчетливо заметны дельта-волны, типичные для сна без сновидений или глубокой медитации, а также тета-волны, указывающие скорее на сомнолентность, дважды возникли даже альфа-волны, что очень обнадеживает. То есть налицо чередование сна и бодрствования, хотя смена этих состояний происходит гораздо быстрее, чем у здорового человека, и не следует обычному никтемеральному ритму; неизвестно, видит ли он сны.
В этот самый момент отец закрыл глаза.
– Вот, пожалуйста… – удовлетворенно сказала медсестра, как будто он прекрасно справлялся с ролью пациента. – Он заснул, и это продлится несколько минут, максимум час. Возможно, ваше присутствие, встреча с вами утомили его.
– Так вы считаете, он узнал меня?
– Ну конечно узнал, тебе ж сказали! – нетерпеливо встряла Сесиль. – И правда, пусть передохнет сегодня. Кроме того, мне надо домой, готовить ужин.
– Уже?
– Сегодня сочельник. Ты забыл?
3
Да, он совсем забыл, что сегодня сочельник. Технические термины, которыми сыпала медсестра, взгляд отца, мгновенно вызвавший у него ассоциацию со взглядом призрака, как он себе его представлял – взгляд, вобравший в себя жизнь и смерть, земной и потусторонний одновременно, невозможность понять что-либо наверняка про его психическое состояние, – все это повергло его в невообразимое смятение, ему казалось, что он попал в какой-то телесериал о паранормальных явлениях. До Вилье-Моргона, сверкавшего праздничной иллюминацией, они добрались уже затемно и свернули на D18 в направлении перевала Фю-д’Авенас.
Эрве припарковался у главного дома. Под звездным небом он выглядел еще массивнее и внушительнее, чем в его воспоминаниях.
– Я забыла тебе сказать… – начала Сесиль, выходя из машины. – Ну, если, конечно, ты сможешь побыть тут до конца той недели. Мы ждем в гости Орельена, он должен приехать тридцать первого.
– С женой?
– Да, с Инди. И с их сыном. – Она запнулась на последнем слове, ей явно никак не удавалось смириться с его существованием. – Думаю поселить его в детской Орельена, – продолжала она. – Тогда тебе достанется синяя комната для друзей, а я в зеленой. Разве что ты предпочтешь ночевать в маленьком домике.
– Да, предпочту.
– Так я и знала. Вообще-то я уже тебе там постелила и включила отопление.
Интересно, что она так и знала, хотя он сам совершенно об этом не думал. За последние годы он несколько раз навещал отца, но предпочитал спать в гостевой комнате; он даже не заглядывал в комнату, в которой жил сначала ребенком, потом подростком, последние двадцать пять лет нога его туда не ступала. И вот теперь ему захотелось вернуться во времена своего детства, наверное, это плохой знак, наверное, так бывает с теми, кто начинает подозревать, что жизнь не удалась.
– Хочешь прямо сейчас туда пойти? – спросила Сесиль. – Я займусь готовкой, потом мы пойдем к мессе и поедим, уже когда вернемся. У тебя есть целых два часа на отдых, а то и больше, если захочешь.
– Нет, я лучше посижу в гостиной.
На самом деле ему надо было выпить, и не один стакан. Бар был все на том же месте, там стояли “Гленморанджи”, “Талискер” и “Лагавулин”, то есть и качество бара не снизилось. После третьего “Талискера” Поль решил, что для полуночной службы он слишком пьян; с другой стороны, оно и лучше. Сесиль уже целый час торчала на кухне, и гостиную постепенно наполняли разнообразные приятные ароматы; он узнал запах лаврового листа и лука-шалота.
Может, стоит разжечь огонь, он счел, что это уместная идея для рождественского вечера, у камина лежали поленья и хворост. Пока он озадаченно изучал поле битвы, пытаясь оживить воспоминания о том, как когда-то при нем разжигали огонь, в комнату вошел Эрве, и очень кстати. После стакана “Гленморанджи”, предложенного Полем, он, как и следовало ожидать, весьма умело и споро взялся за решение проблемы, так что через несколько минут в камине взмыло вверх яркое пламя.
– А, вы развели огонь, прекрасно, – сказала Сесиль, входя в гостиную. – Нам пора.
– Уже?
– Да, я ошиблась, в этом году все начнется на полчаса раньше, в десять.
Надевая пальто, Поль задумался на мгновение, где может быть сейчас Прюданс; саббат Йоль уже наверняка закончился. Сесиль не задала ему ни единого вопроса о его семейной жизни, да и Эрве не задаст; Брюно так и останется единственным человеком, обсуждавшим с ним эту тему. Супружеские пары, у которых все хорошо, не склонны обычно интересоваться участью пар, у которых все плохо, они, видимо, чего-то опасаются, словно супружеские разногласия заразны, и при мысли, что каждая супружеская пара в наши дни неминуемо пребывает на грани развода, впадают в ступор. Этот инстинктивный животный страх, трогательная попытка не сглазить, откреститься от расставания и одинокой смерти сопровождаются парализующим чувством неловкости; так здоровым людям всегда сложно говорить с раковыми больными, сложно найти верный тон.
Его отец был вполне включен в жизнь деревни, он понял это, когда они вошли в церковь, ощутив, как вокруг них воцаряется всеобщее смущение, правда благожелательное, человек двадцать прихожан сдержанно поприветствовали их. Он вдруг вспомнил, что отцовский дом “обезличен”: ГУВБ оплачивало все счета и муниципальные налоги отца, чтобы скрыть его местонахождение. Эта защита полагалась ему и после выхода на пенсию, фактически до самой смерти. Он объяснил это Полю за несколько месяцев до его школьных выпускных экзаменов, предприняв первую и единственную попытку поговорить с сыном о его профессиональном будущем в тщетной надежде, что он пойдет по его стопам. Эта защита показалась ему в церкви Вилье-Моргона, где священник уже вышел на сцену для проведения церемонии – это формулировка невольно промелькнула у него голове, и он тут же пожалел о ней, но ничего не поделаешь, – ужасно нелепой: ведь все жители деревни знали отца и наверняка были в курсе его работы “в спецслужбах”, это добавляло романтики их существованию, но, разумеется, ничего сверх того они не знали, да и он сам, в сущности, знал немногим больше, но ведь при желании достаточно просто порасспросить соседей, чтобы узнать, где он живет. В то же время, возможно, не так уж это и нелепо: опрос соседей – недешевое удовольствие, пришлось бы посылать агентов на место, что, понятное дело, обошлось бы куда дороже услуг хакера средней руки, который взломал бы несколько плохо защищенных аккаунтов, чтобы получить информацию о его счетах за электричество или декларациях муниципальных налогов.
Рождественские ясли удались, деревенские дети потрудились на славу, да и сама церемония, насколько он мог судить, прошла хорошо. В мир Спаситель рожден, Поль был в курсе и – спасибо “Талискеру” – даже умудрялся иногда, особенно слушая песнопения, убедить себя, что это благая весть. Он понимал, какое важное значение Сесиль придает тому факту, что их отец вышел из комы на Рождество, он невольно иронизировал, но на самом деле не имел никакого желания иронизировать. Можно подумать, саббат Йоль, который праздновала Прюданс, несет в себе больше смысла. Пожалуй, даже меньше. Это, наверное, что-то относительно языческое, а то и пантеистическое или политеистическое, он путал эти понятия, короче, нечто муторное, в стиле Спинозы. Ему и одного-то бога трудновато было примирить со своим жизненным опытом, а несколько богов – увольте, не смешно, а уж от идеи обожествления природы его и подавно блевать тянуло. Что касается Мадлен, то она полностью перекинулась на сторону Сесиль; ей хотелось вернуть себе любимого человека и зажить с ним прежней жизнью, ее запросы этим ограничивались; бог Сесиль казался ей всесильным, он уже добился первого результата, так что она безоговорочно встала на сторону бога Сесиль и пламенно причастилась.
Сам он воздержался от причастия, которое, на его взгляд, являло собой оргастический момент хорошо продуманной службы, если он вообще что-то смыслил в их религии и опять же если ему не изменяла память об оргазме. Воздержался он из уважения к вере Сесиль, во всяком случае, он попытался убедить себя в этом.
Ступайте, месса окончена, сказано – сделано, и вскоре все послушно разошлись по домам, радоваться в кругу семьи кто во что горазд.
Выйдя из церкви, он с особой остротой понял, какой его отец пользовался (он непроизвольно подумал о нем в прошедшем времени, “пользовался”, а следовало бы в настоящем, “пользуется”, да уж, с надеждой у него явно проблемы), – какой его отец пользуется популярностью в деревне. Практически все прихожане, присутствовавшие на мессе, подошли к ним, обращаясь в основном к Мадлен, но и к Сесиль тоже, они, судя по всему, хорошо ее знали, очевидно, она навещала отца почаще, чем он. Оказалось, тут всем известно про его инсульт и кому; Сесиль еще утром сообщила им, что он очнулся. Это благая весть, и для многих из них рождественский ужин станет теперь еще радостнее, Поль сразу это понял. Ведь всегда неприятно, когда кто-то умирает, посетила его дурацкая мысль, нет, ему определенно не удавалось выйти из состояния полного отупения, не отпускавшего его после посещения больницы.
– Они тут все ужасно милые, – простодушно заметил Эрве, садясь в машину.
– Да, правда, это хороший регион, – задумчиво отозвалась Сесиль. – У нас на Севере люди тоже, в принципе, гостеприимны, но там они так бедны, что рано или поздно отношения портятся.
Разговор за столом неизбежно перекинется на политику, и Поль покорно готовился к этому, он, собственно, и не собирался от него уклоняться, политические дискуссии – неотъемлемая часть семейных трапез с тех пор, как существует политика, да и семья тоже, – словом, довольно давно. Он сам, честно говоря, в детстве не сильно от этой темы страдал, служба в ГУВБ, казалось, выработала у отца устойчивый иммунитет к разговорам о политике, как будто они обязывали его демонстрировать беспрекословную преданность правительству. Отнюдь, он вправе голосовать “как любой другой гражданин”, раздраженно возражал он иногда, и кстати, Поль помнил, что он отпускал весьма резкие замечания в адрес Жискара, Миттерана, а затем и Ширака, покрывших, как ни крути, тридцать с лишним лет политической жизни. Теперь это тогдашнее его осуждение казалось Полю таким яростным, что ему трудно было представить, чтобы отец мог отдать за них свой голос. Интересно, за кого же он голосовал? Очередная загадка, с ним связанная.
Сесиль с мужем голосовали, само собой, за Марин, и уже довольно давно, с тех пор, как она сменила своего отца во главе движения. Сесиль предполагала, что Поль, учитывая, какую должность он занимает, голосует за действующего президента, – и ее предположение, между прочим, было верным, он голосовал за партию президента или за самого президента на всех выборах, ему это виделось “единственным разумным вариантом”, как теперь принято выражаться. Поэтому, чтобы не обидеть его, Сесиль не позволит политической дискуссии зайти слишком далеко, она, как пить дать, уже прочла нотацию Эрве по этому поводу – а Поль знал, что Эрве в молодости участвовал в довольно радикальных движениях типа “Блока идентичности”[17]. На самом деле Поль был вовсе не в претензии – живи он в Аррасе, он бы тоже, скорее всего, голосовал за Марин. За пределами Парижа он хорошо знал только Божоле, процветающий регион, – виноделы, вероятно, единственные из французских аграриев, не считая некоторых производителей зерна, умудрялись не просто не балансировать постоянно на грани банкротства, но даже получать некоторую прибыль. Кроме того, по всей долине Соны располагались многочисленные заводы точной механики, а также автосборочные предприятия, у которых дела шли, пожалуй, неплохо, и они с честью противостояли немецким конкурентам – особенно с приходом Брюно в Министерство экономики. Брюно, совершенно не стесняясь, плевал на свободу конкуренции внутри Европы, шла ли речь о правилах госзакупок или о тарифно-таможенной политике, когда его это устраивало, и в отношении товаров, которые его устраивали, и тут он старался, как и во всем остальном, с самого начала держать себя чистым прагматиком, предоставив президенту расчищать путь и подтверждать при каждом удобном случае свою приверженность интересам Европы, вытягивая губы трубочкой в направлении всех щек всех немецких канцлерш, которые судьба подставляла ему для поцелуя. Все-таки Францию и Германию связывало что-то сексуальное, что-то до странности сексуальное, и уже довольно долгое время.
Сесиль приготовила медальоны из омара, жаркое из кабанятины и испекла яблочный пирог. Все было восхитительно вкусно, она действительно потрясающе готовила, пирог у нее получился вообще улетный – тонкое тесто, хрустящее и в то же время нежное, с точно отмеренным сочетанием вкусов растопленного масла и яблок, где только она всему этому научилась? Сердце разрывалось при мысли, что ей, конечно же, придется скоро посвятить себя совсем другим обязанностям, обидно так растрачивать талант, это настоящая драма на всех уровнях – культурном, экономическом, личном. Эрве, похоже, разделял его диагноз; доев яблочный пирог, он принялся мрачно кивать – ему, разумеется, суждено пасть первой жертвой. Однако он тоже не отказался от рюмки “Гран Марнье”, который Мадлен с радостью налила ему, – интересно, куда делась Сесиль? Она исчезла в самый разгар яблочного пирога. “Гран Марнье” – исключительный ликер, незаслуженно забытый; Поль тем не менее удивился такому выбору: если ему не изменяла память, Эрве всегда был поклонником более терпких вкусов, которые дают арманьяк, кальвадос и другие резкие и невразумительные напитки разных регионов. Наверное, Эрве с возрастом приобрел более женственные вкусы, что показалось ему, в общем, хорошей новостью.
Тут появилась Сесиль с пакетиком, перевязанным ленточкой, и положила его перед ним с застенчивой улыбкой:
– Вот тебе рождественский подарок…
Ну естественно, рождественский подарок, все дарят друг другу подарки на Рождество, как он мог забыть? Он, конечно, полный ноль в семейных отношениях и вообще в отношениях с людьми – да и с животными он тоже не очень ладит. Он развязал ленточку и обнаружил очень красивый металлический футляр, сверкавший неброским серебристым блеском; в нем лежала перьевая ручка Montblanc – Meisterstück 149, отделанная каким-то особым материалом, вероятно, с напылением розового золота, так это называется.
– Ну что ты… это уж чересчур.
– Это от нас с Мадлен, мы с ней скинулись, так что ее тоже поблагодари.
Он расцеловал их обеих, охваченный странным чувством; какой прекрасный подарок, подарок непостижимый.
– Я просто вспомнила, – сказала Сесиль, – что когда-то ты переписывал в тетрадь разные фразы, полюбившиеся тебе изречения известных писателей и время от времени зачитывал их мне вслух.
Внезапно и он вспомнил: да, действительно, было дело. Лет с тринадцати и до последнего класса школы он прилежно выводил каллиграфическим почерком эти фразы, часами корпел над ними, тренируясь на отдельных листочках, прежде чем переписать их в специальную тетрадь. Он как сейчас видел ту тетрадь в твердой обложке с арабской мозаикой. Что с ней сталось, вот вопрос. Может, она так и валяется в его детской, только он начисто забыл, что именно тогда записывал. И тут что-то промелькнуло у него в голове, но не совсем фраза, скорее стихотворная строфа, одна-единственная, внезапно всплывшая из глубин памяти:
Он тут же сообразил, что Дэвид Кросби вставил эти слова в свою песню – впрочем, это даже не вполне песня, а странное сочетание вокальных гармоний без ярко выраженной мелодии, а иногда и без слов, Кросби сочинял их в конце своей карьеры.
Поужинав, они быстро разошлись; Брюно он так и не позвонил. Ладно, теперь уже утром; Поль понятия не имел, что Брюно делает на Рождество. Может, и ничего, Рождество ему наверняка поперек горла. Хотя кто знает, вдруг как раз наоборот, он проводит время с детьми и собирается предпринять самую распоследнюю попытку помириться с женой, так что лучше подождать до двадцать шестого. Ну, он скажет ему, что хочет пробыть в Сен-Жозефе всю неделю.
В легком приятном опьянении он бездумно шагал по застекленному коридору к своей комнате. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел, был постер с изображением Киану Ривза в образе ослепленного Нео из “Матрицы: Революция” с окровавленной повязкой поперек лица, бредущего в каком-то апокалиптическом пейзаже. Поль, что в некотором роде симптоматично, выбрал тогда именно этот его образ, а не один из многочисленных плакатов, на которых он предстает в позе лихого мастера боевых искусств. Он плюхнулся на маленькую, ужасно узкую кровать, а ведь он же спал на ней с разными девицами, ну ладно, с двумя. “Матрица” вышла на экраны за несколько дней до его восемнадцатилетия и сразу привела его в восторг. Должно быть, те же чувства испытала Сесиль два года спустя, посмотрев первую часть “Властелина колец”. Впоследствии многие склонялись к мысли, что первый фильм трилогии “Матрица” – единственный по-настоящему интересный, благодаря новаторскому визуальному решению, потом это уже превратилось в повторение пройденного. Поль не разделял такую точку зрения, не учитывавшую, на его взгляд, сценарную конструкцию. В большинстве трилогий, будь то “Матрица” или “Властелин колец”, вторая часть провисает, а вот в третьей возрастает драматический накал и доходит просто до апофеоза в “Возвращении короля”; в “Матрице: Революция” роман Тринити и Нео, поначалу немного неуместный в фильме для нердов, в конечном счете начинает волновать по-настоящему, в основном благодаря игре актеров, по крайней мере, так он думал в то время, и так же он думал, проснувшись утром 25 декабря, почти двадцать пять лет спустя. Над покрытыми инеем лугами уже занимался рассвет, он пошел в гостиную сделать себе кофе. Его немного мутило, но голова совсем не болела, даже странно, учитывая, сколько он выпил накануне. Сесиль собиралась заехать к отцу после полудня; других планов на сегодня у нее не было. Сделав первый глоток, он снова вспомнил “Матрицу”, и вдруг у него перехватило дыхание, и он застыл на месте, настолько это показалось ему очевидным: Прюданс невероятно похожа на актрису Керри-Энн Мосс, сыгравшую Тринити. Он бросился обратно в комнату и быстро отыскал альбом, в котором хранил фотографии из фильма: ну конечно, это очевидно, с ума сойти, как же он раньше не догадался? Поль был ошеломлен, вот бы никогда не подумал, он же не такой, напротив, он всегда считал себя человеком довольно холодным, рациональным. В комнате становилось светлее, он мог теперь рассмотреть все детали своего юношеского жилища, начиная с огромного постера “Нирваны”, еще старше “Матрицы”, Поль, наверное, приобрел его совсем еще подростком. “Матрицу” он, кстати, с удовольствием пересмотрел бы; с “Нирваной” – все сложнее, тем более он теперь почти не слушал музыку, разве что григорианское пение, да и то если выдавался тяжелый рабочий день, что-нибудь типа Christus Factus Est и Alma Redemptoris Mater, ничего общего с Куртом Кобейном, в чем-то человек меняется, а в чем-то – нет, только на такое немудрящее умозаключение его и хватило в то рождественское утро. А вот Керри-Энн Мосс нравилась ему по-прежнему, и даже сильнее, чем когда-либо, и, просматривая сейчас эти фотографии, он испытывал те же, не утратившие остроты, чувства, что и когда-то давно, молодым человеком, но ему никак не удавалось понять, следует ли этому радоваться. Он сделал себе вторую чашку кофе, и тут ему пришла в голову идея откопать тетрадку, о которой говорила вчера Сесиль, ту самую, куда он записывал любимые изречения. После четверти часа бесплодных поисков он вспомнил, что выбросил ее вскоре после того, как решил готовиться к вступительным экзаменам в ЭНА, наутро после катастрофической ночи, ход которой ему не удавалось восстановить полностью, но у него стоял перед глазами мусорный бак на улице Сен-Гийом, в который он эту тетрадку и швырнул. А жаль, он мог бы узнать побольше о себе, наверняка же были, подумал он, какие-то ранние предзнаменования, упреждающие знаки судьбы, и, как знать, вдруг он сумел бы их расшифровать сейчас в подтексте выбранных им высказываний; правда, те немногие из них, что ему удалось выудить из памяти, не слишком обнадеживали, речь шла все же о несчастном короле, короле, разбитом и униженном англичанами, потерявшем почти все свое королевство. Да и судьбе Нео тоже не особо позавидуешь, не говоря уж о Курте Кобейне.
За окном совсем рассвело, наступал новый прекрасный зимний день, ясный и лучезарный. От потоков прошлого, медленно захлестывавших его по мере того, как он заново открывал для себя окружающие предметы, ему стало дурно, и он вышел на воздух. Дом великолепно смотрелся в утреннем свете, стены из золотистого известняка сверкали на ярком зимнем солнце, но все-таки было очень холодно. Ему не хотелось возвращаться к себе, не так сразу, и он направился в комнату Сесиль, там хоть будет не так тяжело. Он знал, что она не рассердится, ей никогда и скрывать-то было особенно нечего, это вообще ей несвойственно.
У нее вместо “Нирваны” был Radiohead; вместо “Матрицы” – “Властелин колец”. Она старше его всего на два года, но этим вполне объясняется разница вкусов, тогда все еще менялось достаточно стремительно, не так стремительно, конечно, как в шестидесятые годы или даже в семидесятые, замедление и обездвижение Запада, прелюдия к его уничтожению, развивались постепенно. Он больше не слушал “Нирвану”, но подозревал, что Сесиль все еще, время от времени, слушает старые композиции Radiohead, и тут он внезапно вспомнил Эрве в возрасте двадцати лет, в тот момент, когда они с Сесиль познакомились. Он тоже был фанатом “Властелина колец”, даже упертым фанатом, и знал некоторые фрагменты фильмов наизусть, в частности тот, где открываются Черные врата, прямо перед финальной битвой. И еще он вспомнил, как Эрве, став перед ними столбом, шпарил наизусть речь Арагорна, сына Араторна. Начал он с того, как Арагорн, подойдя к вратам в сопровождении Гэндальфа, Леголаса и Гимли, своих верных соратников, громким голосом бросает последний, благородный рыцарский вызов:
Врата действительно открылись, исторгнув в долину несметные полчища темных сил – они значительно превосходили их по численности, и ужас обуял войска Гондора. Арагорн и его спутники отступили, а затем он обратился к своим солдатам, и это воззвание Арагорна, безусловно, один из самых прекрасных моментов фильма:
Сыны Гондора, Рохана, мои братья!
Я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род людей и мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы.
Но только не сегодня!
Эрве повторял последнюю фразу по-английски, иначе никак нельзя передать интонацию Вигго Мортенсена, осознавшего, что битва хоть и обречена, но необходима, его отчаянное упорство, его мужество: BUT IT IS NOT THIS DAY!
Почему Поль так хорошо запомнил эту сцену, притом что к нему лично это не имело никакого отношения? Наверняка потому, что именно в ту минуту он понял, что его младшая сестра на глазах влюбляется в Эрве. Сам он еще никогда не влюблялся, хотя и переспал к тому моменту с полудюжиной девиц, они были ему симпатичны, не более того, но тут он увидел, какая откровенная, мощная сила бьется во взглядах, которые его сестра бросает на Эрве, неведомая ему сила.
Может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат Эпохи Людей. Но только не сегодня! BUT IT IS NOT THIS DAY!
Сегодня мы сразимся! За все, что вы любите на этой славной земле.
И снова Эрве продекламировал оригинальную версию, перевод был неплохой, но все-таки в подметки не годился английскому тексту By all that you hold dear on this good earth. И наконец, прозвучали последние слова, призыв к оружию:
Зову вас на бой, люди Запада!
Эрве, разумеется, состоял в “Блоке идентичности” в то время и считал, что силы Мордора вполне олицетворяют мусульман, Реконкиста в Европе еще не началась, но своим фильмом уже обзавелась, наверняка именно такой и была его картина мира. Интересно, участвовал ли он в откровенно незаконных или насильственных действиях. Поль так не думал, ну, то есть сомневался, Сесиль, вероятно, все знала, но он не стал задавать ей вопросов. В любом случае нотариальные штудии слегка охладили его пыл. Ну, может, не совсем, в Эрве все еще ощущалось какое-то странное бунтарство, что-то не до конца прирученное, трудно поддающееся определению. Отец всегда его любил, зять его не разочаровал, и свадьбу отпраздновали пышно, с повозками, катящими по холмам Божоле и прочими подобными затеями, совершенно несоразмерными его жалованью. Отец всегда предпочитал Сесиль, вот в чем дело, Сесиль с детства была его любимицей, и, в сущности, Поль ничего не мог на это возразить: Сесиль и впрямь достойна предпочтения просто потому, что является человеческим существом лучшего качества[20].
Теперь ситуация внезапно перевернулась, отец очутился в положении ребенка, а то и младенца, но Сесиль справится с этой ситуацией, она же в самом расцвете сил, и ее с толку не собьешь, Поль был уверен, что отец никогда не окажется в ситуации бедных старушек, которые часами плавают в собственной моче и дерьме, дожидаясь, пока медсестра или санитарка подобрее прочих зайдет поменять им подгузник. При мысли о том, какая участь ожидала бы отца, не будь рядом Сесиль и Мадлен, Поль впал в некоторое уныние и решил прогуляться по виноградникам. Виноградники в это время года вообще-то не бог весть что: жалкие, скрученные, почерневшие штуковины, довольно уродливые, пытающиеся пережить зиму, сохранив свое нутро; сейчас ну никак нельзя было вообразить, что из этих мерзких загогулин впоследствии родится вино, все-таки странно устроен мир, думал Поль, петляя между лозами. Если Сесиль права и Бог действительно есть, то он мог бы поделиться своими планами, Бог – скверный пиарщик, такое дилетантство неприемлемо в профессиональной среде.
4
На Рождество в больнице было полно народу, что неудивительно, для большинства посетителей это ежегодный праздник человеколюбия, правда, их ненадолго хватит, максимум до завтра, а скорее всего, просто до вечера. Медсестра, та же, что и накануне (может, она дежурит все праздники?), выглядела усталой, но компетентность и доброжелательность ей не изменили. Дверь в палату была закрыта.
– Санитарки его моют, – сказала она, – это займет минут пятнадцать.
Мадлен принесла отцу в подарок коробку сигар “Золотая медаль № 1”. Поль помнил эти длинные, довольно тонкие сигары, panatelas, отец всегда с трудом доставал их, они производились на небольшой малоизвестной фабрике “Ла Глория Кубана”, он считал их лучшими сигарами в мире, гораздо лучше, чем “Кохиба” и “Партагас”.
– Я, разумеется, просто ему их покажу и дам понюхать, не оставлять же их в больнице, – сказала Мадлен; очевидно, она не слишком доверяла здешнему персоналу.
В этом удивительном подарке был свой смысл, потому что сенсорные способности отца, включая обоняние, полностью восстановились. По крайней мере, он мог видеть, медсестра авторитетно это заявила, и узнавать то, что видит. Он также понимал обращенные к нему слова, Сесиль, во всяком случае, ничуть в этом не сомневалась и пустилась в долгое повествование о том, как они провели сочельник, как вся деревня справлялась о его здоровье, она описала рождественское меню и подарок, который они преподнесли Полю; она рассказала и об Эрве, не уточнив, правда, что он сидит без работы. Поль слушал сестру вполуха и внезапно решился.
– Можешь оставить нас? – попросил он. – Можешь оставить нас на минутку?
Она ответила, что да, конечно, и сразу же вышла вместе с Мадлен. Он сделал глубокий вдох, посмотрел отцу прямо в глаза и заговорил. Он ничего специально не планировал, ничего особенного, ему казалось, что он несется вниз по склону, и все так же, не отрываясь, смотрел на отца, глаза в глаза. Прежде всего, он завел речь о Брюно, ему это было важно. Он говорил о нем долго, упомянул предстоящие президентские выборы, а также странные сообщения, заполонившие интернет-сайты по всему миру, полагая, что отец, будучи в прошлом агентом ГУВБ, может этим заинтересоваться. Он говорил о Прюданс, что, как выяснилось, сложнее всего, отец всегда недолюбливал Прюданс, Поль это знал, пусть даже он почти никогда не высказывался по этому поводу. Только однажды, всего один раз, поздно ночью (почему вдруг они оба бодрствовали в три часа ночи? всего не упомнишь), он вдруг выдал: “Я не уверен, что эта женщина тебе подходит. – И тут же прибавил: – Впрочем, я не уверен и в том, что тебе подходит ЭНА. В данный момент я не вполне понимаю, какое направление ты собираешься задать своей жизни. Но это, конечно же, твоя жизнь”.
Ну и под конец Поль сказал, что сожалеет, что у него нет детей, и испытал настоящий шок, услышав эти слова из своих уст, потому что он никогда себе в этом не признавался, более того, это у него вырвалось совершенно случайно, он-то всегда был убежден в обратном. Он никогда не разговаривал с отцом по душам, когда тот был в здравом уме и твердой памяти, и ему этого очень не хватало на разных этапах его жизни. Он пытался, и не раз, но у него ничего не получалось. Сейчас отец сидел с благоговейно застывшим выражением лица, устремив взгляд на неопределенную точку в пространстве, он витал в иных пределах, в нем явно появилось что-то от призрака, да и от оракула тоже.
Он говорил еще долго и вышел из палаты в состоянии крайнего душевного смятения. Сесиль и Мадлен уже не было в коридоре, зато он тут же наткнулся на медсестру. Она озабоченно взглянула на него.
– Вам нехорошо? Вы… – начала она. – Трудно вам пришлось? – Ну разумеется, подумал Поль, она, наверное, привыкла, что у людей крыша едет после посещения родителей, братьев или детей в таком состоянии, для нее все это в порядке вещей. – Может, передохнете в свободной палате?
Он ответил, что нет, что сейчас придет в себя. На самом деле он вовсе не был в этом уверен.
– Знаете, ведь ваш папа недолго пробудет с нами… – сказала она еще любезнее. – У вас же в понедельник назначена встреча с главврачом, да? – Поль кивнул. – Он вышел из комы, но у него есть только элементы сознания; думаю, ему попытаются найти место в отделении ХВС-СМС.
– Что такое ХВС-СМС?
– ХВС – это хроническое вегетативное состояние, в котором сейчас находится ваш папа: никаких реакций, никакого взаимодействия с миром. СМС – состояние минимального сознания, когда пациент начинает немного реагировать и совершать осознанные движения, обычно все начинается с глаз. Я несколько лет проработала в ХВС-СМС; мне там понравилось, как правило, им заведуют хорошие люди, они стараются уделить внимание каждому пациенту. Нам сложнее, у нас тут неотложная помощь, интенсивная терапия, пациенты не задерживаются надолго, мы не успеваем узнать их поближе. Я уверена, что ваш папа очень интересный человек.
Она, надо отметить, не сказала “был”; да и вообще, откуда ей знать?
– У него интересное лицо, на мой взгляд, красивое лицо. Кстати, вы ужасно на него похожи.
Что она имеет в виду? Уж не клеит ли она его? А что, вполне себе красотка, лет двадцати пяти – тридцати, со светло-русыми, слегка вьющимися растрепанными волосами, да и фигура у нее что надо, больничный халат выгодно ее подчеркивает, но в остальном она явно не в себе, судя по ее нервным жестам, ей не терпится закурить, видимо, она чем-то озабочена, курение – верный признак, он сам стал курить гораздо больше после того, как отца разбил инсульт, особенно когда собирался к нему в больницу. Может, у нее с бойфрендом проблемы и она в нем не уверена? И поэтому ищет себе преданного, остепенившегося сорокалетнего мужика, то есть кого-то вроде него? Что за чушь в голову лезет, пора найти Сесиль.
– Ваша сестра, по-моему, спустилась в кафетерий с подругой вашего папы, – сказала она, словно прочла его мысли.
Он попрощался, подумав при этом, что отец старше Мадлен лет на двадцать – двадцать пять и что он-то на его месте уж точно бы сейчас своего не упустил; по мере того, как он спускался по лестнице в кафетерий, его все сильнее охватывало ощущение, что он полный мудак.
На столике перед Мадлен и Сесиль стояли тарелки с ломтиками яблочного клафути и бутылки с минералкой. К ним присоединился Эрве с хот-догом и пивом. Сесиль, видимо, ждала Поля, и, увидев, как он входит в зал, не спускала с него глаз, пока он шел к ним.
– Тебе явно было что сказать папе… – заметила она, когда он сел.
– В смысле?
– Ты провел с ним больше двух часов… – В ее голосе не прозвучало упрека, она была просто заинтригована. – Ну, я уверена, что ты поступил правильно, я уверена, что тебе это было необходимо, а уж ему и подавно. Пошли с ним попрощаемся – и домой. У нас назначена встреча с главврачом на девять утра в понедельник.
5
В субботу утром погода испортилась, но Поль любил эти пейзажи ничуть не меньше, когда их застилал туман, и долго гулял по холмам и виноградникам. Вернувшись, он позвонил Брюно и объяснил ему ситуацию; как он и ожидал, тот вовсе не возражал против его недельного отпуска. Ничего важного прямо сейчас не произойдет, а вот в начале января им будет чем заняться, дольше тянуть нельзя; президент, вероятно, намекнет о преемнике в своем новогоднем обращении, все может быть. Кстати, видео с постановочным обезглавливанием Брюно отовсюду исчезло, его уже нельзя отыскать в сети – Мартен-Рено сдержал свое обещание.
Он звонил ему из зимнего сада, небольшого восьмиугольного помещения со стеклянными стенами, уставленного фикусами, бегониями, гибискусами и другими более или менее тропическими растениями, названия которых он не знал. Тут можно было выпить кофе за маленьким инкрустированным столиком и насладиться великолепным видом на окрестный пейзаж. Брюно “ничего особенного на Рождество не делал”. Значит, он ошибся: Брюно не увиделся с детьми, не попытался наладить отношения с женой. И надо полагать, уже не попытается, никогда впредь не заговорит об этом, вообще люди редко объявляют о предстоящем разводе. А ему хорошо бы развестись побыстрее, до того, как избирательная кампания запустится по-настоящему, но уже, вероятно, слишком поздно; Поль не стал затрагивать эту тему. Разъединившись, он вдруг почувствовал себя ужасно одиноко. И даже подумал, не позвонить ли Прюданс, она уже наверняка вернулась со своего саббатического уикенда, так, что ли, это называется? Но почему-то удержался в последний момент.
Мадлен и Сесиль приехали к полудню. После обеда показалось солнце, постепенно рассеивая туман. Мадлен объявила, что собирается покататься на велосипеде, она любила кататься на велосипеде летом и зимой, в окрестностях было несколько невысоких перевалов, не то чтобы очень сложных перевалов, но все же. “Ваш отец часто меня сопровождал, – сказала она Полю, – он хорошо вкручивал для человека его возраста”. Он непонимающе посмотрел на нее, но тут же вспомнил, что велосипедисты-любители говорят “вкручивать” вместо “кататься”; это тесное братство, объединенное общими ценностями и устоявшимися ритуалами. Он и не подозревал, что отец проводил свой досуг таким образом, и почувствовал, как в нем растет восхищение подобной включенностью в социальную жизнь. Видимо, иногда конец жизни бывает не совсем уж несчастливым, подумал он, удивительное дело. Мадлен понемногу начала с ним разговаривать и уже не так робела в его присутствии. Увидев, как она возвращается в велосипедной майке и шортах, плотно облегающих ее формы, Поль внезапно поверил, что у них с отцом все еще была сексуальная жизнь, по крайней мере до его инсульта.
Почему он сам за десять лет не переспал ни с одной женщиной после разлада с Прюданс? Потому что профессиональная жизнь не располагает к такого рода занятиям, ответил он сам себе поначалу. Но через несколько секунд осознал, что это всего лишь отговорка, некоторые его коллеги – очень немногие, конечно, но все же – по-прежнему вели активную половую жизнь. Воспоминания о самом процессе у него еще сохранились, такое не забывается, совсем как езда на велосипеде, подумал он немного невпопад, когда Мадлен вышла из комнаты, а вот необходимые прелюдии, к нему ведущие, показались ему чрезвычайно далекими и фантасмагорическими, скорее из области преданий либо из прошлой жизни.
В конце дня он столкнулся с Эрве, и тот предложил выпить перед ужином. Он сразу согласился, он всегда рад был выпить, даже слишком рад, и это принимало угрожающие масштабы, никотин и алкоголь, возможно, быстро его прикончат, так что проблема конца жизни отпадет сама собой. Эрве тоже гулял все утро и кое с кем пообщался, его еще тут узнавали, короче, ему очень нравились эти места, он уже прикидывал, не перебраться ли сюда им с Сесиль. Он родился в Денене, его родители родились в Денене, он никогда не покидал Нор-Па-де-Кале, но пора признать очевидное: Нор-Па-де-Кале – это отстой, у него нет шансов найти работу в Нор-Па-де-Кале, а вот здесь, кто знает, вдруг что-то и подвернется. И потом, дочки выросли, у них теперь своя жизнь, сказал он с ноткой печали в голосе. Любопытно, подумал Поль, что поделывают его племянницы, он не видел их уже лет шесть-семь, есть ли у них “молодой человек”, если так еще говорят, впрочем, их отец, надо думать, ничего о них не знает. Во всяком случае, Сесиль вроде бы почти нашла работу, продолжал Эрве, работу кухарки на дому, она посмотрела в интернете – в Лионе довольно много предложений, и ее точно возьмут, она всегда хорошо готовила, можно не волноваться. Поль понятия не имел, что существует такая работа; Эрве тоже узнал о ней только сейчас. Буржуа, ну, в общем, состоятельные люди, хотят, допустим, пригласить друзей к себе на ужин, а готовить не умеют, тогда они нанимают повара. А состоятельных людей в Лионе хватает, не то что в Валансьене или Денене.
От всего этого Поль впал в тоску и пошел спать сразу после ужина. Он очутился на первом этаже огромного обветшавшего здания в компании женщины из народа, средних лет, с круглым лицом и крепкими руками и ногами. Надо сказать, что во сне он тоже был выходцем из самого что ни на есть обнищавшего пролетариата и разговаривал с женщиной о том, что на верхние этажи, предоставленные высшим слоям общества, им путь заказан. Затем появился молодой отважный парень с иссиня-черными волосами, возможно, корсар или бывший корсар. Верхние этажи на самом деле охраняются кое-как, сообщил он, да и встреча с охранниками реальной опасности не представляет. Он говорил уверенно, словно мотался туда-сюда каждый божий день. Тогда они пошли наверх, но на каждой лестничной площадке им приходилось перепрыгивать через груды беспорядочно сваленных чемоданов, между которыми зияли дыры, что было как раз опасно, а молодой человек куда-то испарился, и Поль вынужден был взять на себя роль проводника.
В итоге они добрались до последнего, самого опасного этажа, на этот раз им предстояло пересечь большое пустое пространство. Поль успешно его перепрыгнул и тут же обернулся, чтобы помочь своей спутнице, но бабу из народа сменила молодая, динамичная и современная особа с ухоженной кожей из дирекции по маркетингу. С ней было двое маленьких детей. Не заботясь о собственной безопасности, Поль протянул ей руку через провал, но его все-таки сбила с толку эта подмена. Когда она успешно выполнила прыжок, настала очередь старшего ребенка, но тут пустое пространство сократилось, и, соответственно, снизилась и опасность прыжка. Наконец настал черед младшего, и тут Поль с отвращением обнаружил, что пустое пространство куда-то делось, уступив место слегка покатому паркету, по которому ребенок мог легко проползти на четвереньках. Однако по настоянию матери он скрепя сердце похвалил младенца, который в это мгновение обернулся собакой, хорошенькой собачонкой, беленькой и чистенькой.
Последний лестничный пролет вел, как оказалось, в курортную зону, на огромный бескрайний пляж, запруженный, к сожалению, толпой любителей спортивного отдыха, шумных и вульгарных. Они, судя по всему, прекрасно проводили время, то и дело испускали какие-то животные крики, притом что небо затянули большие темные тучи, на море поднялись волны да и заметно похолодало. Ему пришлось пройти не один километр, чтобы наконец вырваться из толпы отдыхающих, внизу перед ним простиралась долина, по ней тек почти пересохший ручей и впадал в океан. Долину окружали довольно крутые стены из больших шершавых бетонных блоков. Он бросился в пустоту и замер в нескольких сантиметрах от земли, потом стал вращаться против часовой стрелки, по-прежнему держась чуть выше стены; этот полет принес ему невероятное облегчение. На мостике, перекинутом через высохший ручей, стоял молодой человек с напряженным лицом, явно ожидая разгадки, и наблюдал за ним с выражением почтительного восхищения. Тогда Поль выпрямился в воздухе и объяснил ему, как мог, механизм вращения в состоянии невесомости, но вскоре вынужден был с ним распрощаться и направился в стеклянный дом, средоточие курортной суеты. Этот особняк стоял посреди ухоженного французского парка, отличавшегося одним любопытным свойством: внутри толклись исключительно любители спортивного отдыха, шумные и вульгарные, но стоило им выйти наружу, как они превращались в веселых белых собачек. В тот момент, когда Поль осознал идентичность этих двух превращений, он понял, что стеклянный особняк всего лишь иная ипостась огромного обветшавшего здания, откуда он недавно вырвался. Он снова почувствовал сильнейшее отвращение и тут вдруг перенесся в просторное горное шале, оказавшись на этот раз в компании австрийской школьной учительницы, которая, он точно это знал, через несколько часов станет его любовницей, еще до наступления ночи. Они проникли в шале тайком и сели поесть, чтобы набраться сил. Погода не изменилась, небо затянули тучи, чувствовалось, что оно сейчас совсем почернеет, воздух отяжелел от снега; они огорчились, по идее, они ехали сюда за солнцем. С ними был отец Поля, но они догадывались, что в отличие от них он тут живет постоянно и уже с этим смирился, ему даже нравится. Огромный дом, мебель из темного дерева, печальная гора, короткие морозные дни: можно не сомневаться, он проведет тут всю оставшуюся жизнь, ему и в голову не придет жить где-то еще. Незаконность их пребывания в шале оказалась несущественной деталью, поскольку хозяева уехали в путешествие и больше сюда не вернутся. Австрийская школьная учительница куда-то делась, Поль понимал, что она уже никогда не станет его любовницей, что он тоже застрянет в этом доме вместе с отцом до конца своих дней.
В утренние часы окрестный сельский пейзаж утопал в густом тумане. Когда он зашел на кухню, где был накрыт завтрак, Сесиль спросила, не хочет ли он пойти с ними к мессе. Нет, вряд ли, две мессы в неделю – пожалуй, перебор для неверующего, ну, агностика, отговорился Поль. Он добавил, правда, что рождественская служба ему “очень понравилась”, понимая, что смысла в его словах немного. Вместо мессы он пошел прогуляться. Выйдя за порог, он двинулся сквозь осязаемую молочно-белую массу, в нескольких метрах перед ним – уже в двух-трех метрах, если точнее, – ничего не было видно, нереальное ощущение, но, пожалуй, приятное, он шагал так еще четверть часа, пока наконец не испугался, что еще немного, и он точно заблудится. Тогда он повернул обратно к дому и наткнулся на него чисто случайно, как ему показалось. Он снял с крючка ключ и направился в кабинет отца, он не заглядывал туда уже лет двадцать, а то и больше, вообще-то Поль всего раз в жизни заходил внутрь, в тот знаменательный день, когда отец решил что-то объяснить ему про свою работу. Это произошло ровно тридцать лет назад, почти день в день – для такого разговора отец выбрал первое января. При этом он все прекрасно помнил и сейчас понял, что обстановка тут почти не изменилась – добавились разве что компьютер и принтер, и все. На книжных полках стояло несколько справочных изданий – профессиональные адресные книги и тематические атласы минеральных и гидрографических ресурсов планеты. Отдельно на верхней полке виднелись папки – вероятно, те самые, о которых ему говорил Мартен-Рено. Пять картонных папок, ничего особенного на первый взгляд. Вот, значит, где хранятся загадочные данные, над которыми размышлял отец до самых последних дней. Ему не хотелось их открывать – все равно он ничего не поймет. Он тщательно запер за собой дверь, вернулся в главный дом, повесил ключ обратно на стойку и взял другой.
Бывший амбар, служивший его матери мастерской, – совсем другое дело, он заходил туда время от времени, без особого удовольствия, когда надо было позвать ее к столу, под конец она совершенно забросила хозяйство, и все заботы по дому взяла на себя Сесиль. Проведя большую часть своей профессиональной жизни за реставрацией гаргулий и химер в многочисленных церквях, аббатствах, базиликах и соборах Франции, она чуть ли не в сорок пять лет решила посвятить себя художественному творчеству и утратила всякий интерес к домашнему очагу. Стену слева от входа оформила другая художница, знакомая матери, Поль помнил ее, она у них останавливалась, та еще уродина, высокая и худая, она почти не открывала рта, зато воспылала страстью к местным камням, золотистому известняку, столь характерному для Божоле. Она работала с тяжелыми крупными камнями, из которых сложены стены амбара, сантиметров двадцать высотой. На каждом из них она вырезала человеческие лица, выражавшие то испуг, то ненависть, иногда на грани агонии, гораздо реже усмехающиеся или язвительные. Получилось впечатляющее, весьма выразительное произведение, и от страданий, исходивших от этой стены, перехватывало дыхание. А вот скульптуры матери – многие из них так и лежали в амбаре – Поль не любил, никогда не любил. Готические фигуры, на реставрацию которых она потратила большую часть жизни, несомненно, оказали на нее влияние, в основном она создавала фантастических существ, чудовищных полуживотных-полулюдей, довольно-таки непристойных, с несоразмерными вульвами и пенисами, как у некоторых гаргулий, но в ее манере чувствовалась какая-то искусственность, надуманность, ее творения напоминали не столько средневековые изваяния, сколько мангу, впрочем, не исключено, что это он ничего не смыслит в искусстве, он никогда не интересовался японскими комиксами, которые, между прочим, многие ценят очень высоко; работы его матери имели, конечно, определенный успех, но особо не котировались, некоторые из них все же покупали ФРАКи[21] и региональные советы, иногда для оформления кольцевых развязок, в специализированных журналах появилось несколько статей о ней, и благодаря одной такой статье – на самом деле это самый страшный упрек, который можно было бы адресовать матери и ее работам, – его брат Орельен познакомился со своей будущей женой. Инди, в то время сравнительно молодая журналистка – если вообще журналистка бывает молодой, – написала весьма хвалебную, даже восторженную статью, творчество его матери было представлено в ней самым ярким примером новой феминистской скульптуры – но в данном случае мы имели дело с дифференциальным феминизмом, диким и сексуальным, сродни движению ведьм. Такого направления в искусстве не существовало, она придумала его специально для статьи, которая, впрочем, читалась не без удовольствия, эта сучка владела пером, как говорится, и вскоре, кстати, ушла из этого второсортного художественного журнала в раздел “Общество” крупного левоцентристского news magazine. Надо сказать, она искренне восхищалась его матерью, и это было, пожалуй, единственным искренним чувством в ее поступках, Поль никогда не верил в любовь этой женщины к Орельену, ни секунды не верил, такая женщина уж точно не могла полюбить Орельена, эта женщина ненавидела слабаков, а Орельен – слабак, всю жизнь был слабаком, он благоговел перед матерью, сам будучи не в состоянии каким-либо образом утвердиться в жизни или вообще просто жить, Инди, само собой, ничего не стоило превратить его в подкаблучника, но все же это недостаточно веская причина, чтобы выйти замуж, и тут возникали вопросы. Возможно, она надеялась, что цены на произведения их матери взлетят до заоблачных высот и в будущем ей перепадет что-нибудь от доставшегося Орельену вполне приличного наследства, да, наверняка так оно и есть, на это она и рассчитывала, с такой дуры станется. Расчеты не оправдались, цены на скульптуры матери оставались на достаточно разумном, респектабельном уровне, но поводов прыгать до потолка от радости не наблюдалось. Поэтому Инди начала проявлять некоторые признаки разочарования, что выражалось во все более пренебрежительном отношении к мужу.
Поль никогда не любил Орельена по-настоящему, впрочем, и ненавидеть его было не за что, в сущности, он плохо его знал и никогда не питал к нему никаких чувств, кроме, пожалуй, туманного презрения. Орельен родился гораздо позже его и Сесиль и вырос в интернете и соцсетях, он принадлежал к абсолютно другому поколению. Когда, кстати, он родился? Поль понял, что забыл дату рождения брата, и смутился; короче, у них большая разница в возрасте. Сесиль иногда пыталась преодолеть этот разрыв, в отличие от него. Орельен был еще совсем ребенком, когда Поль уехал из родительского дома, и он с трудом отличал это существо от домашнего животного; он, собственно, никогда не отдавал себе отчета в том, что у него есть брат.
Значит, они появятся во второй половине дня тридцать первого со своим говнюком сыночком, это надо просто перетерпеть, правда, терпеть придется довольно долго, ведь тридцать первого числа немыслимо лечь спать до полуночи, ну ничего, как-нибудь он справится, можно, например, нажраться к середине дня, благодаря выпивке удается выдержать практически что угодно, в том-то и заключается одна из главных проблем с выпивкой.
Через некоторое время он вышел из амбара, так и не взглянув, подумал он, запирая дверь на висячий замок, ни на одну работу матери. Было уже три часа дня, он совсем забыл про обед, и Сесиль не преминула попенять ему, когда он вошел в гостиную. Она права, забыл, так что ему пришлось ограничиться двумя ломтиками запеченного паштета с корнишонами, сопроводив их маленькой бутылочкой “Сент-Амура”. Сесиль и Эрве смотрели воскресную программу Мишеля Дрюкера; он стал свидетелем супружеского ритуала, общего для миллионов супружеских пар их возраста или постарше по всей Франции. То есть сегодня либо Мишель Дрюкер, либо ничего; один черт, на самом деле. Когда он выходил, они сидели, держась за руки, и внимали популярному телеведущему.
6
– У меня для вас хорошие новости, – объявила главврач и замолчала, словно забыла, что там дальше. Сама она, похоже, не слишком хорошо себя чувствовала, даже совсем плохо, откровенно говоря, видимо, провела ужасную рождественскую ночь, наверное, вечером двадцать четвертого декабря вылезли наружу глубинные семейные конфликты и только усугубились в последующие праздничные дни. Впрочем, ее буржуазная надменность никуда не делась, и рано или поздно она придет в себя, Поль очень на это рассчитывал; в этот понедельник, двадцать восьмого декабря, в больнице Сен-Люк царила тишина, а пациенты, если еще и умирали, то явно в замедленном темпе. – Пребывание вашего отца в нашем отделении более не является целесообразным, – она постепенно справлялась с собой, сосредотачивалась на чисто профессиональных вопросах, – и это первая хорошая новость, вопрос о реанимации уже не стоит, его жизни ничто не угрожает.
Она сказала “отец”, а не “папа”, отметил про себя Поль, может, у нее и правда возникли семейные проблемы на Рождество, он чуть ли не симпатией проникся к этой буржуазной курице.
– Вашего отца пора переводить в соответствующее отделение.
– Ну да, в ХВС-СМС… – машинально откликнулся Поль.
Главврачиха помрачнела.
– Вам-то откуда знать? – ледяным тоном спросила она. – Что вы понимаете в ХВС и СМС?
– Да ничего, наверное, просто прочел в интернете, – поспешил ответить он, прикинувшись чайником. Главврачиха вроде успокоилась, но при этом помрачнела еще больше, ей это даже шло.
– Ну да, интернет, сайт “Доктиссимо”, я знаю, от них один вред. – Поль кивнул со смесью раскаяния и энтузиазма, он был счастлив сыграть роль современного идиота, подсевшего на “Доктиссимо”, теории заговора и fake news, в это мгновение он чувствовал, что готов на многое ради того, чтобы ее успокоить. Но она все-таки еще помялась, прежде чем вспомнила, что собиралась им сообщить.
– Главная новость, – выдала она наконец, – состоит в том, что у нас для вашего папы есть место в ХВС-СМС. – Вот и “папа” тут как тут, возможно, это хороший знак, сказал себе Поль, ну в общем, какой-то знак. – Только что освободилось место в больничном центре Бельвиля, – продолжала она. – Думаю, вас устроит Бельвиль-ан-Божоле, ведь это не так далеко от вашего дома, верно?
У нее, конечно, не было времени заглянуть в историю болезни отца, Бельвиль находится всего в десяти километрах от Сен-Жозефа, им такая удача и не снилась, но тут их разговор прервал протяжный вопль Мадлен, вопль радости, их собеседница не сразу, но все-таки это поняла и замолчала, просто ожидая, пока вопль иссякнет. Они сомневались, брать ли Мадлен с собой, но Сесиль пресекла все возражения: в конце концов, ее это касается прежде всего, заметила она, и, разумеется, была права, тем не менее между главврачихой и Мадлен обозначился gap, культурный диссонанс, и Поль мысленно поблагодарил Сесиль, когда она заговорила, выразив эмоции всех присутствующих:
– Да, мы очень довольны, мы и мечтать о таком не смели. Когда вы рассчитываете его перевезти?
Главврачиха удовлетворенно кивнула, но все же она не закончила свой доклад, а ей нравилось заканчивать свои доклады.
– Это небольшое отделение, примерно на сорок коек, созданное в соответствии с циркуляром Кушнера[22] от 3 мая 2002 года… – тихо проговорила она, им-то, разумеется, невдомек, что этот циркуляр был последним, подписанным лично Бернаром Кушнером прямо перед тем, как ему пришлось покинуть свой пост из-за президентских выборов, второй тур которых должен был состояться через два дня, пятого мая, для нее это стало настоящим потрясением, потому что всю свою юность она была влюблена в Бернара Кушнера, влюблена по уши, что и склонило ее к решению пойти в медицину, более того, у нее в памяти осталось немного стыдное полувоспоминание о том, как, записавшись на медицинский факультет, она в тот же вечер мастурбировала перед красовавшимся в ее комнате плакатом с изображением Бернара Кушнера, выступающего на митинге, хотя это был всего лишь митинг соцпартии, у него даже знаменитого мешка с рисом в руках[23] не было. – Как это часто бывает, у них отделение ХВС-СМС примыкает к дому-интернату престарелых и инвалидов, ДИПИ, – продолжала она, с трудом приходя в себя и чувствуя, как что-то вязкое и мокрое разливается у нее в промежности, нет, лучше ей избегать воспоминаний о Бернаре Кушнере. Подышав секунд тридцать глубоко и размеренно, она овладела собой. – Да, я знаю, – сказала она, обращаясь к Сесиль, – у ДИПИ плохая репутация, и они вполне ее заслуживают, действительно, в массе своей это отвратительные богадельни, мне, наверное, не пристало так говорить, но я считаю, что ДИПИ – это позор французского здравоохранения. Тем не менее у нас ХВС-СМС автономное отделение, по крайней мере в плане терапии. Так получилось, что я знакома с доктором Леру, который им руководит, он хороший человек, уверяю вас. Ваш папа будет получать все необходимое лечение, я нисколько в этом не сомневаюсь. Ему не понадобится трахеотомия, чтобы дышать, и это уже немало. Единственная загвоздка состоит в том, что у него полностью отсутствует движение глазных яблок, а именно движение глазных яблок позволяет восстановить коммуникацию, в большинстве случаев это первое, что к ним возвращается.
Она, правда, предпочла не уточнять, что в большинстве случаев это первое и последнее, вообще-то у нее сохранилось довольно тревожное воспоминание о тех кратких минутах во время посещения больничного центра в Бельвиле, когда она оказалась в общем зале, посреди двух десятков мужчин, неподвижно сидящих в инвалидных колясках, абсолютно неподвижно, если не считать взглядов, которые цеплялись за нее и провожали, пока она шла мимо.
– Пациенты посещают несколько сеансов лечебной гимнастики и ортофонии в неделю, – сказала она, отгоняя от себя эту картину. – Леру работает с лучшими специалистами, одними и теми же в течение многих лет, на меня это произвело огромное впечатление. Пациентов регулярно купают, часто вывозят на прогулку в инвалидных колясках. На территории центра есть парк, ну, скажем, небольшой садик, но они, бывает, ездят дальше, на берег Соны. Что касается даты переезда, – продолжала она, собеседование с родными наконец вошло в нужную ей колею, она справилась с задачей, – сегодня у нас понедельник, Леру позвонил мне утром предупредить, что комнату уже освободили, осталось только убрать там, мне кажется, ничто не помешает им принять вашего папу уже в среду. Вы сможете в среду пообщаться с персоналом? – Мадлен и Сесиль с энтузиазмом подтвердили, что да, смогут, на том и порешили, собрание пора заканчивать.
Поль учтиво улыбнулся ей на прощание, хотя ему никак не удавалось отделаться от неприятных мыслей. Итак, в среду, тридцатого декабря сего года, у Эдуара Резона начнется новый этап в жизни – и все указывало на то, что он станет последним. Раз в отделении Бельвиля появилось место, раз комнату освободили и собирались ее убрать, значит, прежний ее обитатель наверняка ушел – или, проще говоря, умер.
Сидя рядом с Эрве на обратном пути в Сен-Жозеф, он не стал делиться с ним своими соображениями – они пересказали ему беседу с главврачом, сообщили о счастливом ее завершении, и он вел машину, как всегда, очень спокойно. Сесиль и Мадлен, сидевшие сзади, упивались чувством чуть ли не экстатического облегчения – Сесиль вдруг начала даже что-то напевать, возможно Radiohead, ему показалось, что он узнал мелодию.
7
Уже почти тридцать лет Поль не заглядывал в Бельвиль-ан-Божоле, который тогда назывался Бельвиль-сюр-Сон, – местный муниципалитет, сказал ему как-то отец, плетет интриги в Совете департамента, добиваясь, чтобы их переименовали обратно в Бельвиль-ан-Божоле, это название звучит заманчивее для индийских и китайских туристов, считали они. Надо признаться, что даже во времена его юности, даже в те времена, когда он с радостью ездил туда-сюда в поисках, где пожить и, главным образом, где потрахаться, его никогда особенно не привлекал Бельвиль-сюр-Сон. Он смутно припоминал ночной бар “Куба Найт”, вроде так, но ночные бары “Куба Найт” могут попасться где угодно, хоть в Аддис-Абебе, с тем же успехом. Так или иначе, он был уверен, что у него там ни разу не случилось памятной встречи, то есть сексуальной, он помнил все свои сексуальные знакомства, даже самые мимолетные, даже минет в сортире ночного клуба он не забыл, это произошло всего один раз в его жизни, в “Макумбе”, девушку звали Сандрин – ее лицо, рот, то, как она опустилась на колени, – все это он отчетливо помнил и, закрыв глаза, смог бы воскресить в памяти мельчайшие движения ее языка. С другой стороны, ему не приходил на ум никто, кого он мог бы назвать другом юности, не говоря уж об учителях, все они вылетели у него из головы, ни одного лица не осталось, вообще ноль. При этом секс не сыграл большой роли в его жизни, а если и сыграл, то разве что на бессознательном уровне – исключить этого нельзя, конечно, но как бы там ни было, не так уж много он и трахался и никогда не принадлежал к числу ёбарей, скорее, пожалуй, проявлял интерес к философским и политическим вопросам и, не будучи активистом, все же окончил Институт политических исследований и наверняка вел с сокурсниками беседы на общие темы, но и этого он не помнил, его интеллектуальная жизнь как таковая не отличалась, похоже, особой интенсивностью. Правомерно ли тогда сделать вывод, что он был обычным лицемером, скрывавшим свой первостепенный интерес к сексу за другими, более благопристойными устремлениями? Нет, вряд ли. На самом деле, в отличие от какого-нибудь Казановы или Дон Жуана (проще говоря, от ёбарей), для которых секс – дело житейское и, образно говоря, нужен им, как воздух, каждое мгновение секса в его жизни было лишь несуразностью, нарушением нормального порядка вещей, и поэтому они застряли у него памяти, начиная, кстати, с того самого минета в сортире “Макумбы” в Монпелье, он не имел ни малейшего понятия, как его занесло в Монпелье, они несколько минут поговорили с Сандрин, и она сама затащила его в туалет, он до сих пор недоумевал, почему она так поступила, наверное, вычитала что-то в этом роде в каком-нибудь романе и решила, что и ей не слабо, впрочем, возможно, она просто напилась или пошла по сартровскому пути, но применительно к сексу – “весь член, вобравший все члены, он стоит всех, его стоит любой”[24], то есть мужчине достаточно оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы на него свалилась такая удача.
Однако в тот вечер, даже если ему, как и любому другому мужчине, “вобравшему всех людей и стоящему всех”, и в голову бы не пришло уклониться от минета, он искал все же не столько секса, сколько любви, его мать никогда не была по-настоящему любящей матерью, да, вот оно, по-видимому, он испытывал неудовлетворенную потребность в любви. Так или иначе, в Бельвиле он точно ее не удовлетворил и изумился возникшему вдруг ощущению, что городок изменился, хотя на самом деле он почти совсем его не помнил. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять почему: на улицах были арабы, много арабов – что-то новенькое для Божоле, да и для Франции в целом. Больничный центр располагался на улице Полен-Бюссьер, но вход был со стороны улицы Мартиньер, они довольно долго его искали, по пути обратив внимание на несколько дорожных знаков, указывающих направление к мечети Эннур, то есть в Бельвиле имеется мечеть, кто бы мог подумать. Это, конечно, не салафитская мечеть, по крайней мере, такая информация в прессу не просочилась, что неминуемо произошло бы, будь это так, несмотря на недавние военные неудачи, салафиты все еще оставались горячим сюжетом, но, как ни крути, мечеть есть мечеть. Бельвильский больничный центр – по сути, сводившийся к ДИПИ, если он правильно понял объяснения главврача, – оказался замкнутым пространством, комплексом современных зданий светлых тонов, втиснутым в самый центр городка, в стороне от общей застройки, и на первый взгляд не имел к ней никакого отношения. Тут доживали свои дни человек триста, по преимуществу коренные французы, как говорится, ну и, может, еще несколько магрибинцев, наверняка всего ничего, поколенческая солидарность в этих группах населения не утратила своей силы, их старики, как правило, умирают дома, сдать родителей в казенное учреждение для большинства магрибинцев считается бесчестьем, по крайней мере, такой вывод он сделал, читая серьезные еженедельники. Они приехали в четверть первого, доктор Леру ждал их в своем кабинете, он пил кофе с молоком и ел сэндвич с колбасой.
– Не успел позавтракать, так что заодно уже и обедаю… – объяснил он. – Хотите кофе?
Это был человек лет пятидесяти, с поразительно густыми, вьющимися волосами и детским выражением лица, что-то было мальчишеское в его облике, при этом чувствовалось, что он, наверное, был задумчивым, довольно грустным и одиноким ребенком. Он был в белом врачебном халате, наспех напяленном поверх ярко-синего спортивного костюма, и в кедах.
– Вы приехали почти вовремя, а вот ваш отец сильно опаздывает, – сказал он, – в смысле скорая из Лиона опаздывает, они всегда опаздывают, не знаю почему. – Он умолк и почти минуту пристально рассматривал всех четверых, не произнося ни слова. – Значит, вы – дети. Семья… А вы… – он резко обернулся к Мадлен, – вы его жена, да?
Он сказал “жена”, а не “спутница жизни”, отметил про себя Поль. Мадлен молча кивнула, и Поль понял, что ситуация только что перевернулась, теперь он был ничтожной величиной в глазах доктора Леру, и даже Сесиль оказалась слегка вне игры, отныне ему предстояло иметь дело с Мадлен, почти исключительно с Мадлен, он понял это, а как, кстати, он это понял, как он понял, что Мадлен жена, а они – дети, он не успел заглянуть в историю болезни, но все равно там об этом ничего не говорилось, он просто понял это, и точка, так что именно к Мадлен он обратился в первую очередь, когда пригласил их следовать за собой, комната готова, сказал он, готова с самого утра, именно Мадлен он положил руку на плечо и повел по коридору. Они с Сесиль и Эрве шли за ними в двух шагах, по чистым и светлым, но отнюдь не безлюдным коридорам, там, напротив, сновали туда-сюда люди, довольно много людей всех возрастов и из всех слоев общества, вероятно, родственники, подумал Поль. И еще он подумал, что в этих стенах отец доживет свой век, они станут его последней линией горизонта, последним пейзажем.
Комната оказалась достаточно просторной, примерно шесть метров на четыре, стены были выкрашены в цыплячий цвет, ну, скажем, в теплый светло-желтый цвет, Поль уже толком и не помнил, когда в последний раз видел живьем цыпленка, может, и вообще никогда не видел, в реальной жизни такое нечасто увидишь, ну, одним словом, это был скорее приятный оттенок желтого, приятная комната, и пустые полки на стене ждали, когда их заполнят.
– Приносите сюда все, что захотите, можете наклеить фотографии и рисунки, обустроить тут все по своему вкусу, это не больница, а жизненное пространство, жизненное пространство для людей с ограниченными возможностями, с тяжелой формой инвалидности, чувствуйте себя как дома, мы всегда рады родственникам, вот что я хотел вам сказать. – Он говорил искренне, Поль сразу ему поверил, главврачиха права, он очень хороший человек.
– Можно я буду ночевать у него комнате? – неожиданно спросила Мадлен. Ну да, ответил он, просьба необычная, но он не возражает, ей могут даже поставить раскладушку. Она просто должна понимать, что в комнатах нет ни умывальников, ни туалетов, пациентам в таком состоянии они ни к чему, но ей разрешат пользоваться удобствами для персонала в конце коридора. Ей также придется самой обеспечивать себя едой, поскольку работники отделения питаются вместе с сотрудниками ДИПИ, ей не смогут предоставить доступ в столовую. Мадлен энергично кивала.
– Мадлен, ты уверена, что хочешь этого? – вмешалась Сесиль, – тут все же не слишком комфортно. Мы можем привозить тебя сюда каждое утро, если хочешь, это же совсем близко.
Мадлен была уверена, она решила, что будет возвращаться в Сен-Жозеф раз в неделю принять душ и поменять постельное белье, все в порядке.
– Ну, теперь нам остается только ждать виновника торжества, – заключил Леру. – Вы извините, я отлучусь на минутку. У меня назначено несколько встреч сегодня днем, но мне тут же дадут знать, когда он прибудет.
В то же мгновение зазвонил мобильник Сесиль, она вышла в коридор, чтобы ответить, разговор продлился всего пару минут, она выглядела обеспокоенной, когда вернулась.
– Это Орельен, они приезжают раньше, чем собирались, прямо сегодня, через два часа они будут в Лоше. Мне неохота туда ехать, я бы предпочла дождаться, когда папу привезут…
Все промолчали, наконец Эрве с усилием произнес:
– Давай я съезжу.
Жена посмотрела на него с сомнением; как правило, ей удавалось поддерживать довольно сносные отношения с Инди, но это было очень давно, последний раз они виделись пять лет назад; и у нее не было никакой уверенности в том, что Эрве способен проявить такую же дипломатичность.
– Я могу поехать, – предложил Поль, – если ты дашь мне свою машину.
– Да, поезжай ты, так будет лучше, – ответила она с облегчением.
Поль всего минут десять как выехал с парковки, а Эрве еще не успел докурить сигарету, когда приехала машина скорой помощи. Леру сразу же вышел из корпуса им навстречу; очевидно, он считал своей обязанностью лично приветствовать пациентов. Два санитара, открыв задние дверцы, установили короткий наклонный пандус и выкатили носилки на парковку. Эдуар бодрствовал, его глаза были широко открыты – но смотрели по-прежнему в пустоту. Леру подошел к нему.
– Доброе утро, месье Резон, – сказал он мягко. – Я доктор Леру, заведующий отделением, в котором вы будете жить. Добро пожаловать.
Следующие два часа, после того как Эдуара устроили в комнате, Леру посвятил описанию процедур, которые будут отныне задавать ритм его здешней жизни, – он всегда упрямо делал вид, что пациенты понимают все, что им говорят, и подробно объяснял цели и задачи каждой процедуры. Во-первых, лечебная гимнастика, два сеанса в неделю, она позволит избежать мышечной спастики и контрактуры суставов. Затем, что также очень важно, ортофония дважды в неделю для разработки языка и губ.
– Это чтобы они снова учились говорить? – спросила Сесиль.
– Да… Ну, это крайне оптимистичная версия. Речь – разветвленная функция, она задействует множество различных областей мозга, вопреки тому, что мы долгое время полагали. Но центр Брока по-прежнему считается важным, пусть и не единственным, и на МРТ вашего отца видно, что он затронут, так что, откровенно говоря, я не очень-то верю в восстановление речи. Но помимо речи, ортофония помогает восстановить глотательную функцию, что позволит нам отказаться от гастростомы и вернуться к нормальному питанию.
– Насколько нормальному? – Сесиль явно удивилась.
– Совершенно нормальному. Ему разрешены все продукты; главное, взбить их в блендере до консистенции пюре, и он сможет почувствовать все знакомые ему вкусы. – Взглянув на восхищенное лицо Сесиль, перед которой, казалось, открылись новые горизонты, он счел нужным слегка умерить ее пыл: – Имейте в виду, это сложная история, я не сказал, что мы справимся, но обещаю, что постараемся. Кроме того, – продолжал он, – мы применяем общую сенсорную стимуляцию. Каждую неделю для всех желающих мы проводим сеанс музыкотерапии. Сравнительно недавно у нас появились также кружки домашних животных, этим занимается одна ассоциация. Они приходят раз в две недели с кошками и маленькими собачками и кладут их на колени пациентам. Они даже не в состоянии их погладить, у нас только один постоялец, которому удается пошевелить пальцами, но просто невероятно, до какой степени некоторым людям нравится просто посидеть, положив руку на шерсть животного. Ну и разумеется, мы не даем им валяться в постели весь день напролет, и это самое главное, на мой взгляд. Во-первых, это позволяет нам избежать пролежней, за пять лет у меня не было ни одного пролежня в отделении. Каждое утро их поднимают, пересаживают в кресло-каталку – кстати, важная вещь, вам надо как можно скорее заказать для отца инвалидное кресло по его меркам, – так вот, они сидят в кресле до самого вечера, их перемещают с места на место, в зависимости от занятости персонала, само собой. У нас тут есть парк, ну, парк – это громко сказано, несколько деревьев, сейчас, понятное дело, не сезон, но летом большинство пациентов предпочитают сидеть на свежем воздухе, а не внутри здания. И еще мы стараемся выгуливать их подольше, вывозим каждый день, то в город, то на берег Соны. Им обязательно надо видеть что-то другое, слушать другие звуки, вдыхать другие запахи; но это, конечно, самый дорогой вариант в смысле персонала, сиделка может толкать только одну коляску, они работают посменно, но мы стараемся организовать каждому прогулку хотя бы раз в неделю. Смотрите, наш пациент уснул… – заметил он, прервавшись. Действительно, глаза Эдуара были закрыты, дыхание замедлилось, стало размеренным. – Все в порядке, так часто бывает после переезда, смена обстановки слишком утомительна для них; он скоро проснется, думаю, через пару часов. Я пойду, а вы оставайтесь, дождитесь его пробуждения, то есть оставайтесь, сколько захотите, и правда, чувствуйте себя как дома, – повторил он и вышел из комнаты.
8
Тем временем Поль вступил в неравный бой с автоматом по продаже сладких снеков на вокзале Макон-Лоше, где кроме него не было ни души. Через пару минут он сдался, уступив строптивому агрегату два евро; тут объявили о прибытии парижского поезда. Выйдя на перрон, он внезапно засомневался, узнает ли брата и невестку. С момента их последней встречи прошло много лет, и о том дне у него осталось физически смутное и эмоционально малоприятное воспоминание, но все же как-то неловко будет не узнать родного брата. Накануне ему приснился какой-то тягостный сон. Он назначил свидание своей русской любовнице на вокзале Буржа, у него никогда не было русской любовницы, но во сне она имелась, впрочем, и в Бурже он никогда не бывал. Они созвонились по мобильному, договорились встретиться в определенной точке вокзала, в главном зале у киоска прессы, и подошли туда одновременно, подтвердив друг другу по телефону, что они на месте, но так и не увиделись. Тогда они определили следующую точку – под указателем G на платформе 3, но и на этот раз, несмотря на то, что местоположение они выбрали с предельной точностью, связь была прекрасной и они несколько раз подтвердили друг другу свое присутствие, им не удалось пересечься, это казалось тем более невероятным, что на платформе 3 было пусто, они оба изумились по телефону. Тогда Поль в сердцах обругал разработчика сна: идея параллельных пластов реальности, может, и любопытна в теории, сказал он ему, но в реальности – ну, в реальности сна – он все же не мог не испытывать болезненную досаду, что его русская любовница потерялась; разработчик сна выразил глубокое сожаление, но так толком и не извинился.
На вокзале Макон-Лоше ничего подобного не произошло: его брат, невестка и их сын были единственными пассажирами, сошедшими с парижского поезда. Но Поль и так бы сразу узнал Орельена, он ничуть не изменился; на его лице с тонкими, довольно гармоничными чертами читалась какая-то нерешительность, сомнение, и оттого он казался уязвимым; он постоянно пытался, без особого успеха, придать себе мужественности, отращивал бороду, да и то она получалась совсем реденькой. Инди была на десять лет старше его, что уже начинало бросаться в глаза, невольно отметил он про себя; она сильно сдала; и вряд ли это сделало ее любезнее. Их сын уж больно высокий для своего возраста – сколько ему, девять? Он не мог точно вспомнить. С сыном совсем засада, ему никак не удавалось к нему привыкнуть, Сесиль, впрочем, тоже. И дело тут не в расизме, его никогда не отталкивали и не притягивали особо люди с черной кожей, но в данном случае тут было что-то не то. Решение Инди прибегнуть к ВРТ по причине бесплодия мужа – это еще туда-сюда; ее решение прибегнуть вдобавок и к суррогатному материнству уже более спорно, по крайней мере в его глазах, но, возможно, он просто пал жертвой устаревших представлений о морали и нравственности; коммерциализация беременности, по всей вероятности, вполне законна, хотя он, по правде говоря, так не считал, да и вообще старался не слишком много размышлять на эти темы. Ну а что она отправилась в Калифорнию, где и произвела все эти манипуляции, – так и прекрасно, это самый эффективный вариант с технической точки зрения, но и самый дорогостоящий – у нее вроде нашлись на это деньги, он, кстати, задавался вопросом, откуда взялись такие суммы, ее зарплаты “журналистки серьезного еженедельника” уж точно не хватило бы на такого рода прихоти, и даже будь она, что называется, “звездным автором”, и то ей бы это было не по карману. Возможно, все оплатили ее родители, она-то известная крохоборка и сама поехала бы куда-нибудь в Бельгию или Украину. Ну, это все, допустим, еще куда ни шло, но почему ей взбрело в голову из огромного каталога биологических отцов, наверняка предоставленного ей калифорнийской биотехнологической компанией, услугами которой она воспользовалась, выбрать именно чернокожего производителя? Вероятно, желание подчеркнуть свое свободомыслие и антиконформизм, а заодно и антирасизм, до кучи. Она использовала ребенка в качестве своеобразного рекламного щита, транслируя некий свой желаемый образ – трепетной, открытой гражданки мира, – притом что ему она всегда казалась скорее эгоистичной скупердяйкой, а главное – конформисткой до мозга костей.
Либо – но эта гипотеза еще хуже предыдущей – она вознамерилась таким выбором унизить Орельена, ведь все мгновенно понимали, что он не является, не мог бы никоим образом являться настоящим отцом ребенка. Если таков был ее замысел, то она полностью преуспела. Биологическое отцовство не имеет никакого значения, главное любовь, по крайней мере, так принято считать; но надо еще, чтобы эта любовь имела место, а у Поля никогда не создавалось впечатления, что Орельена связывает с сыном хоть какое-то подобие любви, он никогда не замечал за ним никаких ласковых жестов, даже украдкой, ни элементарного желания проявить заботу и, честно говоря, не мог припомнить, чтобы Орельен и Годфруа вообще разговаривали друг с другом – она еще к тому же назвала мальчика этим дурацким средневековым именем, никак не вяжущимся с его внешностью. Поль думал с отвращением, что она выбрала это имя чисто для прикола, со скрытым смыслом. Тем не менее он заставил себя обменяться с супругами надлежащим количеством поцелуев и даже легко коснулся губами щеки ребенка. Он не только очень повзрослел, окреп и обещал вырасти высоким здоровяком, то есть полной противоположностью папе, но и его кожа вроде бы стала еще темнее с прошлого раза.
Вздохнув с облегчением, Орельен сел рядом с Полем на переднее сиденье. Стоило им выехать с вокзальной стоянки, как Годфруа достал свой айфон и, судя по всему, с головой ушел в какую-то видеоигру.
– Во что ты играешь? – поинтересовался Поль, предприняв попытку – наверняка последнюю в этот уикенд, подумал он, – проявить к нему внимание.
– В “Рагнарок Онлайн”.
– Это какая-то скандинавская игра?
– Нет, корейская.
– И в чем смысл?
– Ну, это чистая классика, надо убивать монстров, чтобы накопить очки опыта, повысить профессиональный уровень и сменить класс. Но это хорошая игра, здорово отрисованная, клевая.
– А сейчас у тебя какой класс?
– Паладин, – скромно ответил мальчик. – Но я уже скоро пройду на Рунмейстера, надеюсь, по крайней мере.
Что ж, корейский разработчик не произвел революции в этом жанре, и добавить Полю было нечего, но у него возникло чувство, что на этот раз они с племянником хорошо пообщались. Когда они выехали на трассу, Орельен спросил, как дела у отца в медицинском плане; он объяснил, как мог, не скрывая, что шансов на улучшение немного.
– Ну чё, он овощ, короче, – сказала ему в спину Инди утомленным голосом. При слове “овощ” ее сын по-идиотски заржал. Поль бросил на них свирепый взгляд в зеркало заднего вида, но воздержался от ответной реплики. Главное – сохранять спокойствие, насколько это возможно, и, насколько возможно, не усугублять ситуацию, дышать медленно, ровно, повторял он себе, но все-таки невольно газанул и тут же резко вдавил тормоз, чуть не столкнувшись с грузовиком. Он мог бы возразить этой суке, что ей же так понравились овощные посадки парижской мэрии, когда она шла по парку Берси в день ее первого визита к ним домой, – и он сильнее, чем когда-либо, понадеялся, что этот визит станет последним. А где Прюданс? – подумал он по ассоциации, где, интересно, в данный момент может быть Прюданс? Нет уж, в следующий раз он постарается приехать вместе с ней.
Поль все еще немного нервничал, когда они приехали в больничный центр, и, припарковав машину Эрве на стоянке, выходящей на улицу Полен-Бюссьер, он сделал несколько быстрых вдохов-выдохов и только потом повел их по коридорам. Не желая участвовать в воссоединении семьи, он отступил на пару шагов, когда они пришли на место, и пропустил Орельена и Инди вперед, Эдуар как раз проснулся и открыл глаза. Мадлен и Сесиль, дежурившие у его постели, жарко обсуждали, как навести красоту в этой комнате, Эрве клевал носом. Годфруа остался в машине, не пожелав отвлекаться от игры. Ему, само собой, было глубоко насрать на деда, что в каком-то смысле объяснимо, ведь и деду было на него, в общем-то, насрать. Нет, Эдуар тоже никакой не расист – наоборот, Поль помнил, что у него сложились особенно теплые отношения с одним коллегой-антильцем, он однажды даже пригласил его домой на ужин; но он считал и не скрывал этого, что его невестке пришла в голову очередная блажь, от которой будет “сплошной геморрой и головная боль”, это было его любимое выражение, и он часто использовал его по отношению ко всяким мелким гошистским группировкам; большую часть своей профессиональной жизни он провел, наблюдая и порой обезвреживая виновников “геморроя и головной боли”. Одним словом, Годфруа – Поль ощутил это в тот момент, когда мальчик отказался от его предложения пойти с ними, – почуял, вероятно, щекотливые семейные проблемы и не испытывал ни малейшего желания в это ввязываться. Он интуитивно почувствовал, что этот мальчик с внешностью будущего рэпера из Бронкса отнюдь не глуп, но интеллект ему явно достался не от матери: Поль представил себе Инди, листающую выданный ей каталог доноров, – она, может, и выбрала чернокожего, но наверняка чернокожего выпускника Гарварда или МТИ, он отлично понимал ход ее мыслей.
После недолгой заминки Сесиль все-таки встала, подошла к ним, заставила себя с ними расцеловаться, как того требовали приличия, но не нашлась что сказать; еще через пару минут ей удалось выдавить из себя: “Как добрались?” – прямо скажем, негусто. Эрве и Мадлен сидели смирно на больничных стульях, не проявив ни малейшей готовности прийти ей на выручку.
Орельен сам подошел к отцу и заглянул ему в глаза, но отцовский взгляд по-прежнему был упрямо обращен в одну точку. Он взял его за руку и крепко сжал ее – ему хотелось поцеловать его в щеку, но он не осмелился. Потом он отстранился, сделал два шага назад, все так же вперившись в глаза отца, губы его чуть дрогнули, но он не произнес ни слова. Тут уже Инди, явно смирившись, приблизилась к больничной койке. В тот момент, когда она появилась в поле его зрения, Эдуар медленно, но явно перевел взгляд влево – на Мадлен, сидевшую рядом с ним. Сесиль испустила некое подобие вскрика, какое-то невнятное “Ах!”. Мадлен промолчала, но на ее лице застыло изумление.
– Ну вот, полюбуйся, – сказал Поль, отлепившись от стены и подходя к Инди, – хорошо, что ты приехала, тебе удалось совершить чудо… Он отвел глаза, чтобы тебя не видеть, его взгляд ожил впервые с тех пор, как он вышел из комы. – Он не знал, откуда у него вдруг взялся этот злобный задор, вот уж совсем на него непохоже, но Инди залилась краской и сжала кулаки, Поль решил, что она сейчас влепит ему пощечину, а то и нанесет хук справа, поэтому покрепче уперся ногами в пол, предвосхищая удар, и одновременно вскинул руку к уху, чтобы отразить его. Целую минуту она стояла перед ним как вкопанная, дрожа от ярости, потом развернулась и с силой захлопнула за собой дверь. Орельен с ужасом наблюдал за этой сценой, но даже не шелохнулся.
Сесиль первой нарушила наступившее молчание.
– Тебе не следовало так говорить, Поль… – грустно сказала она.
Он воздержался от ответа, но в глубине души с ней не согласился. Мало того что его слова соответствовали фактической стороне дела, но к тому же эта вспышка ярости пошла ему на пользу, стало легче дышать. Когда Инди смотрела на него, гневно стиснув кулаки, он готов был бросить ей в лицо какую-нибудь колкость, типа “овощ взбунтовался”, но не успел. В эту минуту у Орельена вырвался какой-то сдавленный хрип, приблизительно того же содержания, что и упрек Сесиль, и Поля охватило раскаяние. Он решительно не переваривал Инди, но Орельену сочувствовал, ему же придется расхлебывать кашу, наверное уже прямо сегодня вечером, в спальне, в общем, ночка его ждет тяжелая. Ну да, ему уж точно лучше было бы промолчать.
Тут Эдуар закрыл глаза.
– Он устал, – поспешила пояснить Сесиль, – все это для него слишком утомительно, давайте оставим его в покое.
Все что-то согласно пробормотали, действительно, на сегодня с него хватит семейного сбора. Они вышли, оставив отца наедине с Мадлен, она взяла его за руку, внимательно следя за изменением его дыхания, которое становилось все более медленным и ровным.
– Нам надо организоваться с транспортом, – сказал ему Эрве, когда они подошли к парковке. Он прав, все они в машину не влезут, придется дважды съездить туда-сюда.
9
Они нашли открытое кафе на улице Мулен, Орельен с семейством могли там подождать его возвращения – Поль взял на себя их доставку на место. Ничего страшного, главное, считал он, не потакать Инди, и ему воздастся, он чувствовал, что в силах справиться с ней. Он знал, что она его побаивается, особенно с тех пор, как он начал работать с министром, это все-таки власть, а власть она уважала, уважала почти так же, как деньги.
Через двадцать минут Поль поехал обратно в Бельвиль-ан-Божоле, он и правда быстро обернулся, и, как и следовало ожидать, Инди прямо лучилась улыбкой и, казалось, забыла о его выходке или, по крайней мере, на редкость умело прикидывалась. Она села впереди, рядом с ним, и завела разговор о президентских выборах. Ах вот оно что, усмехнулся он про себя, мог бы и сам догадаться, наверняка именно по этой причине она и вызвалась сопровождать Орельена к отцу: она попытается выудить у него информацию о планах Брюно. Ведь действительно, в прессу ничего не просочилось, последние пару месяцев он даже отказывался от интервью, что, должно быть, многих раздражало в тех кругах, где вращалась эта дура. Он вдруг сообразил, что за последние несколько месяцев она дважды сменила работодателя, и эти перемены не случайны, она перешла из “Обса” в “Фигаро”, затем из “Фигаро” в “Марианну”, кто же ему это рассказал? Возможно, пресс-атташе Брюно, она знала об их родственных связях. С другой стороны, это всего лишь точка зрения пресс-атташе, привыкшей усматривать какие-то заковыристые различия между практически неотличимыми друг от друга органами печати.
– Я удивился, что ты перешла в “Фигаро” и почти сразу кинула их ради “Марианны”… – сказал он, правда, не слишком уверенно.
– Ну да, а что? – огрызнулась она мгновенно, хотя явно была сбита с толку, он прямо чувствовал, что сейчас она начнет оправдываться, теперь ему оставалось только умолкнуть и ждать. – Меня воротило от колонок Земмура, – сказала она так, словно, произнеся эти слова, совершила похвальный акт гражданского неповиновения.
– Земмур – ублюдок, – подал голос Годфруа и снова погрузился в “Рагнарок Онлайн”.
Услышав это замечание, пусть тоже весьма банальное, его мать все же взяла себя в руки и добавила на сей раз гораздо более убежденным тоном, чуть ли не проникновенным, уж как умела:
– Но мне кажется важным, чтобы он мог выступать и отстаивать свою точку зрения. Свобода слова – это самое святое, что у нас есть.
– Ёбаный ублюдок, – добавил Годфруа, поясняя свою мысль.
Поль кивнул с серьезным видом, показывая, до какой степени ему интересен этот обмен мнениями, они проезжали уже Вилье-Моргон, и двух минут не пройдет, как они будут на месте, его отвлекающий маневр удался, Земмур всегда срабатывает, стоит только произнести его имя – и разговор с довольным урчанием катится по проторенной и приятно предсказуемой дорожке, приблизительно как это было с Жоржем Марше в свое время, собеседники тут же находят свои социальные ориентиры и свое место в привычной системе координат и тихо радуются. Сейчас он сам себе удивлялся, как он мог, пусть даже на мгновение, предположить, что Инди занимается журналистикой по убеждению, что нечто отдаленно похожее на убеждения хоть однажды могло возникнуть у нее в голове; эта гипотеза опровергалась всем, что он знал о ней. В “Обсе” она занималась в основном трансами, задистами[25], даже трансзадистами, такова была ее роль – роль журналистки, пишущей на социальные темы, – но, в сущности, она могла бы с тем же успехом рассуждать о неокатолических идентитариях или веганах-петенистах, один черт, по его соображению. Пока она, по крайней мере, молчала, а это уже что-то. Оторвав взгляд от туманной дороги, он заметил в зеркале заднего вида лицо Орельена. Он, казалось, полностью погрузился в созерцание пейзажа, почерневших от холода виноградников, но вдруг резко повернулся к нему, на несколько секунд их глаза встретились, поначалу Полю не удавалось расшифровать выражение его лица, но потом он неожиданно понял: лицо Орельена выражало просто-напросто скуку. Орельену было скучно, скучно с женой, скучно с сыном, скучно уже наверняка в течение многих лет, он бесконечно скучал в лоне того, что числилось его семьей. Должно быть, и детство ему выпало невеселое, подумал Поль, Эдуар никогда не был особо любящим отцом и держался от них подальше, он, конечно, дорожил семьей, но его работа и служение государству стояли на первом месте, это было очевидно с самого начала и не подлежало обсуждению. Что касается матери, то она просто их забросила, открыв в себе призвание скульптора. Сесиль, пожалуй, еще худо-бедно занималась Орельеном, но когда она уехала к Эрве на север, он был еще совсем маленький, ему и десяти не исполнилось. Да, он, видимо, чувствовал себя тогда очень одиноко. И сейчас ничуть не меньше, живя с женой, которая его не любит, и сыном, который его разве что терпит, ну и презирает слегка, не без того, да и вообще сыном-то ему не приходится. Поль смущенно отвел взгляд от Орельена, а тот так и смотрел на него пристально в зеркало заднего вида. Но они уже приехали.
Войдя в столовую, где пылал великолепный огонь, он поразился, как Мадлен, Сесиль и Эрве хорошо вместе, у них уже выработались общие привычки, и ему показалось, что они с Орельеном тут чужаки. Да и то правда, через два дня они вернутся к своим парижским делам, а эта троица останется тут, они будут общаться с врачами и все возьмут на себя. Пока вроде проблем не возникло, доктор Леру произвел на них благоприятное впечатление, и Сесиль, постоянно курсирующая туда-сюда между кухней и столовой, пребывала в прекрасном приподнятом настроении, оно почти не испортилось даже при появлении Инди, и Поль усомнился, заметила ли она ее вообще. Годфруа слинял к себе в комнату, не выпуская из рук айфона, но прихватил все же по пути две банки кока-колы и кусок найденной в холодильнике пиццы.
– Хочешь, я тебе ее разогрею? – спросила Сесиль, значит, она все же обратила внимание, что они приехали. Впрочем, ответа она не получила, воспитание мальчика оставляло желать лучшего.
Во время ужина Инди сделала попытку вернуться к теме президентских выборов; ну ему-то что, он привык молчать, все-таки уже не первый год в деле. В итоге она слегка разозлилась и фыркнула:
– Ну, тебе-то по-любому нельзя рот открыть, это понятно…
Что верно, то верно, вообще, это было ее первое меткое замечание за вечер – будь ему даже что-то известно, он обязан был бы хранить молчание. Вот только он ничего не знал о намерениях Брюно, и что-то ему подсказывало, что Брюно и сам пока ничего не знает. Он попытался представить его в пылу избирательной кампании, отвечающим на вопросы журналистов типа Инди: да уж, та еще перспектива, принять решение ему будет непросто.
Ну и само собой, она перешла следом к вопросу об извечной, но постоянно усугубляющейся угрозе “Национального объединения”. Эрве из осторожности предпочитал помалкивать, мирно жуя баранью ногу, разве что подливал себе вина чуть чаще обычного, это единственное, что выдавало его легкое раздражение – Сесиль, видимо, сделала ему внушение со всей присущей ей строгостью; ну а что касается Орельена, то он никогда не поддерживал разговор на эти темы; возможно, он думал о средневековых гобеленах, к которым скоро вернется, о прекрасных благородных дамах, ожидающих возвращения своего рыцаря из крестового похода, короче, о всяких детских и несущественных вещах. Так что в итоге говорила одна Инди, что, судя по всему, нисколько ее не смущало, она, видимо, даже не отдавала себе в этом отчета. Тем не менее, разойдясь сразу после ужина, все вздохнули с облегчением.
10
Поль – всемирно известная звезда, только он понятия не имеет, в какой области. Он идет по слякотной улице в пятом округе Парижа вместе со своей женой и агентом (его жена не Прюданс, а чернокожая девушка, похожая на тех двух эфиопок в Аддис-Абебе, но, в отличие от них, его так называемой жене чужда всякая стыдливость, напротив, она готова выставлять напоказ интимные части тела при любом удобном случае, испытывая при этом немного странную гордость); дождь льет не переставая, на светофорах мигает желтый; идти по загустевшей на тротуарах скользкой пленке грязи тяжело и даже опасно.
Поль удивляется, что его агент не свернул направо, в сторону дома; дело в том, что ему хочется выпить в соседнем кафе под названием “Кафе Паризьен”. Тут Поль понимает, что они находятся в самом начале улицы Монж, но какое это имеет значение. Они входят в кафе. Так называемая жена Поля куда-то исчезла. Через некоторое время, поскольку никто явно не собирается их обслуживать, его агент направляется к барной стойке в глубине зала. И тут к Полю подсаживается псевдоофициант. Он держит себя с шокирующей фамильярностью и болтает ногами, так что Полю приходится отвести свои ноги в сторону.
Агента Поля нет как нет, заказ напитков затягивается. К его изумлению, псевдоофициант просит обнять его и, перейдя от слов к делу, прижимается к нему в ожидании более интимных прикосновений. Поль сопротивляется, но руки псевдоофицианта обладают какой-то клейкой силой, ему все труднее и труднее отбиваться от его приставаний. Повернув голову в сторону, он вдруг замечает съемочную группу телеканала TF1. Два оператора, звукооператорша и режиссер – Поль догадывается, что это режиссер, потому что он держит в руках свернутый машинописный текст, видно, сценарий этого эпизода, и ему удается даже разобрать заголовок – “Нежность”.
Агент Поля оглядывается на него, история с их заказом, похоже, наконец-то сдвинулась с места. В ту же секунду он замечает, что у них есть еще и второй сценарий, озаглавленный “Агрессия”. К счастью, агент возвращается с двумя бокалами в руках.
– Франсуа-Мари… – встревоженно говорит Поль (так зовут агента), – Франсуа-Мари, я думаю, нам пора вмешаться, так нельзя.
Агент Поля, с первого взгляда оценив ситуацию, разводит руки в стороны и резко выбрасывает их вверх. Съемка немедленно прекращается. Затем он идет вглубь кафе, и вся съемочная группа понуро, поджав хвост следует за ним, понимая, что ситуация складывается не в их пользу.
Бар исчез. Агент Поля развалился в удобном кресле, скорее даже в шезлонге, стоящем на месте барной стойки, – откуда-то появились и зеленые растения, освещение изменилось, теперь они вроде сидят у бассейна на тропическом курорте. С завидным спокойствием агент Поля толкает длинную и подробную речь об истории права на изображение. Внезапно члены съемочной группы принимаются, все как один, огорченно восклицать: “Мы в жопе… мы не знали… Нам конец…” Агент Поля подтверждает, что действительно они попали в затруднительное положение; он и не думает скрывать, что потребует – и получит, в соответствии с прецедентным правом, – заоблачные суммы в счет возмещения убытков от всей цепочки виновников. Он также не скрывает, что карьере преступных телевизионщиков будет нанесен смертельный удар.
Поль внезапно проснулся в четыре утра, комнату заливал свет полной луны, видно было почти как днем. Пошатываясь, он подошел к окну закрыть ставни, опять лег и почти сразу заснул. Он проснулся снова, уже не так резко, около семи утра; ему снова приснился сон. Он запомнил его лишь отчасти, сон был как-то связан с Прюданс и ее саббатом в Гретц-Арменвилье. В самом конце ему привиделось название религиозной общины, организовавшей мероприятие, что-то вроде “юкки”. Он включил ноутбук, попробовал погуглить на скорую руку: нет, не то, юкка – это декоративное растение. Он предпринял еще две попытки и наконец нашел то, что надо: это был, или, вернее, была викка, новая религия, которая сейчас очень быстро набирает обороты, особенно в странах англосаксонского мира. Все остальное не показалось ему ни очень интересным, ни понятным: адепты викки, судя по всему, поклонялись богу и богине, в смысле мужскому и женскому началу, необходимым, считали они, для равновесия мира; эта идея не отличалась сокрушительной оригинальностью. Кстати, Прюданс, часом, не принимает ли участия в ритуальных оргиях? Он бы вообще-то очень удивился. Чуть позже он снова заснул. Хорошо бы время от времени видеть эротические сны с юными богинями в прозрачных платьях, которые валяются в траве на залитых солнцем лужайках, ну и, допустим, славят своего бога, но он не имел ни малейшей возможности контролировать собственную сновидческую жизнь, это так не работает.
В следующий раз он проснулся около одиннадцати. Щедрое солнце на чистейшем лазурном небе освещало леса, луга и виноградники, тридцать первое декабря тоже выдалось ясное. Хорошо, что он так поздно пробудился, больно уж ему неохота ни с кем встречаться; однако он решил все-таки поговорить с Орельеном, он чувствовал, что им с Орельеном необходимо поговорить, но не знал ни о чем, ни даже так ли уж ему этого хочется, и поэтому испытал облегчение, когда, подойдя к дому, наткнулся не на Орельена, а на Мадлен, которая загружала вещи в машину Эрве.
– Мы в больницу, комнату украшать, – сказала она. Посреди горшков с растениями и сваленных в кучу фотографий он заметил в багажнике пять папок из отцовского кабинета, те самые, что он хранил у себя до самого конца.
– Вы везете ему рабочие бумаги? – удивленно спросил он.
– Да, это моя идея, – ответила Мадлен. – Понимаете ли, у него ничего не было в жизни, кроме работы.
Ну тут она прибедняется, подумал Поль, она тоже занимала определенное место в его жизни, возможно, куда более важное, чем то, что занимала когда-то его мать. В это мгновение он осознал, что поездка в Португалию прошлым летом стала их последней совместной поездкой; будущим летом они собирались в Шотландию, одну из тех стран, которые особенно любил отец, где ему хотелось побывать снова. Это путешествие уже не состоится, и, наблюдая, как Мадлен загружает багажник, и размышляя о разбитой жизни Мадлен, он вдруг ощутил такой неистовый прилив сострадания, что ему пришлось отвернуться, чтобы не расплакаться. К счастью, в этот момент появилась Сесиль, она тоже выглядела веселой и явно была в хорошем настроении, какие же все-таки женщины отважные, подумал он, какая же прямо невероятная отвага им присуща. Позже он подъедет к ним в больницу, сказал он, – на “ладе”.
Он никогда толком не мог понять, что сподвигло отца купить дешевый русский внедорожник, который в конце семидесятых стал парадоксальной иконой моды. Подобный дендизм, усугубившийся к тому же тем фактом, что он выбрал специальную серию “Нива-Сен-Тропе”, надо сказать, был ему несвойственен, он как раз ненавидел выделяться на общем фоне и выбирал самые обычные модели.
Он выпил еще одну чашку кофе и пошел в бывшую конюшню, переоборудованную в гараж. Машина завелась сразу, с пол-оборота. И тут он вспомнил, что отец купил ее в 1977-м, в год его рождения, он часто напоминал себе об этом, словно для того, чтобы установить некую неявную параллель, но долголетие этого автомобиля теперь уже внушало опасения. В конце концов, его покупка, может, вовсе и не была проявлением дендизма, он выбрал “Ниву” просто потому, что считал ее хорошим, прочным и надежным автомобилем.
Ему захотелось снова полюбоваться на здешние красоты, и он поехал в Ширубль, потом через Флёри, перевалы Дюрбиз и Фю-д’Авенас и оттуда спустился уже в Божё. Он остановился на полпути, вспомнив, что там есть панорамная площадка. И хоть она находилась всего в нескольких километрах от Вилье-Моргона, виноградники уже исчезли. Окрестные леса и луга, совершенно безлюдные, были погружены в благоговейную тишину. Если бы Бог присутствовал в своем творении, если бы он хотел передать некое послание человечеству, то наверняка выбрал бы это место, а не общественный огород в парке Берси. Поль вышел из машины. И какое, интересно, послание? – подумал он; еще немного, и он выпалит этот вопрос вслух, он еле сдержался, только Господь все равно бы промолчал, это его обычный способ общения, но пустынный фантастический пейзаж, погруженный в сонное безмолвие, это уже совсем неплохо, ничего общего с парижской жизнью, с политическими играми, в которые он снова окунется через несколько дней. Послание казалось в каком-то смысле предельно ясным, но ему трудно было соотнести его с земным существованием Иисуса Христа, отмеченным многочисленными человеческими связями, а также многочисленными драмами, слепцы у него прозревали, паралитики вставали на ноги, он порой обращал внимание даже на обездоленных, чем не политическая акция – местами. Идиллический пейзаж Верхнего Божоле никак не сообразовывался и с мужскими и женскими божествами, которым, судя по всему, поклонялась Прюданс, в нем не усматривалось ровно ничего мужского или женского, а нечто, пожалуй, более общего плана, более космическое. Еще меньше это имело отношение к склочному и мстительному Богу Ветхого Завета, он-то вечно взъедался по пустякам на свой избранный народ. Это наводило скорее на мысль о единственном в своем роде растительном божестве, истинном божестве земли, существовавшем еще до того, как на ней появились животные и принялись носиться туда-сюда. Сейчас божество отдыхало, наслаждаясь покоем погожего зимнего дня, не потревоженного даже легким дуновением; но через несколько недель трава и листья оживут, напитавшись водой и солнцем, и затрепещут на свежем ветерке. Ведь растения, если, конечно, ему не изменяла память, тоже размножаются, существуют мужские и женские цветы, и в этом деле важная роль отводится ветру и насекомым, с другой стороны, растения размножаются порой и простым делением или корневищами, на самом деле его воспоминания о биологии растений были весьма смутными, но все же она следовала менее напряженной драматургической интриге, чем оленьи бои или конкурсы мокрых маек.
Он снова сел за руль в состоянии полной интеллектуальной прострации и, так и не встретив по дороге ни одной машины, продолжил путь в Божё, “историческую столицу Божоле”, в том же Божё он как-то летом впервые в жизни поцеловал девушку, ему исполнилось пятнадцать, но это было так давно, так отчаянно давно, что теплая влажность этого поцелуя казалась ему почти нереальной, девушку звали Магали, да, точно, Магали, у него тогда сразу встал, они так сильно прижались друг к другу, что она не могла этого не почувствовать, но даже не попыталась пойти дальше, он, впрочем, тоже, он понятия не имел, как это делается, в то время не было порнухи онлайн, первый раз он переспал с девушкой два года спустя, уже в Париже, ее звали Сирьель, причудливые имена постепенно входили в моду, по крайней мере в городской среде, но интернет еще не появился, человеческие отношения были проще. Love was such an easy game to play, как сказал его тезка, и вдруг он задумался, не назвали ли его, как и Прюданс, в честь “Битлз”. Нет, это все же маловероятно, отец никогда не питал особой любви ни к их музыке, ни к какой-либо музыке вообще, если уж на то пошло, но в то же время он всегда был очень скрытным человеком, словно профессиональная обязанность хранить тайну распространилась на все стороны его жизни. Так, например, в прошлый раз, навещая отца, он с удивлением обнаружил, что один из его настольных авторов – Жозеф де Местр, притом что никаких роялистских идей он, в его присутствии во всяком случае, не высказывал, а, напротив, позиционировал себя преданным слугой Республики, невзирая на масштаб ее заблуждений.
Он ехал медленно, очень медленно, по все таким же пустынным проселочным дорогам и несколько раз останавливался ненадолго, чувствуя, как в нем растет неуверенность, словно коварная болезнь, так что ему потребовалось почти полчаса, чтобы добраться до Бельвиля.
Этот городок оказался таким же пустынным, как и его окрестности, он словно сфокусировался на самом себе и собирался с силами, чтобы перепрыгнуть в 2027 год, приветствуя его забавным баннером у въезда на улицу Маршала Фоша: “Бельвиль-ан-Божоле радостно встречает 2027 год.” Уже почти совсем стемнело, когда он припарковался наконец перед больничным центром, первый коридор, по которому он пошел, был плохо освещен, должно быть, проблемы с электричеством. Повернув направо на первом перекрестке, он увидел пожилую женщину с ходунками, идущую ему навстречу. Ей было не меньше восьмидесяти, длинные растрепанные седые волосы спадали ей на плечи, она была совершенно голая, если не считать испачканного памперса, на правой ноге подсыхали подтеки дерьма. Когда он остановился, не понимая, как поступить, его быстрым шагом обогнала медсестра, толкая перед собой тележку с лекарствами. Он даже не успел махнуть ей рукой, но ведь она не могла ее не заметить и все-таки прошла мимо, даже не подумала притормозить. Старуха неумолимо приближалась к нему, он с трудом оторвал взгляд от ее дряблых грудей, и, когда она была уже в трех метрах, ему удалось встряхнуться, он повернул назад и почти бегом бросился в коридор, из которого только что вышел. Но теперь вход в него загораживала каталка. Тут он понял, что ему следовало с самого начала взять левее, в отделение ХВС-СМС, а свернув направо, он попал в ДИПИ. Он подошел к каталке: очень пожилой мужчина с истощенным лицом, краше в гроб кладут, еле дышал, сцепив руки на груди, но Полю почудилось, что он расслышал легкий хрип. У главного входа медбрат или санитар – он не умел их различать – сидел на стуле, уставившись на экран своего мобильника.
– Вы видели, там человек… – сказал он, чувствуя себя полным идиотом. Тот ему не ответил, продолжая постукивать пальцами по сенсорному экрану, который время от времени издавал что-то вроде легкого “плюх”, наверняка это игра какая-то. – Может, надо что-то предпринять? – не отставал Поль.
– Я жду напарника, – раздраженно отозвался медбрат, и на этом разговор закончился.
Застекленный коридор привел Поля в общий зал отделения ХВС-СМС; теперь он уже сориентировался и быстро нашел комнату отца. Сесиль и Мадлен превзошли себя: на подоконнике и невысоком книжном шкафчике красовались растения в горшках, отец всегда любил растения, от человека, у которого никогда не было домашних животных, не ожидаешь такого нежного отношения к растениям – он сам ухаживал за ними, поливал, постоянно переставлял их, чтобы обеспечить необходимое им количество света. На книжных полках стояли его папки, те самые, и книги, которые он не помнил, смесь современных криминальных романов и классики, представленной в основном Бальзаком. Должно быть, книги они взяли у него в спальне, отец читал, как правило, по вечерам, перед сном, а Поль никогда не заходил в спальню родителей. Стена напротив кровати превратилась в настоящую мозаику из фотографий. Прежде всего, его поразила фотография родителей, обнимающихся на террасе у моря, судя по всему, в Биаррице; такими молодыми, как на этом снимке, он отца и мать не мог помнить, им тут, вероятно, лет по двадцать с чем-то, не больше, его тогда не было на свете, даже на стадии проекта. Главной героиней многих других фотографий была Сесиль, и простодушная гордость, с которой отец держал ее на руках, совсем маленькую, ей тут от силы полгода, не оставляла никаких сомнений относительно отцовских предпочтений и любви. Но все-таки на одной фотографии он стоял рядом с отцом; их сняли перед домом в Сен-Жозефе, оба они только что слезли с велосипедов, опустив подножки, и теперь улыбались в объектив, ему там, должно быть, лет тринадцать. Он помнил свой велосипед, “полугоночной” модели с гоночным рулем, но при этом с брызговиками и багажником, этот промежуточный тип велосипеда, видимо, уже напрочь исчез, сегодня таких полугоночных велосипедов в продаже не найти. На других фотографиях отец принимал участие в строительстве дома, стоя рядом с незаконченной каменной стеной, или позировал с инструментами в руках за плотницкой работой; он выглядел счастливым, очевидно, этот дом многое для него значил. Однако в большинстве случаев его фотографировали в рабочей обстановке, в компании коллег, иногда в офисе, иногда в других местах, определить которые было сложнее, часто где-то в пути – в аэропортах и на вокзалах. На одном довольно поразительном снимке он затесался в группу мужчин в черных дутых комбинезонах, они стояли по команде “вольно”, направив стволы автоматов в землю, и улыбались в объектив, серьезным оставался только отец, и Поль в очередной раз задал себе вопрос, который уже давно его мучил: руководил ли его отец, или, скорее, отдавал ли он приказы о проведении операций на земле? Бывал ли он инициатором физического устранения?
– Тебе нравится? – Сесиль задала этот вопрос еле слышно, он постепенно вернулся в реальность и понял, что очень долго простоял так перед стеной фотографий, полчаса, а то и час. Он оглянулся на отца, тот с непроницаемым лицом полусидел на кровати.
– Да, – ответил он, – думаю, ему очень понравится, он целыми днями будет на них смотреть. – Мадлен, понял он в эту секунду, на фотографиях отсутствовала, она работала совершенно бескорыстно. Наверное, это нормально, сказал он себе, его отец, видимо, достиг того возраста, когда уже не испытываешь особого желания фотографировать, в смысле фотографироваться, запечатлевать мгновения, свидетельствующие о ходе времени; но желание жить еще есть, и, возможно, оно сильнее, чем когда-либо. Мадлен тут, с ним, она всегда будет тут, до последнего мгновения, отцу ни к чему фотографии Мадлен.
В дверь постучались, Сесиль ответила: входите. В комнату вошла чернокожая девушка, медсестра или санитарка, у Поля сложилось впечатление, что они тут носят одинаковые формы, в лионской больнице они разные, а здесь он не мог их различить. Потрясающая красотка лет двадцати пяти, ее длинные, блестящие и гладкие волосы, идеально распрямленные, подчеркивали чистоту ее черт, он никогда не понимал, как это они умудряются, но результат его впечатлил.
– Меня зовут Мариз, – сказала она, – я буду ухаживать за вашим папой большую часть времени, мы работаем посменно с Аглаей, моей напарницей. И конечно же, с Мадлен, поскольку она останется у нас. Сейчас мы пересадим вашего папу в кресло и отвезем в общий зал на новогодний банкет с нашими постояльцами и персоналом. Вы тоже можете прийти, если захотите. Потом у нас состоится концерт классической музыки для всех желающих.
Только тут Поль обратил внимание на инвалидное кресло, стоявшее в углу комнаты, хотя оно было огромным, со множеством мягких подложек; очевидно, его изготовили на заказ, оно больше напоминало самолетные кресла бизнес-класса.
– Кресло регулируется по углу наклона, – сказала Мариз, – от сидячего положения до почти лежачего. И мотор у него мощный, четыре часа автономной работы, так что можно отправиться на дальнюю прогулку. – Она подкатила его к кровати и нажала кнопку, чтобы приподнять кровать сантиметров на двадцать. – Возьми его под колени, – велела она Мадлен, а сама обхватила его за плечи, со стороны их манипуляции выглядели очень простыми, не прошло и полминуты, как они усадили его в кресло.
Несмотря на внушительные размеры, эта машина была несложной в обращении, и они легко лавировали по коридорам. В общем зале уже собралось человек двадцать пациентов, их каталки были расположены более или менее по кругу. В кругу нашлось место и для отца, его соседями с двух сторон оказались совсем молодые люди, с удивлением отметил Поль, тому, что справа, было не больше тридцати, а слева сидел и вовсе подросток. Доктор Леру переходил от одного кресла к другому, кратко заговаривая с каждым пациентом, он ведет себя, думал Поль, будто свято верит, что все его слова ими поняты, даже если они и не в состоянии ему ответить, в конце концов, ему виднее, он все же врач, хотя, наверное, непросто все время говорить и ни разу не услышать ответа. Поль пошел вглубь зала, к столу на козлах, заставленному бутылками игристого вина и тарелками со сладким и соленым печеньем, вокруг толпились санитарки, ну и еще обычные люди, вероятно родственники больных, то есть их товарищи по несчастью, но он не понимал, как наладить с ними контакт, и выпил три бокала игристого подряд в надежде придумать тему для разговора. В эту минуту к нему, слава богу, присоединилась Сесиль, за ней по пятам следовал Эрве, вот она уж точно спасет ситуацию, навыков человеческого общения ей не занимать.
Закончив обход пациентов, Леру перешел к медицинскому персоналу и наконец обратился к родственникам, начав с Сесиль, которая стояла рядом с ним.
– Вы у нас новенькие, – сказал он. – Надеюсь, что вам тут нравится и мы не обманули ваших ожиданий.
– Спасибо, доктор. Я очень благодарна вам за все, что вы делаете.
– Мне проще, чем вам. Это моя профессия, я просто стараюсь работать как можно лучше.
Любовь – это не вполне профессия, подумал Поль, но профессия тоже необходима. Это скорее нормально, подумал он, что вечером тридцать первого декабря он предается абстрактным размышлениям, пусть и невнятным. В эту минуту через дверь в глубине зала вошли музыканты, и тут он увидел, что на эстраде стоит кабинетный рояль и рядом с ним виолончель на подставке. Следом вошли два скрипача со своими инструментами, и за ними появилась пятая музыкантша с чем-то вроде скрипки, но побольше. Это и есть альт? А они, значит, струнный квартет? В струнных квартетах он разбирался не лучше, чем в сельскохозяйственных животных, и знал только, что для струнного квартета в истории западной музыки существует обширный репертуар. Тут в двух метрах от себя он заметил Эрве, погруженного в изучение распечатанного листка, очевидно, это была программа музыкального вечера, и подошел к нему, чтобы прочесть ее вместе с ним. Музыканты настраивали инструменты, это заняло довольно много времени, но никто явно никуда не торопился, Леру продолжал обходить по очереди всех родственников, обмениваясь с каждым парой слов.
– Ну ладно! – сказал он наконец громким голосом, чтобы перекрыть окружающий гомон. – Я должен вас оставить, меня ждут дома. Удачи тем, кто дежурит сегодня ночью. Всего доброго и счастливого Нового года.
– Сколько сейчас? У тебя есть часы? – Сесиль оглянулась на Эрве.
– Четверть десятого.
– Эрве, мы забыли! Мы совсем о них забыли! Кроме того, я не купила никакой еды, поехали домой.
– Я слышал много хорошего о Бартоке… – задумчиво сказал Эрве, повертев программку в руке.
– Нет, послушай, дорогой, нам правда пора, тридцать первое декабря, так нельзя. – Она была в полном ужасе, и он пошел следом за ней, больше не возражая, разве что буркнул еле слышно:
– Они могли бы поехать с нами…
Они нагнали доктора Леру в вестибюле и вышли из больничного корпуса вместе с ним. И замерли на месте, так было холодно. Ночь выдалась ясной, очень звездной и как-то абстрактно прекрасной.
– Я хотел спросить вас… – обратился Поль к Леру. – Мне показалось, что у вас много совсем юных пациентов.
– Это правда. Я даже думаю, что ваш отец будет у нас старейшиной. Часто состояния ХВС-СМС являются последствием черепно-мозговой травмы, например, в результате падения с мотоцикла или скутера, это распространенный случай. Но… Что тут можно поделать? – Он произвел какое-то сложное движение правой рукой, изображая нечто среднее между взлетом и падением, видимо, чтобы нагляднее продемонстрировать необходимость соблюдать меры предосторожности, важность мотоциклетного шлема, мудрость правил безопасности на дорогах, а также угар от езды с непокрытой головой за рулем двухколесного транспортного средства на полной скорости по извилистому склону. “Я здесь не для того, чтобы судить, а для того, чтобы лечить”, – ну, он такого бы не сказал, но у Поля возникло ощущение, что эта фраза буквально витала в воздухе, и это было так очевидно, словно он услышал ее. Они снова пожелали друг другу счастливого Нового года, и Леру направился к парковке.
Мадлен решила провести ночь в больнице; ее раскладушку еще не принесли, но она обойдется подушкой и одеялами; она уже словно отдалилась от них, обустраивая себе новую жизнь. До них донесся аккорд струнных, приглушенный расстоянием, посреди довольно живого аллегро. Они еще постояли пару минут во дворе больницы под звездами, потом Сесиль положила руку Эрве на плечо. Он молча кивнул и достал ключи от машины.
11
Возможно, следовало все же попытаться поговорить с Орельеном, как он и собирался, подумал Поль, приехав в Сен-Жозеф. Они крикнули, что дома, но никто не отозвался, видимо, те взяли такси и отправились куда-нибудь поужинать; как ни удивительно, найти такси тут не составляло труда; Божоле оказался вполне живой областью, что теперь скорее исключение из правила, тут были магазины, врачи, такси, медсестры на дому, так, наверное, выглядел прежний мир. За последние несколько десятилетий Франция превратилась в бессистемное скопление городских агломераций и “сельских пустынь”, во всем мире происходило то же самое, разве что в бедных странах роль городских агломераций играли мегалополисы, а пригородов – бидонвили. Так или иначе, Орельен с женой уехали. Они с Сесиль огорченно переглянулись; она, смирившись, пожала плечами и занялась ужином; в кладовой нашлись консервы, а в холодильнике – все, что нужно для салата.
Что касается вина, то это был верх роскоши. Прямо из кухни ступени вели в погреб, вырытый на подвальном этаже. Поль никогда туда не спускался, вином занимался отец. Включив световые полоски вдоль полок, он опешил: повернутые под небольшим углом, тут лежали сотни бутылок; в помещении было прохладно и сухо, наверняка тут поддерживались идеальные условия хранения, можно не сомневаться. Пытаясь сориентироваться, он быстро понял, что вина распределены по регионам. Здесь были разные сорта бургундского, и, судя по всему, весьма почтенного, и бордо, несомненно ни в чем им не уступавшие. Очередное увлечение отца, даже страсть, можно сказать без преувеличения, о которой он ничего не знал. Побродив пару минут между “Пюлиньи-Монтраше” и “Шато Смит О-Лафит”, он приуныл и решил призвать на помощь Эрве; ему наскучила роль хозяина дома, с того момента, как он приехал сюда, его не покидало любопытное ощущение, что старшей теперь стала Сесиль, а он – ее младшим братом. Она многое пережила, у нее были дети, словом, все это имело отношение к жизни, он же только и делал, что составлял невнятные отчеты, предназначенные для пояснительных записок к финансовым законопроектам, так что выбирать вино должен Эрве. Он тоже открыл рот от изумления, войдя в погреб.
– Да, нехило… – признал он. – Впрочем, знаешь, я не лучше тебя в этом разбираюсь. Как тут можно что-то выбрать?
Поль пожал плечами:
– Понятия не имею… Возьмем несколько бутылок. – Этот погреб – очередная загадка, связанная с личностью отца, подумал он, поднимаясь на кухню; как-то он не вяжется с пенсией отставного сотрудника ГУВБ, более или менее равнозначной, считал он, пенсии полицейского. А может, и нет, может, он был хранителем особых гостайн и за это получал прибавку к зарплате; например, определенные суммы из так называемых спецфондов, кругооборот которых в госаппарате страшный секрет, даже Брюно оставил всякие попытки узнать о них больше, зачем ссориться из-за этого с коллегами из министерств внутренних дел и обороны, решил он, все равно это “жалкие гроши”; все суммы меньше миллиарда евро были для него “жалкими грошами”.
В разгар ужина у него вдруг ужасно разболелась голова, во рту появился неприятный привкус какой-то гнили, что ли, он не мог дождаться, когда уже наконец закончится это тридцать первое декабря, но ему еще предстоял сыр, и стоило ему откусить кусочек пармезана, как слева, там, где зубы мудрости, его пронзила острая боль. Он осторожно ощупал челюсть, боль стала настойчивей, должно быть, у него снова абсцесс, он лет десять страдал от абсцессов, а старик дантист, к которому он раньше ходил на улицу Монтань-Сент-Женевьев, уже вышел на пенсию, а то и умер, придется искать другого, наверняка это окажется молодой парень, он попытается впарить ему импланты, дантисты просто помешались на имплантах, ну конечно, так они зарабатывают себе на жизнь, и все же они перегибают палку со своими имплантами, он ни за что не хотел никаких имплантов, если бы можно было обойтись без зубов, он бы предпочел вообще их не иметь, зубы казались ему, прежде всего, источником проблем, так что импланты – спасибо, не надо, но он знал, что ему их предложат, и тогда придется отказываться – такая перспектива заранее его изнуряла.
Они уже заканчивали десерт, и Эрве как раз достал бутылку бенедиктина, когда послышался скрип входной двери, а затем шаги на лестнице. Сесиль вдруг замерла и покраснела; Эрве положил ей руку на плечо, нежно его поглаживая, но не смог ее успокоить.
Да, это были они. Годфруа сразу бросился в свою комнату, только его и видели, прыткий и верткий как форель; он не то чтобы тащился от семейных конфликтов. Инди же тяжело плюхнулась на стул напротив Поля, расставив ноги, как старуха, прямо воплощение поруганной доброй воли, – но ее взгляд был цепким и чуть ли не умным, она пребывала в полной готовности всем напакостить, это ему тут же стало ясно. Орельен сел рядом с ней, лицом к лицу с Сесиль, он коротко взглянул на старшую сестру, казалось, он вот-вот расплачется. Эрве откинулся на спинку стула и очень медленно налил себе рюмку бенедиктина, никому его не предложив.
– Мы немного задержались в больнице, – смущенно начала Сесиль.
– Мы заметили. Не важно, мы уже поели. – Инди угрожающе помолчала несколько секунд. – Нам все-таки придется кое-что обсудить. – Она кивнула Орельену; должно быть, он отрепетировал свои реплики в машине и поэтому начал довольно непринужденно:
– Папа уже явно не в состоянии управлять своими финансовыми делами. В этих обстоятельствах, на наш взгляд, было бы целесообразно оформить над ним опеку. – И он умолк.
Инди подбодрила его взглядом, но он не произнес больше ни слова; очевидно, забыл, что дальше. Три жалкие фразы не в состоянии запомнить – она с отвращением покачала головой.
Поль схватил бутылку бенедиктина, налил себе рюмку и медленно покрутил ее, поднеся к глазам. Ему даже нравилась такая атмосфера, он прямо ощущал нарастающие волны ненависти, к тому же алкоголь немного притупил зубную боль, но зато он покрылся испариной. Он взял себя в руки, выждал несколько секунд и, тщательно артикулируя каждое слово, произнес:
– А в чем, по-вашему, заключается необходимость оформления опеки? Быть может, вы считаете, что существует опасность хищения денежных средств?
Инди поначалу ничего не ответила, кинув властный взгляд на Орельена, но все зря, мало того что он на самом деле забыл свой текст, но и вообще, очевидно, витал в облаках, уставившись в какую-то неопределенную точку пространства, которая вполне могла оказаться точкой Омега или реинкарнацией Вишну.
– Или вы полагаете, например, что Мадлен способна воспользоваться ситуацией и лишить нас того, что нам причитается?
– Ни в коем случае! Речь не идет о том, чтобы кого-то в чем-то обвинять! – вскинулась она, словно ее подстегнули щелчком кнута, очевидно, вспомнила очередную заготовленную тираду, некую последовательность фраз, которую собиралась произнести. – С другой стороны, у вашего отца есть общий счет с Мадлен, что, согласитесь, довольно необычно.
– Так решил папа. – На “папе” у него прочувственно дрогнул голос, он буквально выдохнул последнее слово, Инди тут же заткнулась, почва все стремительнее уходила у нее из-под ног, а его это уже по-настоящему забавляло, и он вовсе не прикидывался, он правда растрогался при мысли об их совместном счете, сам он так и не дошел с Прюданс до этой стадии, отец определенно поднялся до неведомых ему высот человеческого опыта. Он встал, подошел к окну, полная луна освещала луга вокруг дома, только ведь лунный свет не успокаивает, напротив, как правило, лишь обостряет неврозы и безумие. Он вернулся на свое место, немного все-таки тревожась за продолжение вечера.
– Опека очень часто назначается в аналогичных случаях, – вновь подал голос Орельен, ко всеобщему удивлению. Он произнес эти слова автоматически, ни к кому не обращаясь, на самом деле он просто вспомнил вдруг следующее предложение своей роли и затем снова погрузился в молчание.
– Именно. В подобной ситуации опекунство часто запрашивают дети. Я не раз сталкивался с этим в своей практике. – Эрве говорил громким, хорошо поставленным голосом; Инди с изумлением повернулась к новому противнику. – Назначение опекуна входит в компетенцию судьи по месту жительства, у нас это будет суд высокой инстанции города Макона. Обязанности опекуна достаточно обширны; он также в случае необходимости решает, имеет ли место агрессивная терапия. Дело в том, что доктрина неизменна, как, кстати, и прецедентное право: судья всегда склонен назначить опекуном самого близкого из детей в личном и географическом плане.
– Ну конечно! – огрызнулась Инди. – У нас работа в Париже, не можем же мы… – И осеклась. Она хоть и не произнесла: “не можем же мы торчать в провинции и сачковать на пособии по безработице…” – но была очень к этому близка.
Эрве подождал, пока эти невысказанные слова медленно сгустятся в воздухе, и заговорил любезным тоном:
– Вот это я и имел в виду. У вас нет возможности обеспечить достаточную географическую и эмоциональную близость. – И он подлил себе бенедиктина.
Она неуверенно всплеснула руками в надежде обрести второе дыхание и повернулась к Орельену – пустые хлопоты, он так и сидел неподвижно, уставившись в пустоту, но ей самой удалось встрепенуться и снова перейти в наступление, ее боевитости можно было только позавидовать.
– Однако, мне кажется, это не решает всех проблем. Например, скульптуры Сюзанны плесневеют в амбаре, там они недоступны для широкой публики, что, мне кажется, противоречит ее пожеланиям. Орельен единственный, кто вникал в творческие проекты матери, они в этом смысле понимали друг друга с полуслова, мне кажется, это дает ему определенное моральное право.
При словах “моральное право” Эрве широко улыбнулся и устроился в кресле поудобнее. Он помедлил еще полминуты, словно дожидался, пока на него сойдет нотариальный дух, и непринужденно продолжил, с рюмкой бенедиктина в руке:
– Моральное право можно разложить на право изъятия произведения из обращения, право на обнародование, право на неприкосновенность произведения и право на атрибуцию. Право на изъятие является особым, поскольку оно исчезает вместе с автором, за исключением наличия особого завещательного распоряжения, но предполагаемая выставка скульптур – скорее вопрос права на обнародование. В случае наследования ab intestat[26] право на обнародование действительно следует альтернативным правилам перехода прав по наследству, отступающим от общего права наследования. Дети являются совместно его первыми бенефициарами, за ними следуют родители умершего, если таковые имеются, при этом супруг занимает лишь третью позицию. В отношении двух других аспектов применяется обычное наследственное право. – Он выдержал паузу. – Что касается имущественного права – а это предмет, который, я полагаю, волнует вас прежде всего, – то тут также надо следовать нормам обычного наследственного права.
Наступило молчание. Оно затягивалось, и Поль опустил голову, ему даже смотреть на Инди не хотелось, до него донесся ее хриплый вздох, на этот раз она и впрямь была разбита в пух и прах. Ему стало чуть ли не жаль ее: Инди не просто хищница, она относится к виду хищников, обладающих самым низким интеллектом; все знали в общих чертах, пусть не так детально, как Эрве, что наследство делится практически поровну между детьми; на что эта дрянь могла рассчитывать? Внезапно Орельен встал словно робот, развернулся и пошел в их спальню. Инди, обомлев, провожала его взглядом, ошеломленная таким отступничеством, но не нашла в себе сил отреагировать. Сесиль мяла в руках кухонное полотенце, чувствовалось, что она вот-вот расплачется. С ума сойти, до какой степени она не выносит конфликтов, – подумал Поль; она все же мать двух девиц, почти ровесниц, наверняка они ссорились из-за шмоток или интернет-сайтов, чего ж она по-прежнему такая трепетная?
Инди так и сидела в оторопи, ей потребовалась целая минута после ухода Орельена, чтобы прийти в себя, и она снова попыталась ринуться в атаку, словно старый больной буйвол.
– Поразительно, – рискнула возразить она, – что муж Сюзанны по-прежнему сохраняет право контроля над ее работами, хотя он явно уже… – Она тщетно искала синоним слова “овощ” и в конце концов объяснила, что он теперь совсем не способен выражать свою волю да и просто общаться с людьми, короче, его уже нельзя считать личностью, разве что “юридическим лицом, разумеется”. Что она имела в виду? Возможно, ничего, она путалась в терминах.
Поль невозмутимо поднял руку и сказал, что она, вероятно, не вполне поняла разъяснения Эрве: право на обнародование произведения как раз и отличается приоритетом детей и даже родителей над супругом. Более того, понятие “общения” весьма относительно, – любезно подчеркнул он. Вот ее сын Годфруа, например, отнюдь не в вегетативном состоянии, но следует ли из этого, что с ним можно общаться?
Испустив стон, она согнулась пополам, словно ее ударили в солнечное сплетение, и так, не выпрямляясь, через несколько секунд встала и вышла из столовой. Очевидно, удар достиг своей цели, она еле передвигала ноги. Вот и все, семейный новогодний ужин на этом завершился. Поль взглянул на часы: 23.55, ему давно пора спать, он все сильнее потел, зуб снова разболелся, в глазах помутилось. Ну, несколько минут он еще продержится.
Сесиль устало вздохнула, но он опередил ее, не дав ей открыть рот:
– Подожди, я сразу тебя прерву. Эрве все правильно сделал. С ней надо проявлять твердость, это единственный выход; завтра утром она будет как шелковая. Без нашего согласия она не обойдется, если захочет продать скульптуры. – Он чуть было не сказал “этот хлам”, но вовремя осекся и похвалил себя за тактичность.
Она покачала головой, посмотрев на них обоих по очереди.
– Вы не понимаете… – произнесла она наконец. – Ее притязания, конечно, смехотворны, и ей необходимо было на это указать, но зачем же так ее унижать?
Тут она, возможно, и права, подумал Поль. 2027 год еще не наступил, у них могут возникнуть проблемы, надо будет принимать какие-то решения; может быть, не так уж и умно с их стороны с самого начала настраивать Инди против себя, она обладает реальной вредоносной силой. Но все же он ничуть не сомневался, что у нее чисто денежные мотивы, то есть они с ней всегда договорятся на взаимовыгодной основе.
– Ты что, всерьез на меня сердишься, дусик? – Эрве обнял ее за плечи, вид у него был ужасно расстроенный и пристыженный.
– Нет, я не сержусь на тебя всерьез, она действительно невыносима, эта сука… – смирившись, сказала Сесиль, – и потом, твой нотариальный спич звучал довольно забавно. – Эрве не стал говорить ей, что, по его понятию, это был никакой не спич, а призыв к соблюдению законов. – Но, как всегда, проблема в Орельене, он попал в очень непростую ситуацию…
И впрямь, подумал Поль, ситуация очень непростая и вряд ли вскоре улучшится. Было две минуты первого, новый год вступил в свои права. Он крепко обнял Эрве и энергично расцеловал его в обе щеки. За последние дни они сблизились, что-то между ними возникло, какой-то союз – и, не будучи в состоянии ясно сформулировать свою мысль, он чувствовал, что ему понадобится союзник, что новый год сулит что-то опасное и мрачное. Он тут же отправился спать, но заснуть не смог, несмотря на количество выпитого, зуб снова заболел, и он вернулся к мыслям о 2027 годе. Ему определенно не нравился этот год, что-то было отталкивающее в самой комбинации цифр. 20 и 27 – очевидные составные числа, произведения из таблицы умножения, которую в его время еще зубрили в начальной школе: четырежды пять – двадцать, трижды девять – двадцать семь. А может, 2027 – простое число? Он снова включил компьютер и быстро проверил: действительно, 2027 – простое число. Ему это показалось чудовищным, противоестественным, но в каком-то смысле такая анормальность характерна для простых чисел. Распределение простых чисел уже многих свело с ума на протяжении долгой истории Запада.
Три
1
На следующее утро Инди была настроена дружелюбно, извинилась за свою несдержанность, более того, поблагодарила Эрве за потрясающую лекцию по наследственному праву – тут она перестаралась, подумал Поль.
– Так или иначе, насколько я понимаю, мы все согласны с тем, что скульптуры надо продавать… – заметила она приподнятым тоном.
– Неизвестно, что бы на это сказал отец… – отважилась Сесиль. – И Мадлен…
– Ну почему же, очень даже известно, – спокойно отозвался Поль.
Сесиль тут же признала, что он прав; и впрямь известно. Закрыв двери амбара на висячий замок, Эдуар потерял всякий интерес к этому сюжету. Что касается Мадлен, то она, возможно, никогда и не заглядывала в этот амбар, да и вообще непонятно, знала ли она, что там хранятся скульптуры. Отношение Эдуара к запоздалым творческим амбициям жены всегда было странным: он не выказывал неодобрения, но и неподдельного интереса тоже не проявлял, он просто-напросто никогда об этом не заговаривал и, по всей видимости, слишком и не задумывался. Так же сдержанно, если уж на то пошло, он относился и к значительной части художественных произведений человечества вообще, особенно в области изобразительных искусств. Поль помнил несколько культурных выходов, которые они совершили всей семьей, в частности, посещение аббатства Везле, ему было тогда лет десять. Стоило им переступить порог какого-нибудь религиозного здания, а им его мать посвятила свою профессиональную жизнь, как она преображалась в словоохотливого восторженного гида, комментировала все элементы убранства, все статуи подряд, они часами торчали в одном только баптистерии. Отец молчал на протяжении всей экскурсии, держась почтительно и смущенно; он вел себя так, словно имел дело с каким-то очень важным досье, в котором ему недоставало информации. Христианское искусство – предмет важный, достойный уважения и занимает существенное место в воспитании детей, в этом он не сомневался; но все это было глубоко ему чуждо. Поль, однако, задавался иногда вопросом, не способствовали ли эти посещения памятников религиозной архитектуры, довольно необычные для детей их возраста, мистическим кризисам Сесиль; в глубине души он в это не верил. Его младшая сестра никогда не была эстеткой, и китчевые изображения Девы Марии, которые им раздавали на уроках катехизиса, восхищали ее не меньше, чем репродукции шедевров итальянского Возрождения. В ее случае не это послужило толчком, скорее некий порыв человеколюбия, сострадание и любовь, направленные на человечество в целом. Он вспомнил, что она вместе с другими экзальтированными юными католиками вступила в ассоциацию “Пробуждение радости”, ну или что-то вроде того, – в выходные дни они навещали стариков в домах престарелых, которые тогда еще не назывались ДИПИ. Потом они запустили инициативу по мытью ног бомжам, слонялись по парижским улицам, нагруженные тазами, канистрами с горячей водой, антисептическими средствами, новыми носками и обувью; ноги бездомных действительно чаще всего были в ужасающем состоянии. Отец относился к ее деятельности с несколько озадаченным уважением, на самом деле его, видимо, слегка тревожил столь причудливый генетический выверт, превративший его, судя по всему, в отца святой, и он с облегчением вздохнул, когда Сесиль впервые проявила некоторые признаки увлечения вполне конкретным человеком – а именно Эрве.
Так или иначе, двадцать пять лет спустя в продаже скульптур была, прежде всего, заинтересована Сесиль, она нуждалась в деньгах гораздо больше остальных, и рано или поздно она это поймет, не она, так Эрве. Поль всегда считал, что его невестка переоценивает суммы, которые можно получить от этой продажи, но главным образом потому, что ни в грош не ставил художественные произведения матери, так что факты на первый взгляд доказывали правоту Инди. Он помнил, что при последней сделке они получили довольно высокую сумму – около двадцати или тридцати тысяч евро. Если предположить, что цены не изменились, Сесиль достанется почти десять тысяч; а в амбаре стояло штук тридцать, а то и сорок скульптур. Для них это огромная сумма, безусловно превышающая стоимость их дома в Аррасе и вообще всего имущества. Надо составить точный список, сделать подробное описание каждой работы, связаться с галеристами. Орельен обещал взять все на себя и сказал, что будет рад посвятить этому свои выходные. Особенно, подумал Поль, он будет рад предлогу отдохнуть от жены.
Долину Соны окутал густой туман, и они чуть было не опоздали на вокзал Макон-Лоше. Поль собирался уже поменять свой билет онлайн, чтобы не ехать в одном поезде с Орельеном и Инди, но в конце концов плюнул. Они тоже оказались в первом классе, но в другом вагоне. Праздники продолжались, и в пятницу первого января в поезде было практически пусто. Он вежливо кивнул им и прошел на свое место. Через две минуты поезд тронулся. Езду на скорости 300 км/ч сквозь океан непроницаемого бескрайнего тумана, не допускавшего ни малейшего намека на окружающий ландшафт, нельзя назвать путешествием в полном смысле слова; это сродни, думал он, какому-то оцепенению, неподвижному падению в абстрактное пространство.
Они ехали уже около часа, а он так и сидел не шелохнувшись, даже сумку свою не закинул на полку, как вдруг он увидел Орельена, нерешительно топчущегося в дверях вагона с пакетиком сладостей и банкой колы в руке. Он подошел к нему и спросил:
– Хочешь M&M’s? – Он отказался, удивленно мотнув головой; неужели он здесь только для того, чтобы угостить его M&M’s? – Я сяду? – спросил Орельен.
– Ну конечно.
– Знаешь… – заметил он, помолчав, – я не во всем согласен с Инди.
Поначалу, сказал Орельен, ему не хотелось выставлять скульптуры на продажу, он предпочел бы создать музей на их основе. Но создать музей сложно, пришлось бы организовать билетную кассу, систему охраны. К тому же, подумал Поль, мало кто этим заинтересуется, скорее всего; но промолчал. Если он будет ради этого приезжать на уикенды, продолжал Орельен, они, наверное, смогут почаще видеться.
– В последнее время, – сказал он, – я немного сблизился с папой. – Он пустился в подробный рассказ, и Поль с удивлением понял, что за эти два года Орельен приезжал в Сен-Жозеф чаще, чем он, и как правило, приезжал один. – Знаешь, с папой мне иногда бывало непросто, – добавил он. И это еще слабо сказано, первые двадцать пять лет его жизни их с отцом вообще ничего не связывало, за исключением разве что глухой враждебности. – Ну и с Сесиль, мы подолгу разговаривали с Сесиль…
Ну и с Сесиль, само собой. Поль с ужасом осознал, что Орельен ждет, что он поговорит с ним как старший брат, кем он, собственно, и является. Только что он ему скажет? Он не мог, совсем не мог говорить с ним откровенно, не обидев его при этом. Разумеется, ему следовало бы развестись, это единственное, что надо сделать, но в ближайшем будущем рассчитывать на это не приходится, она будет яростно за него цепляться до тех пор, пока деньги от продажи скульптур не станут частью совместно приобретенного имущества, потом она его отпустит, и он сможет подвести черту, в конце концов, он еще молод, вполне хорош собой и занимает достойную должность в учреждении культуры, то есть имеет все шансы на успех, так что он потерял бы всего десять лет жизни. Вообще-то, конечно, если задуматься, он нашел бы что ему сказать, но пока они еще не настолько близки, и Орельен попрощался, выразив надежду, что им вскоре снова представится возможность пообщаться. Поль поудобнее устроился в кресле. Этот разговор его утомил, у него заныла шея. Туман снаружи был все таким же непроницаемым; где, интересно, они сейчас? В Монбаре, Сансе, Ларош-Миженне? Скорее всего, он рассеется, как только они доедут до первых пригородов.
2
Иправда, туман немного рассеялся у Корбей-Эссона, где тоскливый пазл домов-пеналов, коттеджей и башен способен уничтожить в зародыше самый робкий намек на надежду. Внушительные строения Берси смотрелись тоталитарной цитаделью посреди города. Брюно, наверное, сейчас там, может, в эту самую минуту он бредет по пустынным коридорам из служебной квартиры в кабинет; кроме него во всем министерстве наберется от силы десятка три сотрудников, обеспечивающих необходимый надзор и техобслуживание. Поль почувствовал себя чуть лучше, войдя в сад Ицхака Рабина: между деревьями плавали клочья тумана, и сад казался призрачным и почти безлюдным, если бы не одинокие китайские туристы в поисках, возможно, Синематеки, находящейся поблизости, либо они просто заблудились, опрометчиво оторвавшись от своей группы в момент всеобщей новогодней экзальтации. Скоро они об этом пожалеют: Париж – город с низким уровнем социального контроля и высокими показателями преступности, а ведь им сто раз это повторяли перед отъездом из Шанхая. Завернув за небольшую рощицу, он столкнулся с двумя китаянками, которые испуганно закудахтали; он умиротворяюще поднял руку и продолжил свой путь через парк Берси.
Когда он вошел в общесемейное пространство, луч солнца пробился сквозь облака, осветив растрепанный туман над парком. Гостиная вдруг показалась ему против обыкновения уютной; Прюданс не было, но почему-то у него создалось впечатление, что она недалеко и вот-вот вернется; а потом он увидел елку.
В углу стояла новогодняя елочка сантиметров пятидесяти в высоту, украшенная мишурой, серебряными шарами и декоративными свечами, попеременно мерцавшими синими, красными и зелеными огоньками. Что это ей вдруг вздумалось купить елку? Наверное, к ней приезжала сестра, а у сестры есть маленькая дочка, он когда-то давно ее видел. Он со смущением вспомнил, как жадно Прюданс схватила девочку, баюкала ее, ходила с ней по квартире, прижимала к груди. Вероятно, у женщин срабатывает что-то биологическое, происходит какая-то ломка, а он и понятия не имел, что это надо учитывать. Он мало что смыслил в женских гормонах, не больше чем в камерной музыке и сельскохозяйственных животных; сколько же в жизни вещей ему неведомых, подумал он и в приступе уныния рухнул на диван. Потом встал, подошел к сервировочному столику, где, если ему не изменяла память, стояли разные бутылки. Да, кое-что там еще осталось, даже непочатый “Джек Дэниелс”. Он налил себе большой стакан, до краев, и снова оглядел общесемейное пространство; какая веселая елка, приятно посмотреть; особенно со стаканом “Джека Дэниелса” в руке. На журнальном столике рядом с угловым диваном он заметил стопку “Вестника колдовства”, он и не подозревал, что существует такой журнал. Это, видимо, как-то связано с новыми начинаниями Прюданс в юкке, или, скорее, в викке, наверху стопки лежал новогодний номер, наверняка последний. На обложке красовался зазывный слоган “2027 – год всех и всяческих перемен”.
Быстро листая журнал, он наткнулся на статью о предстоящих президентских выборах. В 1962 году произошел решающий, подчеркивал автор, институциональный сдвиг и президент Республики был избран всеобщим голосованием, а 2017-й стал первой с тех пор датой выборов, соответствующей простому числу; не случайно, рискнул он предположить, этот год стал поворотным, произошла полная перестройка политического поля, сметающая все традиционные партии. После четного 2022 года выборы 2027-го снова попадают на простое число; следует ли нам готовиться к таким же потрясениям? Впрочем, следующее совпадение произойдет только в 2087 году. Статью подписал некий Дидье Ле Пешер, назвавшийся выпускником Политехнической школы. Поль прекрасно представлял себе этого типа: второразрядный специалист, всю жизнь проработал в какой-нибудь малозаметной государственной организации вроде НИСЭИ[27] и на склоне лет ударился в нумерологические спекуляции. Ошибочно полагать, что ученые по своей природе люди рациональные, они не более рациональны, чем все остальные; ученые – это прежде всего люди, завороженные закономерностями мира, а также его непредсказуемостью или странностями, когда таковые возникают; мало того, он сам ночью тридцать первого декабря предавался арифметическим грезам в том же духе. Он решил, что непременно спросит Прюданс, можно ли ему вырезать статью, вот Брюно повеселится.
Предыдущий номер “Вестника колдовства”, вышедший под Рождество – по-видимому, это двухнедельный журнал, – состоял в основном из большой подборки материалов о викканском культе, так что Поль отнесся к нему с должным вниманием. Если верить редакционной статье, в которой приводились обширные цитаты из некоего Скотта Каннингема, “Викка – радостная религия, проистекающая из нашего родства с природой. Она прославляет союз с богиней и богом, универсальными энергиями, творцами всего сущего; это восторженное празднество жизни”. Автор, надо думать, американец, но все же Поль решил почитать дальше, поскольку американцам, хоть они и потерпели поражение – и это становилось все более очевидным, – так неосторожно ввязавшись в игру против китайцев, возможно, все еще есть что сказать, в конце концов, они властвовали над миром почти целое столетие и, естественно, вынесли из этого некую мудрость, а если нет – пиши пропало.
К сожалению, сейчас сложилось узкофеминистское видение викки, в котором акцент делается лишь на ритуалы, славящие богиню, сетовал далее автор. Все дело в том, тут же признавал он, что такова нормальная реакция на многовековое угнетение патриархальными религиями; однако религия, полностью сосредоточенная на женском начале, была бы в той же степени несбалансированной, как и та, что опиралась бы исключительно на мужское начало; необходима соразмерность двух начал, заявлял он в заключение. Такое прославление мужественности, столь же приятное, сколь и неожиданное, обнадеживало, надо сказать, особенно в устах американца, наверняка политкорректного до мозга костей.
Трудности возникли после первого большого пояснительного материала. Поль решительно не мог примерить на себя образ молодого бога Ареса с его торжествующей эрекцией; столь же проблематично оказалось узнать Прюданс в юной Афродите с набухшей грудью. И все же в их жизни имело место нечто подобное, он вдруг вспомнил их первое лето на Корсике и пляж немного южнее Бастии, Мориани, что ли? Смутившись, он понял, что при этом воспоминании у него навернулись слезы. Прюданс с тех пор похудела, жизнь как-то сплющила ее. Он перелистнул несколько страниц и увидел статью, подводившую итоги года викки. После саббата Йоль, который Прюданс посетила незадолго до Рождества, состоится саббат Имболк 2 февраля, затем, 30 апреля, – саббат Белтейн и 1 августа – саббат Лугнасад. Цикл, похоже, завершается саббатом Самайн 31 октября, который, указывалось в статье, совпадает с Хэллоуином – и Днем Всех Святых тоже, подумал Поль, они явно мыслят англосаксонскими понятиями. Самайн – это время размышлений, возможность оглянуться на только что закончившийся год и приять перспективу смерти.
Скотт Каннингем оказался не просто теоретиком, в другой статье он делился рядом практических советов применительно к различным жизненным обстоятельствам. “Когда вам страшно, поиграйте на шестиструнной гитаре, – рекомендовал он, – или послушайте гитарную музыку в записи; усвойте, что вы мужественны и уверены в себе. Призовите Бога в образе рогатого покровителя и агрессора”. Финансовые затруднения? “Оденьтесь во все зеленое, затем сидите тихо и отбивайте на барабане медленный ритм; представьте себя с полными карманами денег, призывая Богиню в ее образе дарительницы изобилия”.
Увлекшись чтением, он не услышал, как открылась дверь, и с изумлением обнаружил Прюданс уже на пороге гостиной. Она остановилась, тоже удивившись, на ее лице застыла нерешительная улыбка, но она вроде даже рада была его видеть; он понял, что тоже ей рад.
– А, тебе попался этот номер… – показала она на журнал. – Будешь надо мной издеваться…
– Нет… – тихо сказал он. Он, конечно, удивился и не знал толком, как реагировать, но никакого желания над ней поиздеваться у него не возникло.
– Как отец, есть новости? – спросила она, и он был благодарен ей за то, что она сменила тему, потому что новости как раз были, и вполне хорошие. Он подлил себе бурбона, она за компанию взяла томатный сок, и он со всеми подробностями рассказал ей, как отец вышел из комы, как его перевели в Бельвиль-ан-Божоле, и еще о докторе Леру; он, однако, даже не упомянул об Орельене и Инди. Она внимательно слушала его, кивая. – Действительно, вам очень повезло… – признала она, и он в очередной раз задался вопросом, что у нее с родителями, она много лет ничего ему о них не говорила.
– Ты виделась с сестрой в праздники? – спросил он.
– Нет, – ответила она, изумившись вопросу, ее сестра живет в Канаде, он что, забыл? Они не виделись почти пять лет.
– Все дело в елке… – объяснил он, – я подумал…
– А, елка… – Она недоуменно взглянула на него. – Я просто решила, что тебе так веселее будет, когда ты вернешься.
Он долго молчал, слегка обескураженный таким поворотом дела. Прюданс грациозно встала с дивана.
– Пойду почитаю немного перед сном, – сказала она.
Оглядевшись, он с удивлением понял, что уже совсем стемнело, и довольно давно, они, наверное, просидели так несколько часов, значит, она включила свет, а он и не заметил. Он тоже встал и нежно поцеловал ее в щеку. Она еще раз улыбнулась ему и вышла. Он долго, может быть минут десять, стоял неподвижно в центре общесемейного пространства, потом поднялся к себе, захватив бутылку “Джека Дэниелса”.
3
На следующее утро Поль вышел из дому рано, магазины на Кур-Сент-Эмильон были закрыты, и даже продвинутые кафе, пытавшиеся косить под нью-йоркскую тусовку, работали на малых оборотах. Ему нравились эти редкие моменты всеобщей спячки, несколько раз в году, когда жизнь словно зависает, как на вершине колеса обозрения, прежде чем сорваться в новый цикл. Так бывает почти всегда 15 августа[28] и часто между Рождеством и Новым годом, если позволяет календарь.
Второе января пришлось на субботу, завтра атмосфера в городе будет, в общем, еще такой же, но к вечеру испортится, заранее отравленная тревогами завтрашнего дня. Утро выдалось совершенно спокойное. Он чувствовал, что еще не пришло время сделать новый шаг к сближению с Прюданс. Надо подождать немного, пока хлынет внутри ток надежды – так в поврежденном органе возобновляется кровообращение. Тогда, возможно, что-то хорошее случится с ними на закате дней и им снова выпадет прожить сладостные годы, возможно даже долгие годы.
От такой перспективы у него чуть не перехватило дыхание; охваченный дрожью, он замер посреди аллеи рядом с кустом гортензий и подождал, пока не начнет дышать ровнее. Затем повернул на восток, к церкви Рождества Богоматери в Берси. Там было, как всегда, пусто. Он бросил в прорезь два евро, зажег две свечи и вставил их в подсвечник. Он не знал точно, кому или чему он их предназначает, но ему показалось, что нужны именно две свечи. Он торопливо перекрестился, не будучи уверен, что делает это правильно – сначала вверх, потом вниз, а дальше влево или вправо? – и только тут заметил, что статуя Богоматери находится на противоположной стороне церкви. Он забрал свечи, повторил всю процедуру, сел на скамью, закрыл глаза и почти тотчас уснул.
Молодой человек представился Эрвином Каллаганом; таким, как у него, динамичным и восторженным выражением лица в американских фильмах пятидесятых годов было принято наделять страховых агентов, но на самом деле, скорее всего, это был Луи де Рагнель, французский журналист, которого Поль видел в различных теледебатах – он несколько раз брал интервью у Брюно.
Имея при себе визитку на это имя, псевдо-Эрвин Каллаган обходил многочисленные нью-йоркские семьи со скромным достатком, сообщая им, что они полностью разорены и что страховая компания, на которую он работает, рассчитывает цинично обогатиться за их счет. Естественно, принимали его не слишком радушно, с жалобами и криками, но он, выждав пару лет, неизменно заводил ту же шарманку, руководствуясь какой-то высшей необходимостью.
Луи де Рагнель, он же Эрвин Каллаган, уже очень пожилой человек в костюме и черной шляпе, с белесо-серым лицом, испещренным тонкими морщинами, напоминал профессора Калиса, старика астронома из “Таинственной звезды”[29], и еще немного Уильяма Берроуза. Он передвигался с огромным трудом, его руки и ноги были почти обездвижены артритом, но он решил в последний раз воспользоваться именем Эрвина Каллагана, чтобы сообщить плохую новость.
Войдя в прихожую очередного дома, он вдруг понял, что на этот раз попал не в бедную семью и, скорее всего, не к жителям Нью-Йорка. Его встретила благочестивая экзальтированная молодая женщина, которая сначала тщательно протерла стол, словно удаляя отпечатки пальцев, а затем подмела пол двумя вениками одновременно. В конце концов она поведала ему, что обитатели этого дома – настоящие демоны, но ему нечего бояться, потому что Господь на их стороне. Тут стало ясно, что до ужаса приставучий Эрвин Каллаган олицетворяет собой определенную форму правосудия и справедливости.
Затем он очутился в скудно обставленной гостиной в компании мужчины лет пятидесяти, очень загорелого, с гармоничной мускулатурой, и женщины лет тридцати с пышными формами, под легким платьем на ней ничего не было. На полу лежала худая длиннющая собака, похожая на борзую, но в ее чертах чувствовалась жестокость, которая обычно свойственна ласкам. Мужчина говорил долго и бессмысленно, потом хорошо поставленным голосом отдал женщине ряд распоряжений. И хотя все его приказы начинались словами: “Не будете ли вы так любезны”, было очевидно, что их надо выполнять беспрекословно. Они казались непоследовательными и сбивчивыми, но женщина повиновалась, неторопливо спустила платье, не переставая при этом разговаривать с собакой хриплым голосом на не вполне человеческом языке. Собака постепенно просыпалась и явно была не в настроении. В конце концов, полностью обнажившись, женщина встала с дивана. Собака окончательно проснулась, поднялась, женщина надавила на мясистую припухлость под ее горлом, и стало ясно, что животное впадет сейчас в дикую ярость.
Каллаган, мужчина и женщина стояли теперь у двери; женщина держала платье под мышкой. Мужчина, сам обнаженный по пояс, что-то прочувственно говорил, притворяясь, что сожалеет о судьбе, уготованной псевдо-Эрвину Каллагану, а на самом деле Луи де Рагнелю, которого вот-вот разорвет на части и сожрет взбесившийся пес; Каллаган, вероятно смирившись со своей участью, печально качал головой. Тогда мужчина открыл дверь и вышел вместе с женщиной. В этот момент стало ясно, что сцена происходит на борту яхты, плывущей по приятному морю.
Когда Поль вышел из церкви, было два часа дня, парк Берси заливало ослепительное солнце. Есть ему не хотелось, и он побрел куда глаза глядят по набережной Рапе, пересек Аустерлицкий мост и вышел к Ботаническому саду, прохожих стало немного больше. Ближе к концу дня он решился позвонить Брюно. Он ответил после нескольких гудков и сразу же спросил об отце. Поль изложил ему ситуацию чуть более сжато, чем Прюданс. У Брюно тоже были новости, но это не телефонный разговор, они условились встретиться на следующий день.
Он приехал в Берси около часа дня, протянул свой пропуск дежурному на входе. В лифте никого не было, в коридорах тоже; все-таки странно вообще никогда не покидать министерство, даже по воскресеньям, подумал он. Брюно сидел в гостиной, он уже открыл бутылку помроля, на тарелке перед ним лежали тосты с фуа-гра – учитывая его гастрономические привычки, это была настоящая фиеста. Судя по его виду, он пребывал в отличном настроении.
– Рад за твоего отца, очень рад, – сказал он, встав ему навстречу, – все-таки кое-что во Франции еще неплохо работает… – Поль никогда не видел Брюно в таком веселом расположении духа. – Ладно… – продолжал он, – перейду прямо к делу: завтра я обедаю в Елисейском дворце. С президентом и Бенжаменом Сарфати. Президент позвонил мне ночью тридцать первого, сразу после своего новогоднего обращения.
– Думаешь, он принял решение?
– Да. Не знаю, какое именно, но принял. Честно говоря, меня уже достала эта неопределенность.
Поль тогда понял или, по крайней мере, счел, что понял: Брюно не все ему рассказывал. Президент остановился на кандидатуре Сарфати, во всяком случае, Брюно пришел к такому заключению, пообщавшись с ним, и немного расслабился. Он, в сущности, никогда так уж не рвался ни участвовать в предвыборной гонке, ни становиться президентом Республики; пост министра экономики вполне соответствовал его желаниям и устремлениям.
– Держи меня в курсе, ладно?
– Да, конечно. Давай увидимся тут завтра часа в три, к этому времени я должен вернуться. Нам надо организоваться и просмотреть мое расписание на ближайшие несколько недель. Мне совершенно не о чем беспокоиться, моя позиция достаточно сильна, чтобы ко мне прислушивались: прогнозы роста на 2027 год отличные, дефицит самый низкий, и если мы не оплошаем, то сможем закончить год немного выше прогноза.
– А что, произошло что-то важное? Ты и перед Рождеством был оптимистически настроен, но чтобы так…
– Нет, ничего особенного. Впрочем, да, кое-что важное произошло, но мой оптимизм к этому отношения не имеет: у нас очередное нападение на контейнеровоз.
– Никто об этом и словом не обмолвился.
– Ну да, на этот раз их мишенью стал непосредственно китайский контейнерный оператор, China Ocean Shipping Company, третья по величине в мире судоходная компания, и властям удалось обеспечить полную информационную блокаду. Мне позвонил Мартен-Рено и все рассказал, даже французские секретные службы ничего не знали, им сообщило АНБ.
– Американцы? Это нормально?
– Нет, это совсем не нормально. Странно, что им удалось перехватить внутреннюю переписку китайского правительства, а еще удивительнее, что они ведут себя так, словно мы союзники.
– А мы не союзники?
– Я лично не считаю себя их союзником. Торговая война между США и Китаем никогда не достигала такого накала, она продолжается уже лет двадцать, и такое впечатление, что это еще цветочки, что она никогда не закончится, разве что какой-нибудь реальной катастрофой, военным конфликтом. В коммерческом плане китайцы, несомненно, наши враги, но это вовсе не значит, что американцы наши союзники; в этой войне у нас нет союзников.
– И в интернет тоже ничего не просочилось?
– Нет, и это меня тревожит больше всего. Террористы не выложили ни сообщений, ни видео, как будто это стало этакой рутинной операцией. Мало того, этот теракт не случаен. После первого всем грузовым судам, покидавшим их акваторию, китайцы давали в сопровождение эскадренный миноносец; это им влетало в копеечку, конечно, и по прошествии месяца они решили положить этому конец. Первый же контейнеровоз, отправленный без сопровождения, подвергся атаке. И опять на линии Шанхай – Роттердам, как и тогда, но на этот раз корабль потопили у Маскаренских островов; как и тогда, экипаж оповестили за четверть часа, чтобы они успели покинуть корабль: торпеда с неконтактным взрывателем, идеальная меткость. Ловкие ребята. И очень опасные.
– Мы до сих пор не знаем, кто они?
– Понятия не имеем. Морские перевозчики всего мира в отчаянии, это беспрецедентная ситуация. Вот что нам известно на данный момент, то есть ровным счетом ничего.
Они разом замолчали; Брюно налил себе бокал помроля. Итак, меняется конфигурация мира, подумал Поль. В принципе, конфигурация мира стабильна, все идет своим чередом, но иногда, в редких случаях, происходит некое событие. То же самое можно сказать, подумал он, пусть более отвлеченно и расплывчато, и о конфигурации человеческих жизней. Жизнь человека состоит из цепочки административных и технических трудностей, перемежающихся проблемами медицинского характера; с возрастом медицинский фактор берет верх. Тогда жизнь меняет свою сущность и превращается в бег с препятствиями: в ходе участившихся, самых разнообразных медицинских обследований тщательно изучается состояние организма. В заключениях указывают, что ситуация штатная или, по крайней мере, приемлемая, до тех пор пока в одном из них не прозвучит иной вердикт. Тогда жизнь меняет свою сущность во второй раз и становится достаточно продолжительным и мучительным марш-броском по направлению к смерти.
– Мартен-Рено спрашивал меня о твоем отце, – сказал наконец Брюно. – Он, видимо, принял это близко к сердцу, мне кажется, тебе стоит ему позвонить. Твой отец явно занимал важное место в их организации, мне не вполне ясно, как они функционируют, все же странные они люди, сотрудники спецслужб.
– Мне самому не вполне ясно, отец никогда толком не рассказывал мне о них.
– Его можно понять. Знаешь, не зря же говорят, что власть обрекает на одиночество; чем ответственнее пост, тем более человек одинок. О том, что я тебе сейчас рассказал, мне бы и в голову не пришло говорить в кругу семьи, – ну, если бы таковая у меня еще имелась.
– В этом плане никаких перемен?
Брюно долго мотал головой, но не произнес ни слова, Поль тщетно ждал ответа, постепенно догадываясь, что Брюно действительно останется один, скорее всего, доведет до конца свою работу, то есть работу, которую он запланировал, но отныне он останется один, жаль, конечно, но это так, не хорошо быть человеку одному, сказал Господь, но человек одинок, и Господь ничего не может с этим поделать, во всяком случае, по нему не скажешь, что это его так уж волнует; Поль почувствовал, что ему пора, он взял с тарелки еще один тост с фуа-гра, его понемногу одолевало гнетущее сознание собственной никчемности. Мужчины с трудом, но поддерживают социальные и даже дружеские отношения, которые им в общем и целом ни к чему, – это довольно-таки трогательная черта, присущая мужчинам. К президенту это не относилось, он казался свободным от подобных слабостей, окружающие, судя по всему, мало что для него значили. Поль общался с ним лишь однажды, мельком, после закрытого совещания Совета министров; президент пару минут побеседовал с ним о своем “золотом времечке” в Финансовой инспекции; он заговорил об этом без всякой на то реальной необходимости, как о воображаемой Аркадии, где они оба купались в самых изысканных наслаждениях. Возможно, он с кем-то его спутал.
4
Проснувшись на следующее утро, Поль понял, что проспал двенадцать с чем-то часов глубоким сном без сновидений – ну, говорят, сны снятся всегда, но, как правило, мы их не запоминаем. Войдя в ванную, он был неприятно удивлен, обнаружив, что сломался бойлер; он попытался подергать клапан, раздался протяжный стон, но горячей воды от этого больше не стало. Пойти в министерство, не приняв душ, не лучшая идея, он предчувствовал, что день выдастся долгим. Придется ему воспользоваться ванной комнатой Прюданс, ничего не поделаешь.
Он уже по меньшей мере пять лет не заходил в ее спальню. И был потрясен, обнаружив ее пижаму, аккуратно сложенную на стуле в изножье кровати: теплую, толстую, почти как у детей. Он отметил, что она читала Аниту Брукнер; вряд ли это ей улучшало настроение.
В ванной было и того хуже: два жалких, не особо пушистых полотенца, халата нет. Кусочек обычного марсельского мыла на раковине. Гель для душа и шампунь из “Монопри” на бортике душевой кабины. На первый взгляд никакой косметики, даже увлажняющего крема, она, казалось, забыла, что у нее есть тело. Нехорошо, подумал он, совсем нехорошо.
Быстро приняв душ, он сел писать ей записку, чтобы, во-первых, извиниться за то, что ему пришлось воспользоваться ее ванной комнатой, и еще попросить ее заняться, если можно, починкой бойлера, он вспомнил, что у нее вроде есть честный водопроводчик. Он замешкался, не зная толком, как к ней обратиться. “Прюданс” – слишком холодно. “Дорогая Прюданс” чуть лучше, но все равно не совсем то, что нужно. Он чуть не написал “Моя дорогая”, потом с содроганием спохватился и остановился на “моей дорогой Прюданс”, вот, отлично, так сойдет. В заключительном “целую” не было ничего чрезмерного, в конце концов, ведь не далее как вчера вечером они расцеловались. Он вышел на улицу почти довольный собой, кафе на Кур-Сент-Эмильон открылись, и на первый взгляд там было даже полно народу; он решил что-нибудь съесть в “Кони-Айленде”, название дурацкое, но бейглы там вполне съедобные. Он сразу узнал официанта, высокого придурка, который то и дело вопил “Посторонись!” и имел привычку обращаться к посетителям по-английски. Он с ужасом услышал, как тот бросил OK man китайскому туристу, который пытался добиться от него кофе с молоком. Нет, прочь отсюда, к тому же тут битком, раньше чем через несколько часов его не обслужат; он встал, решив ограничиться чашкой кофе у барной стойки. В министерстве наверняка найдется что поесть, кстати, у Брюно есть личный мажордом и повар, что ему мешает воспользоваться их услугами, подумал он, ровным счетом ничего.
Он пришел точно в назначенное время; мажордом ждал его у дверей квартиры.
– Месье министр немного задерживается, – сказал он, – и попросил меня впустить вас.
Понятное дело, Брюно был слишком оптимистичен, говоря про три часа, президентские выборы как-никак, тут парой слов не обойдешься.
Бутылка помроля и тосты с фуа-гра так и стояли на обеденном столе, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Только они заветрились и зачерствели. Обойдя кухню, он обнаружил безглютеновые сухари “Эдбер”, а в холодильнике початый сыр “Каприз богов”; сойдет и так, ему неохота было обращаться к мажордому.
Статуэтка лани стояла на своем месте, на подоконнике; да, это определенно была лань. Можно ли назвать ее “загнанной ланью”? Что именно это означает применительно к лани? Ему чудилось тут нечто смутно сексуальное, хотя она просто выглядела встревоженной; но, возможно, это одно и то же, должно быть, у ланей не слишком богатый арсенал выражений лица, жизнь не балует их разнообразием.
Да и человека тоже не особо, по правде говоря, подумал он, глядя в панорамное окно на сплошной поток машин на мосту Берси. Он с удивлением понял, что уже пять часов, как же надолго он вырубился, такие провалы случались с ним все чаще и чаще, да и Брюно сильно опаздывал.
Он приехал минут через десять.
– Ну, извини… – сказал он, садясь на диван напротив него, – мы припозднились.
– И… все прошло хорошо?
– Да. Ну, мне кажется, что да. Сарфати и правда собирается выставить свою кандидатуру и объявит об этом прямо сегодня вечером, он приглашен в студию вечерних восьмичасовых новостей TF1. Он себя там чувствует как дома, на TF1, это его канал, они, по идее, должны отнестись к нему довольно благосклонно.
– И как он тебе?
– Он явно не дурак. – Брюно замялся, нахмурив брови, в поисках подходящей формулировки. – Хотя скорее умело прикидывается. Он нам изложил целую теорию, почти на полчаса, о том, что медиасфера и сфера политики действительно стали сближаться в начале 2010-х годов, когда обе они начали терять реальную власть. Медиасфера – из-за конкуренции с интернетом, потому что никому уже не взбредет в голову покупать газету или даже смотреть телевизор; политическая сфера – из-за европейского управления и влияния разных общественных группировок. Ну, он не вполне меня убедил, но, по крайней мере, говорил он легко, как по писаному.
– А президент что думает, как по-твоему?
– Ему вряд ли нравится, когда при нем заявляют, что политическая сфера утратила власть, ну ты его знаешь, впрочем, нет, не знаешь, но можешь себе представить. К тому же это не совсем верно, хотя общественные группировки для некоторых министерств невероятно важны. Но в отношении Евросоюза это не так, и я знаю, что говорю, я уже лет пять практически не обращаю внимания на европейские директивы, Франция – слишком важная страна, чтобы ее наказывать, это надо усвоить раз и навсегда, теория too-big-to-fail[30] безукоризненно точна. Короче, президент убедил себя, что сможет легко манипулировать Сарфати, потому что у него нет совсем никаких политических идей, он просто хочет стать президентом ради статуса, для фана: жилье в Елисейском дворце, президентский самолет, официальные приемы в Кыргызстане с баядерками и саблями и прочая хрень. А через пять лет он тихо-мирно уйдет, бывший президент Республики – это круто, ему до конца дней полагается личный водитель, офис, секретари, телохранители, короче, будет отчего распускать хвост перед своими дружками с телевидения.
– Думаешь, это правда? Сарфати такая вот пустышка?
На этот раз Брюно долго размышлял над ответом, почти целую минуту:
– Во всяком случае, он хочет таким казаться. Правда это или нет? Трудно сказать. С одной стороны, очевидно, что чувак падок на республиканский шик-блеск и всякий гламур. Президент, перед тем как перейти к столу, принял нас в Золотой гостиной – так он вообще охренел, я уверен, что тут он не притворялся, у него аж слюнки потекли. С другой стороны, уверяю тебя, он произвел на меня впечатление выдающегося лжеца, совсем не в стиле Миттерана, но того же уровня. Так что тут есть свои риски. Кстати, ты посмотрел новогоднее обращение президента?
– Нет, совсем забыл. И как это было? – Поль вспомнил тридцать первое декабря, Инди и Орельена в столовой в Сен-Жозефе и чего ему стоило сдержаться, чтобы не наорать на свою невестку. А тут еще зубная боль в придачу, нет, ему точно пора к врачу.
– Очень хорошо, – ответил Брюно. – Даже потрясающе. Этот его заход “Мне выпала честь быть капитаном корабля «Франция», но капитан – всего лишь первый из матросов” – отличная находка, честное слово, и потом, чисто внешне он прекрасно смотрелся бы в матроске. И под финал “Мне будет вас не хватать”, глаза в глаза, прямо на камеру, народ был тронут, я думаю.
– Ну а ты? Что ты будешь делать при таком раскладе?
– Я? Все то же, останусь министром экономики. Ну, не совсем, может, стану поначалу премьер-министром, но ненадолго. Идея президента – не то чтобы он был в ней совершенно уверен, но я чувствую, что она его очень увлекает, – заключается в том, чтобы изменить конституцию, и поскорее, максимум в течение трех месяцев после выборов. Он хочет, чтобы об этом объявили уже во время кампании, чтобы это стало одной из осей всего проекта. Концепция состоит в том, чтобы перейти к подлинно президентской системе: упразднить пост премьер-министра, сократить число парламентариев и организовать промежуточные выборы, как в Соединенных Штатах.
– Сенат он тоже упразднит?
– Нет, он считает, что нападки на сенат приносят несчастье, и исторические примеры доказывают его правоту. Таким образом, мы сохраним обе палаты, но власть парламента сократится еще больше. Это такая типа постдемократия, если угодно, но сейчас это всеобщая тенденция, единственное, что работает; демократия как система умерла, она слишком медленная, слишком неповоротливая. Короче… – продолжал Брюно, помолчав, и впервые на его лице появились признаки легкой усталости, – я останусь в Берси, но власти у меня, конечно, станет больше, поскольку мне не придется отчитываться перед премьер-министром, только перед президентом; в экономике Сарфати разбирается на уровне средней школы. Сейчас главная проблема в том, что они хотят, чтобы я принял участие в кампании. Они хотят продать избирателям связку президент – вице-президент, что тоже вполне по-американски. По правде говоря, Сарфати почти весь обед льстил мне напропалую, словно извиняясь за то, что стал кандидатом вместо меня; он еще не чувствует себя полностью легитимным, это очевидно, и также очевидно, что президенту это на руку, так он сможет держать его под контролем. Но прежде всего им надо выдвинуть экономический план, это одна из их базовых идей; кстати, им особенно и не нужны выступления, у Сарфати самого хорошо язык подвешен, на телевидении он как рыба в воде, он справится, ему бояться некого; а вот что касается пресс-конференций и встреч с избирателями, они очень на меня рассчитывают; честно говоря, мне в лом. Ну, они сами пока не знают толком, чего хотят, мы бесконечно все это обсуждали, и завтра у меня назначена встреча с одной женщиной, она своего рода коуч…
– Солен Синьяль?
– Ты ее знаешь?
– Лично не знаю, нет, но она директор “Слияний”, одной из лучших политтехнологических фирм на рынке, и занимается Сарфати с самого начала.
– Ну, надо думать, она знает свое дело… Короче, вот так. На это уйдет максимум четыре-пять месяцев. Теперь займемся моим графиком, придется много чего отменить, у меня работы по горло. И никаких поездок до выборов, исключительно в рамках кампании. Из профессиональных встреч оставим только те, что уже назначены, о новых не договаривайся, разбросаем их между советниками. Давай прямо сейчас, если не возражаешь, пошли в мой офис. Кстати… – Он посмотрел на початый “Каприз богов” на журнальном столике. – Ты нашел что поесть, все нормально? Если тебе хочется чего-нибудь еще, можем заказать на вечер. Посмотрим заявление Сарфати?
– Нет, Сарфати обойдется, но что касается жратвы, я хотел поговорить с тобой, тебе совершенно необходимо вести здоровый образ жизни. С пиццами и сэндвичами пора завязывать. Ты должен есть зеленые овощи.
– Зеленые овощи? – Он повторил эти слова с изумлением, словно слышал их впервые.
– Да, зеленые овощи. А также рыбу и немного мяса. И притормози с сыром и всяческой колбасой. Паста и медленные углеводы, иначе ты сломаешься. Президентская кампания не подарок, ну, я никогда в них не участвовал, но так все говорят. Пообщайся с этой теткой, с Синьяль, я уверен, она скажет тебе то же самое.
И они пошли в кабинет Брюно. Путь по коридорам министерства занял у них не меньше десяти минут, но они никого не встретили. “Зеленые овощи…” – полушепотом повторил Брюно. Он выглядел ошеломленным.
5
Даты обоих туров президентских выборов стали известны пару дней спустя, по окончании заседания Совета министров, оставалось только утвердить их в Конституционном совете: их назначили на воскресенья 16 и 30 мая. То есть довольно поздно, на проведение парламентских выборов до летних отпусков времени останется в обрез, но конституции это не противоречит. Так что кампания будет довольно долгой. По мнению большинства комментаторов, это неожиданный тактический ход. Кандидат от Национального объединения – темная лошадка, известно лишь, что ему двадцать семь лет, он выпускник ВКП[31], муниципальный советник в Оранже и хорош собой; вот, в общем, и все. Естественно, Марин будет рядом, поддержит его на своих митингах, но все же ему очень недостает популярности. Партии президента следовало бы удушить его в зародыше, не дав ему времени освоиться на политическом поле, многие обозреватели, надо заметить, считали именно так. Единственное объяснение такому решению – пусть мелочное, не соответствующее высоте ставок, но другого не нашли, – что президент, не испытывая ни малейшего желания покидать свой пост, будет тянуть с выборами до предела. Брюно побрюзжал немного, ему не терпелось покончить с этим как можно скорее. Сарфати же, напротив, обрадовался, правда, он совершал сейчас трип мудрость-неспешность, Солен Синьяль нарыла ему где-то перуанскую шаманшу, и каждое утро, проснувшись, он упражнялся в мудрости-неспешности по два часа кряду, скоро месяц, как он вообще ни разу не пошутил. В конце концов, как обычно, победило мнение президента.
Поль присутствовал на первой встрече Брюно и Солен Синьяль в его офисе. Она появилась ровно в полдень в сопровождении какого-то типа лет двадцати пяти, в безупречном сером костюме, белой рубашке и галстуке цвета бордо, с потертым коричневым кожаным портфелем в руке, он сам вполне мог бы сойти за клерка из Берси. Солен, полноватая и наспех накрашенная дама лет сорока, на первый взгляд ничем особо не впечатляла. На ней были джинсы, серая толстовка и шуба.
– Доброе утро, – сказала она, садясь на диван. – Кофе, будьте добры.
– Сейчас попрошу, – отозвался Брюно. – Два эспрессо?
– Большой кофейник очень крепкого черного кофе. И крутые яйца.
– Может, вы хотите круассаны, булочки? А апельсиновый сок?
– Крутые яйца.
Брюно сделал заказ.
– По какому номеру вы заказываете еду? – поинтересовалась Солен Синьяль. – Я спрашиваю, потому что мы, я полагаю, будем у вас частыми гостями.
– Набираете 27 на кухню, а если нужна уборка, то 31. – Ассистент тут же записал это в блокнот, который он как раз вытащил из портфеля. – Впрочем, в следующий раз мы, возможно, встретимся у меня в квартире, там будет удобнее.
– А, вы живете прямо тут? Хорошо, очень удачно.
Она удовлетворенно кивнула, затем выложила перед собой на журнальный столик четыре электронные сигареты. Сигареты, как она объяснила им позже, были разного вкуса: манго, яблоко, ментол и темный табак. Без них она “не может функционировать”. А ее личное функционирование – уж в чем в чем, а в этом она не сомневалась, – необходимо для функционирования целого.
Через несколько секунд, в течение которых ее взгляд был прикован к Полю, она небрежно хмыкнула:
– А вы, значит, личный помощник. Доверенное лицо… – На последних словах она чуть понизила голос, и Поль улыбнулся, чтобы показать, что это выражение вовсе его не задело; он и правда был доверенным лицом.
– Так-так-так, а что наш кандидат… – Она медленно повернулась к Брюно и на этот раз долго его рассматривала, больше минуты, и в итоге заключила еле слышно: – Я думала, будет хуже, – и прикусила язык, у нее это вырвалось непроизвольно. – Ну, в смысле, – поспешила добавить она, – я наблюдала вас в роли министра, теперь вам придется перестроиться, а у нас впереди не так много времени. У меня есть одна девушка, она с нами работает уже год, Раксанэ. Я собираюсь ее к вам приставить.
Ассистент тут же записал: “Раксанэ”.
– Если что-то пойдет не так, – продолжала она, – и у вас не срастется, немедленно сообщите мне. У нее, конечно, еще не было президентских кампаний, но она работала на больших выборах. – Она подумала еще несколько секунд. – В общем, она, по-моему, в теме. Ну и мы обязательно будем ее брифинговать каждый вечер на первых порах… Я тут подумала сегодня в ночи… – Поль взглянул на нее и вдруг понял, что с самого начала показалось ему странным в ней и ее ассистенте: лица у них были усталые, движения странно заторможенные, иногда у обоих прорывались вдруг нервические жесты; по всей вероятности, они оба провели бессонную ночь. – Мы не будем выпускать вас вместе, ну скажем, не слишком часто, по крайней мере поначалу. Взаимные дифирамбы – это полный отстой, мы пойдем другим путем. Бенжамен, разумеется, скажет о вас всякие добрые слова и неустанно будет нахваливать ваши свершения. И вы тоже скажете о нем добрые слова, но попозже, вас надо будет натаскать, этим займется Раксанэ, я тебя вряд ли выпущу до начала февраля. – Брюно слегка дернулся, когда она перешла на “ты”, наверняка непроизвольно, в эту секунду он понял, что стал ее вещью, ее товаром и что вот теперь он и правда вступил в кампанию. – Пока что на передовой у нас будет Бенжамен. Мы подготовили ему карточки… – Повинуясь ее кивку, ассистент достал из портфеля папку.
Брюно удивленно пролистал ее и передал Полю. Там было штук пятьдесят картонных карточек формата А4, и первые заголовки, бросившиеся ему в глаза, гласили: “Автопром”, “Ядерная энергетика”, “Внешняя торговля”, “Бюджетный баланс”.
– Это вам на одобрение, – сказала она, обращаясь к Полю. – Возможно, вам покажется, что мы немного упрощаем, но не думаю, что у нас там много лажи. Я попрошу вас прежде всего проверить цифры, они не самые свежие. Бенжамен не собирается сыпать цифрами, это не его работа, но если время от времени он что-то и выдаст, так пусть это будут реальные показатели, глупо засыпаться на какой-то цифре. Мы, со своей стороны, – продолжала она, обращаясь к Брюно, – проведем с тобой брифинг по Бенжамену и начнем прямо сейчас, ну это другая история, лучше посмотрим видео, я думаю, это займет часа два. Естественно, мы опустим начало его карьеры. Хотя… Знаешь, мы все чекнули, с самой первой его программы, мы уже несколько лет над ним работаем. Ну, пошлые шуточки ниже пояса не его амплуа, скорее его ассистента. На площадке он такой весь из себя спокойный, доброжелательный, ни одного бранного слова, невероятно, как будто он все предвидел заранее… – Она запнулась, задумавшись на мгновение, на этот раз с выражением невольного восхищения. – Ну, так или иначе, мы сделаем упор на том, что было потом. С политиками, женщинами в хиджабах, мейнстримными интеллектуалами проблем, само собой, нет; но даже в сомнительных случаях, ты увидишь, это высший пилотаж: с Бадью[32] он держится идеально, с Гретой Тунберг – безупречно, с Земмуром – просто по-королевски. Ну и, конечно, дадим по максимуму гуманитарку, мигрантов, Стефана Берна…
Ассистент, который на дикой скорости все записывал, удивленно вскинулся, услышав имя Стефана Берна.
– Ой, не придирайся… – нетерпеливо повернулась она к нему, – гуманитарка-культурка, то-сё, сам понимаешь. – Судя по его виду, не очень-то он и понимал на самом деле, но все записал.
Мажордом постучался и вошел с подносом в руках. Она налила себе полную кружку кофе и быстро съела два крутых яйца, одно за другим.
– Брюно, тут еще есть одна тема, – снова заговорила она, – и нам лучше обсудить ее прямо сейчас. Твое семейное положение…
Он мгновенно напрягся. Она предвидела это и мягко сказала:
– Да, я знаю, это как-то неловко. Мне тоже неловко. Но я должна задать тебе два вопроса, я обязана их задать, мы сейчас все выясним раз и навсегда и больше к этому не вернемся. Во-первых, ведется ли бракоразводный процесс?
– Нет.
– Намерена ли твоя жена начать его или сделать что-либо еще, что может стать достоянием общественности, до выборов?
– Тоже нет.
– Так… Это прекрасно. А еще – прости, получается три вопроса, хотя ответ тут очевиден: между вами нет какой-то особой ненависти или неприязни? Твоя жена не собирается делать никаких заявлений для прессы?
– Нет, вряд ли. – Он как-то странно мотнул головой, задумался на несколько секунд и добавил: – Я даже уверен, что нет.
– Так, так, так, так, так, все это прекрасно, просто зашибись. Я не стану доставать тебя по поводу твоих романов, они меня не касаются, это не мое дело.
Поль не сомневался, что она слегка привирает, она, разумеется, навела справки и знает, что Брюно сейчас ни с кем не состоит в любовных отношениях, иначе она бы не преминула этим поинтересоваться; но в некотором смысле это была милая, культурная, доброжелательная ложь. Поль встал, как будто чтобы налить себе еще кофе, он всегда умел читать вверх ногами, этот не бог весть какой навык уже сослужил ему хорошую службу на экзаменах, так что он разобрал, что помощник записал в своем блокноте: “Не ищет на свою жопу приключений” и подчеркнул.
– Я чувствую, что мы отлично сработаемся, – продолжала Солен Синьяль, – эти выборы я уже нутром чую. Концепцию менять не будем, он у сетки, ты на задней линии, так мы и разыграем этот матч. Но все-таки мы тебе заработаем еще несколько дополнительных очков на близости к народу и эмпатии. Дурой буду, если не выбью тебе лишних очков за близость и эмпатию. – Она весело развела руками, словно подчеркивая всю абсурдность подобного предположения и надеясь, возможно, что ее ассистент разразится смехом, услышав такую нелепицу, но он просто ждал, занеся ручку. – Вот, например, ты любишь готовить?
– Ну… Нет… – Брюно задумался на мгновение. – Но я люблю пиццу, – добавил он, исполненный доброй воли. Несмотря на то что Солен не выразила особого энтузиазма, ассистент тут же записал “пиццу” в блокнот.
– Теперь о происхождении. Ты сам-то откуда? В географическом смысле, я имею в виду.
– Из Парижа.
– Прямо из самого Парижа? Твои родители оба парижане?
– Мать да, ну, они оба уже умерли. Отец вырос в департаменте Уаза.
– Уаза… Неплохо, Уаза – это круто. Где конкретно?
– В Мерикуре.
– У тебя там остался дом, ну, или что-то на районе?
– Как сказать… Я и думать про него забыл, но вообще-то да, у отца остался дом в Мерикуре. Он перешел мне по наследству, я собирался его продать, но руки не дошли.
– А в нем еще есть мебель? Как по-твоему, мы там можем провести фотосессию?
– Наверное, да.
– Отлично, супер! К тому же что-то мне подсказывает, что мы окажемся аккурат в логове Лепенши.
Ассистент, продолжая правой рукой на дикой скорости писать в блокноте, левой одновременно набрал что-то на мобильнике и подтвердил через несколько секунд:
– В точку. Лепенистов там навалом. Но самое забавное, что у них мэр коммунист.
– Мэр коммунист… – Она прямо просияла, жизнь определенно полна чудес, казалось, думала она. – Послушай… – Она повернулась к своему помощнику, – сорганизуй мне его по-быстрому? – Тот кивнул и снова что-то записал.
– Что ж, мы неплохо поработали… – заключила она, вставая, с довольным выражением лица. – Я пришлю тебе Раксанэ сегодня во второй половине дня?
– У тебя встреча с гендиректором “Крайслера” в 15:00 – вмешался Поль.
Она обернулась:
– С гендиректором “Крайслера”, ну-ну… Как вы думаете, когда они закончат?
– Разговор будет сложный. Скажем, в пять часов.
– Раксанэ придет ровно в пять. Пока только познакомиться, а работать по-настоящему начнете завтра. Кстати… – она снова обратилась к Полю, – вы займетесь карточками для Бенжамена?
– Вы их получите через два-три дня.
– Они нужны мне завтра утром. – В ее тоне не было грубости, просто уверенность, что ее послушаются. – Ну, в общем, сколько успеете. У нас завтра интервью одно за другим в течение дня.
– Проблема в том, что утром я работаю в основном дома, – сказал Поль, подумав, что “работать”, возможно, не самое подходящее слово в данный момент.
– Нет проблем, я пришлю курьера. К восьми? – спросила она, протягивая ему руку.
– К восьми, – покорно ответил он.
6
На следующее утро курьер приехал в назначенный час, он успел к тому моменту поправить десятка полтора карточек.
– Ты теперь встаешь на рассвете? – удивилась Прюданс, наткнувшись на него в гостиной. При виде нее у него екнуло сердце: худышка в детской пижаме с вышитыми зайчиками на груди. Нет, это все мимо, с отчаянием подумал он, совсем мимо. К счастью, она, похоже, была далека от подобных мыслей. К счастью или к сожалению, кстати. – Ну все, приехали? – спросила она, – ты и впрямь ввязался в политические игры?
Ему пришла на ум тирада Нерона из “Британика”, и внезапно его захлестнула новая волна болезненного сострадания к ней:
Да нет, не ввязывался он ни в какие политические игры, скорее даже наоборот: его задача как раз и заключалась в том, чтобы освободить Брюно от всего, что не имело прямого отношения к политике; он запланировал кучу собраний с техническими советниками, чтобы попытаться передать им указания министра на ближайшие месяцы; они в свою очередь будут поддерживать связь с руководителями избирательных штабов.
– А потом, – добавил он, – мы с Брюно посмотрим, на каком он свете, и решим, понадоблюсь ли я ему.
– Понадобишься еще больше, чем раньше, я уверена. Весь этот медийный цирк ему в новинку, его то и дело будут одолевать сомнения, и без тебя ему не обойтись. – Она помолчала несколько секунд и тихо спросила: – Ты очень любишь его, да?
– Да… – согласился он после минутного смущения. – Да, очень.
– Ну и хорошо. Хочешь кофе?
– С удовольствием.
Они пошли на кухню, она сделала два эспрессо в своей новой машине; над парком Берси занимался рассвет.
– Я вовсе не уверен, что его то и дело будут одолевать сомнения, – сказал Поль. – Никогда за ним такого не замечал. Чисто физическая усталость – да, одолевала, но сомнения – не думаю, что ему известно, что это такое. А ты? Что на работе?
– Ну я… Проект поправок к закону о бюджете и тому подобное – все по-прежнему. Мне пора, – сказала она, допив кофе, – у меня встреча в девять.
– Мне тоже надо в Берси просмотреть статистику за прошлый год. Можем пойти вместе, если хочешь.
Они шли по парку Берси, воздух был сухим и морозным, но серое небо висело прямо над головой, и так оно и будет, вероятно, весь день. Уже долгие годы, подумал Поль, они не выходили из дому на работу вот так, вместе. Возле сада Ицхака Рабина она тихонько взяла его под руку. Он пошатнулся, как будто сердце пропустило удар или два, но быстро совладал с собой и крепко сжал руку Прюданс.
Следующие две недели выдались странные. Он снова вникал в отлаженный механизм министерства, который он, по сути, давно упустил из виду; впервые, наверное, за год он вышел с этажа, где находился офис министра, чтобы принять участие в заседаниях с руководителями подразделений. Все это время он фактически играл роль главы кабинета, полностью контролировал повестку дня Брюно и его поездки. Но настоящий глава кабинета, с которым он не виделся с середины ноября, был на него не в обиде; его совсем не прельщали организационные задачи, которые, на его взгляд, мало чем отличались от работы в секретариате, и, кроме того, он мог уделять больше времени своей подлинной страсти – налоговому законодательству.
Все чаще и чаще теперь Поль ходил по утрам на работу вместе с Прюданс. Она брала его под руку сразу, как только они выходили из дому, и, прежде чем расстаться в вестибюле министерства, они обменивались поцелуем, но даже не пытались позволить себе нечто большее. От нее он узнал, что на собраниях викки, которые она посещала, присутствовали не жители района, как он полагал, а сотрудники Берси почти всех уровней от секретарши до начальника отдела. То есть чиновники, управляющие экономикой страны, увлекались белой магией; ну и дела.
По вечерам все было иначе, он редко возвращался домой раньше полуночи, он теперь работал гораздо больше, чем она, количество дел, которые Брюно вел лично, было ошеломляющим, как-то вечером он подсчитал, что для того, чтобы заменить его на время, оставшееся до выборов, потребуются три финансовых инспектора на полный рабочий день. Его собственная трудоспособность практически не изменилась с давних студенческих времен. Он констатировал это без особой радости, но и огорчаться повода не было; ему было все равно, много или мало работать. Очевидно, он переживал сейчас некий застой на всех уровнях жизни, в этом смысле работать много, вероятно, лучше, это эффективное средство, чтобы прогнать все мысли – о Прюданс, об отце, о Сесиль. Около двух-трех ночи он садился смотреть документальные фильмы на канале “Животные”. Прюданс уже давно спала, убаюканная, должно быть, романом Аниты Брукнер.
В тот вечер, после первой встречи с главой кабинета, он смотрел документальный фильм, посвященный ЭДЖ, экзотическим домашним животным, особое внимание в нем уделялось пауку-птицееду. Птицеед, крупный паук теплых широт, чрезвычайно ядовит, не терпит общества других животных и регулярно нападает на любое живое существо, помещенное в его клетку, включая собратьев птицеедов, и даже на самого хозяина нападает, хотя тот кормит его годами, но он все равно упорно на него нападает, ему в принципе чуждо какое-либо чувство привязанности. Одним словом, заключил комментатор, паук-птицеед “не любит живых существ”.
7
Поль снова увиделся с Брюно только две недели спустя, двадцатого января; они договорились встретиться в полдень. Он постучал в дверь, и ему показалось, что в служебной квартире министра кто-то поет. Ему тут же открыла девушка в лиловом боди.
– Вы Поль? Я Раксанэ, это иранское имя. Я в курсе, что должна вам его уступить на вторую половину дня. – На вид ей было лет двадцать пять, ее смуглое лицо оттеняла густая грива вьющихся черных волос, и она излучала необыкновенную жизненную силу, казалось, она сейчас исполнит сальто-мортале или какой-нибудь кульбит, просто чтобы потратить избыток физической энергии. Он прислушался: в столовой действительно кто-то пел; он не поверил своим ушам, но, похоже, это и впрямь был голос Брюно.
Когда они вошли в комнату, он умолк, подошел к Полю и пожал ему руку. Он был в майке, спортивных штанах и кедах, и в нем тоже энергия била через край, Поль его таким никогда не видел. В одном углу комнаты стояла беговая дорожка, в другом – гримерный столик.
– Извини, что помешал… – сказал Поль.
– Нет, нет, – оборвала его Раксанэ, – вам надо многое обсудить, все понятно, я вас оставлю через пять минут. А он молодец, да? Ну, никто не собирается делать из него певца, конечно, мы поем в самом начале встречи, чисто для разминки. Самое главное – это дикция.
– Дикция?
– Да, лично я тренируюсь в основном на Корнеле. Проклятия Камиллы? – спросила она, слегка кивнув Брюно, который тут же вступил громким, хорошо поставленным голосом:
– Это она говорит брату после того, как он убил Куриация, верно? – спросил Поль.
– Именно, и прямо перед тем, как он убьет ее саму. Потом, разумеется, мы переключаемся на экономическую политику Франции, но, на мой взгляд, кто справится с Корнелем, тому все нипочем. Ну, еще капельку? – спросила она Брюно дразнящим, почти нежным тоном.
Он тут же радостно повиновался:
– У него потрясающая память… – восхитилась Раксанэ, – один раз прочтет текст и сразу его запоминает, я такого никогда не видела. Ну, я обещала оставить вас одних, вам надо поработать.
Будучи ниже Брюно сантиметров на двадцать, она встала на цыпочки, чтобы его поцеловать, – Поль невольно засмотрелся на ее маленькую круглую попу в плотно облегающем боди. Она взяла со стула сумочку и шубу – похоже, это униформа женского персонала “Слияний” – и была такова.
– С ума сойти… – заметил Поль, садясь за стол в столовой, – но, я вижу, у тебя неплохо получается.
– Да, что есть, то есть, ну, может, на это не стоить тратить годы, но пока мне нравится. Давай пообедаем, ладно? Расскажешь, как у тебя дела?
– Я составил тебе памятку, – ответил Поль, доставая из портфеля десяток страниц. – Ну, смотри сам, но, по-моему, все более или менее складно.
Брюно пробежал все страницы быстро, но внимательно, Поль был уверен, что он запоминает их по ходу дела, приятно все же работать с вундеркиндом. Когда он прочел все почти до конца, вошел мажордом и поставил на стол тарелки.
– Треска с зеленой фасолью, – сказал Брюно, – я тебя услышал. Ладно, у нас есть какие-то срочные вопросы, как ты считаешь?
– Только с директором ООКД[36], смотри последнюю страницу.
– Управление по перерасчету налогов? Чего им надо?
– У нас есть несколько крупных рекламаций, в частности от Меркёра. Они хотят взыскать с него неуплаченные налоги, я не уверен, что это хорошая идея.
– А, Меркёр, он открыл сеть французских пекарен во Вьетнаме?
– В Таиланде тоже, а главное в Индии. Там это крупная сеть, восемьсот торговых точек, по-моему.
– Постой… Постой, я что-то не догоняю. Чувак открыл в Азии тысячу кафе-кондитерских, он хочет снова стать налоговым резидентом Франции, а они требуют с него долги! Может, они ему еще штраф влепят за просрочку? Конечно, мы его амнистируем, я им позвоню попозже. Ты против? – Он с воодушевлением набросился на треску.
– Нет, нет, я молчу, тебе решать. Никогда не замечал за тобой такой непримиримости и задора, тебе эта избирательная кампания явно идет на пользу… – Поль тоже начал есть, правда, не так жадно. – Сдается мне, второй министерский срок пройдет у тебя еще более бурно, чем первый…
– Ну, второй в чем-то станет для меня первым, с нынешним президентом у меня никогда не было свободы действий, если ты заметил…
– А Сарфати в этом смысле не обманет твоих ожиданий? Пока никаких неприятных сюрпризов?
– Слушай, мы встречаемся два раза в неделю, обсудить ситуацию. В понедельник у нас первая совместная пресс-конференция, это целое событие, со всей деловой прессой мира. Что касается политики, сомневаюсь, что у него много идей, а уж в плане экономики я просто уверен, что нет ни одной. Это, может, и мелочь, но мы ни разу не виделись с ним в министерстве, ему это неинтересно. Ему подавай Елисейский дворец, Матиньон и прочий антураж в том же духе. Но меня вполне устроит, если в ближайшие пять лет он не переступит порога Берси. А ты что, не видел его по телевизору, не смотрел начало кампании?
– У меня не было на это времени, честно говоря.
– Да, понятно, ты работал. – Он снова взял памятку Поля. – Ну, сейчас передохнешь, я надеюсь, у нас все в порядке. А позвонить Мартену-Рено ты тоже не успел?
– У них есть новости?
– Произошел новый теракт.
– Где? По-моему, об этом вообще ничего не слышно.
– Почти ничего, действительно, но на этот раз Франция ни при чем, пострадала датская компания Cryos. Это крупная фирма, мировой лидер по продаже спермы. В результате криминального пожара полностью сгорели их помещения. Никаких экономических последствий для нас не будет, у них нет французских конкурентов, у нас донорство спермы бесплатное. Ну, разумеется, некоторые французские клиентки идут в обход закона и покупают ее в интернете.
– Да, я в курсе… – Он отогнал от себя мысли об Инди.
– У них до сих пор нет никаких зацепок, сообщение такое же, и тот же странный шрифт. Но на этот раз видео нет, только неподвижная картинка. Кстати, террористам не откажешь в определенном чувстве контекста: на этот раз они хакнули исключительно порносайты.
8
Вернувшись домой, Поль зашел на сайт Xvideos и некоторое время раздумывал, что выбрать: “Голодный петушок сосать подружка” или “Очарование сочный бобер”, оба выскочили на главной странице, и он кликнул на вторую. “Ги получает горячо вокруг” было не намного понятнее, но не важно, фильм начался всего тридцать секунд назад, и актриса едва успела снять стринги, как поверх нее наложилось сообщение. Сначала появилось обычное нагромождение пятиугольников и кругов, затем текст, написанный обычными символами, но на этот раз гораздо длиннее, не меньше пятидесяти строк, и заканчивался он двумя числами; очевидно, этот язык не располагал специфическими символами для цифр. Следом возникла карта, или, скорее, план города, явно скачанный из Google Maps. Названия улиц звучали на скандинавский манер, так что это вполне мог быть и датский язык. Штаб-квартира компании Cryos International, подвергшаяся нападению, находилась между Вестер-Алле и Нёрре-Алле, посередине небольшой улицы Вестербро-Торв.
Он оставил Мартену-Рено сообщение на мобильнике, затем, после минутного колебания, позвонил Дутремону. Тот сидел у себя в офисе, и его немедленно с ним соединили. Он казался ужасно удрученным, и когда Поль произнес слово “Дания”, что-то промямлил, но потом все-таки ответил. Поль был госслужащим, как и он сам, а за исключением случаев безусловной военной тайны, госслужащие обязаны оказывать друг другу помощь и содействие, вроде как супруги, по крайней мере, таково было его представление о госслужбе.
– Я не нарушаю конфиденциальности, обращаясь к вам с таким вопросом? – забеспокоился Поль.
– Конфиденциальность мы бы нарушили, будь у нас хоть что-то, но на данный момент мы в тупике, как, впрочем, и раньше. Ясно пока одно: террористы – профессионалы своего дела, они использовали смесь напалма и белого фосфора, а это боевые вещества. Тот факт, что ночные охранники успели вовремя скрыться и обошлось без жертв, – почти чудо.
– Но на этот раз Франция вообще ни при чем?
– По-видимому, нет, но есть одна странная деталь. Полагаю, вы заметили два числа в конце сообщения. Первое, 1039, соответствует номеру досье одной их французской клиентки; второе, 5261, – номер досье французского донора, и именно сперму номера 5261, если можно так выразиться, использовали для оплодотворения номера 1039. Датские коллеги предоставили нам контактные данные наших соотечественников: это студент бизнес-школы и обычная лесбиянка, она уже пять лет живет с подругой. Они никогда не встречались, на учете нигде не состоят, в картотеке полиции не значатся – одним словом, полный бред. Но это дело с самого начала, похоже, полный бред. После нападения на китайские контейнеровозы мы были склонны подозревать ультралевую группировку – скажем так, это первое, что приходило в голову, но банк спермы, хотя это тоже капиталистическое предприятие, все же не является традиционной мишенью ультралевых; я бы скорее подозревал католиков-фундаменталистов. На некоторых из них у нас заведены дела, но католики-фундаменталисты никогда не славились мастерским владением хакерскими инструментами в сети; в этом деле они ультралевых не перегнали, а то и не догнали.
Машинально поблагодарив его за звонок, Дутремон повесил трубку; он явно был обескуражен. Странным все же делом занимаются эти люди, да и отец им занимался задолго до них, подумал Поль. По инерции он проверил: 1039 и 5261 оказались, разумеется, простыми числами. Мартен-Рено вскоре перезвонил ему. Он чуть было не заговорил с ним о простых числах, но в последний момент удержался – по большому счету людям лучше говорить то, что они так или иначе готовы услышать, поэтому он ограничился общими рассуждениями о ГУВБ и сложности их работы. Вообще-то, ответил Мартен-Рено, его сотруднику сейчас не позавидуешь. Он сам в своей профессиональной жизни пережил когда-то такой момент полного столбняка, а у Дутремона это впервые.
– Это, знаете ли, оставляет неизгладимый след, такое не забудешь, – прибавил Мартен-Рено. – Ваш отец тоже через это прошел. Незаурядный человек был ваш отец, знаете ли.
Его чувства и восхищение, очевидно, вполне искренние, но все же он сказал “был”, невольно отметил Поль. Мартен-Рено обрадовался, что Эдуар вышел из комы и его перевели в специализированное отделение; они определенно знали друг друга гораздо лучше, чем он понял из его слов в прошлый раз. Некоторые коллеги отца иногда заезжали к нему в Сен-Жозеф уже после его выхода на пенсию, они уединялись в кабинете, и темы их разговоров касались военной тайны, во всяком случае, так он считал тогда. Он не помнил, чтобы там бывал Мартен-Рено, впрочем, он и отца в последние годы видел нечасто.
Прежде чем попрощаться, Поль сказал ему, что он может в любое время приехать в Божоле, если решит навестить Эдуара. Отец его наверняка узнает, он совершенно точно узнаёт посетителей. Ему вдруг захотелось обратиться к Мартену-Рено по имени, но он забыл его, если вообще знал когда-либо, Жиль, что ли? С виду типичный Жиль.
Несмотря на его любезность, Поль никогда не чувствовал себя с ним по-настоящему непринужденно и только сейчас наконец расслабился, спасибо каналу “Животные”. На этот раз речь шла о крысах. Крысы – социальные животные, живущие колониями; в каждой колонии есть лидер, он регулирует дележку пищи, выступает арбитром в конфликтах, уводит колонию на новые территории. Принято выделять три вида, отношения между ними устанавливаются следующим образом: черную крысу (rattus rattus), зашедшую на территорию колонии пасюков (rattus norvegicus), атакуют и прогоняют. А вот когда пасюк более крупных габаритов попадает на территорию колонии черных крыс, ему угрожают, но он редко подвергается нападению; ну и ни одна крыса не проявит враждебности к домовой мыши (mus musculus).
В конце концов ему надоели крысы, и он переключился на “Охоту и рыбалку”, но вскоре вырубил звук и позвонил Сесиль, она ответила почти мгновенно. Все в порядке, сказала она, и даже есть одна отличная новость: отец уже может моргать, и, соответственно, с ним теперь можно общаться. Они выбрали самый простой коммуникативный код, который чаще всего используется с пациентами в таком состоянии: ему надо задавать вопросы, предполагающие ответ “да” или “нет”. Если “да”, он моргал, если “нет”, никак не реагировал.
– Удивительно, – заметила она, – насколько содержательный разговор можно вести, ограничиваясь только “да” и “нет”.
Глотательные функции возвращались быстро, логопед была довольна, она считала, что через пару недель отец будет нормально есть, и Сесиль с нетерпением ждала, когда наконец сможет ему готовить нормальную еду. Теперь они виделись с Мадлен реже, она проводила всю неделю в Бельвиле, она там и правда поселилась, с медсестрами проблем не возникало, то есть она в основном имела дело с Мариз – “Помнишь Мариз, ну, ту негритяночку”, – прибавила она. Да, он помнил. Орельен еще не вернулся, ему сложно высвободить время, но он считает, что скоро ему станет легче: он попросил перевести его куда-нибудь поближе, чтобы он мог приезжать на подольше, не только на уикенд.
– А ты, – спросила Сесиль, – когда ты сможешь приехать? Я все понимаю, тебе сейчас не до того, у тебя выборы.
Даже Сесиль принимала во внимание выборы, отметил он с некоторым удивлением, эта кампания медиатическим катком подминает все на своем пути.
– Это ненадолго, – сказал он наконец, – скоро начнется самое пекло, и мне не придется так плотно в этом участвовать.
В тот самый момент, когда он произносил эти слова, ему стало ясно, что так оно и есть: совместная пресс-конференция с Сарфати в следующий понедельник и впрямь положит начало избирательной кампании Брюно. Конечно, он будет оказывать ему поддержку, но в основном техническую, на задней линии, как выразилась Солен Синьяль, но все равно это будет настоящая изнурительная кампания с сопутствующим ей стрессом. Сарфати, со своей стороны, начал демонстрировать робкие умеренно прогрессивные убеждения, так что можно предположить, что его президентство будет отмечено парой немудреных реформ, идущих навстречу гражданским инициативам, вроде декриминализации легких наркотиков. Брюно отнюдь не возражал, Поль вспомнил, что ему попадались в руки какие-то документы на эту тему, французская почва просто создана для выращивания конопли, причем в гораздо большей степени, чем голландская, особенно почва в Перигоре, конопля могла бы стать прекрасной альтернативой традиционному выращиванию табака, которое, судя по всему, уже обречено.
Брюно никогда не отличался политическими пристрастиями; он был воплощением технократа-практика, досконально знающего текущие дела, и именно строгость его имиджа помешала президенту выдвинуть его кандидатуру; однако на этот раз Брюно придется с этим имиджем расстаться, хотя бы на время, он же предстанет “перед французским народом”, сказал он Сесиль и, еще не договорив, почувствовал, что его охватывает огромное, почти всеобъемлющее сомнение в самом понятии французский народ, но он не мог поделиться этим с Сесиль, как, впрочем, и ни с кем другим, слишком уж эта мысль звучала депрессивно, слишком пугающе, тем более что он еще не додумал ее до конца. Поэтому он ограничился поцелуем и заверил ее, что приедет в Сен-Жозеф, как только освободится.
Он нажал на отбой, и мгновенно его сомнения распространились на все человечество. Ему всегда нравилась история о том, как Фридрих II Прусский попросил себя похоронить рядом со своими собаками, чтобы не лежать среди людей, этой “злой породы”. Мир людей вдруг привиделся Полю скоплением самовлюбленных какашек, иногда эти какашки возбуждались и совокуплялись на свой манер, кто во что горазд, в результате чего на свет появлялись новые какашки, совсем крошечные. Как это иногда с ним случалось, он внезапно испытал отвращение к религии своей сестры: и как Богу только взбрело в голову явиться в этот мир в образе какашки? Мало того, это событие еще и прославлялось в песнопениях. “Сын божий в мир родился” – как, интересно, это будет по-немецки? Es ist geboren, das göttliche Kind, вдруг вспомнилось ему, все-таки как приятно быть образованным человеком, подумал он, и достичь определенного культурного уровня. В последние годы, надо сказать, какашки совокуплялись не так массово, они явно научились отвергать друг друга и с отвращением отстранялись от себе подобных, учуяв вонь, так что в среднесрочной перспективе нельзя исключить вымирание человечества. Останется еще много мерзости, вроде тараканов и медведей, но ведь нельзя все уладить сразу, думал Поль. Честно говоря, он ничего не имел против уничтожения банка спермы. Идея купить сперму и вообще затеять проект деторождения, не имея оправдания хотя бы в виде сексуального влечения, любви или иного подобного чувства, показалась ему откровенно тошнотворной.
И тут же он понял, что, в сущности, не возражает и против уничтожения китайских контейнеровозов. Ни китайские промышленники, ни морские перевозчики не вызывали у него ни малейшей симпатии; преследуя свои низменные меркантильные цели, все они способствовали погружению в ужасную нищету подавляющего большинства жителей планеты, чем тут, интересно, восхищаться.
Не стоит предаваться подобным мыслям, подумал он следом и включил канал “Животные”. Они уже успели сменить сюжет за это время и перешли на тапиров, в частности, на бразильского тапира (tapirus terrestris) и горного тапира (tapirus pinchaque), вскользь упомянув единственного в своем роде азиатского тапира, он же малайский, он же чепрачный тапир. Как его ни назови, тапир – зверь недоверчивый и одинокий, обитает в лесной чаще и ведет, как правило, ночной образ жизни; социальная жизнь у тапиров отсутствует, а партнершу они заводят только для спаривания. Какое все-таки страшное занудство жизнь тапира, поэтому Поль переключился на спортивный канал, но бегу на 110 метров с барьерами тоже не удалось изменить ход его мыслей. С самого начала он склонен был отдать дань восхищения неведомым террористам за их выдающиеся познания в области компьютерных и военных технологий, за то, как ловко с самого начала им удавалось избегать человеческих жертв, – что бы там ни говорил Дутремон, он лично не усматривал никакого чуда в бескровности датского теракта: они, должно быть, как и в эпизоде с китайскими судами, предупредили людей заблаговременно, не скрывая от них серьезности угрозы, чтобы те успели спастись. Он снова зашел в интернет, надеясь узнать побольше о теракте: действительно, именно так все и было. В три часа утра ночным сторожам позвонили и велели освободить помещение, в то время как другие офисы, пустовавшие в этот поздний час, уже были охвачены пламенем. И хотя штаб-квартира Cryos International находится в самом центре Орхуса, пожар бушевал строго в пределах периметра компании; нет, правда, крутые ребята.
Но весь ужас в том – а почему, интересно, Прюданс до сих пор не вернулась, вдруг спохватился он, скоро девять, она ему нужна прямо сейчас, нужна она сама и их ежедневные разговоры, но, увы, он не может ее дожидаться, ему надо скорее лечь и попытаться заснуть, авось прыжки на лыжах с трамплина помогут, – весь ужас в том, что если задача террористов – уничтожить мир, каким он его знал, уничтожить современный мир, ему по большому счету не в чем их упрекнуть.
9
Пресс-конференция состоялась в полдень, в салоне отеля “Интерконтиненталь” на авеню Марсо. Журналистов и впрямь набралось много, уж точно несколько сотен, Солен Синьяль пришла заранее, выглядела она напряженной и весь следующий час попеременно затягивалась то одной, то другой электронной сигаретой. Раксанэ, сидевшая рядом, была поспокойнее, казалось, она верила в своего подопечного, и действительно, Брюно держался молодцом, по крайней мере, такое впечатление сложилось у Поля, он непринужденно отвечал на все вопросы, без видимых усилий перескакивая с воздушного транспорта на ЕЦБ, с ЕЦБ на ископаемое топливо, пару раз ему удалось рассмешить аудиторию, мужик из Wall Street Journal, например, буквально зашелся от смеха. С Сарфати все прошло не так гладко, он ни разу прямо не ответил на вопрос, постоянно пытался отшутиться, что не всегда срабатывало, а с Financial Times он просто облажался, так показалось Полю. После конференции Солен предложила пойти “взять пивка”; в баре отеля “Интерконтиненталь”, помимо всего прочего, нашлось и пиво.
Поль впервые увидел Брюно и Сарфати вместе – вообще говоря, он впервые увидел Сарфати.
– Мы в порядке… – бросила Солен и рухнула на банкетку, расставив ноги, вид у нее был измученный. – Ну, в общем и целом в порядке, пока что мы оторвались, но впереди еще три месяца… Проблема в том, что хоть мы и в порядке, у других тоже дела идут неплохо.
– Ты о мужике из “Национального объединения”? – спросил Сарфати.
– Да, разумеется, остальные не в счет. Крутой чувачок, я в шоке.
– Ты знаешь, кто им занимается?
Солен вымученно улыбнулась, словно и так было ясно кто.
– Беранжер де Вилькран, – ответил за нее ассистент. Поль не заметил его на пресс-конференции, но это был тот же тип в сером костюме, что и в прошлый раз, вылитый чиновник из Берси.
– Ты знакома с этой Беранжер? – Сарфати, похоже, и тут был не в теме. Солен разразилась странным долгим смехом, начав с комических оперных раскатов, она завершила его каким-то журавлиным клекотом и воскликнула, хлебнув пива:
– Знакома ли я с ней? Кто ж не знаком с этой сукой!.. Крутая профи, заметь, тут не поспоришь, просто мы обязаны доказать, что мы лучше. Пока что мы в порядке, говорю тебе; если посмотреть на прогнозы второго тура…
Она резко умолкла, бросив яростный взгляд на своего помощника.
– Я ничего не сказал… – робко запротестовал молодой человек.
– Чуть было не сказал, я слышала, что ты думал. Да, понятно: цифры ничего не значат за три месяца до. Ты прав, но мы обязаны смотреть на них в любом случае, как иначе. В общем, у нас там в районе пятидесяти пяти. Пятьдесят пять – это хорошо, пятьдесят пять, по мне, лучше, чем пятьдесят два, но это впритык, мы должны создать впечатление, что уходим в отрыв, а дальше само пойдет. Если удастся создать впечатление, что мы уходим в отрыв, то мы в него уйдем, что сейчас и происходит. И да, я от этого не в восторге, но нам придется добрать голосов за счет левых.
Псевдочиновник Берси на этот раз бросил на нее озадаченный взгляд и повторил упавшим голосом:
– Левых…
– Да, левых!.. Тебе знаком этот термин, он вызывает какие-нибудь ассоциации в твоей башке, тебе приходилось о них слышать в своем политическом институте?
– Но каких левых?.. – пробормотал несчастный.
– Ну, левых, настоящих левых, старых добрых левых!.. Вот, например, Лоран Жоффрен напишет кое-что для меня в “Обсе” на следующей неделе…
– Он что, еще жив, Лоран Жоффрен?
– Не дождешься! Лоранчик в отличной форме и каждое утро совершает пробежку по пляжу в Дьеппе. Я только что прочла его статью “Фашизм в чистом виде”, ну прелесть что такое, в этом он мастак. Понятно, что этого недостаточно, нам понадобится много таких, престарелых леваков-моралистов, и, может, еще добавим пару-тройку евреев, если найдем, в разрезе долга памяти. Мы будем муссировать это все до самых выборов, время у нас есть, идея в том, чтобы растормошить гуманистов-центристов, ну знаешь, этих увальней дюамелевского[37] толка, и если увальни сподобятся поднять свои толстые жопы и скажут, что надо ужаснуться, тогда норм, мы в дамках. В то же время… – Она повернулась к Брюно, пиво явно пошло ей на пользу, и она снова заработала в полную силу. – Было бы неплохо немножко расковырять их экономические предложения. Ты как насчет заняться этим в среду на канале LCI?
– Это будет трудновато, – мягко ответил Брюно.
– А почему, позволь узнать?
– Потому что у них те же предложения, что и у нас. Они полностью одобряют все, что было сделано в экономике за последние пять лет.
– Ага… Это я не сообразила, мой косяк. – Она задумалась на мгновение и махнула официанту: – Повторить. Значит, так! – тут же воскликнула она. – В каком-то смысле нам это даже на руку, все супер. Тогда ты заходишь на тему типа “в ваших предложениях нет ничего нового, и если ваша идея заключается в том, чтобы просто продолжать ту же политику, то мы уж как-нибудь сами справимся” и развиваешь дальше в том же духе. К тому же это чистая правда! – Она задохнулась от восторга.
Людские судьбы следуют каждая своей линии, очень редко пересекаются, а развилки попадаются уж совсем в исключительных случаях, но все же встречаются время от времени. В тот же день после обеда у Орельена была назначена встреча в Главном управлении по охране культурного наследия при Министерстве культуры. Он явился в назначенный час и подождал несколько минут в довольно грязном коридоре. По крайней мере, их нельзя обвинить в том, что они злоупотребляют служебным положением для создания приятной рабочей обстановки: мебель тут была безупречно казенного тускло-зеленого цвета, а немногочисленные плакаты, украшавшие стены, смотрелись бы как родные в каком-нибудь Доме молодежи и культуры прошлого века в коммунистическом пригороде.
Жан-Мишель Драпье, генеральный директор Управления, прекрасно вписавшийся в эту обстановку, принял Орельена с нескрываемой печалью.
– У меня для вас хорошая новость, – сказал он безжизненным голосом, – то есть я надеюсь, что это хорошая новость. Вы ведь хотели получить пост в Бургундии по семейным обстоятельствам, да? – Орельен кивнул. – Ну, тогда у меня есть для вас проект, ну, скорее возможность проекта: речь идет о реставрации гобеленов в замке Жермоль; это неподалеку от Шалона-сюр-Сон. – Он взял с рабочего стола тонкую папку, бросил на нее недоуменный взгляд и продолжил, то и дело в нее заглядывая, очевидно, он открывал там что-то для себя новое.
– Сам замок вполне стоящий, ну, с исторической точки зрения: его в 1380 году приобрел Филипп Смелый, первый герцог Бургундский. Потом он переходил из рук в руки, им владели Иоанн Бесстрашный, Филипп Добрый и Карл Смелый, после чего он стал собственностью короля. В плане художественного наследия там есть несколько прекрасных статуй Клауса Слютера, мы их отреставрировали в прошлом году. И еще настенные росписи Жана де Бомеца и Арну Пикорне, их восстановили в первую очередь, как водится, уже десять лет назад. А еще там есть гобелены… – Он обреченно махнул рукой. – Не скрою, они сильно пострадали от пожара и перепада температур, короче, посмотрите фотографии. В данный момент вы заняты Матильдой Венгерской и скоро ее закончите, да?
– Да, к концу недели.
– Хорошо, очень хорошо. Матильда Венгерская это важно… – Изящным движением руки он выписал в воздухе легкие арабески, достаточно убедительно передававшие историческое и художественное значение Матильды Венгерской. – Могу устроить вас в замок Жермоль на два дня в неделю, – продолжал он. – Например, на понедельник и вторник или четверг и пятницу, на ваше усмотрение, если вам надо проводить выходные с семьей.
– А на три дня не выйдет?
– Думаю, будет сложновато. – Он помедлил. – У вас же есть и другой проект – замок Шантийи, да? – Орельен кивнул. – Тогда, увы, нет, – загрустил Драпье, – не смогу. Шантийи в приоритете. В Шантийи больше туристов, ну, вы же знаете, как расставляются приоритеты… – заключил он извиняющимся тоном, казалось, он все глубже и глубже утопает в своем кресле. – И нам с вами хорошо бы сразу прояснить один момент, – с внезапной тревогой в голосе сказал он, вставая. – Вы сами обеспечите себе жилье и транспорт, я полагаю? Вопрос о возмещении расходов не возникнет? – Орельен подтвердил. – Потому что, само собой, с нашим бюджетом на Жермоль… Ну, скажем так, особо не разгуляешься, и, кроме того, мы зависим от доброй воли Совета департамента. Но вы-то уже начинаете привыкать? Вы же с нами уже лет десять, поди.
И то правда, десять лет, почти день в день. Что еще оставалось Орельену, кроме как снова кивнуть? Он и кивнул. И Драпье тут же опять погрузился в удрученное молчание.
Выйдя из Министерства культуры, Орельен зашел в первое попавшееся кафе и заказал бутылку мюскаде. Не большой любитель выпить, он тут же почувствовал его действие; а чем не выход, подумал он, хотя бы отчасти. Он быстро проверил в интернете и успокоился: замок Жермоль находится всего в девяноста километрах от Вилье-Моргона, ехать туда просто, по A6, почти все время по прямой. А вот снимки гобеленов могли бы любого художника-реставратора довести до самоубийства; избежать полной катастрофы – это все, что он сможет сделать.
Но теперь ему срочно надо было решить другую проблему – ему не хотелось возвращаться домой, ему хотелось быть где угодно, только не дома, это состояние было ему не внове, но оно усугублялось с каждой неделей, а теперь и с каждым днем. Все-таки как-то неестественно, думал он, бояться встречи с женой, именно бояться, другого слова не подберешь. Она разорется, как пить дать, найдет повод, выместит на нем досаду за очередной унылый день своей журналистской жизни, которая все меньше и меньше отвечает ее чаяниям, брак с неудачницей ничем хорошим никогда не кончается, с неудачником, впрочем, тоже, но он не считал себя неудачником, ему нравились средневековые гобелены, он любил свою кропотливую работу, требующую одиночества, и не променял бы ее ни на что другое.
Но если он придет домой поздно, будет еще хуже, она усмотрит в этом лишний повод для истерики, она-то почти каждый вечер уходит тусоваться, в надежде сохранить связи, что стало уж совсем проблематично, она мечтает получить жирный сюжет, таковые еще водятся, просто ей не достаются, ее время ушло, вот и все, ушло, так толком и не наступив, поэтому она ведет светскую жизнь, ужинает в ресторанах и еще требует, чтобы кто-нибудь оставался с Годфруа по вечерам, но это явно ни к чему, его сын, ну, тот, что значится его сыном, сосед по квартире мужского пола, все равно сидит запершись у себя в комнате, вероятно, зависает в соцсетях, и его оттуда не вытащишь.
Он подлил себе вина, размышляя о том, что до сих пор не нашел в себе мужества признаться жене – и это, конечно, послужит поводом для очередного скандала, – что финансовые ожидания, связанные с продажей скульптур его матери, сильно завышены, цены на работы Сюзанны Резон буквально обвалились. Он проконсультировался с тремя галеристами, и они сошлись во мнениях: ее скульптуры теперь торгуются от одной до двух тысяч евро, не больше, и, вероятно, потребуется очень много времени, чтобы найти покупателей, если таковые вообще найдутся, а снижать цену бессмысленно, дело в том, что на нее нет спроса. Он, конечно, тут ни при чем, но она снова обзовет его лохом, не преминет.
Естественно, Орельен не сразу понял, что женился на гадине, и притом на алчной гадине, это ведь так сразу не сообразишь, нужно как минимум несколько месяцев, чтобы понять, что будешь жить в аду, и не в простом аду, а с многочисленными кругами, и с течением лет он все глубже увязал в этих кругах, все более гнетущих, все более мрачных и удушливых, и даже в колкостях, которыми они обменивались по вечерам, с каждым разом возрастал заряд какой-то незамутненной ненависти. Возможно, она и не изменяла ему, ну или совсем чуть-чуть, видимо, от случая к случаю дозволяла трахнуть себя какому-нибудь практиканту, который еще верил в ее статус великой журналистки, предполагая, что она занимает почетное место в органиграмме; неудовлетворенные амбиции окончательно разъели ее изнутри, никуда не делось лишь неистощимое желание сойти за крутую, клевую современную телку со связями в профессиональной тусовке. Последние два-три года Орельен то и дело проигрывал в уме ее убийство, он то ее травил, то, чаще всего, душил, представляя себе, как постепенно затрудняется ее дыхание, как с хрустом ломаются шейные позвонки. Это были нелепые мечты; он ничего не смыслил в насилии, никогда не дрался, вернее, никогда не защищался. Зато в течение многих лет его регулярно унижали и избивали старшие мальчики. Обычно все происходило очень быстро: отчаянная беготня по школьным коридорам, тщетные мольбы, а затем они отводили его к своему пахану, большому грузному негру по кличке Монстр, он тянул килограммов на сто живого веса. Его заставляли встать на колени, и он как сейчас помнил счастливую, почти сердечную улыбку Монстра, когда тот расстегивал ширинку, чтобы обоссать ему лицо, он пытался вырваться, но его держали крепко, и он снова вдруг ощутил сейчас, как воняло тогда кислой мочой. Это продолжалось два года, с восьми до десяти лет, так состоялся его первый настоящий контакт с обществом людей. С тех пор он был просто не способен на физическое насилие.
Что делать с Инди, и так понятно, алкоголь придаст ему храбрости, а для того, чтобы начать военные действия по разводу, храбрость не помешает. Инди, ясное дело, потребует половину имущества и получит ее; она потребует алименты и тоже получит их, останется только определить сумму. При разводе, насколько было известно Орельену, а известно ему было немного, главное – найти хорошего адвоката. Он знал ткачей готлис и баслис[38], мастеров по художественной ковке, штамповщиков, краснодеревщиков, но он не знал ни одного адвоката и выбрал его более или менее наугад. Инди, конечно, водила знакомство с парочкой грозных адвокатов, адвокат и журналист – два сапога пара, то есть в его глазах они принадлежали к одному и тому же непотребному миру, замешанному на лжи, лишенному непосредственного контакта с материей, с реальностью, с какой-либо формой труда. Так что, надо смотреть правде в глаза, надежды на успех у него мало.
Он даже не заметил, как почти допил бутылку, хорошо пошло; оглядев кафе, наполовину пустое или наполовину полное, он проникся мгновенной и абсолютной уверенностью, что в этом кафе нет никого, вообще никого, кто мог бы – да и во всем мире, пожалуй, немного наберется людей, которые могли бы выслушать его, проникнуться к нему симпатией, разделить его печали. Вечерело, Орельен допил бутылку и почувствовал себя, как никогда раньше, как еще ни разу в жизни, в ситуации полного тупика.
Примерно в это же время в самом центре Лиона Сесиль позвонила в дверь своих первых клиентов. Ее направил к ним Marmilyon.org – так назывался сайт. Это конечно, стартап, по крайней мере, так она его себе представляла, у них был всего один сотрудник, она, впрочем, никогда его не видела, все делалось по телефону и прежде всего онлайн. Они наняли на работу четырех поваров: итальянца, марокканца, тайку и с сегодняшнего дня Сесиль для французской кухни, это было их последней инновацией, адресованной клиентам, желавшим “отведать блюд из локальных продуктов”, как они указали на сайте.
Ей открыла светловолосая женщина, довольно красивая, лет сорока, она сделала заказ за три дня, сегодня вечером к ней придут на ужин двенадцать человек, так что Сесиль оставалось три часа на все про все, но так она и рассчитывала и ничуть не волновалась.
Квартира была гигантская, надо думать, это и есть лофт, но в лофт обычно превращают бывшие мастерские, а здесь все выглядело так, будто они заняли целый завод, ей показалось, пока она шла, что парадные салоны и игровые комнаты сменяют друг друга почти до бесконечности.
Кухня тоже была очень большая, с огромным центральным островом из лавового камня.
– Я купила все, что вы велели… – сообщила женщина с гримасой легкой досады, ей явно не понравилось, что Сесиль дает ей указания, но ничего не поделаешь, покупки не входят в число услуг, предлагаемых сайтом. – Бытовую технику показывать вам не буду, у нас тут все чистая классика… – продолжала она, нетерпеливо махнув рукой, конечно, классика, но высшего качества, во всяком случае ужасно дорогая, особенно впечатлял набор кухонных ножей линейки Haiku Itamae, не говоря уж о плите La Cornue, по-видимому, всем этим почти не пользовались и наверняка заказали разом по каталогу.
Сесиль принялась за работу и постепенно расслабилась, готовка всегда так на нее действовала, и слава богу, потому что она предчувствовала, что ей не понравится ни эта женщина, ни ее гости. Клиентам предлагалось два варианта: либо она уйдет, когда приготовит все для ужина, либо останется, чтобы обслужить гостей, потом помыть посуду и все убрать. К сожалению, заказчица выбрала второй вариант, ей, похоже, придется тут проторчать как минимум до полуночи. Эрве вернулся в Сен-Жозеф и собирался потом заехать за ней.
Запустив бланкет, она сосредоточилась на десерте, это будет ударный номер, клубничный торт – сложная история, она не пекла его уже много лет, но чувствовала себя хорошо, спокойно, уверенно. С закусками проблем не будет, банальный тертый сельдерей и спаржа под голландским соусом, соус она сделает в последний момент.
Ее опасения подтвердились, когда она подала закуски, а потом бланкет: эти люди ей определенно не нравились. Она забыла, чем занимается эта женщина, вроде бы недвижимостью или, скорее, модернизацией жилых объектов, за последние несколько лет в Лионе модернизировали довольно много жилых объектов. Ее муж, финансист, это по крайней мере известно, с мечтательным, немного оторопевшим выражением лица показался ей посимпатичнее жены; как ни странно, он-то с ней и связался поначалу и даже не пытался торговаться, и на том спасибо. Гости были явно того же круга, некоторые, видимо, имели отношение к культуре, разговор шел о современном искусстве, о разных выставках, ей некогда было прислушиваться, да и вообще все это ее мало занимало. У нее создалось впечатление, что они смотрят сквозь нее, словно не замечая ее присутствия. Она надеялась, что они хотя бы помянут добрым словом ее кухню, но никому это и в голову не пришло, ни одному из двенадцати сотрапезников, притом что бланкет ей удался.
Когда она внесла клубничный торт, разговор, пусть и не слишком оживленный, уже плавно свернул на предстоящие президентские выборы, все сошлись на том, что поддержат нынешнее правительственное большинство, поскольку, как говорится, “другой альтернативы нет”. Разрезая торт, она вдруг испытала желание ляпнуть что-нибудь дурацкое, ребяческое, вроде: “А мой старший брат хорошо знает министра!”, но сдержалась, пошла обратно на кухню и принялась за посуду. В сорок с лишним лет она, казалось, только открывала для себя классовую борьбу; странное это было ощущение, неприятное и немного гадливое, она бы прекрасно без него обошлась.
Она запустила посудомойку и подала кофе, гости проследовали в салон – вернее, в один из салонов. Тогда она закончила уборку и наконец смогла уйти.
– Я вас не провожаю, дорогу вы знаете, – сказала хозяйка дома.
Эрве уже приехал и ждал ее на углу Кур-Лафайет, в назначенном месте. Когда она спускалась по лестнице, ей вдруг ужасно захотелось заплакать. Машина была припаркована не так и далеко, но пятидесяти метров, которые она преодолела по ледяному воздуху, ей хватило, чтобы взять себя в руки, и когда она села на переднее сиденье рядом с Эрве и он спросил ее, как все прошло, ей удалось ответить абсолютно естественным тоном: “Очень хорошо”.
10
В пятницу, 29 января, Орельен закончил работу над гобеленом Маргариты Венгерской; теперь оставалось дождаться, чтобы его оборудование перевезли в замок Жермоль, что, несомненно, произойдет быстро, службы Управления по охране культурного наследия неплохо справляются с такими задачами.
С каждым утром его отъезд приближался, и его будоражило предвкушение радости; ему нравился маршрут, по которому он ехал к замку Шантийи, ну, не то чтобы самое его начало, ни Бонди, ни Ольне-су-Буа не услаждали взор, но, миновав аэропорт Руасси, он оказывался на природе, а сразу после Ла-Шапель-ан-Серваль – прямо посреди леса, и до Шантийи ему уже не попадалось больше никакого человеческого жилья. Возвращение, конечно, было куда менее радостным, его беспокойство росло по мере приближения к их домику в Монтрёе, крошечным палисадником которого Инди любила похвастаться перед знакомыми, хотя заросший сорняками и чертополохом запущенный кусок пустыря, где тут и там валялись ржавые консервные банки, при всем желании нельзя было назвать садом, да и в любом случае она была не способна вырастить даже самый захудалый овощ.
В этот пятничный вечер он толкнул дверь дома в каком-то чуть ли не игривом настроении, но тут же понял, что придется скрыть это от Инди, что необходимо поддерживать общение с ней в привычном тоне враждебности и сарказма; впрочем, особого труда это не составит, тем более что она уйдет рано, в пятницу она всегда уходила куда-нибудь.
В течение всей субботы, а это был самый тяжелый для него день недели, они почти не виделись, а вечером он позвонил Сесиль. У нее были хорошие новости, и она с ликованием в голосе сказала ему, что отец уже три дня как нормально питается. Конечно, все продукты приходится взбивать в миксере до состояния пюре, зато он вновь обрел способность получать от еды удовольствие.
– А от вина? – спросил Орельен.
– Ну да, и от вина, вино же это жидкость, какие проблемы.
Орельен мало что смыслил в медицине, и когда Сесиль упомянула о риске “аспирации”, он не понял, про что она. Она обрадовалась, что они скоро увидятся, пусть приезжает, когда хочет. Через неделю, сказал он, максимум две. Он добавил, что будет один; она ничего на это не ответила.
Последняя неделя января выдалась для Поля напряженной, Брюно был чрезмерно оптимистичен, на решение проблем, вызванных его отсутствием, ушло больше времени, чем он думал. Они встречались раз в неделю, Поль излагал ему некоторые спорные моменты, требующие немедленного решения, – и то для порядка, они так привыкли работать вместе, что почти всегда он легко предугадывал его реакцию. Затем запускался механизм Берси – эта хорошо отлаженная и мощная административная машина слегка буксовала на старте, но со временем все значительно упрощалось.
Стратегия Солен Синьяль в общем и целом не сработала; запевал из леваков-моралистов стало совсем не слышно, даже она не ожидала этого, а увальни гуманисты так и не сдвинулись с места. Надо сказать, что впервые подвели и евреи; тот факт, что среди кандидатов не оказалось никого из Ле Пенов, безусловно, сыграл роль в их самоустранении. Старик Ле Пен приближался к 99-летию, но все никак не решался умереть. Вот бы ему отпустить свою очередную шуточку о печах[39] и в самый последний момент подгадить родной партии; Солен еще возлагала на него какие-то призрачные надежды, но сама уже не слишком в это верила: поскольку новый кандидат не носил его фамилию, он явно считал, что уже не может его контролировать. Сам он “готовился предстать перед Спасителем” – больше в интервью из него ничего не удавалось выудить, и прогнозы второго тура так и не сдвинулись с отметки 55–45, застряв на ней с самого начала.
Поль с неизменным удовольствием общался с Раксанэ. Всегда энергичная и жизнерадостная, она обладала к тому же впечатляющей коллекцией боди – бирюзовое, мятно-зеленое, малиновое, ей, очевидно, нравились все цвета радуги; к тому же все боди примерно одинаково ее облегали. Судя по всему, она отлично ладила с Брюно, но, конечно, не спала с ним, Брюно бы себе этого не позволил, только не сейчас, не на этом этапе, тут могли возникнуть проблемы деонтологического характера, хотя, по правде говоря, деонтологическая этика в “Слияниях” никого, похоже, особо не волновала. Но Брюно пошло на пользу уже то, что она считала его полноценным мужчиной, и вроде он сам заодно об этом вспомнил. У Раксанэ от природы был сексуальный взгляд на людей, и она даже не думала это скрывать, что действовало очень умиротворяюще.
С Прюданс ситуация не изменилась, ну разве что совсем чуть-чуть. Теперь по утрам они вместе шли на работу и возвращались приблизительно в одно время. По вечерам вели долгие беседы в общесемейном пространстве, а потом отправлялись спать каждый в свою комнату. Они по-прежнему не ели вместе, но однажды вечером Поль с волнением обнаружил в холодильнике два ломтя запеченного паштета, купленных Прюданс специально для него.
Вечером второго февраля она ушла отмечать саббат Имболк, ее единоверцы устроили праздничную вечеринку. Этот саббат, если верить Скотту Каннингему, знаменовал собой восстановление богини после рождения бога. Тепло оплодотворяет землю (то есть богиню), что способствует проращиванию семян и появлению всходов; так возникает первый трепет весны. Прюданс явно пыталась, изо всех сил пыталась восстановить связь с миром, с природой, со своей собственной природой. Было бы неплохо, подумал Поль, предложить ей поехать с ним в Сен-Жозеф, как только он сам туда выберется; она действительно беспокоилась о состоянии здоровья его отца и всегда любила этот дом; вдруг они смогут ощутить там новый импульс, начать все заново, начать новую жизнь; ему очень хотелось на это надеяться.
Драпье позвонил Орельену в понедельник 15 февраля рано утром, он как раз приехал в Шантийи. Все готово, сказал он, можно приступать к работе в Жермоле уже в четверг. Попрощавшись, Орельен понял, что ему надо уехать в среду вечером, через два дня, он и не предполагал, что освобождение так близко. Более того, Инди нечего будет возразить против его поездки – скорее наоборот, ведь он займется также и продажей скульптур. В конце концов, они с галеристом сошлись на тысяче двухстах евро за штуку, но он так и не решился сообщить об этом жене. У владельца галереи, открытой в помещении бывшей фабрики в Роменвиле, было достаточно складских помещений, да и транспортные расходы он брал на себя.
В полдень он пригласил на обед свою молодую коллегу, недавно пришедшую в их отдел, они вместе работали над “Отречением апостола Петра”. Ресторан находился в самом замке, на месте бывших кухонь Франсуа Вателя, мажордома принца Конде, – возможно, он был хорошим поваром, но в историю вошел скорее благодаря своему самоубийству.
– Мы что-то празднуем? – спросила Фелиси, ее удивление было вполне объяснимо, обычно вместо обеда он прямо на рабочем месте съедал за пять минут врап с курицей.
– Не совсем. В общем, мне кажется, что я скоро смогу развестись.
– А! – Она проявила похвальные чудеса сдержанности, дождалась, пока принесут основное блюдо, и только потом начала задавать вопросы. Он заговорил без особого смущения, почти откровенно, хотя и приукрасил слегка историю. На ее вопрос, есть ли у них дети, он ответил, что нет.
– О, это хорошо, – сказала она, – нет детей, нет проблем…
Большинство людей подумали бы точно так же, Фелиси думала, как и большинство людей, очень с ней было спокойно, с Фелиси, во всех отношениях.
Он собрал чемодан накануне вечером, чтобы не возвращаться в Монтрёй, и выехал из Шантийи в четыре часа дня. На окружной были сплошные заторы, на трассе немногим лучше, часов в девять он понял, что доберется до Сен-Жозефа очень поздно, и вообще уже начал уставать, так что лучше будет переночевать в Шалоне. Он без проблем снял номер отеле “Ибис Стайлз” на северном съезде к Шалону. Ресторан был еще открыт, но в нем сидели только два человека, ужинавшие в полном одиночестве, каждый за своим столиком: парень лет сорока, похожий на торгового агента, – ну, на торгового агента, каким его изображают в кино, в жизни ему никогда не попадались торговые агенты, – и женщина чуть помоложе, по виду продавец-консультант, что-то было такое в ее макияже или в одежде, он не очень в этом разбирался, продавцов-консультантов он тоже не особо знал, его сведения о мире были весьма ограниченны. Он подумал мимоходом, не доводилось ли этим людям, проводящим жизнь в разъездах, в погоне за призрачным идеалом вечной лояльности клиента, воспользоваться ночевкой в номерах “Меркюр” или “Ибис Стайлз” и завести друг с другом мимолетный роман, не выпадали ли на их долю пылкие объятия командировочных? Да нет, вряд ли, решил он, поразмыслив немного; возможно, такое еще случалось во времена его отца, но навыки были давно утрачены, все это уже не отвечало духу времени. Он также сомневался, что, поднявшись к себе в номера, они оба откроют приложение онлайн-знакомств по геолокации; наверняка ничего такого не произойдет.
Он спал спокойно, без сновидений; на следующий день уже в восемь утра он стоял у ворот замка Жермоль, он знал, что в провинции рабочий день начинается рано. Охранник сильно смахивал на этакого злодея слугу, как правило дегенерата, участвующего в обрядах черной магии с закланием кур и вычерчиванием на полу амбара каббалистических знаков, которыми изобилуют фантастические фильмы категории Z; он был в курсе его приезда. Гобелены находились в плачевном состоянии, как он и опасался; в частности, один из самых красивых, на котором изображено купание Вирсавии, был наполовину съеден крысами. Чего он не ожидал, так это холода, в комнатах замка можно было закоченеть; плохо дело, ведь реставрация шпалер – тонкая ручная работа, ее трудно выполнять одеревеневшими пальцами. Что-то пробурчав, сторож пошел за электрическим обогревателем, что оказалось очень кстати; ему особо нечем было заняться в зимние месяцы, когда прекращались экскурсии по замку, и большую часть своего времени он, похоже, посвящал кормлению собак – их было тут, наверное, с десяток, малопривлекательной породы, вроде ротвейлеров и мастифов. Однако в полдень Орельен вышел прогуляться по парку; звери подозрительно на него поглядывали, но не приближались. Замок располагался в коммуне Мельсе, в бар-ресторан которой он и отправился обедать; там была приятная, мирная обстановка, как в романах про Мегре.
Он знал, что Сесиль не будет расспрашивать его про Инди, подождет, пока он сам заговорит о ней, но в первый вечер ему недостало мужества затронуть эту тему. Она сказала, что в больницу они поедут в субботу, чтобы забрать Мадлен – по субботам она ночевала в Сен-Жозефе. А в воскресенье отвезут ее обратно и смогут побыть с отцом.
На следующий день после ужина Сесиль вернулась на кухню; она занялась готовкой на неделю вперед, потом она разложит всю еду по герметичным боксам и отдаст их Мадлен; это займет у нее два-три часа, не меньше. Когда Эрве отправился спать, Орельен остался в столовой один; он не думал о том, что собирается сказать, в голове у него, в общем, было пусто. Затем, почти автоматически, он встал, пошел на кухню, закрыл за собой дверь и сел за стол. Сесиль закончила помешивать соус, томящийся в сотейнике на медленном огне, повернулась к нему, вытерла руки и села напротив.
С продажей скульптур все почти в порядке, начал он, с составлением списка он справится за один уикенд, и владелец галереи заберет их в следующие выходные, они уже договорились на субботу двадцать седьмое, они заедут рано утром. Он чувствовал, что говорит невыразительным голосом, он толком даже не узнавал свой голос, и это его слегка встревожило.
Он поговорил еще немного о скульптурах матери, о том, сколько времени потребуется, чтобы продать их, и на какие суммы они могут рассчитывать. Сесиль терпеливо ждала не перебивая. Потом встала, чтобы помешать соус, и снова села напротив.
– Сразу после этого я подам на развод, – добавил он тем же тоном. – У меня назначена встреча с адвокатом на первое марта.
– А как же твой сын? Вы договоритесь о попеременном проживании, о праве на посещения по выходным?
– Я не собираюсь видеться с сыном.
Она опешила, замолчала на минуту, потом подошла к нему, сжала в ладонях его руку и сказала, что понимает его, ну, может его понять, конечно, он не вполне его сын, это многое меняет, все, вероятно, сложилось бы иначе, не окажись он, к сожалению, бесплодным.
– Да нет у меня никакого бесплодия, – спокойно ответил Орельен.
На этот раз она взглянула на него с изумлением, которое, по мере того как до нее доходило, что именно он сейчас сказал, постепенно сменялось ужасом. Вдалеке скрипнула дверь. Они замолчали; наверное, это встал Эрве. Чуть погодя все снова стихло. Орельен избегал взгляда Сесиль, но наконец выдавил из себя тем же отстраненным тоном:
– И никогда никакого бесплодия у меня не было. Это все ее выдумки. Я никогда не понимал, зачем ей понадобился донор.
И только когда в глазах его сестры заблестели слезы, он тоже расплакался. Он плакал долго, спокойно, казалось, поток слез никогда не иссякнет, а Сесиль укачивала его в своих объятиях. Он почти ничего не чувствовал, по крайней мере, не испытывал никакой боли, скорее что-то вроде абстрактной жалости к себе и еще какого-то более тревожного ощущения, что он постепенно опустошается. Возможно, подумал он, так чувствует себя человек, истекая кровью. В тот момент, когда слезы начали иссякать, к этому добавилось еще что-то, какая-то полнейшая расслабленность организма, усугубленная чудовищной усталостью. И он пошел спать.
На следующее утро, стоило им приехать в больничный центр, как в коридоре, ведущем в комнату отца, они наткнулись на Мариз.
– Они вышли, – сказала она, – Мадлен повезла его гулять в сад. А вы его младший сын, да? – Орельен кивнул. – Она предупредила его, что вы приедете. Доктор Леру тоже хотел бы с вами познакомиться, но его не будет в эти выходные.
– А красивая у него медсестра, – сказал Орельен, когда они шли в сад.
– Вот это от тебя не ускользнуло… – отозвалась Сесиль, но воздержалась от комментариев.
Мадлен, сидевшая на скамейке рядом с Эдуаром, закутанным в несколько одеял, увидела их издалека, энергично помахала им, встала и покатила кресло им навстречу. Две медсестры, которые попались ей по пути, отошли немного в сторону, только бы с ней не здороваться, и Орельену показалось, что они враждебно на нее посмотрели.
Он подошел к отцу, взял его руку, высунутую из-под одеяла, и сжал ее.
– Я приехал, папа, – сказал он. – Давай пойдем к тебе, а то похолодало, ладно? – Эдуар моргнул, медленно, но вполне отчетливо.
– Это значит “да”, – объяснила Сесиль, – помнишь? Может, мы вас оставим, – добавила она, когда они вернулись в комнату, – если тебе хочется поговорить с ним наедине.
Сесиль и Мадлен вышли; отец смотрел ему прямо в глаза застывшим взглядом. Он не в силах что-либо выразить, твердил про себя Орельен, он лишен возможности проявлять свои чувства; но ему потребовалась еще пара минут, чтобы заговорить.
– Я смогу к тебе заезжать иногда, папа, – сказал он наконец, – я теперь работаю недалеко от Шалона. А еще я собираюсь продать мамины скульптуры, я нашел галериста в Париже, мы все вывезем из амбара.
Его отец медленно моргнул. Орельен застыл, не зная точно, как истолковать этот знак, но и продолжать он тоже был не в состоянии.
– Ты был прав, папа, – удалось ему наконец выговорить, – моя жена – нехороший человек. Я подаю на развод.
Отец снова моргнул, на этот раз более внятно, более решительно.
Ему, собственно, нечего было добавить, но, выходя из больницы, он прекрасно себя чувствовал, легко и спокойно, и за ужином развлекал народ, рассказывал, что гобелены, реставрацией которых он сейчас занят, скорее всего, были сотканы в Аррасе, что в конце Средних веков Аррас стал ведущим центром производства гобеленов в Европе и во многом город обязан этой отрасли своим процветанием.
– Процветание уже не то, что было… – заметил Эрве, подлив себе вина.
В воскресенье утром Орельен принялся за работу, он фотографировал и измерял скульптуры, посылал мейлом все данные галеристу, это было несложно, но амбар очень плохо отапливался, и вечером он понял, что у него не хватит духу отправиться сейчас в обратный путь. Он останется на ночь в Сен-Жозефе и позвонит Фелиси предупредить ее, “Отречение апостола Петра” может немного подождать.
Он выехал на следующий день в семь утра. Несмотря на ранний час, Сесиль уже встала, она долго-долго обнимала его, перед тем как он сел за руль.
11
В следующую пятницу Поль и Прюданс сели на поезд до Макона. Спать в одной комнате они не будут, они обсудили это в последний момент, перед самым отъездом, пока им это сложновато, столько времени прошло; но Прюданс сказала, что постарается прийти к нему ближе к утру.
– Только вот кровать ужасно узкая, как ты знаешь, – заметил Поль; она догадывалась, но это ее не смущало, совсем даже наоборот. Он не очень понимал, почему вдруг решил спать в своей детской; с другой стороны, может, и не надо ему это понимать. Вряд ли там на стенах все еще красуются постеры с Керри-Энн Мосс, но если да, то первым делом он их снимет; он и тут не знал толком почему, но чувствовал, что так будет лучше.
По тому, как долго Сесиль ее обнимала на перроне у поезда, Поль вдруг понял, что она сделает все от нее зависящее, чтобы Прюданс было у них хорошо на выходных, чтобы она почувствовала, что вернулась в семью. Однако она не сдержала удивления, узнав, что Поль собирается занять свою бывшую комнату, но не произнесла ни слова.
Нет, в его комнате не оказалось никакой Керри-Энн Мосс, только безобидный постер “Нирваны”. Как ни странно, он заснул без всякого труда. Однако его тут же разбудил тихий скрип открывающейся двери, но он не пошевелился, не сделал никакого движения навстречу Прюданс, вместо этого съежился и вжался в стену. Ночь была темной, хоть глаз выколи, в комнате еще не похолодало, что возвещало бы о приближении рассвета, вряд ли было больше пяти утра.
Сначала она положила руку ему на талию, затем поднялась к груди. Он не сдвинулся ни на сантиметр. Затем она произвела какие-то непонятные телодвижения, почему-то задергалась и вдруг изо всех сил стиснула его, издавая невнятные звуки, Полю показалось, что она плачет. На ней все еще была детская пижама, на ощупь немного пушистая, невольно отметил он. Она слегка ослабила хватку, но все равно стискивала его еще довольно крепко, ну и ладно, ему было хорошо.
Он пролежал так долго, не шелохнувшись, ощущая ее тепло – она вся прямо пылала и дышала тяжело, ее сердечно-сосудистая система, должно быть, работала как сумасшедшая.
Дневной свет уже давно заливал комнату, когда он рискнул наконец пошевелиться, и, поворачиваясь, понял, что ему ужасно страшно.
Зря он боялся. Их губы были на расстоянии нескольких сантиметров. Ни секунды не раздумывая, Прюданс прижалась губами к его губам, всунула язык ему в рот и медленно задвигала им. Их языки сплелись, ему казалось, что так может длиться долго, всю жизнь.
Тем не менее все закончилось, ничто не вечно в подлунном мире. Они отстранились друг от друга, их тела разделяли теперь сантиметров тридцать.
– Пошли кофе попьем, – сказал Поль.
И снова Сесиль не смогла сдержать удивления, увидев, что они входят в кухню в пижамах, держась за руки. Наверное, так надо, подумала она, такой у них ритуал воссоединения. О чужих супружеских проблемах ничего нельзя сказать, ничего с ними не поделать, это тайная область, куда никому нет доступа. Можно разве что дождаться, пока с вами решат – если все же решат – поделиться, хотя, надо понимать, вряд ли это случится. То, что происходит между двумя людьми, касается только их самих и неприменимо к другим парам, не поддается ни вмешательству, ни обсуждению, это нечто лежащее вне общечеловеческого существования, вне жизни как таковой, а также вне социальной жизни, присущей многим млекопитающим, и даже глядя на потомство, которое это пара производит порой на свет, этого не понять, короче говоря, тут налицо опыт совершенно иного порядка, да и не опыт, собственно, скорее попытка.
– Орельен не поедет с нами в больницу, – сказала Сесиль, – он займется упаковкой скульптур, ему тут работы на целый день, кстати, мне кажется, перевозчики уже прибыли.
Полю потребовалась целая минута, чтобы понять, о чем она говорит. Ведь действительно Орельен уже, наверное, тут, он совсем забыл о нем, накануне вечером он с ним не виделся, они же приехали очень поздно, да и о скульптурах матери, честно говоря, он тоже забыл.
– Ну да, конечно, мамины скульптуры… – сказал он Прюданс, которая машинально кивнула, не понимая, о чем он.
– Вы сначала в душ? – спросила Сесиль, она немного торопилась, судя по всему.
– Нет, нет, мы сразу поедем, – ответил Поль.
Прюданс радостно кивнула, ей пришла в голову та же мысль: продолжить этот день вот так, не помывшись. Их тела, в общем, не слились воедино, это произойдет позже, но они долгое время касались друг друга, следы и запахи этих касаний еще не исчезли; это было частью ритуального приручения тел. Такое же явление наблюдается и у других видов животных, в частности у гусей, он когда-то давно смотрел документальный фильм на эту тему.
И правда, перед амбаром стоял грузовой фургон, его задние дверцы были широко распахнуты. Пусть пока и смутно, но ощущалось уже приближение весны, в воздухе разлилось тепло, и растения его почуяли, листья с тихим бесстыдством избавлялись от зимней оболочки, выставляя напоказ самые нежные свои части, эти юные листочки очень рискуют, внезапные заморозки могут уничтожить их в любой момент. Сев рядом с Эрве в его “дачию”, Поль вдруг понял, что, вероятно, никогда не увидит больше скульптуры матери – и еще, что начинает забывать ее лицо.
Приехав в больничный центр, они столкнулись на входе с доктором Леру, который разговаривал на весьма повышенных тонах с каким-то типом в чиновничьем костюме. Он оборвал его нетерпеливым жестом и подошел к ним.
– Вот и славно, хорошо, что вы приехали навестить отца… Только он вас не дождался, укатил со своей возлюбленной. Мы их тут, кстати, редко видим, они отправляются гулять каждое утро, уж не знаю куда. Она запомнила, что у кресла четыре часа автономного режима, и всегда возвращается к полудню, чтобы накормить его и подзарядить аккумулятор. Он уже практически не нуждается в медсестре, кстати, я попросил Аглаю заняться кем-нибудь другим. С ними осталась одна Мариз, она помогает Мадлен поднять его утром и уложить спать вечером, в остальном Мадлен справляется сама, меняет памперсы, моет его, кормит.
– А вы не против? – спросил Поль.
– Нет, с чего бы это мне быть против? Она выполняет работу санитарок бесплатно, а как вам известно, в больнице всегда не хватает персонала, для нас Мадлен просто находка.
Очевидно, какие-то проблемы все же возникли, но он не хотел ничего говорить, Поль почувствовал это, но не решился его расспрашивать, и они вместе зашли к Эдуару. Его снова поразила фотография родителей, обнимающихся на берегу моря. Они выглядели молодыми, влюбленными, из них буквально сочилось желание. Может, лучше им было такими и остаться, подумал Поль, может, им не стоило заводить детей, его мать явно не была так уж создана для материнства.
Через пять минут Сесиль сказала, что они с Эрве лучше подождут в саду; он кивнул. Прюданс решила пойти с ними, посмотреть, как тут что. Как только они ушли, он сел в кресло для гостей. Созерцание фотографий повергло его в мрачные ностальгические воспоминания, такое уж у фотографий свойство, заранее не предугадать, вызовут они радость или печаль. Оглядев комнату, он увидел отцовские папки. Ему не возбраняется в них заглянуть, сказал Мартен-Рено: они не засекречены, да и вообще он все равно ничего не поймет.
Первое дело, которое он открыл, действительно выглядело абсолютной тайнописью, там было страниц десять, заполненных наклонным почерком отца, убористым и аккуратным, из разнообразных последовательностей типа “AyB3n6–1282” складывались сотни строк, в которых невозможно было вычленить ни повторы, ни закономерности, к тому же там отсутствовали какие бы то ни было комментарии. Он долго так просидел, но в его голове даже отдаленно не забрезжила догадка, и он закрыл папку. Открыв вторую папку, он вздрогнул, пораженный, и замер, не веря своим глазам. Перед ним было скопление пятиугольников, кругов и странных символов, которые в течение нескольких месяцев появлялись в сети перед запуском видео, объявляя об очередном теракте. Более того, он сразу узнал сообщение, второе по счету, то, что сопровождало ролик с обезглавливанием Брюно. Поль прекрасно помнил, что его выложили в сеть незадолго до того, как отец впал в кому. В том, что он следил за новостями, не было ничего удивительного, но его заинтересовала именно эта конкретная картинка, вот что в высшей степени странно.
Четыре

© Michel Houellebecq

© Иллюстрация из книги Stanislas de Guaita, Le Serpent de la Genèse: Le Temple de Satan, Paris, Librairie du Merveilleux, 1891
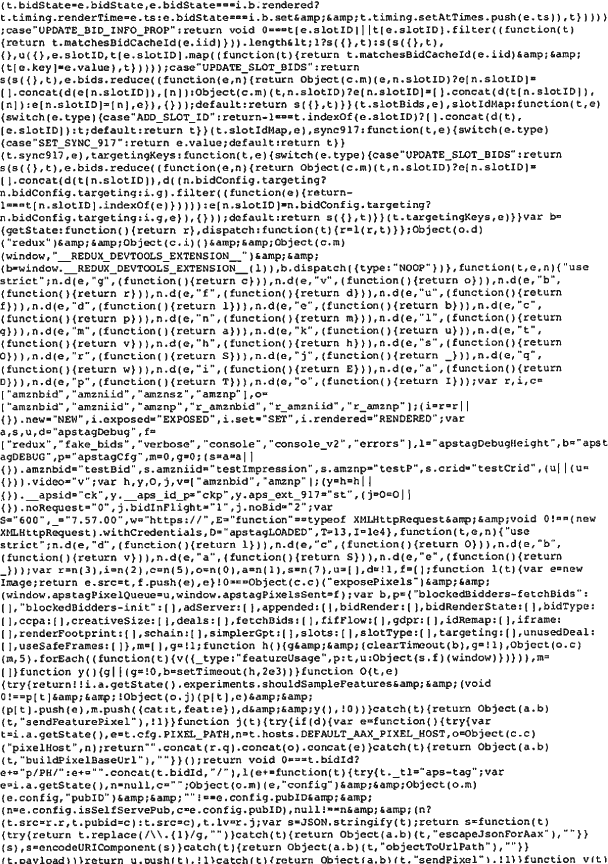
частная коллекция
1
Вторая картинка, довольно жуткая на вид, но при этом более классическая, очень напоминала традиционные изображения дьявола. Имя, выгравированное на постаменте, тоже что-то ему говорило, он смутно помнил, что Элифас Леви, оккультист девятнадцатого века, как ни странно, водил дружбу с социалисткой и активисткой Флорой Тристан, которая к тому же была бабушкой Гогена, ну и что из того? Что касается третьего листа, то в нем он вообще ничего не понял. Отец тем не менее угадал взаимосвязь между этими тремя документами, и в течение минут десяти Поль внимательно изучал их, положив в ряд, но ничего такого не заметил. Если эта взаимосвязь канула в отныне недоступные глубины его мозга, то ее не скоро удастся обнаружить; ему оставалось только проинформировать Мартена-Рено. Он оставил ему сообщение, сказав лишь, что нашел “нечто странное” в папках отца. Мартен-Рено перезвонил через десять минут, и Поль объяснил ему ситуацию.
– Хотите, я пошлю вам все документы по мейлу? – предложил он.
– Ни в коем случае. Вы же сейчас недалеко от Макона?
– В Бельвиле, если точнее.
– Я сам заеду за ними. Буду у вас, я думаю, в середине дня.
И он попрощался, оставив Поля в полном недоумении.
Мадлен, толкая перед собой Эдуара в кресле, вернулась в двенадцать с чем-то, как и предполагал Леру. Сесиль сообщила, что принесла говядину по-бургундски, рагу из баранины и всякие супы, их надо будет просто разогреть в микроволновке, и еще она приготовила несколько десертов. Сразу по приезде она поставила всю еду в холодильник в общем зале, где питаются пациенты, по крайней мере, те из них, кто обходится без зонда, а таких в отделении было человек десять. Поль поразился, увидев отца, он выглядел намного лучше, лицо казалось отдохнувшим, чуть ли не загорелым, ему даже почудилось, что у него и взгляд ожил. Расцеловав его в обе щеки, он наклонился и прошептал ему на ухо:
– Папа, когда ты поешь, нам надо будет поговорить, это касается твоей работы. Один твой бывший коллега собирается навестить тебя сегодня во второй половине дня.
Эдуар отчетливо моргнул, вполне вроде бы энергично, но, возможно, это все его фантазии. После обеда они уединились у него в комнате, и Поль достал папку.
– Ты помнишь эти документы? – Эдуар утвердительно моргнул.
– Ты их нашел у кого-то? – Отец не шелохнулся. – Значит, распечатал из интернета? – Никакой реакции. – Но у тебя создалось впечатление, ты интуитивно понял, что они как-то связаны между собой? – Он дважды быстро моргнул. – Как ты считаешь, ты сможешь объяснить эту интуитивную догадку своему коллеге, когда он зайдет к тебе? – У Поля возникло странное чувство, что отец колеблется, его веки слегка дрогнули, но в итоге он не подал никакого знака.
Мартен-Рено прибыл в три с чем-то на DS, он сидел сзади, за рулем был какой-то военный.
– Надо же, как вы быстро… – сказал Поль.
– Тут неподалеку находится авиабаза Амберьё-ан-Бюже, а в Виллакубле всегда найдутся свободные вертолеты.
– Нет, я удивляюсь, что вы приехали сами, сочтя, что это неотложное дело.
Он улыбнулся.
– Тут вы не так уж неправы, возможно, я злоупотребляю госфинансированием… Конечно, речь не идет о ЧП общенационального масштаба, но эта история уже всех порядком достала, и не только во Франции, между прочим. И потом, есть еще кое-что, гораздо более туманное, а именно мое ощущение, что это далеко не конец. Они издеваются над нами уже полгода, что хотят, то и творят; на мой взгляд, на этом они не остановятся.
Поль, хоть и знал гораздо меньше, придерживался того же мнения. Они сели у входа в клинику в тишине и покое. Внимательно выслушав его, Мартен-Рено недоверчиво покачал головой:
– Теперь сатанисты… Бедный Дутремон. Он, того и гляди, возьмет больничный, если так и дальше пойдет.
– Но пока ничего ужасного в этом нет, ну, я имею в виду, что это, конечно, очень странно, но никакой катастрофы не произошло.
– Как посмотреть. С точки зрения кибербезопасности это, вероятно, самая большая катастрофа с момента появления компьютеров. Никто не паникует только потому, что нет жертв.
Поль почувствовал, что Мартен-Рено чуть было не добавил “пока нет”, потому что ему тоже, и по-прежнему безо всякой на то причины, одновременно пришла в голову та же мысль. Некоторое время они обдумывали эту перспективу.
– Пойду зайду к Эдуару, хорошо? – спросил наконец Мартен-Рено.
– Будете его допрашивать? Ну, если так можно выразиться.
– Нет, я не буду его допрашивать, просто поздороваюсь. Я считаю, что вы отлично справились; вы задали ему единственные правильные вопросы. Полагаю, вы тоже могли бы работать в наших службах.
– Думаю, он был бы рад.
– Ну… – Мартен-Рено снова улыбнулся и встал с кресла. – Он понимает все, что ему говорят, но не может ответить? – Поль кивнул. – И моргает, чтобы сказать “да”, когда ему задают вопрос?
Поль снова кивнул. Мартен-Рено вышел в коридор.
Через два часа он сел в машину и отправился обратно на военную базу Амберьё.
– Это папин коллега, в смысле, бывший коллега? – спросила Сесиль. Поль подтвердил. – Именно так я их себе и представляла, – заметила она.
– Ну а что, бывают ведь и достоверные телесериалы… – подытожил Эрве.
Вечернее застолье было оживленным, от появления спецслужбиста все перевозбудились и говорили без умолку. Профессиональная жизнь отца была, наверное, захватывающей, подумал Поль, не то что тоскливая чиновничья рутина, как у него. Ну, он немного преувеличивал, его жизнь стала гораздо интереснее с тех пор, как Брюно вступил в политическую игру, но все же экономика – весьма заунывная дисциплина, а министерство – довольно-таки гнетущее место.
Орельену сообщили последние новости. У него с перевозчиками все прошло хорошо, сказал он в свою очередь, скульптуры упакованы, завтра будут на складе, и в начале следующей недели их выставят на продажу.
Вот они и воссоединились, подумал Поль, братья и сестра воссоединились – впервые за сколько лет? Они разошлись очень поздно, все немного навеселе, даже Орельен, судя по всему, начал выпивать, Поль впервые увидел, что он выпивает; однако через пару минут после того, как он лег, его охватило мучительное беспокойство, он вдруг почувствовал, что это воссоединение всего лишь иллюзия, что они собрались вместе в последний раз или почти в последний и скоро все вернется на круги своя, все вновь распадется, рассеется, и внезапно он понял, что ему ужасно нужна Прюданс, теплое тело Прюданс, настолько, что он встал и прямо в пижаме пошел по застекленному коридору, ведущему в главный дом. Дойдя до зимнего сада, он вдруг остановился, дыхание постепенно успокоилось. В свете полной луны ему прекрасно были видны холмы и виноградники. Нет, дурацкая идея, подумал он, пусть лучше она сама придет, ей самой надо проделать этот путь. С другой стороны, так ли уж он в этом уверен? В образе бога у виккан иногда просматривается что-то от грозного мужа, завоевателя; он не знал, как быть, правда не знал. Вот с Раксанэ он бы ни минуты не колебался, неожиданно мелькнула у него мысль; не говоря уже о той эфиопке. Они определенно что-то просрали, сказал он себе, они все коллективно где-то что-то просрали. Какой смысл переходить на 5G, если мы уже не в состоянии установить контакт друг с другом, совершить какие-то важнейшие действия, которые позволяют человеческому виду размножаться, позволяют быть счастливыми хоть иногда? К нему вернулась способность размышлять, его мысли приняли даже чуть ли не философский оборот, отметил он с отвращением. Разве что все это относится к области биологии или вообще ни к чему не относится, он уже собрался пойти к себе и лечь уже наконец, это было бы самое верное решение, все равно эти мысли будут неминуемо крутиться в голове вхолостую, он чувствовал себя банкой из-под пива, раздавленной ботинком британского хулигана-болельщика, или стейком, забытым в овощном отсеке дешевого холодильника, короче, он не очень хорошо себя чувствовал. А тут еще у него, как назло, опять разболелся зуб; или все это чистая психосоматика?
Как ни странно, несмотря на непреходящее смущение разума и пульсирующую боль в челюсти, он заснул почти сразу, стоило ему коснуться головой подушки. И точно так же он мгновенно проснулся, услышав скрип, хоть и совсем слабый, открывшейся двери. Она пришла еще раньше, чем накануне, и теперь, посреди ночи, ему показалось, что он проспал всего минут десять. На этот раз он не стал притворяться спящим, а сразу же повернулся и приблизил свои губы к ее губам, так, вероятно, поступил бы какой-нибудь бог, потому что она тут же отозвалась, и их языки снова сплелись. Однако, когда он положил ей руку на попу, то ощутил, как она напряглась, и немедленно остановился. Надо набраться терпения, твердил он себе, куда им спешить, на самом деле, никуда не спешить очень приятно и даже головокружительно, потому что, без всякого сомнения, они рано или поздно падут друг другу в объятия, вся их жизнь превращалась сейчас в замедленное, бесконечное, восхитительное падение. Ему понравилось уже само прикосновение к ее попе, она была не такой тощей и костлявой, как он опасался, ему показалось, что у него встал, ну или в этой области что-то такое произошло, но все это он тоже подзабыл, сколько же лет прошло с тех пор? Восемь, десять? Неужели так много, ну да, возможно, годы порой пролетают моментально. Видимо, ему стоит пойти иным путем и для начала наведаться к блядям, просто чтобы восстановить ощущения и рефлексы, бляди созданы как раз для того, чтобы возвращать человека к жизни. Пока что он просунул руку ей под пижамную куртку и погладил по груди. Она откликнулась, ей всегда нравилось, когда он гладил ее по груди. Ниже уже сложнее, само собой.
После воскресного обеда все столпились, словно кучка соратников, вокруг машины Орельена, чтобы торжественно проститься с ним, как будто он готовился взойти на Голгофу, что было не так уж далеко от истины. На следующее утро у него назначена встреча в Роменвиле, так что ему придется уехать сейчас и переночевать дома в Монтрёе, это было лучшее, самое разумное решение. Люди в общем и целом покоряются своей судьбе, Сесиль и сама всегда ей покорялась и, в сущности, могла только похвалить себя за это. Тем не менее она подумала, возможно впервые в жизни, что в некоторых случаях предпочтительнее все же взбунтоваться; на месте Орельена она бы заночевала где угодно, хоть в отеле “Ибис” в Баньоле или где-то еще, только бы не возвращаться в Монтрёй. Она чуть было ему это не сказала, но засомневалась и промолчала; а потом, когда машина брата исчезла за последним поворотом в направлении Вилье-Моргона, долго еще сожалела об этом.
Орельен ничего не стал говорить Сесиль, считая, что и так уже достаточно нагрузил ее своими заботами, но сегодня же вечером он намеревался сообщить Инди, что подает на развод; завтра он встречается с адвокатом, сразу после галериста, откладывать больше нельзя. И еще придется обсудить с ней оценку скульптур, короче говоря, его ожидал отвратительный вечер со всех точек зрения. Он очень надеялся, что у него будет время все обдумать в пробках, но, как ни странно, на дорогах было пусто, хотя школьные каникулы еще только заканчивались, а может, и нет, он не мог вспомнить. Интересно, у Годфруа, например, сейчас каникулы? Он понятия не имел.
Он приехал в Монтрёй около восьми, никак не мог запарковаться, но в конце концов нашел место в полукилометре от дома. У него был ключ. Инди, сидя на диване в гостиной, досматривала программу “Это политика” и даже не встала ему навстречу. Еще несколько месяцев назад она худо-бедно притворялась, но это время безвозвратно ушло. Он не любил телевидение вообще, а уж политические программы и подавно, но Инди как раз усердно их смотрела, вероятно считая это частью своей работы. “Это политика” вызывала у него особое отвращение и неизменно повергала в отчаяние. Все эти люди на экране, лукавый ведущий, лысый историк, жеманная журналистка-расследовательница казались ему зловещими куклами, ему никак не удавалось убедить себя, что они живут, как он, дышат, как он, принадлежат к тому же миру и той же реальности, что и он. В эту мерзкую компашку затесалась еще и некая интервьюерша, вероятно, именно с ней Инди отождествляла или пыталась себя отождествить, но чаще всего, пожалуй, ей оставалось только упиваться собственным унижением от просмотра еженедельного телевизионного шоу с участием той, кого она не смела даже считать своей соперницей, она вращалась в столь высоких медийных сферах, что поди ее догони, и всем своим видом ежесекундно напоминала Инди, что она – неудачница и к тому же еще пишет для печатных изданий. Эта девица все-таки самая противная из них, с этой напускной вовлеченностью, самодовольством, уверенностью, что она-то на стороне добра, и готовностью лебезить перед любым випом из того же лагеря. Инди были свойственны все эти черты за вычетом самодовольства – по понятным причинам.
Он обшарил кухню, стараясь производить как можно больше шума. Все зря – пить тут было нечего, есть тоже, он, впрочем, был не голоден, а вот бутылка вина пришлась бы очень кстати. Он вернулся в гостиную, гостьей передачи была какая-то дебильная писательница, фамилию он забыл, Инди врубила звук на полную мощь, это было невыносимо.
– У нас нечего выпить! – проорал он.
– Я тебе в прислуги не нанималась! – крикнула она в ответ.
– Да и в жены, видно, тоже… – добавил он чуть тише, она недоуменно повернула голову в его сторону, повторять бессмысленно, решил он, разговор на сегодня все равно закончен, выяснение отношений подождет до завтра, без выпивки ему с этим не справиться, да и лучше сначала увидеться с адвокатом.
Раздеваясь, он обнаружил в кармане джинсов номер мобильника Мариз. Он записал его утром, перед уходом из больницы. Она дала ему свой телефон без вопросов и комментариев; никто вроде не заметил, да, точно никто.
2
Просмотрев документы, собранные Эдуаром, Дутремон отреагировал лучше, чем ожидал Мартен-Рено. Про последний он как раз хорошо понимал, что это такое: скорее всего, фрагмент программы, позволяющей контролировать компьютеры-зомби; это был важный элемент, даже если в полной программе могут оказаться десятки подобных страниц с кодом. Сам он не знал толком, какой именно язык программирования здесь использовался, но ему не составит труда это выяснить, достаточно сделать пару звонков. Где отец Поля раздобыл эту кодовую страницу? Интересно было бы узнать; но если он правильно понял Мартена-Рено, расспросить его не получится, учитывая, в каком он состоянии.
А вот гравюра с изображением дьявола особого смысла, на его взгляд, не имела; нападение на банк спермы сбило его с толку, заставив переключиться с классической ультралевой версии на поиски следов католика-интегриста, что было гораздо менее вероятно; а теперь, значит, это изображение указывает на след сатанистов; при таком раскладе его это не слишком встревожило, хрен редьки не слаще.
После датского теракта он обратился к Ситбон-Нозьеру, который отвечал у них за мониторинг соцсетей; сейчас он понял, что с тех пор они даже не созванивались. Сам не зная почему, он постоянно тушевался в обществе этого типа примерно его возраста, всегда носившего безупречные темно-синие костюмы. Хотя он держался с ним очень любезно. Но в том-то и дело, что в его любезности сквозило что-то напускное, чрезмерное. В сущности, он пробуждал в нем чувство классовой неполноценности, источник которой ему трудно было определить; Ситбон-Нозьер пользовался репутацией умника, он окончил Эколь Нормаль, получил звание агреже[40] по истории и написал диссертацию о русских нигилистах, но Дутремона впечатляли не эти академические достижения, например, он не испытывал ни малейшего смущения в присутствии энарха Поля. Выпускников Эколь Нормаль среди его знакомых практически не водилось, это правда, но не то чтобы они прямо поражали его воображение. А вот что в Ситбон-Нозьере внушало ему почтение – задумавшись об этом, он, увы, пришел к такому весьма огорчительному выводу, – так это его костюмы: мало что в этом понимая, он догадывался, что они наверняка ужасно дорогие, по несколько тысяч евро. Схожее впечатление в значительной степени способствовало поражению кандидата от правых на последних президентских выборах и позволило нынешнему президенту прийти к власти. Как бы президент ни был помешан на себе любимом, в сословности его не упрекнешь; чувствовалось, что таким феерическим взлетом он обязан исключительно своим личным качествам; именно это и было его главным достоинством в глазах избирателей.
Мартен-Рено нанял этого агреже два года назад, чтобы мониторить экстремистские публикации и призывы к беспорядкам, которые валялись на разнообразных сайтах в самых отдаленных закоулках сети. Его просторный кабинет находился на другом этаже, отдельно от остальных офисов, и отличался от них наличием интернета – после ряда неудачных попыток они пришли к выводу, что отсутствие сети самый надежный способ защиты, и все теперь подключались с общих компов, в зале, специально предназначенном для этой цели. Зато в компьютере Ситбон-Нозьера не хранилось никаких секретов; его работа заключалась в изучении общедоступного контента, авторы которого как раз даже стремились к максимально широкому распространению.
Изучив за пару секунд гравюру демонического толка, он заявил, что не понимает, в чем фишка. У него ничего не было о сатанистах, ни единого досье. Насколько он знал, эти ребята, законченные индивидуалисты, сочли бы полным абсурдом участие в террористических или акционистских действиях, это для них такой же абсурд, как, например, давать инструкции по голосованию.
Он, конечно, не возьмется пока что-либо утверждать, но его собственные исследования ведут совсем в другом направлении. Противники либеральной глобализации и искусственного оплодотворения обычно вращаются в разных сферах, но есть одно движение, которое объединяет и тех и других – анархо-примитивизм. Это по преимуществу американское течение, отчасти вдохновленное луддитами, но уж совсем экстремистское. Самый известный их идеолог – Джон Зерзан. А также самый радикальный: он жаждал уничтожить не только промышленность, торговлю и современные технологии, но и упразднить сельское хозяйство, религию, искусство и даже членораздельную речь; его проект, по сути, заключается в том, чтобы вернуть человечество на уровень среднего палеолита. Ситбон-Нозьер взял с книжной полки тонкую брошюрку Зерзана и зачитал вслух отрывок:
Агрокультура создает предпосылки для чрезвычайного углубления разделения труда, устанавливает материальные основы социальной иерархии и приступает к разрушению окружающей среды. Жрецы, цари, тяжелая работа, неравенство полов, война – вот только несколько прямых последствий возникновения агрокультуры[41].
– Это сплошной примитивизм и экстремизм, с трудом верится, что это может кого-то впечатлить… – возразил Дутремон.
– Тут я с вами не соглашусь. Есть народ и поэкстремальнее. Некоторые идеологи deep ecology выступают за вымирание человечества, считая, что род человеческий решительно неисправим и опасен для выживания планеты. Например, приверженцы таких движений, как “Церковь эвтаназии”, “Фронт освобождения Геи”, “Движение за добровольное вымирание человечества”. Зерзан, напротив, стремится не уничтожить человечество, а перевоспитать его. Людей он рассматривает как симпатичных приматов, добрых внутри, которые еще во времена неолита просто пошли по плохой дорожке. Его тезисы очень напоминают принципы классического руссоизма: человек рождается хорошим, общество его развращает и т. д. А такие люди, как Руссо, могут оказывать огромное влияние; можно даже сказать, что Французская революция вышла из Руссо. Мифы о первобытном коммунизме, о золотом веке всегда обладали невероятной мобилизующей силой, и сегодня это тем более актуально, учитывая бесконечные передачи о мудрости традиционных цивилизаций, об охоте инуитов на карибу и т. д. К тому же в случае Зерзана любопытно, что один близкий ему человек перешел от слов к действию. Помните Унабомбера?
– Нет, не помню.
– Ну да, тому уж лет тридцать. Унабомбером его окрестила пресса, а на самом деле его зовут Теодор Качинский. Он очень одаренный математик, мне кажется, он даже сделал какое-то открытие в алгебре – нашел альтернативное доказательство теоремы Веддербёрна, если меня не подводит память. Он преподавал в Беркли, но потом перебрался в одинокую хижину где-то в Монтане. В начале “Первобытного человека будущего”, первой книги Зерзана, Унабомберу посвящена настоящая ода:
Он выживал, как гризли или пума, затаившись под толстым снежным покрывалом. Весной выходил из берлоги, бродил по лесу, вдоль реки. Охотился, рыбачил, собирал, добывал. Всегда один. Свободен, но одинок.
Это может показаться смешным, но поверьте, на многих подобная лирика производит сильное впечатление. У Зерзана и впрямь много общего с Руссо: средний интеллект, но подлинная музыкальность фраз; эта смесь иногда бывает довольно гремучей. Качинский – другое дело: он гораздо более методичен и мыслит структурнее, и, если угодно, скорее ближе к Марксу.
Ситбон-Нозьер взял с полки еще две книги: “Манифест: будущее индустриального общества”, вышедший в издательстве “Дю Роше”, и “Индустриальное общество и его будущее”[42], изданное “Энциклопедией неприятностей”.
– Вот, например, отрывок о природе… – Он быстро пролистал одну из книг и нашел нужные строки. – Фрагмент номер 184. И это все, что Качинский может сказать о природе: “Большинство людей согласятся с тем, что природа прекрасна; безусловно, она обладает огромной притягательной силой”. Как видите, это совершенно другой стиль. Впрочем, он часто критикует Зерзана. Например, Зерзан защищает феминистские позиции: по его мнению, патриархат зародился только в эпоху неолита, а на протяжении всего палеолита царило равенство полов; крайне сомнительное утверждение. Будучи к тому же вегетарианцем, он утверждает, что, как он выражается, “свидетельства рубки мяса” появились очень поздно в истории человечества; опять же, археологи отнюдь с этим не согласны. Качинский же допускает естественное неравенство и хищнические наклонности человека и, кстати, вовсе не симпатизирует левым, как раз наоборот; в некотором смысле он более последовательный эколог. Но при этом в своей хижине в Монтане он начал изготавливать самодельные бомбы и рассылать их разным людям, которых считал представителями современных технологий, трое погибли и около двадцати получили ранения, прежде чем его задержало ФБР.
– И что с ним стало?
– Насколько мне известно, он отбывает пожизненное заключение в колорадской тюрьме, возможно, он уже умер, а если и жив, то ему за восемьдесят. В 1996 году “Церковь эвтаназии”, одно из самых провокационных направлений deep ecology – они любят провозглашать, что четырьмя столпами их движения являются самоубийство, аборт, каннибализм и содомия, – запустила кампанию “Унабомбер – наш президент” на выборах в США; его, разумеется, они не спросили, но это лишний раз доказывает, что его еще долго окружала некая аура, как Чарльза Мэнсона в каком-то смысле. Не исключено также, что он имеет подспудное влияние во Франции. Существует два перевода его текста на французский, в то время как на большинство других языков его не переводили вообще, и нельзя сказать, что его публикуют маргинальные издательства. Одна довольно устойчивая легенда гласит, что незадолго до ареста Качинского некая молодая французская этнобиологиня приехала к нему в его хижину в Монтане. Я попытался найти следы этой этнобиологини; она является автором достаточно серьезных работ по вокализам коров, но, похоже, никак с Качинским не связана; тем не менее слух о ней пронесся по альтернативным фэнзинам. Все это разрозненные элементы, и ни один из них как таковой не имеет большого значения, но с самого начала меня не покидает уверенность, что эти теракты как-то связаны именно с Францией. Почему для ролика с отсечением головы они выбрали французского министра экономики? Разумеется, Брюно Жюж в большей степени, чем кто-либо, олицетворяет обновление экономики через промышленность, внедрение высоких технологий и прогресс, но это идея могла прийти в голову только французским террористам.
– Теорема Веддербёрна это та, где утверждается, что всякое конечное тело является полем?
– Да, типа того.
Дутремон вышел от него в задумчивости, хотя сомнения его не покинули. В рассуждениях выпускника Эколь Нормаль не нашлось места для изображения дьявола; оно не вписывалось и в интуитивную концепцию их парализованного коллеги, а Мартен-Рено, так или иначе, придавал ей большое значение, и ему не хотелось без дополнительной проверки просто сбрасывать со счетов его точку зрения. Ситбон-Нозьер искал людей, действующих рационально, в соответствии с определенными убеждениями, во имя достижения конкретной политической цели; он и не мог рассуждать по-другому, так его учили, но ведь не исключено, что в основе этих терактов лежит что-то гораздо менее рациональное и все дело тут в какой-то форме безумия, по крайней мере, такое у него сложилось впечатление. Тогда он подумал о молодом человеке, которого недавно взял на работу по рекомендации своего знакомого, бывшего хакера, – ну, он надеялся, что бывшего, но отнюдь не был в этом уверен и опасался, что тот вот-вот предстанет перед ним правонарушителем, по ту сторону барьера. Прошло всего две недели с тех пор, как новичок приступил к своим обязанностям, он только и успел, что ознакомиться с их службами, и все это время он ни разу его не видел, правда, помнил, что это совсем уж юное дарование, от силы лет двадцати, и у него может быть иное мнение по этому вопросу, стоит рискнуть.
Большинство молодых сотрудников, которых ГУВБ берет на временный договор за их углубленные знания маргинального сегмента общества, прилагают хоть какие-то усилия, чтобы адаптироваться к дресс-коду на новом месте; Дутремону самому пришлось с ним смириться несколько лет назад. Чего не скажешь о Делано Дюране – Дутремон был потрясен, впуская его в свой кабинет. В грязном спортивном костюме на три размера больше, чем надо, с пивным животиком и длинными, сальными, немытыми патлами, он являл миру идеальный образ среднестатистического металлиста, которые в нашем обществе таинственным образом остаются верны себе вот уже полвека. Не проронив ни слова, он взял документы, протянутые ему непосредственным начальником. Первый, со странными символами, он, конечно, уже видел и знал о них не больше, чем все остальные сотрудники отдела, он им это сразу сказал. Как и ожидал Дутремон, он быстро отложил его в сторону, заметив только: “не понимаю…”; зато вторую картинку он так долго держал в руках, что в конце концов Дутремон не выдержал:
– Это вам о чем-то говорит?
– Ну разумеется, это же наш старый приятель Бафомет.
– Бафомет?
– Бафомет, а че.
– Не могли бы вы развить свою мысль?
– К вашим услугам, шеф. Ну, замечу для порядка, что это слово восходит к Средним векам и является, вероятно, искаженной формой имени Магомет. Впервые оно встречается в письме Ансельма Рибемонтского, сподвижника Годфрида Бульонского, датированном 1098 годом, в котором он повествует об осаде Антиохии. Христианские рыцари Средневековья видели в мусульманах просто-напросто дьяволопоклонников, и, кстати, это еще вопрос, так ли уж они были неправы… – Он шумно расхохотался, заметил, что смеется в одиночестве, осекся и продолжил свой доклад: – Ну, короче, потом Бафомету поклонялись тамплиеры, что стало одной из главных причин уничтожения ордена Храма, после чего его взяли на вооружение масоны шотландского ритуала, ну а в наши дни он весьма популярен в экстрим-метал- и дэт-метал-группах, в основном норвежских, он у них там прямо звезда. Довольно неоднозначный персонаж, с козлиной головой, бородкой, и при этом с женской грудью, в общем, все это чрезвычайно любопытно.
– А какая связь между этими двумя картинками? Вы ее видите?
– Ну да, естественно, связь очевидна: цифра пять. В сообщениях фигурируют пятиугольники, это главная их особенность с самого начала. Точнее, правильные выпуклые пятиугольники. У Бафомета на лбу изображен другой тип пятиугольника – правильный пятиугольник в форме звезды, то есть пентаграмма, и это важно, потому что их по-прежнему широко используют в современной магии.
При словах “современная магия” Дутремон содрогнулся, но потом задумался на несколько мгновений; может, этот парень не так уж и безнадежен, в конце концов, может, он и не зря взял его на работу.
– И что нам это дает? – спросил он. – Что конкретно, я имею в виду?
– Понятия не имею, шеф, мне надо будет навести справки, позвонить кое-кому, в общем, дайте мне немного времени.
В слове “шеф” прозвучала явная ирония, но Дутремон пропустил ее мимо ушей, я старею, подумал он. Был ли он таким же наглецом в возрасте этого мальчика? Сейчас трудно вспомнить, но вряд ли. Ему, конечно, была свойственна в то время типичная заносчивость гика по отношению к неучам от информатики, но тогда это считалось нормальным, ожидаемым и вписывалось в образ, не будь ее, все бы даже огорчились. В последние годы он начал лучше понимать, что значит быть шефом, и поэтому совершенно спокойно попрощался с Делано Дюраном.
3
Полю всегда нравилось, когда первый день месяца выпадал на понедельник, он вообще любил всякие совпадения, жизнь должна была бы быть чередой приятных совпадений, думал он. В идеале. В этот понедельник, первого марта, в парижском регионе и даже во всей Франции установилась хорошая погода, надо надеяться, надолго. Около пяти часов вечера он решил, что хватит работать, ему захотелось выпить аперитив на террасе, ничего такого он не делал уже очень давно, да и, честно говоря, вообще толком никогда не делал. Возможно, Прюданс сумеет освободиться, вряд ли, конечно, но не исключено, после их последнего уикенда ему мало что казалось уж совсем несбыточным.
Она ответила после десяти гудков, и, услышав, как она выдохнула “Поль…” с облегчением, слабым голоском, он сразу понял, что случилось что-то нехорошее.
– Я дома. Приходи сразу, как сможешь. Мне сейчас позвонили от родителей…
– Что такое?
– Мама умерла.
Она сидела на диване и ждала его, положив руки на колени и как-то съежившись. Должно быть, она плакала, но уже успокоилась. Он сел рядом с ней, обнял ее за плечи. Она обмякла, положила голову ему на грудь; она оказалась невероятно легкой.
– Как это произошло?
– Она попала в аварию. У нее уже притупилась реакция, ей давно пора было завязать с вождением. Ее отвезли в больницу в Ванн и даже прооперировали, но ничего не помогло. Она умерла в ночь с субботы на воскресенье. Они пытались связаться со мной все выходные, но я отключила мобильник, ну, сам знаешь…
Да, он знал; он тоже отключил мобильник в прошлые выходные; имеют же они право пожить своей жизнью.
– В общем, сегодня утром мне дозвонилась соседка.
– Как отец?
– Его тоже оставили в больнице в Ванне, ему совсем плохо, он ни с кем не хочет разговаривать. Мне и представить страшно, в каком он состоянии… – Она снова заплакала, тихо, чуть слышно. – Понимаешь, он старше мамы на десять лет… и никогда не думал, что переживет ее.
Он вспомнил собственного отца после смерти матери, распростертого в кресле в столовой, потом в психиатрической больнице в Маконе, накачанного психотропными препаратами, и снова в Сен-Жозефе – ему потребовалось несколько месяцев, чтобы прийти в себя, и, вероятно, он бы так и не пришел в себя, не будь рядом Мадлен. Любопытно, что его мать никогда не была прекрасной женой, ни ласковой, ни любящей, да и к домашнему очагу, надо сказать, не испытывала особой привязанности – у нее, если задуматься, было довольно много общего с матерью Прюданс, разве что происходила она из мелкой буржуазии. Ни в том ни в другом случае, на его взгляд, супружеская любовь не выдержала испытания временем; и все же они не расстались, они прожили жизнь вместе, вырастили детей, передали им эстафету, и после смерти жены муж не понимал, как жить, просто не понимал, что дальше. Что касается отца Прюданс, то тут дела обстоят еще хуже: ему, если он не ошибается, чуть за восемьдесят, и у него начинается Паркинсон, так что для него действительно game over.
– Ты, конечно, туда поедешь?
– Да, завтра, скоростным до Оре.
Он был там всего один раз, но хорошо запомнил дом в Лармор-Бадене и великолепный вид с террасы на залив Морбиан и Иль-о-Муан.
– Ты поговорила с сестрой?
– Да, Присцилла перезвонит попозже, в Ванкувере еще рано. Она тоже приедет, как только сможет. Она очень любит папу и всегда была его любимой доченькой, вот так. – Она улыбнулась смиренной улыбкой, не слишком печальной; он мог понять и это.
– И как ей живется в Канаде? – спросил Поль, ухватившись за эту возможность перейти на более нейтральную тему.
– Да не очень, вообще-то, она разводится. А чему тут удивляться, я всегда знала, что у них ничего не выйдет.
На этот раз Поль вспомнил свадьбу, свадебные торжества в Булони, вспомнил сад, где устроили прием, он совершенно забыл, как выглядел ее муж, но, как ни странно, помнил его профессию, он канадец, англоговорящий канадец, и работает в нефтяной промышленности. Вот Прюданс “всегда знала, что у них ничего не выйдет”, всегда знала и ничего не сказала. Отношения между сестрами, подумал он, как правило, не лучше, чем между братьями; как правило, но не всегда.
На следующее утро он проводил ее на вокзал Монпарнас, они вместе прошли через парк Берси, было чуть ли не жарко, и он расстегнул пальто.
– Да уж, поразительное дело, правда? – заметила Прюданс. – Я даже купальник захватила. Ну, наверное, я все же размечталась…
Глобальное потепление, несомненно, катастрофа, Поль не питал никаких иллюзий на этот счет, он был готов сожалеть о нем, ну и бороться с ним при случае; тем не менее благодаря ему жизнь принимала непредсказуемый, причудливый оборот, чего ему раньше так не хватало.
Они приехали сильно загодя и сели выпить кофе в одном из баров в здании вокзала.
– Присцилла приедет послезавтра, прямо к похоронам. Я полагаю, ты не жаждешь туда ехать, ты же маму никогда особенно не любил?
Он смущенно развел руками.
– Я тебя не виню, она всегда ужасно себя с тобой вела. Со мной, впрочем, тоже, когда речь заходила о тебе. У меня вообще создавалось иногда впечатление, что она ревнует.
Ревнует? Странная мысль, ему бы это никогда не пришло в голову, но, возможно, она права. Даже наверняка права: он почти ничего не знал об отношениях матерей и дочерей, но нутром чуял, что, как и во многих других случаях, ему лучше оставаться в неведении.
– Ну, – продолжала Прюданс, – ты меня понял, я не то чтобы схожу с ума от горя. Знаешь, как в старых книгах мужчины говорят о женах, которым постоянно изменяют: “Ну, она все-таки мать моих детей”, типа они ее уважают несмотря ни на что; я понимаю, что они имеют в виду, и это чувство никогда не казалось мне блефом. Так вот, теперь меня тоже так и тянет сказать: “она все-таки была женой моего отца”. Самое сложное, и тут, я надеюсь, Присцилла мне немного поможет, будет найти кого-то для папы. Даже когда ему станет лучше, он не сможет жить дома один, это немыслимо. И честно говоря, я и подумать не могу о том, чтобы сдать его в дом престарелых.
– Только не это! – Поль ответил с такой яростью, что сам изумился, в его воображении промелькнул их дом, крохотные комнатки под крышей и восход солнца над заливом Морбиан. Это место сильно отличалось от Сен-Жозефа, но оно тоже было местом для жизни, для старости и смерти; а дом престарелых им не был и не станет им никогда.
Время отъезда приближалось, им оставалось всего несколько минут.
– Теперь-то ты можешь приехать… – сказала она. – Было бы здорово, если бы ты приехал. Тебе ведь понравились наши края? И потом, нам столько всего предстоит наверстать.
Да, столько всего, подумал Поль. Она бодро встала, у нее была одна легкая сумка через плечо.
– Вот, теперь мне и правда пора, поезд пришел. – Тут как раз объявили, что поезд в Кемпер, с остановками в Ванне и Оре, прибыл на седьмой путь. – Я сама виновата, знаю, то есть по большей части виновата я, – добавила она.
Он тоже был виноват, короче, они оба были виноваты, но теперь это уже не имело никакого значения, он принялся что-то сбивчиво объяснять, они не могли отвести глаз друг от друга, а надо было, если она хотела успеть на поезд.
– Я все знаю, дорогой мой, – прошептала она и поцеловала его в губы быстрым поцелуем, а потом повернулась и исчезла в толпе, хлынувшей на перрон.
4
Рекомендации: 1. Наденьте его, и ваш возлюбленный полюбит вас еще больше. 2. Очаруйте мужчин, выразите свой секси-шарм. 3. Не скрывайте талию и стройные ноги. 4. Лучший подарок любимому. 5. В нем и свадьба не за горами. 6. Состав: 35 % полиэфирное волокно, 65 % хлопок. 7. Боди-белье – залог ее счастья и красоты.
Реклама нижнего белья GDOFKH
В знаменитом начале “Златоокой девушки” Бальзак, изображая людей, которыми движет жажда золота и удовольствий, удивительным образом даже не упоминает о честолюбии, той третьей страсти, совершенно иной природы, которой он сам был весьма подвержен. Брюно, например, никогда не обуревала, судя по всему, неуемная жажда наслаждений, а наживы – и того меньше; но он честолюбив, что есть то есть. Впрочем, трудно сказать, что за страсть честолюбие – благородная или эгоистичная; заключается ли оно в желании оставить позитивный след в истории человечества или потешить просто-напросто свое тщеславие, примазавшись к тем, кто такой след оставил. В общем, Бальзак все немного упростил.
Прюданс позвонила только три дня спустя, в пятницу вечером. Прилетела Присцилла, так что она наконец перевела дух, ее сестра куда лучше умеет все разрулить. Похороны уже состоялись, все прошло хорошо, если так можно выразиться. Она хочет сказать, догадался Поль, что присутствовало много окрестных жителей и священник исполнил все ритуалы должным образом. Ее отца там, конечно, не было, ему просто не сообщили о церемонии. Его разум по-прежнему блуждал в неясных пределах, к счастью, он много спал, лекарства, по крайней мере, сгодились хоть на это. Бодрствуя, он не произносил ни слова, с отвращением отворачивался, когда кто-нибудь входил в его палату, будь то медсестра или одна из его дочерей, даже появление Присциллы не вызвало у него никакой радости. Психиатр не слишком распространялся о возможной дате выписки; пройдет несколько недель, а то и месяцев, прежде чем состояние больного стабилизируется; в любом случае ему понадобится помощь на дому.
А вот решение ее сестры навсегда уехать из Канады оказалось для нее полной неожиданностью, ее муж, не выдвинув никаких условий, оставил ей дочерей и не изъявил ни малейшего желания с ними видеться; судя по всему, плевать он на них хотел. Присцилла может работать фактически где угодно, она почти все делает дистанционно, так чем Лармор-Баден хуже? Она всегда любила этот дом и не сомневалась, что и ее дочки будут от него без ума.
Поль никогда не понимал, в чем заключается работа Присциллы, и Прюданс не больше его. Вроде бы это как-то связано с логотипами, смайликами и знанием различных азиатских языков. Но хоть ее деятельность и оставалась загадкой для профана, она явно отлично оплачивалась: именно Присцилла, например, разработала новый логотип Nike – что было не так-то просто, учитывая популярность предыдущего, и сама выбрала леттеринг и типографику принтов на футболках Apple. Время от времени ей приходилось ездить в краткие командировки за границу, на один день, не больше, зато по всему миру, особенно в США и Японию. Впрочем, такие поездки, честно говоря, возникали все реже, поскольку теперь практически всегда можно обойтись видеосвязью, поэтому что Лармор-Баден, что Ванкувер, ей все равно.
Так вот, если она туда переедет, поиски помощницы по дому будут организованы наилучшим образом, и Прюданс после двух тяжелых дней (найти кого-то сейчас нелегко, простую домработницу еще куда ни шло, но как только речь заходит о сопутствующих медицинских проблемах и риске несчастного случая, все мгновенно усложняется) была настроена вполне оптимистично. К тому же погода в Бретани стояла потрясающая, невиданное дело в начале марта, она даже пошла на пляж после обеда, сказала она Полю, ну, не купалась, конечно, не до такой степени, но купальник все-таки надела.
– Оказывается, у меня довольно красивая попа, – сообщила она без паузы.
Почему она говорит ему такие вещи? Раньше за ней ничего подобного не водилось. Ему следовало бы ответить: “Да, дорогая, у тебя потрясающая попа”, а лучше даже так: “Да, дорогая, я всегда обожал твою попу”, но куда ему. Он уже очень давно не видел ее попу, но отлично помнил ее и сразу почувствовал, положив на нее руку в ту ночь в Сен-Жозефе, что она почти не изменилась, а своим рукам он полностью доверял. Он сразу понял, что у него вот-вот встанет, и тут ему тоже следовало бы что-нибудь сказать. Например, будь они героями современного американского триллера, он бы бросил ей: “Перестань, ты меня возбуждаешь” – с глупым заговорщическим смешком. В действительности же он всего-то сдержанно хмыкнул и разъединился, ему тоже не вредно поработать над собой.
Бальзак упустил еще одну страсть, а именно материнскую любовь, подумал он сразу после того, как попрощался с ней. С другой стороны, он, как ни странно, описал отцовскую любовь, хотя это гораздо более редкий случай, и тут канадец вряд ли стал бы ему перечить. Их с Сесиль отец и отец Присциллы яркие тому примеры, но все же им далеко до такой жести, как отец Горио.
Остаток ночи он провел за чтением, пусть и не Бальзака, он поискал на полках что-нибудь философское, решив, что оно будет уместнее. К сожалению, у него оказалось не так много философских трудов, десятка полтора, не больше, и, похоже, это были скорее философы-простачки примирительного толка. Сам он всегда чувствовал себя более или менее свободным от вышеперечисленных страстей, которые философы прошлого почти единодушно осуждали. Он всегда смотрел на мир как на место, где ему не следовало бы находиться, но он не спешил покидать его, просто потому, что не знал другого. Возможно, ему следовало бы родиться деревом или черепахой, на худой конец, в общем, кем-то менее суетливым, чем человек, кем-то, чье существование не столь изменчиво. Ни один философ, судя по всему, не предлагал такого решения, как раз напротив, все они, казалось, сходились на том, что нужно принять удел человеческий “со всеми его ограничениями и величием”, эту фразу он вычитал однажды в какой-то статье гуманистического толка; некоторые выдвигали отвратную идею, что в нем следует усматривать и определенную форму достоинства. Lol, как выражается молодежь.
Когда ему наконец удалось заснуть, послав этих убогих философов куда подальше в их небытие, над парком Берси уже занимался рассвет. Ему приснились два голландских автостопщика на обочине какого-то шоссе на Корсике, ведущего, вероятно, к перевалу Бавелла, они с Прюданс там побывали, когда проводили отпуск на Корсике, и, кстати, эти молодые люди, хоть им явно не больше двадцати и волосы у них до ужаса светлые, то есть они ничуть на них с Прюданс не похожи, вроде бы выступали в их роли. Тут он понадеялся, что ему сейчас покажут эротические сцены, и они, как знать, обретут даже свои настоящие лица, ему даже почудилось, что он заново переживает какие-то мгновения того отпуска на Корсике, потрясающе эротичного, несомненно самого эротичного периода его жизни. К сожалению, ничего подобного не произошло, управлять содержанием снов наверняка невозможно, ему, по крайней мере, это не удается.
Вместо этого перед ним, точнее, перед игравшим его молодым голландцем, остановился красный спортивный автомобиль, Прюданс же, как назло, отправилась набрать воды неподалеку. В автомобиле сидели два итальянца, близнецы лет сорока, с темными, почти иссиня-черными волосами и гипнотическими, делаными улыбками, они одновременно посмотрели на него двусмысленным, манящим взглядом. Он не смог устоять, забрался на заднее сиденье автомобиля (вероятно, “феррари”, с откидным верхом, сзади ему было тесновато, сиденья такого размера подошли бы разве что для маленьких детей), и они тут же рванули с места. В эту минуту девушка, изображавшая Прюданс, вернулась с полной флягой в руке; она принялась панически размахивать руками ему вслед; близнецы разразились неприятным нервным смехом.
Вскоре перед девушкой остановилась другая машина, на сей раз почти наверняка “бентли-мульсан”, и она села в нее. Несмотря на летнее пекло, в салоне, обшитом русскими мехами, было холодно, почти морозно. Водитель с внешностью герильеро явно привык обращаться с оружием, а вот старик, ждавший ее на заднем сиденье, производил впечатление смертельно усталого и прямо по-декадентски утонченного человека. Тогда псевдо-Прюданс рассказала ему, что произошло; престарелый декадент встревожился и решил, что пора действовать.
– Они ведь опасны, да? – спросил он своего водителя.
– Чрезвычайно опасны, – подтвердил тот.
Проехав несколько километров, они увидели красный “феррари”, припаркованный у извилистой тропинки, терявшейся у вершины горы. Водитель тут же остановился неподалеку. К изумлению псевдо-Прюданс, старик, выйдя из лимузина, оказался в облегающем прорезиненном комбинезоне черного цвета, вполне подходящем для рукопашного боя; но это мог быть и водолазный костюм; на поясе у него висел кинжал длиной сантиметров тридцать, с острым как бритва лезвием.
На полпути к вершине псевдо-Прюданс удивилась, что подъем такой крутой и трудный, притом что в нескольких метрах от них другая дорога, ведущая, похоже, в то же место, поднималась вверх полого, с плавными поворотами, – по ней, распевая песни, как раз спускалась группа школьников.
– Кто ищет трудности, всегда найдет, – загадочно отозвался старик.
Вскоре подъем стал совсем опасным, и псевдо-Прюданс чуть не свалилась в пропасть, разверзшуюся по левую руку от нее – склон в этом месте был почти отвесным. Проявив удивительное для своего возраста проворство, старик поймал ее в последний момент, не то она пролетела бы сто метров и разбилась.
Наконец они добрались до вершины: просторное травянистое плато, усыпанное камнями, со всех сторон окружали непреодолимые стены. В центре стоял высокогорный приют, сложенный из тех же камней. Они вошли внутрь, но там было полно равнодушных туристов с семьями, они громко разглагольствовали и обжирались; между ними, не произнося ни слова, сновали туповатые на вид местные жители, скорее враждебно настроенные; близнецов и след простыл. Тогда старик понял, что они опоздали, что сделать уже ничего нельзя и что девушка никогда больше не увидит своего жениха; тщательно подбирая слова, он признал свое поражение. Девушка, она же псевдо-Прюданс, в свою очередь догадалась, что любовь ее жизни потеряна навсегда.
Поль проснулся около полудня, сварил себе кофе, зашел на сайт эскорт-услуг, сделал десяток телефонных звонков, оставил столько же сообщений на автоответчиках разных девушек и сел ждать. Часа в три, чувствуя, что его задор ослабевает, он решил посмотреть немного порнухи в интернете, но результат был удручающим, даже контрпродуктивным. Лучше бы уж он купил виагру или что-то в этом роде, но наверняка без рецепта не продадут.
Первая – и явно последняя – девушка позвонила около девяти вечера. Она освободится к десяти, да. Она спросила его о возрасте и этнической принадлежности – белый, около пятидесяти лет, отлично, именно таким клиентам она отдает предпочтение; очевидно, критерии эскорт-услуг никак не вписывались в систему ценностей, провозглашаемых левоцентристскими медиа. Ну и в заключение девушка напомнила свои расценки: 400 евро в час. Анал она не практиковала и, естественно, настаивала на презервативе, хотя минета это не касалось. Она принимала клиентов у себя, в 16-м округе, на улице Спонтини – многие эскортницы, видимо, работали в этом богатом квартале, он все же победнее, чем Сен-Жермен-де-Пре, что скорее обнадеживало. Она закончила разговор довольно неожиданным “чмоки-чмоки”.
В такси он перечитал ее анкету, распечатанную с сайта. Француженка, студентка, 23 года – так, во всяком случае, заявляла сама Мелоди; судя по фотографиям – лица на них не было видно, зато с лихвой хватало информации о теле, – про возраст, по крайней мере, она не соврала. Кроме того, она “гарантировала без ложной скромности самый крутой отсос”, вот и чудно, если что, он переключится на минет, в такой ситуации у всех всегда встает, если ему не изменяет память.
Он позвонил ей, как и договаривались, подойдя к дому номер 4 по улице Спонтини. Через пять минут она ответила смской: “улица Спонтини дом 7, прямо напротив”. Он пошел по указанному адресу, отправил еще одно сообщение и через пятнадцать минут получил лаконичное “5 мин”, что немного охладило его пыл; вдруг у нее клиент? Если он столкнется с ее клиентом, то совсем не факт, что потом что-то сможет. Он подождал десять минут и в свою очередь отправил смску, поскольку она явно предпочитала этот способ связи. Сначала он написал: “Щас свободна?”, ему казалось, что молодежь теперь общается в таком стиле, затем, немного подумав, добавил “чмоки”, напрочь выбившись из контекста. На этот раз она ответила немедленно: “B1984. Подъезд С”. Последовав ее инструкциям, он вскоре очутился перед новой дверью, с новым кодом, прямо как у Кафки, но современного Кафки, с автоматизированной охраной на входе. Тогда он написал “Я тут”, что, подумал он в приступе острой жалости к себе, звучит даже трогательно. Ему пришлось подождать еще несколько минут, потом пришла смска “11B23. 6-й”, означавшая, надо полагать, конец переписки. На лестничной площадке шестого этажа, в глубине, он заметил приоткрытую дверь. В квартире царил полумрак, только маленькие лампы, расставленные тут и там, отбрасывали редкие пятна света. Он едва мог разглядеть лицо девушки, встретившей его на пороге, но увидел, что на ней черная мини-юбка, подвязки, чулки в сеточку и обтягивающий прозрачный топ, тоже черный, а грудь у нее красивая, машинально отметил он. Предполагалось, видимо, что такое освещение создает колдовскую эротическую атмосферу – и действительно, оно создавало ее вполне успешно, к тому же эта атмосферность усиливалась пряным запахом благовоний: на журнальном столике тлели ароматические палочки. Он вручил девушке четыреста евро, она быстро пересчитала купюры и убрала их в сумочку.
– Выпьете что-нибудь? – спросила она, обращение на “вы” он оценил, его сразу отпустило, теперь он и вправду чувствовал себя клиентом, факт передачи денег, без сомнения, все расставил по своим местам; тем не менее он отклонил предложение, иначе пришлось бы уточнять, что именно он хочет выпить, к тому же он не знал, что у нее есть, короче, зачем усложнять, подумал он, лучше избегать лишних разговоров.
– Ну что, приступим? – предложила девушка.
– Вас зовут… Мелоди, да?
– Ну, в общем, да… – Она махнула рукой, словно отметая несущественную деталь, это был, конечно, псевдоним.
– Вы гарантировали… – он снова замешкался, – крутой отсос?
– А, кто-то все-таки читает анонсы, отлично! – улыбнулась она, ну а что, вполне себе милая девица. – Присаживайтесь, – добавила она, поскольку он стоял как вкопанный. Он послушно сел на диван, ее голос показался ему смутно знакомым.
– Можете раздеться, – сказала она еще через минуту, увидев, что он так и не сдвинулся с места.
Он повиновался, в смысле снял штаны и трусы, пока хватит, решил он.
– Вы у нас новичок? – Он кивнул. – Не волнуйтесь, все будет хорошо, – обещала она и опустилась на колени у него между ног.
Удивительным образом у него сразу встал, да еще как, стоило ей сомкнуть губы. Она взялась за дело с большой сноровкой, одной рукой поглаживала яйца, другой дрочила ему, взяв его в рот, то медленно, то быстро. Время от времени она заглядывала ему прямо в глаза, особенно когда заглатывала совсем глубоко; иногда, наоборот, зажмуривалась, полностью сосредоточившись на движениях языка вокруг головки. Ему становилось все лучше и лучше, и через пару минут он осмелился произнести:
– У вас тут так темно. Я включу свет, ладно?
Она прервалась.
– А, так ты любишь, чтобы все было видно… – улыбнулась она.
Она таки перешла на “ты”, но на этом этапе его это уже не волновало. Продолжая дрочить ему левой рукой, правой она поднесла лампу поближе. Когда луч света упал ей на лицо, его чуть удар не хватил, он буквально окаменел от ужаса: Мелоди оказалась Анн-Лиз, дочерью Сесиль; это она, можно не сомневаться. В самом начале у него возникло мимолетное ощущение, что она кого-то ему напоминает, а теперь он узнал ее наверняка. Она бросила на него изумленный взгляд и тоже узнала его.
– О, черт… – Просидев несколько мгновений в полной прострации, она наконец спросила: – Ты не скажешь папе?
Интересно, почему именно папе? – с удивлением подумал Поль, они не так уж близки с Эрве, он всего-навсего его шурин, а вот с Сесиль, да, могут возникнуть проблемы.
– Ну, мама, я думаю, еще туда-сюда, она поймет, – сказала Анн-Лиз, словно прочитав его мысли, – но папу это убьет.
Действительно, Сесиль, как ни странно, поймет; никак толком это себе не объясняя, он чувствовал, что она права. Он заверил ее, что, естественно, никому не скажет ни слова, ему бы такое и в голову не пришло, и, сказав это, он вдруг запаниковал, ему тоже совсем не хотелось, чтобы кто-то что-то узнал.
– Ты ведь тоже будешь молчать?
– Да, не волнуйся, пусть это будет нашей тайной. – Она задумалась. – Не знаю, как к тебе обращаться, – продолжала она, – раньше я называла тебя “дядей”, но когда мы виделись в последний раз, мне было лет двенадцать, и сейчас, по-моему, это было бы неуместно. Ладно, давай выпьем.
Она встала:
– Тебе что-нибудь покрепче, я полагаю?
Он кивнул и, пока она была на кухне, поспешил привести себя в порядок.
Она вернулась с бутылкой “Джек Дэниелс” и налила им два больших стакана. Да, она уже несколько лет подрабатывает в эскорте, фактически с тех пор, как поступила учиться, работа в издательстве это чисто для прикрытия, вообще, издательская деятельность – полная хрень, она собирается сделать академическую карьеру, профессор университета – вот это статус что надо, с эскортом она завяжет, как только получит место. Это не ее квартира, она снимает студию в 5-м округе вместе с двумя русскими девушками, они дуры, но симпатичные. Она откладывает по десять тысяч евро в месяц и не платит с них никаких налогов, работая тут всего по несколько часов в неделю.
– Кстати, хочешь, верну тебе четыреста евро? – Он отказался, еще чего.
– Тем более мне очень понравился твой минет, – добавил он неожиданно для самого себя, повинуясь внезапному порыву чистосердечия, и тут же ужасно смутился, а Анн-Лиз улыбнулась.
– Мама вот зарабатывает на жизнь тем, что готовит для посторонних людей, которые очень ей не нравятся, – сказала она, – а она обожает готовить, у нее это настоящая страсть, разве это лучше того, чем занимаюсь я?
Это прозвучало как попытка оправдаться, но, во-первых, не ему ее судить, а во-вторых, это сложный вопрос; конечно, в понимании Сесиль готовить для кого-то – это, по идее, проявление симпатии, что-то даже интимное, но, с другой стороны, существует же профессия ресторатора, в принципе весьма почетная.
– У мамы проблемы с клиентами? – только и спросил он, Сесиль ему ничего такого не говорила.
– Ужасные. Она терпеть не может лионскую тусовку, рано или поздно она подсыплет им яду, я шучу… А у меня клиенты все жутко милые, ну, попадаются, конечно, и отстойные, но их легко вычислить парой вопросов по телефону. Приходят не только состоятельные, но и страшно сказать – это полное безумие, учитывая расценки, – даже совсем простые люди, поездка в шестнадцатый округ для них уже событие, они воображают, что богачи селятся именно здесь, в общем, как правило, они очень хорошие. Ну, иногда становится невмоготу, когда чувак в тебя входит, ты реально чувствуешь его тело, запах, тогда приходится думать о чем-то постороннем и терпеть. Но многие ограничиваются минетом, вот они заплатили за час, а через пятнадцать минут все закончилось, а то и быстрее, неудобно получается, поэтому я с ними веду беседы, чтобы дотянуть до получаса, и потом они оставляют кучу комментов на сайте, типа “очень милая, умная девушка”, “классно пообщались”, “она сокровище, берегите ее”, короче, создается впечатление, что они впервые за многие годы испытали счастье, они все такие одинокие, прямо жалость берет.
– А ты, кстати, зачем пришел? – спросила она через некоторое время. – Я знаю, ну, мама говорит, у вас с женой не все гладко.
Поль сделал долгий глоток бурбона, прежде чем ответить, что да, действительно, были проблемы, и даже серьезные проблемы, но в последнее время все почти наладилось; поэтому он и пришел.
Она задумчиво покачала головой, явно удивившись, и тоже выпила.
– Клиенты часто откровенничают со мной, – сказала она, – всем надо поплакаться. Но такое я впервые слышу, ну почти впервые, впрочем, я думаю, что понимаю, о чем ты. То есть как бы тебе нужна девушка, чтобы проверить, все ли с тобой в порядке, вроде как пройти промежуточный этап, прежде чем вернуться к нормальному сексу?
Поль кивнул. Она снова покачала головой, сделала еще один глоток и сказала в заключение:
– Жизнь иногда все же сложная штука.
5
Примерно в это же время Орельен засыпал в объятиях Мариз. Он позвонил ей накануне, она не работала, и в выходные у нее тоже не было дежурств. Она сразу же согласилась встретиться с ним в субботу, машины у нее нет, и за три месяца, что она здесь, ей так и не удалось покататься по окрестностям.
Он дождался, пока Эрве и Сесиль уедут в больницу, и несколько минут спустя сам выехал в направлении Бельвиля. Она жила на окраине, в откровенно исламистском квартале. Он много знал из прессы об этих кварталах, но сам там никогда не бывал, ну, что-то в этом роде ему приходилось наблюдать в Монтрёе, но там все было не так однозначно, существовали некие промежуточные зоны, а главное, там это считалось в порядке вещей, а в Бельвиле смотрелось как-то менее уместно; насколько он знал, исламизм скорее проблема пригородов, хотя, честно говоря, он мало что в этом смыслил, исламизм мог вполне распространиться на малые и средние города провинции, ему все же недоставало информации о французском обществе. Так или иначе, все женщины, которые ему попадались по дороге, были в никабах с прорезью на уровне глаз, у одних с сеткой, у других без, мужики в большинстве своем выглядели как типичные салафиты. Однако он не увидел там никаких отморозков, может, салафитам удалось очистить от них свой район? Не факт, сейчас только десять утра, а отморозки, как всякие уважающие себя хищники, обычно вылезают наружу ближе к ночи.
Мариз ждала его внизу у своего дома – на редкость уродливой трехэтажной бетонной коробки.
– Подняться не предлагаю, – сказала она, – у меня дома ужасно, когда меня перевели сюда, я сняла первую попавшуюся квартиру, тут хотя бы недорого. Если я останусь, то постараюсь найти что-нибудь получше.
На ней была довольно обегающая короткая юбка и майка funky, она явно вздохнула с облегчением, когда Орельен подъехал, ей было не по себе от пристальных взглядов, которые она все время ловила на себе, стоило ей выйти из подъезда. Она к тому же накрасилась и надела крупные позолоченные серьги.
Он решил показать ей скалу Солютре, это классика, она всегда всем нравится, он и сам давно туда не заезжал. И правда, как только она заметила вдалеке очертания известняковой горы со ступенчатым подъемом и крутой обрыв, ее захлестнул инстинктивный искренний восторг, и он понял, что поступил правильно, предложив ей эту прогулку, что бы там ни случилось дальше.
– Какая красота… – сказала она. – Постой, мне кажется, я видела это место по телевизору. Он ведь сюда приезжал, ваш бывший президент, ну тот старик?
– Да, Франсуа Миттеран.
Орельен помнил Франсуа Миттерана очень смутно – ничуть не лучше, чем Рыцарей Зодиака или медвежонка Коларгола. Индустрия развлечений уже в его детстве пустилась в переработку винтажа, выдавая новые продукты, не сильно отличающиеся от прежних, так что сама идея преемственности и исторической непрерывности постепенно утрачивалась. Ему все же удавалось, как правило, поместить Франсуа Миттерана на временной шкале после Шарля де Голля; но иногда его одолевали сомнения на этот счет.
Подъем на Солютре хорошо обустроен, со ступеньками и перилами на самых крутых участках, так что они совершили легкую получасовую прогулку под ясным лазурным небом с редкими симпатичными облачками. На полпути он взял ее под руку; с каждым следующим шагом Орельену казалось, что по мере приближения к вершине их все сильнее тянет друг к другу. Это, что ли, и есть любовь? Если да, то это нечто странное и на удивление простое; нечто, во всяком случае, до сих пор им не испытанное.
Добравшись до самой высокой точки скалы, они посмотрели на пейзаж, раскинувшийся у их ног, – холмы, луга, леса и виноградники.
– Так вот она какая, Франция… – сказала она, помолчав.
– Да… – ответил он, – надо заметить, все это сильно на нее смахивает.
Она кивнула, ничего не ответив. Сама Мариз родом из Бенина, она сообщила ему об этом в машине по пути сюда. Поскольку он никак не отреагировал, она уточнила:
– Французы называли эту страну Дагомеей, когда она была их колонией. – Но слово “Дагомея” тоже ни о чем ему не говорило. – Все понятно, ты предпочитал историю географии, – улыбнулась Мариз.
– Особенно древнюю историю, – уточнил он.
– Древнюю историю… – тихо повторила она по слогам, и в ее взгляде было больше подлинной нежности, чем желания, это был странный взгляд, скорее даже некое предвкушение взгляда, который, возможно, она бросит на него гораздо позже, когда они совсем состарятся.
Он сказал ей, что у подножия скалы нашли в свое время много лошадиных костей. Долгое время считалось, что так охотились доисторические люди – загоняли лошадей, заставляя их бросаться с обрыва, а затем просто разделывали их туши внизу.
– Какая жестокость, – возмутилась Мариз; понятное дело, женщины всегда так реагируют, сказал ему как-то один гид, женщины не любят, когда убивают лошадей. – Хотя придумано неплохо, – признала она чуть погодя.
Орельен возразил, что все это сказки, на самом деле древнему человеку такое и в голову не приходило, а историю эту сочинили гораздо позже, вероятно, в девятнадцатом веке. Они снова стали любоваться пейзажем, холмами и виноградниками, и он обнял ее за талию. Он чувствовал себя мужчиной, это было волнующее и непривычное ощущение.
Остаток дня он планировал провести в Нотр-Дам-д’Авенас, это не самое популярное туристическое направление, даже настолько непопулярное, что его и туристическим-то назвать трудно, в эту романскую церковь заходят от силы человек десять в год. Поэтому он совсем не ожидал от Мариз такой бурной реакции, она сразу, как вошла, погрузила пальцы в купель со святой водой и перекрестилась и лишь потом уже продолжила осмотр. Он и понятия не имел, что она католичка, надо же.
Главным сокровищем церкви считался алтарь с белым известковым изваянием Христа во славе, окруженного двенадцатью апостолами. Тут ему нечего было сказать, но они все же постояли перед ним немного – столько, сколько она сочла необходимым.
– Об этой церкви тоже есть легенда, – вспомнил он, когда они вышли. – Поначалу ее собирались возвести на месте старого монастыря Святого Пелагия, разрушенного варварами. Но уже в самом начале строительства рабочие стали замечать по утрам, что кто-то успевал разбросать их инструменты, и пришли к выводу, что тут не обошлось без вмешательства Лукавого. Мастер решил, что Богу неугодно это местоположение. Тогда он бросил вдаль свой молоток, чтобы определить, где должна стоять церковь: молоток отлетел на тысячу двести метров и упал возле куста боярышника.
– Тысяча двести метров – что-то многовато, – сказала она, – мастер у них был силач… – Да, действительно, об этом он и не подумал. – Франция славится своими легендами… – прибавила она мечтательно, чуть усмехнувшись.
Франция и впрямь была когда-то страной легенд, но теперь это как-то не бросается в глаза, разве что благодаря Орельену, благодаря его профессии, он даже не отдавал себе отчета, что соблазняет ее, просто потому, что общался с ней как с умным человеком, не чуждым культуре, а не как с бедненькой африканской санитаркой, каковой она, собственно, и являлась. Мариз приехала из Бенина одна, у нее не было никаких родственников во Франции, и ей тут уже начинало надоедать. Она переспала с несколькими мужиками с тех пор, как приехала, но никто не обращался с ней так, как он, никогда, она вообще не встречала таких, как Орельен; честно говоря, она имела весьма отдаленное представление о Франции и, приехав в Бельвиль, поселилась в квартале, населенном арабами, которых инстинктивно ненавидела и боялась.
Затем они решили поехать выпить в Божё, где почти все кафе были открыты, Божё как никогда заслуживал титула “исторической столицы Божоле”, Орельен и забыл, какой это очаровательный городок, получалось, что он словно нарочно все подстроил, чтобы завлечь ее в свои объятия, да ничего подобного, он на такое не способен, и он безнадежно заикался и запинался, прежде чем наконец сумел пригласить ее в Сен-Жозеф; она сразу согласилась, ни секунды не колеблясь.
– Ты такой застенчивый… – заметила она.
– Да… ну да, это правда, но там еще будет моя сестра, она может показаться довольно суровой, она такая рьяная католичка, понимаешь.
– Я же видела твою сестру. – Она явно удивилась. – А тот человек, постарше, он один раз приходил, это твой брат?
– Поль? Да, старший брат, он намного меня старше, я его почти не знаю.
– Вот он, по-моему, как раз суровый.
– Поль? – Теперь пришла его очередь удивляться. – Нет, Поль совсем не суровый. Просто серьезный.
– У него печальный вид.
– Да, правда. Он серьезный и печальный.
Французы вообще печальный народ, это она усвоила с самого начала, как только приехала, и он тоже это знал, знал даже лучше, чем она, но сейчас совсем не время об этом говорить. В Сен-Жозеф они приехали к половине шестого, все остальные появятся около восьми, может, чуть раньше, так что у них есть больше двух часов.
– Два часа – это много, – твердо сказала она и прибавила: – Если уж на то пошло, я тоже католичка.
И то правда, в определенном смысле это решало проблему.
Два часа на самом деле могут тянуться долго, он понял это сразу же, как только лег рядом с ней в постель. До Инди он практически не имел сексуального опыта; когда ему было тринадцать, с ним начал заигрывать их сосед по дому, престарелый гомосексуал, и как-то раз он согласился на неприхотливую дрочку, бедняга пришел в восторг и одновременно страшно испугался, что об этом станет известно, он заставил его трижды пообещать никому ничего не рассказывать, он, естественно, обещал, и его гомосексуальные приключения на этом закончились. Что касается девушек, то он с ними не знался, то есть они попадались ему в лицее, но они, казалось, жили в другом измерении, в шумном мире самолюбования, где главенствующее место занимали посты в фейсбуке[43] и модные бренды, словом, ему в этом мире места не нашлось. С Мариз все будет совершенно иначе, он понял это в первую же секунду, когда она с видимым нетерпением, чуть ли не с облегчением, сняла майку и юбку. Он сам не посмел раздеться, он просто смотрел на нее, на ее кожу глубокого, тепло-коричневого цвета, почти золотистого, и лампа в изголовье оживляла на ней восхитительные блики.
– Ты не совсем чернокожая, – сказал он, – ну то есть совсем, но не такая, как некоторые.
– Да, ты прав, должно быть, моя бабушка согрешила с белым колонистом. Раздевайся…
Он растерянно повиновался.
– Ты покраснел! – воскликнула она. – Я впервые вижу, как мужчина краснеет, какая прелесть, ты правда застенчивый. А вот ты настоящий белый, твои предки наверняка никогда не грешили.
– Случай не представился… – ответил Орельен. Он занялся как-то генеалогическим исследованием своего семейства, но у Поля и Сесиль это не вызвало ни малейшего интереса. Их предками были по большей части крестьяне из департаментов Рона и Сона-и-Луара, одна ветвь из Ниверне; если не считать нескольких виноделов, все они были животноводами и даже мысли не допускали, что можно оторваться от своих корней ради какой-то колониальной авантюры; они, вероятно, и не подозревали, что у Франции есть колонии.
Раздевшись, он лег нагишом рядом с ней, она чудесно пахла, и он зарылся головой между ее грудей. Через минуту-другую она решила проявить инициативу, покрыла поцелуями его грудь и живот, затем взяла его в рот, и все дальнейшее происходило с обескураживающей легкостью, он и не подозревал, что секс бывает таким простым, таким нежным, это не имело ничего общего с тем, что у них бывало когда-то с Инди, ни с порнухой, которую он считаные разы смотрел в интернете, ему на ум приходили скорее какие-то пассажи из книг, нет, все не то, это был совсем другой мир, он окунулся в него с головой и забыл о многом, почти обо всем на самом деле, но тут вдруг он услышал стук в дверь и голос Сесиль, сообщившей, что ужин готов. Он тут же оделся, все его страхи вернулись, голос Сесиль звучал как-то непривычно, отстраненно, вроде бы холоднее обычного, его смущение, возможно, объяснялось еще и тем, что он никогда не занимался любовью в этом доме, у него возникло ощущение, что он его осквернил, полный бред, конечно, подумал он, в этом очень старом доме многие любили друг друга; но все равно голос Сесиль показался ему странным.
6
Они спустились по лестнице и застыли на пороге. Посреди кухни стояла растрепанная Мадлен, ее взгляд сверкал от гнева, а увидев Мариз, она разрыдалась и бросилась к ней в объятия. Сесиль не сдвинулась с места, не произнесла ни слова и, казалось, едва заметила их появление. Поскольку она упорно молчала, Орельен подошел к ней и спросил, в чем дело.
– Они попросили Мадлен покинуть больницу. Они не хотят, чтобы она ухаживала за папой.
Профсоюзные активистки, в частности одна из них, пожаловались руководству, что Мадлен выполняет обязанности санитарки, не имея соответствующего диплома; они потребовали положить этому конец. Руководство признало их правоту.
– Руководство? Леру?
– Нет. Леру – главврач отделения ХВС-СМС, но там есть еще директор, он же руководит ДИПИ, где проживает гораздо больше пациентов, и еще одним отделением – по-моему, дневным стационаром, в общем, он везде сам рулит. Мы в глаза его не видели. Так вот, они не хотят, чтобы Мадлен ухаживала за папой, мыла его, гуляла с ним, ей запрещено самой управлять инвалидным креслом. И еще они не хотят, чтобы она там ночевала.
– Они говорят, что это противоречит их стандартам гигиены и безопасности, – подала голос Мадлен.
Орельен посмотрел на нее с изумлением еще и потому, что при нем она впервые открыла рот.
– Она имеет право разве что его кормить, это единственное, чего мы добились, – заключила Сесиль.
Орельену потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя.
– Что скажешь? – спросил он Мариз.
– Тут нечему удивляться, это уже давно назревало. Я точно знаю, кто эта активистка, она работает в ДИПИ и к нам не имеет отношения. Проблема заключается в том, что в нашем отделении на сорок пациентов приходится пятнадцать медсестер и санитарок. А в ДИПИ их двадцать пять на двести десять стариков. И то, что нам пытается навредить именно профсоюзная активистка, звучит довольно дико, но дело в том, что у них среднестатистическая ситуация по стране, а мы – привилегированные. Я понятия не имею, как Леру удалось выбить нам такие условия, и, в сущности, это единственная загадка. Новый директор с момента своего назначения мечтает подставить Леру, тут как раз все ясно.
– А ты знаешь этого типа, ну, директора? – спросила Сесиль. Орельен отметил, что она перешла с Мариз на “ты” и явно даже не задается вопросом, что она тут делает; ей, очевидно, это и в голову не пришло.
– Я видела его один раз, ему лет тридцать. Как и все директора ДИПИ, он окончил Институт общественного здравоохранения в Ренне, это государственная школа управления социальными учреждениями, и больше похожа на ЭНА, чем на мединститут. И не то чтобы он какой-то злодей, ему главное, чтобы подведомственное ему учреждение приносило доход, это сейчас общее поветрие, так что он просто следует инструкции.
– Ты говоришь, он хочет подставить Леру, в смысле добивается его увольнения?
Мариз задумалась и долго колебалась, прежде чем ответить.
– Ну, мне сложно судить, но все-таки нет, вряд ли… Зато он может запросить его перевод. Во Франции сто пятьдесят отделений ХВС-СМС, так что его есть куда перевести, и жалоба от профсоюзов сыграет свою роль. Когда Леру уйдет, директор тут же нас раскидает по другим отделениям; я сама далеко не уверена, что и впредь смогу ухаживать за вашим папой. Ну… – она опустила глаза, – не хочу тебя обманывать, мне кажется, дело плохо.
На следующий день Орельену было еще тяжелее, чем обычно, уезжать от них в Париж. Он собрался только к восьми с чем-то и в Монтрёе оказался к трем часам ночи. Инди уже легла, и утром он уехал в Шантийи, так с ней и не повидавшись. Вечером он сел в кафе неподалеку от Восточного вокзала и позвонил Мариз, ему не хватало духу идти домой.
– Ситуация в больнице непонятная, – сказала она, – все девушки только об этом говорят, конечно, но никто ничего толком не знает.
Она видела Леру во второй половине дня, но он явно был не в настроении, и она не осмелилась его расспрашивать.
Он заставил себя пойти домой уже после одиннадцати и столкнулся с женой, которая, естественно, принялась ругать его за то, что он задержался допоздна, не предупредив ее, из-за него она чуть не опоздала на встречу. Значит, она все-таки куда-то ходила, подумал он про себя, спокойно ответил ей “Отвали” – и пошел наверх спать. Она опешила и так и застыла с открытым ртом, ее поразили не столько его слова, сколько интонация; она не привыкла к такому ледяному спокойствию; он перестал ее бояться, вот что ее встревожило.
Мариз перезвонила на следующий день ближе к вечеру, когда он собирался уже уезжать из Шантийи. Он сразу почувствовал, что новости у нее плохие. Она поговорила со своей знакомой из секретариата дирекции. Леру вызвали утром на ковер, и, похоже, встреча прошла плохо, ей было слышно, через стену, как он на них орет, затем он вышел, изо всех сил хлопнув дверью. Днем Мариз не выдержала и заглянула к нему в кабинет. Он сидел без дела, уставившись на разложенные перед ним бумаги; рядом стояла открытая картонная коробка, но пока он туда ничего не положил.
– “Да, милая моя Мариз, меня уволили… – сказал он, – вернее, перевели. В понедельник утром я выхожу на работу в Тулоне”. Не знаю, как ему удалось так быстро все провернуть. Официально он жаловаться не будет и обвинять своих начальников тоже не собирается, – продолжала она. – Более того, он скажет, что сам попросил о переводе, чтобы вернуться в родные края – он и правда оттуда, по-моему, из Ла-Сейн-сюр-Мер; но я-то видела, до какой степени ему отвратительна эта возня. Теперь все закрутится очень быстро, на четверг уже назначено совещание по реорганизации наших служб в присутствии чиновников от здравоохранения. В нашем отделении оставят максимум пять человек, остальных определят в ДИПИ. И вряд ли я войду в число первых, они припомнят мне дружбу с Мадлен.
Мариз замолчала. Она чуть не плакала, и он не мог найти никаких ободряющих или просто подходящих слов.
– Я приеду завтра вечером, – сказал он наконец, – может, и поздно, но приеду.
– Завтра у меня ночное дежурство, так что увидимся только в четверг. У меня будет выходной.
– Мы могли бы съездить ко мне на работу, ну, знаешь, туда, где гобелены. – Эта мысль пришла ему в голову только что.
– Ой да, с удовольствием! – Ее голос немного повеселел, и они еще поговорили немного о том о сем, как любовники или как родители с детьми, и прежде чем нажать на отбой, она сказала почти безмятежным тоном: – До четверга, любовь моя.
7
Поль полагал, что Прюданс останется в Бретани до выписки отца из больницы или, по крайней мере, до тех пор, пока ее не сменит Присцилла. Никаких срочных дел на работе у нее не было, госучреждения Франции функционировали на относительно малых оборотах, а уж Министерство экономики и подавно, в ожидании, как говорится, волеизъявления избирателей. Брюно все чаще появлялся теперь на телевидении, Поль наблюдал его на разных каналах и восхищался им, с ума сойти, какой в нем открылся полемический талант на склоне лет, Раксанэ и правда отлично справилась со своей задачей. Сарфати тоже не подвел, он начисто избавился от всякой развлекухи и выступал теперь в роли премудрого старца, ну, сравнительно молодого премудрого старца, это вполне закономерный образ комика на закате карьеры, особенно когда он никого уже не смешит. Проблема в том, что кандидат от “Национального объединения”, настырный, отлично ориентирующийся в сложных темах, обычно выигрывал все дебаты на финише, пуская в ход свою обезоруживающую улыбку, и на данный момент, надо сказать, он мог похвастаться самой обезоруживающий улыбкой среди всех французских политиков, такую обезоруживающую улыбку в новейшей политической истории поди найди, Солен Синьяль вот уверяла, что такой обезоруживающей улыбки не было со времен Рональда Рейгана. В итоге он шел с хорошим отрывом в первом туре, и прогнозы второго, похоже, твердо стояли на отметке 55–45, что, конечно, приемлемо, но не более того. Солен Синьяль недовольно ворчала, но Брюно, судя по его виду, плевать на это хотел, и во время их редких встреч в тот период Полю казалось, что думает он совсем о другом – невольно возникал вопрос, не переспал ли он в конце концов с Раксанэ.
В ожидании Прюданс Поль попытался побольше узнать о верованиях виккан. Многие адепты викки “посвящали себя защите природы”, ну экологи, значит. Невнятно-мистические экологи не такая уж и редкость, но все-таки они добавили кое-что свое к Нью-эйджу, Матери-Земле, гипотезе Геи и всему прочему в том же духе, а именно важность обоих начал, мужского и женского. Возможно, поэтому она и заинтересовалась новой религией, пытаясь пробудить свое тело, с волнением подумал Поль. Его собственное тело пробудилось довольно быстро, спасибо Анн-Лиз и ее рту, время от времени он вспоминал о ней и каждый раз чуть вздрагивал от стыда, ну и от тревоги тоже немножко. Как им быть теперь? Как ему вести себя в обществе Сесиль и ее дочери? Но он тут же себя успокоил: Анн-Лиз – девушка умная, хладнокровия ей не занимать, она запросто справится с ситуацией.
А вот тот факт, что виккане, похоже, верят в реинкарнацию, стал для него неожиданностью. Неужели Прюданс тоже в нее верит? Если да, то это что-то новенькое. Ну, какая-то логика в этом просматривается: экология, глубинное родство между всеми формами жизни, реинкарнация – все сходится.
Он был приятно удивлен, когда Прюданс позвонила ему в субботу и сообщила, что вернется на следующий день. Ее сестра с дочерьми перебралась в Лармор-Баден, провернув их переезд из Канады – и свой развод – со свойственной ей расторопностью. Он предложил встретить ее на вокзале, но она его отговорила, у нее для него сюрприз, сказала она, будет лучше увидеться уже дома.
Сюрпризом была она сама: опаленная солнцем, в отличной форме, а главное, на ней была юбка, белая плиссированная юбка, чуть выше колена, красиво оттенявшая загорелые ноги.
– Ты часто ходила на пляж? – спросил он.
– С тех пор как приехала Присцилла, каждый день, – ответила она, затем подошла и обняла его. Когда их языки соприкоснулись, он положил руки ей на попу, и на этот раз Прюданс не напряглась, напротив, прижалась к нему еще крепче и тоже положила ему руки на попу.
Через десять минут они уже были в постели, и, когда он вошел в нее, она пролила пару слезинок, а еще застонала несколько раз и в конце почти сорвалась на крик. Потом они бесконечно долго лежали рядом, глядя друг другу в глаза.
8
Когда они решили встать, уже почти совсем стемнело. Они сели в общесемейном пространстве. Поль налил себе “Джек Дэниелс”, Прюданс предпочла мартини. Была ли это та самая Прюданс, которую он знал, когда им было по двадцать пять? В общем и целом да, и снова стать одной плотью, как сказал бы апостол Павел, оказалось не так уж и сложно. Они потеряли десять лет, но это, в общем, не имеет значения; бесполезно думать о прошлом, даже о будущем бесполезно думать слишком много; достаточно просто жить. Тогда он заговорил на другую тему, сочтя ее более легкой, хотя она и занимала его мысли последние несколько недель: неужели она правда верит в викку? И надо ли ему воспринимать это всерьез?
Саббаты и ритуалы, сказала Прюданс, не так уж и важны, они просто дают возможность расписать год и провести время в компании единоверцев, как, впрочем, и все другие религии. А вот бог и богиня соответствуют фундаментальной реальности, полярность мужского и женского начал является основополагающим элементом в структурировании мира. Однако и это не все: помимо бога и богини, существует Единственный, первопричина, организующий разум Вселенной; к нему взывают лишь изредка на некоторых особых празднествах; в большинстве церемоний гораздо чаще упоминаются только бог и богиня, и многие верующие в своих духовных исканиях на этом и останавливаются.
А еще она твердо верит в реинкарнацию. Это все же показалось Полю странным, как будто на нынешнюю инкарнацию человек не возлагает более никаких надежд и просит второго шанса, второй раздачи карт – на его вкус, и одной с лихвой хватало, чтобы составить мнение о жизни; но ведь эта вера широко распространена по всему миру, половина человечества или около того строит свои цивилизации на этой основе. И на Западе многие до конца своих дней питают иллюзии, что их существование может радикально поменять курс и принять новый оборот; если рассматривать реинкарнацию вне всякого религиозного контекста, то она всего лишь крайняя форма этой идеи. Но все-таки как-то странно и даже неправдоподобно, заметил он, что человеку случается перевоплощаться в животное. Действительно, это большая редкость, согласилась Прюданс, люди, как правило, перевоплощаются в людей, а животные – в животных того же вида. Лишь избранникам судьбы выпадает возможность подняться или спуститься по лестнице существ.
Первая мысль, пришедшая в голову Полю, заключалась в том, что это отнюдь не глупо. Вторая – что в наши дни многие сочтут традиционное индуистское понимание реинкарнации и лестницы существ видовой дискриминацией. И третья – что развелось слишком много мудаков, это поразительный и неоспоримый феномен нашего времени.
– Ты проголодалась, дорогая моя? – спросил он немного погодя.
Да, она проголодалась и, более того, была не прочь поужинать в ресторане, выйти куда-нибудь, съесть что-то вкусное, может, тут, поблизости. Вот, например, “Синий экспресс” на Лионском вокзале, самое то, он такой умиротворяющий, классический, им пока лучше себя поберечь.
В “Синем экспрессе” в кои-то веки было пусто, их посадили за дальний столик, и как только они сделали заказ, Прюданс спросила его, как отец. Свежих новостей у него не было, но он полагал, что все нормально.
Дело в том, что Сесиль не сообщила ему, как развиваются события, она чувствовала, сама не зная почему, что на карту поставлено будущее брака ее брата и что сейчас не время говорить с ним о чем-либо еще, поэтому хранила все в себе, хотя дела были хуже некуда. Мрачные предчувствия Мариз в скором времени оправдались, и прямо на следующий день после служебного совещания ее перевели в ДИПИ, где коллеги сразу же дали ей понять, что синекура для нее закончилась.
В конце следующей недели, заехав к отцу в больницу, Орельен поразился, до какой степени ухудшилось его состояние. Мадлен сидела в глубокой прострации и оживала только, когда его кто-нибудь навещал. Она не выпускала его руку, и, уходя, он заметил, что отец крепко сжал ей пальцы, чтобы удержать ее; значит, он мог шевелить пальцами, раньше он этого не замечал; очевидно, он делал это только с Мадлен.
Они вернулись в Сен-Жозеф в подавленном настроении. По словам Мариз, в ближайшие недели ситуация будет только ухудшаться. Учитывая перераспределение персонала, поднимать отца с постели каждый день будет некому, не говоря уже о прогулках в инвалидной коляске. Мыть его тоже будут реже, сократится число сеансов физиотерапии и ортофонии. Просить о встрече с директором бессмысленно, объяснила она Сесиль; он наверняка отговорится тем, что следует национальным нормам и соблюдает меры экономии, общие для всех французских госучреждений.
– Мы должны вытащить его оттуда, – внезапно подала голос Мадлен, нарушив молчание. – Мы должны вытащить его оттуда, иначе они его убьют.
Сесиль не ответила, не в силах возражать ей, да и не понимала она, что на это сказать.
На следующее утро Орельен отправился с Мариз в замок Жермоль. Ей очень понравились гобелены, а больше всего ей понравились его рассказы о своей работе, о том, как нить основы переплетается с нитью утка. Получилась какая-то передышка, непредвиденная и в чем-то даже сказочная; но когда они вернулись в Сен-Жозеф, атмосфера показалась им намного мрачнее и безысходнее, чем накануне.
Поужинав, они еще долго сидели за столом. Эрве, единственный из всех, пил кофе и коньяк. После долгих колебаний он наконец сказал Сесиль, вертя бокал в руке:
– Мне кажется, я знаю способ вытащить оттуда твоего отца.
– Какой способ? – Она мгновенно повернулась к нему.
– Есть люди… люди, которые могут помочь в такого рода ситуации. – Поскольку она все так же недоуменно смотрела на него, он пояснил: – Ну разного рода активисты… Не сердись, дусик, – тут же добавил он, – я ничего с ними не делал, ничего противозаконного. Мы даже не знакомы, я просто знаю людей, которые знают их. Помнишь Николя? – Да, конечно, она помнит Николя, но смотрела она на него холодно, недоверчиво. – Вот Николя хорошо их знает, – продолжал он. – Я вчера с ним созвонился. Они живут в Бельгии, ты знаешь, что в Бельгии в последние годы эвтаназия получила широкое распространение, поэтому они действуют в основном там, но мне кажется, у них и во Франции есть ячейки, ну, он мне толком ничего не сказал, так что лучше я съезжу в Аррас и повидаюсь с ними, Николя может нас познакомить, они предпочитают личное общение.
Сесиль машинально кивнула, все еще настороже. По правде говоря, она что-то такое подозревала, последние годы Эрве возобновил контакты с весьма сомнительными персонажами, существующими на грани закона; но она промолчала, предпочитая не затрагивать эту тему, она знала, что традиционным мужчинам – Эрве как раз и был в высшей степени традиционным мужчиной – бывает иногда просто необходимо вернуться к чему-то в этом роде, полностью их одомашнить невозможно, да и нежелательно.
Эрве уехал на следующий день с Орельеном. Около девяти они остановились поужинать в гриль-баре “Куртепай”. Эрве явно хотелось поговорить. Он считал, что общество здорово его наебало, и тосковал иногда о золотой поре своего политического активизма, хотя все равно с Сесиль и девочками о нем пришлось бы забыть. Он машинально возил по тарелке кусочек мучнистого камамбера, с которым соседствовал ломтик гауды с выступившими капельками жира.
– Все-таки у них отвратная сырная тарелка … – заключил он наконец. По всей видимости, он собирался обсудить что-то еще, но так и не решился. Орельен хранил молчание, пристально глядя на него. – А ты любишь свою Мариз? – спросил он в итоге.
– Да… Думаю, да. Я даже уверен в этом.
Эрве кивнул, как будто ожидал такого ответа, и спокойно прибавил:
– Не отпускай ее, мне кажется, она хорошая девочка.
9
Они приехали в Париж только к двум часам ночи, когда последний поезд на Аррас уже давно ушел. Орельен высадил Эрве у “Ибиса” недалеко от Северного вокзала, он и сам подумывал о том, чтобы снять там номер, но потом убедил себя, что Инди уже наверняка спит.
На следующее утро, когда он приступил к реставрации гобелена с изображением сцены отъезда на охоту – на нем было очень искусно передано возбуждение собак, – ему позвонил Жан-Мишель Драпье. Он хотел поскорее с ним увидеться, прямо завтра, если выйдет; его голос был еще более мрачным и безжизненным, чем обычно. “Какие-то проблемы?” – забеспокоился Орельен.
Да, можно сказать, что проблемы, ну, как посмотреть, завтра он все ему объяснит. “В два часа дня?” – “Прекрасно, в два”, – ответил Орельен.
На этот раз начальник сразу же принял его, и вид у него был пришибленный. Пропуская Орельена в свой кабинет, Жан-Мишель Драпье вдруг ощутил с мимолетной, но весьма болезненной уверенностью, что ему не следовало забираться так высоко по служебной лестнице. Он терпеть не мог управление персоналом, управление персоналом сводилось, по сути, к причинению персоналу неприятностей, и он всякий раз расстраивался. Мысль о карме промелькнула у него в голове, и он предложил Орельену сесть.
– Значит, так… – он сразу перешел к делу, – к большому сожалению, я не смогу продлить ваш контракт в замке Жермоль. У нас возникло более приоритетное направление.
Орельен отреагировал даже хуже, чем он предполагал. Для него это катастрофа, неужели ничего нельзя придумать? У него сейчас и так проблем хватает, личных проблем, он даже признался, что разводится с женой. Это явно выходило за рамки запланированной Драпье беседы, ему стало неловко, он покачал головой во все стороны, словно сломанная марионетка, и только потом выдавил из себя ответ.
– Нет, к сожалению, я ничем вам не могу помочь… – наконец проговорил он. – Ваш новый проект – это замок на Луаре, тот, где произошел пожар, не помню, какой именно… – Он тупо уставился на папки, загромождавшие его стол. – А вам известно, сколько денег приносят замки Луары? А вам известно, сколько китайских туристов ежегодно посещают замки Луары? – Он представил себе плотные толпы китайских туристов, валом валящие в ворота замков Луары, и содрогнулся от ужаса. – Увы, месье Резон, – печально заключил он, – я бы и рад сообщить вам что-нибудь приятное, вы один из наших лучших мастеров, но ничего не попишешь, мы должны решать первоочередные задачи.
– Мне же не обязательно прямо сейчас уезжать из Жермоля? – взмолился Орельен. – У меня есть немного времени?
– Конечно. – Драпье вздохнул с облегчением, поудобнее устраиваясь в кресле; вот оно, подумал он, мы достигли стадии, когда жертва смиряется со своей участью и просит лишь немного скостить срок. – К своей новой работе вы приступите только через месяц или около того. Пока что можете вернуться в Жермоль, законсервировать работы и закрыть все пленкой в ожидании их возобновления – ну, на тот случай, если кто-нибудь в один прекрасный день их возобновит, – заключил он поникшим голосом и снова ушел в себя, поддавшись безграничному унынию.
Однако он немного встрепенулся, чтобы договориться с Орельеном о практических аспектах нового назначения: Шантийи закреплен за ним до конца работ, так что ему придется найти себе гостиницу на две ночи в неделю рядом с этим замком на Луаре, сейчас он найдет его название, ему просто надо порыться пять минут в бумагах, в общем, с каким-то там замком на Луаре. На этот раз расходы на гостиницу ему возместят, он даже сможет выписать расходный счет на бензин, министерство придает огромное значение этой реставрации, поскольку речь идет о стратегически важном объекте с точки зрения международного туризма; это, понятное дело, не Шамбор или Азе-ле-Ридо, тут уровень чуть пониже, и не Шенонсо, короче, название замка вылетело у него из головы, но он вспомнит.
В 14.45 встреча закончилась. Выйдя из министерства, Орельен зашел в ближайшее кафе, то же самое, что и в прошлый раз, и заказал бутылку мюскаде. Как и в прошлый раз, ни один человек в кафе не показался ему способным понять, не говоря уже о том, чтобы разделить его судьбу, тем более что в предобеденный час народу тут было еще меньше. После третьего бокала ситуация показалась ему не столь катастрофической. Выходные он будет проводить в Сен-Жозефе, какие проблемы. Как это все странно, подумал он, жизнь, любовь, люди: каких-нибудь дней десять назад он даже не прикасался еще к Мариз, прикосновение к ее коже находилось вне сферы его опыта; а теперь он жить не может без ее кожи; как это объяснить?
Что касается отношений с Инди, то его новое назначение мало что изменит: два раза в неделю он будет ночевать в отеле, где-нибудь в долине Луары, и ей вовсе не обязательно об этом знать. В эту секунду он подумал, что мог бы переехать прямо сейчас, снять себе студию в Париже. Эта мысль никогда раньше не приходила ему в голову, и внезапно его охватила бурная радость; уход из семьи не является правонарушением, вряд ли это повредит ему в глазах судьи по семейным делам, ну, наверное, лучше все же посоветоваться с адвокатом, но он был почти уверен, что прав.
Быстрый поиск в интернете сильно охладил его энтузиазм: цены на недвижимость в Париже взлетели до пугающих размеров, он засомневался вдруг, что сможет позволить себе сейчас аренду студии, его будущее в смысле недвижимости стремилось практически к нулю. Что касается алиментов, Инди просила ни много ни мало половину его зарплаты; смехотворное требование, успокоил его адвокат, почти безумное, можно не опасаться, что судья удовлетворит его, однако ему все же следует приготовиться к довольно значительной сумме, вероятно, порядка трети. Эта сука действительно его поимела, подумал он, поимела по самое не хочу. Совместно нажитого имущества у них практически не было, они ничего не приобретали, ничего существенного; все, по идее, сведется к алиментам.
Алкоголь – штука парадоксальная: конечно, порой благодаря ему удается возобладать над своими тревогами, увидеть все в обманчивом оптимистическом ореоле, но иногда он оказывает прямо противоположное действие, обостряет ясность взгляда, а значит, и тревогу; более того, эти явления могут чередоваться с интервалом в несколько минут. Допивая первую бутылку мюскаде, Орельен пришел к выводу, что свиданий с Мариз раз в неделю, а из-за ее дежурств в больнице и того реже, ему не хватит, ему и так уже ее не хватает, и организовать совместную жизнь будет совсем непросто. Вообще-то рановато еще задумываться о таких вещах, но на самом деле он был глубоко уверен во взаимности их чувств, ему, да и ей тоже, казалось, что это странным образом совершенно очевидно, да, все произошло очень быстро, но иногда в жизни все происходит очень быстро. При этом, с материальной точки зрения, ситуация была далеко не радужной: госслужащий невысокого ранга с зарплатой, сокращенной на треть, и санитарка – о жизни в Париже или даже в ближайших пригородах можно забыть. По роду своих занятий он мог оказаться практически в любой точке Франции, поэтому жить в Париже им вовсе не обязательно. А где жить? Дом в Сен-Жозефе мог бы стать в каком-то смысле идеальным вариантом: места в нем полно, они оба чувствуют себя там хорошо, и к тому же это ничего бы им не стоило. Вот только Мариз уже возненавидела свою работу в Бельвиле, новых условий она не вынесет, в этой больнице она знавала лучшие времена, нельзя же откатываться так далеко назад. Может, ей уволиться? Она совершенно не настаивает на своей финансовой независимости, не в этом дело. Удастся ли им прожить на зарплату Орельена? Верится с трудом.
Чтобы лучше разобраться в ситуации, он заказал вторую бутылку, говоря себе при этом, что ему пора притормозить с выпивкой, в долгосрочной перспективе это добром не кончится, все знающие люди сходятся в этом вопросе.
10
В среду вечером позвонил Эрве. Он сказал Сесиль, что находится в Монсе и там все точь-в-точь как у них: этот город процветал в Средние века и в эпоху Возрождения, затем развивалась промышленность, текстильная и сталелитейная, а в недавнем прошлом все пришло в полный упадок, ну, тут все чуть более убого, чем в Аррасе, да и то не особо. Он познакомился с приятелями Николя, они вроде ничего, немного недоверчивые, но вполне серьезные. Они связались со своей секцией в Лионе и назначили там встречу на следующее воскресенье, так что процесс пошел. Человек из Лиона попросил, чтобы Поль присутствовал там лично; им важно, прежде чем запланировать операцию, убедиться, что все дети согласны между собой.
В пятницу вечером он приехал в Макон-Лоше поездом в 18:16; Сесиль ждала его на вокзале. Впервые за многие годы они расстались больше чем на два дня, ей не спалось в одиночестве, и, встречая его на перроне, она буквально светилась от радости; что касается цели его поездки, то он видел, что она продолжает сомневаться, и как только они сели в машину, она засыпала его вопросами. Что это за люди? Связаны ли они как-то с “Сивитас”?[44]
– Вот… – Эрве широко улыбнулся, – так я и знал, ты явно точишь зубы на “Сивитас”. А вот и нет, они как раз не имеют к “Сивитас” никакого отношения. Это движение основал один американский миллиардер из Орегона.
– Известный миллиардер?
– Нет, он не медийный миллиардер, вроде Билла Гейтса или Марка Цукерберга, эти-то все прогрессисты. Ну, скажем так, мелкий миллиардер, он сколотил состояние на лесозаготовках и не входит в список Forbes, но все-таки миллиардов десять долларов у него есть; он протестант, точнее баптист, как и большинство членов организации, так что, как ты понимаешь, к католикам они вообще не имеют никакого отношения. Орегон стал первым американским штатом, легализовавшим эвтаназию, это прогрессистский штат, очень продвинутый в этих вопросах. В Монсе Николя организовал мне встречу с их координатором по Европе. Он сказал, что наш американский миллиардер родом из Бельгии, где у него еще остались родственники, и он был потрясен, узнав о некоторых происшествиях, которые там имели место. Они основали КУБ, Комитет против убийств в больницах, чтобы попытаться осуществить лоббистское давление на парламентариев и выступать в прессе, но ничего не вышло. Поэтому они решили официально самораспуститься и перешли к более прямым действиям. Впоследствии они открыли отделения во Франции и, кажется, в Испании. Парень, с которым я общался, – американец, но на встрече Лионе будет француз, по телефону он произвел на меня хорошее впечатление. Они очень осторожны: они никогда не подвергались преследованиям, никогда не прибегали к насилию, даже витрины не били. Прежде всего, они требуют, чтобы все члены семьи дали свое согласие до начала операции – муж или жена, дети, родители, если они живы; очевидно, от этого многое зависит в юридическом плане. Вот почему он так настаивает на присутствии Поля.
– Ну, это не проблема, – сказала Сесиль, – он приедет завтра с женой.
Выслушав его, она успокоилась, и теперь, когда ее немного отпустило, они могли поговорить на более отвлеченные темы, о том, что нового в Аррасе и как поживает Николя. Она ничего не имеет против бывших идентитариев, заверила его Сесиль, и даже против нынешних идентитариев, ей хочется быть в курсе дела, и все, он обязан ей сказать, если вдруг решит ввязаться во что-то противозаконное.
– Я не сделал ничего противозаконного, дусик… – мягко заметил Эрве. – Просто выпил пива с американским баптистом.
Над холмами Божоле садилось солнце; через несколько километров она снова заговорила о “Сивитас”. Действительно, она терпеть их не может, это настоящие экстремисты, они дискредитируют всех католиков вообще, прямо христианские салафиты какие-то, прибавила она, если бы мы пошли у них на поводу, давно бы канули в Средневековье.
– Средневековье – это не так уж и плохо с определенной точки зрения, – заметил Эрве. Ее брат, например, хорошо себя чувствует только в Средневековье.
– Допустим, но ты ведь знаешь Орельена, он такой с самого детства, не от мира сего.
– Ему придется как-то вернуться в этот мир, – сказал Эрве, – раз теперь у него появилась настоящая женщина.
Сесиль промолчала; ей удалось забыть на целый час о проблемах Мариз, она почти всю неделю ночевала у них; в ДИПИ дела плохи, еще хуже, чем она думала. Почти все лежачие пациенты страдают от жутких пролежней. Ей дается всего по десять минут на каждого, их даже не получается вымыть за это время, многие уже не могут сами ходить в туалет, ей постоянно звонят на мобильник, не говоря уже том, что больные кричат из комнат, зовут на помощь, а когда она наконец заходит, то иногда оказывается, что какой-нибудь старичок, не выдержав, уже успел сходить под себя и на пол, ей приходится убирать за ним дерьмо, менять засранные простыни, это ужасно неприятно, но страшнее всего ловить на себе их умоляющие взгляды, когда она появляется на пороге, и слышать: “Вы так добры, мадемуазель”. У нее дома в Африке такое просто немыслимо, если это и есть прогресс, то он того не стоит. Она все это изложила Сесиль накануне приезда Орельена, ему самому она толком ничего не говорила, он видел, что по вечерам она приходит с работы еле живая, но она даже в мыслях не допускала, что может все ему рассказать, уж лучше не возвращать его на землю, думала она; они еще не женаты, заметила Сесиль, а она уже его оберегает.
Эрве свернул на съезд к Вилье-Моргону.
– Понятное дело, дусик, – сказал он наконец, остановившись у платежного терминала. – Тебе все изливают душу. Ты отдушина для всех горестей мира, это тебе на роду написано.
Сесиль вспомнила исповедь Орельена и его признание, что он не бесплоден; с кем еще он мог этим поделиться? Уж точно не с Полем. Да, Эрве прав, ей это на роду написано.
Поскольку Мариз по вечерам буквально валилась с ног, они с Орельеном ложились спать сразу после ужина. Эрве слонялся по кухне, пока его жена мыла посуду, она видела, что он хочет что-то еще ей сказать, но, как обычно, не решается.
– Как тебе известно, – все-таки заговорил он, – мое пособие по безработице заканчивается через месяц. И я прекрасно вижу, что тебе претит готовка в чужих домах, ты возвращаешься вся на нервах, в плохом настроении.
Она повернулась, вытерла руки о фартук и села перед ним; а она-то надеялась, что отлично притворяется. Как правило, женщины всю свою жизнь тешат себя иллюзией, будто у них безошибочная интуиция и они прекрасно умеют врать, в отличие от мужчин. Эрве при этом умудрился скрыть от нее тот факт, что снова встречается с бывшими активистами из идентитариев – и хорошо еще, если и правда с “бывшими”; ей же не удалось скрыть от него, какое отвращение ей внушают лионские бобо[45].
– В общем, я поговорил с Николя, мне кажется, у него есть кое-что для меня, – продолжил Эрве. – Я мог бы стать страховым агентом. Начальник одной небольшой брокерской фирмы собирается выйти на пенсию. Она отлично расположена, минутах в десяти ходьбы от дома.
– Но ты же никогда этим не занимался?
– Нет, но я знаю право, умею читать контракты и вести дела. Им как раз нравится, что я бывший нотариус.
Он сказал “бывший нотариус”, невольно отметила Сесиль. То есть решил отречься от профессии, которой так гордился, поставил на ней крест, как пишут в пособиях по личностному развитию.
– А начальник, выходящий на пенсию, тоже ветеран-идентитарий?
Она знала ответ и спросила просто для очистки совести.
– Ну конечно, – спокойно ответил Эрве. – Только так это и работает, знаешь ли, сейчас играют роль исключительно личные отношения и связи.
– То есть мы возвращаемся к себе? В Аррас?
– Да, ну когда захочешь, неделей раньше, неделей позже, не имеет значения, нам же с ним надо немного поработать, он передаст мне дела.
– Хорошо… – тихо сказала она, помолчав. – В каком-то смысле я даже рада вернуться домой. Но мы ведь хорошо здесь пожили, правда? Взяли тайм-аут.
– Да, именно. Тайм-аут.
– Не так много у нас было в жизни тайм-аутов. – Она задумалась еще на несколько секунд и сказала: – Сейчас нам главное забрать папу из больницы. Оставим его на попечение Мадлен, так будет лучше для них обоих. Но сначала его надо вытащить оттуда.
– Конечно, дусик. Этим мы и займемся.
11
Поль и Прюданс приехали на следующий день, ближе к вечеру. Когда Сесиль сообщила, что приготовила Прюданс комнату, Поль смутился, а она спокойно ответила:
– Очень мило с твоей стороны, но в этом нет необходимости, мы с Полем снова спим вместе.
Сесиль молча кивнула, она уже отказывалась понимать, что происходит в их семье в плане чувств и секса.
С активистом из Лиона они договорились пообедать в воскресенье в “Буффало Гриль” в Вильфранш-сюр-Сон. Это будет 21 марта, день весеннего равноденствия, и Сесиль сказала, что, на ее взгляд, это хороший знак. Прюданс могла бы добавить, что это к тому же еще и саббат Остара: внезапно пробудившись ото сна, богиня одаривает землю плодородием, в то время как бог обходит дозором зазеленевшие поля, в общем, наступает весна.
Они не уточнили, как узнают друг друга, но Эрве сразу догадался, что это они. Пятеро юнцов лет двадцати сидели за столом, заказав на всех несколько говяжьих стейков двойного размера и техасское ассорти. Четверо из них, в темно-синих костюмах и при галстуке, вполне сошли бы за агентов службы безопасности “Национального объединения” – им вменяется при любых обстоятельствах выглядеть респектабельно и проявлять любезность, а так – обычные качки, под безупречными пиджаками хорошо просматривались мускулы. Пятый, с длинными курчавыми волосами, очень выделялся на их фоне – в рваных джинсах и майке AC/DC с изображением Ангуса Янга с голым торсом и худыми коленками, прижимающего к себе гитару Gipson SG. Янг передвигался по гигантской сцене своей знаменитой утиной походкой, эту хореографическую фишку изобрел Ти-Боун Уокер, Чак Берри ее популяризировал, но считается, что именно Ангус Янг довел ее до совершенства. На майке красовались надписи Let there be rock и Rio de la Plata, наверное, снимок был сделан на их легендарном концерте в Аргентине.
Патлатый встал и подошел к их столику, когда они изучали меню.
– Вы Эрве, да? Я с вами говорил по телефону? – Эрве кивнул, не понимая, как он его вычислил. – Вся семья в сборе, как я погляжу, – сказал он, рассматривая каждого по очереди. – А вы Мадлен, из-за которой, собственно, и разыгралась драма. – Он повернулся к ней. Она смущенно кивнула. – Эрве обрисовал мне ситуацию по телефону, – поспешил добавить он, – но я и так был более или менее в курсе, дело в том, что я знаком с Леру. Ну, не буду ходить вокруг да около: вы правы, надо вытащить оттуда вашего отца, и как можно скорее, иначе его состояние быстро ухудшится и живым он оттуда не выберется. Он давно уже умер бы, ему повезло, что его перевели в Сен-Люк: инсульт, затем кома – больных в его возрасте часто даже не реанимируют. Короче, мы готовы вам помочь. Только я должен кое-что проверить. Во-первых, вы не оформляли опеку?
– Нет, – четко ответил Поль.
Патлатый перевел взгляд на него:
– А вы Поль, старший сын? Извините, я не представился, меня зовут Бриан. Кстати, вы пришли всей семьей? Вы нигде не прячете каких-нибудь тайных братьев и сестер?
– Нет, – снова ответил Поль.
– Поймите, пока что мы находимся в правовом поле и не собираемся выходить за его пределы. Во Франции не существует принудительного лечения. Даже если я лежу в больнице и вот-вот сдохну, но при этом требую, чтобы меня выпустили, меня обязаны выпустить. Но если я не в состоянии высказать свою точку зрения, начинаются проблемы. На практике главный врач обладает абсолютной властью, за исключением случаев, когда дело доходит до суда. Если опекунство оформлено, судья, как правило, принимает решение в пользу опекуна. Если нет, он пытается выяснить мнение родственников, поэтому я и задаю вам все эти вопросы. Иногда мы можем вывезти людей за границу, у нас есть несколько мест для проживания, но нам, судя по всему, это не понадобится. Если я не ошибаюсь, вам есть где его поселить, ему принадлежит дом в Вилье-Моргоне, все правильно?
– Правильно.
– Кстати, нас тут кое-что заинтриговало, давайте обсудим. Мы попытались пробить этот дом, но он нигде не значится: нет ни счетов за газ и электричество, ни муниципальных налогов, ничего.
– У вас есть доступ к такого рода базам?
– Ну, это пара пустяков, все дети этим балуются.
Вряд ли прям уж все, подумал Поль, но некоторые дети – да. Его все больше и больше занимал этот парень в допотопной рок-футболке. Тем не менее он ответил на вопрос:
– Ничего удивительного, отец служил в ГУВБ. Поэтому, когда он вышел в отставку, они организовали систему охранного наблюдения за его домом и взяли на себя всю административную волокиту, чтобы снизить риск его обнаружения.
Бриан покачал головой и широко улыбнулся, такого он не ожидал.
– Значит, я собираюсь провернуть эксфильтрацию бывшего агента ГУВБ… Смешно, просто обхохочешься… – Он снова перевел взгляд на Поля. – Видимо, он был там важной шишкой, учитывая такой респект?
– Видимо, да. Я никогда этого толком не знал.
Бриан кивнул, на этот раз не удивившись; похоже, он был хорошо осведомлен о жизни спецслужбистов. Затем он спросил Поля, на голубом глазу, хотя на сей раз знал ответ заранее:
– Вы тоже из ГУВБ?
– Нет, я выбрал иной путь. А вы-то есть у них в картотеке?
– О да, наверное, на меня там завели папочку. А вот мои ребята чисты, этим службам они неизвестны…
Он обернулся и посмотрел на своих подручных с какой-то даже нежностью, они тем временем воздавали должное техасскому ассорти и моргону: эти славные упитанные, миролюбивые бычары, будучи на старте скорее националистами с уклоном в расизм, вполне готовы посвятить себя борьбе за дело иудео-христианской морали, а то и морали как таковой, разницы они особой тут не усматривали, и, может, они и правы, подумал Бриан, ну, он сам запутался.
– Позвольте, я тоже задам вам вопрос? – спросил Поль.
– Да, разумеется, если смогу, отвечу.
– Только вы и можете на него ответить. Мне интересно, что толкает вас на такого рода действия, где истоки вашей ангажированности. Что касается основателя вашего движения, если я правильно понимаю, то для него это вопрос религиозных убеждений, но я сомневаюсь, что это ваш случай.
– Нет, конечно, – спокойно ответил Бриан. – Я понимаю, почему вас это заинтриговало. Я и сам не уверен, что до конца понимаю, что к чему… – добавил он через некоторое время. Потом он, казалось, ушел в себя, погрузился в затяжное задумчивое молчание.
За столом все тоже замолчали и пристально наблюдали за ним. Прошло две-три минуты, прежде чем он решился продолжить:
– Мне придется начать издалека… Проще всего объяснить это тем, что я очень рано почувствовал, что у нашего общества есть проблема со старостью и что это довольно серьезная проблема, которая может привести его к саморазрушению. Допускаю, что это, вероятно, связано с тем, что меня воспитывали бабушка и дедушка. И я надеюсь, вы согласитесь, что у нас у всех проблема со стариками… – Поль кивнул. – Истинная причина эвтаназии, по сути, заключается в том, что мы не выносим стариков, мы даже знать не желаем, что они существуют, и поэтому засовываем их в специализированные учреждения, с глаз долой. В наше время принято считать, что ценность человека с возрастом уменьшается, что жизнь молодого человека, а тем более ребенка – гораздо ценнее жизни глубокого старика. Полагаю, в этом вы тоже со мной согласитесь?
– Да, вполне.
– Так вот, это полный переворот, радикальная антропологическая мутация. Конечно, это весьма прискорбно, учитывая, что процент пожилых людей относительно общей численности населения постоянно растет. Но есть кое-что и пострашней… – Он снова умолк и задумался еще на пару минут. – Во всех предыдущих цивилизациях, – продолжал он, – человека уважали, а то и восхищались им и вообще оценивали его в зависимости от того, как он вел себя на протяжении всей своей жизни; даже в буржуазной среде репутация основывалась на доверии и носила временный характер, в дальнейшем ее надо было заслужить всей своей честной жизнью. Более высоко оценивая жизнь ребенка – хотя мы понятия не имеем, что из него получится, вырастет ли он умным или глупым, гением, преступником или святым, – мы отрицаем всякую ценность реальных дел. Наши героические и благородные поступки, все, что нам удалось совершить, наши достижения и труды не имеют уже никакой ценности в глазах мира – и вскоре теряют ее и в наших глазах. Таким образом мы лишаем жизнь всякой мотивации и всякого смысла; именно это, собственно, и называется нигилизмом. Обесценивание прошлого и настоящего ради грядущего, обесценивание реальности в угоду виртуальности, помещенной в туманное будущее, суть симптомы европейского нигилизма, причем гораздо более знаковые, чем те, что выделял Ницше, – впрочем, сегодня следует говорить о западном нигилизме или даже о современном нигилизме, поскольку я совсем не уверен, что он не затронет и азиатские страны в среднесрочной перспективе. Разумеется, Ницше не мог наблюдать этот феномен, он проявился только после его смерти, и то далеко не сразу. Так что нет, я действительно не христианин; более того, я склонен считать, что христианство, собственно, и положило начало этой тенденции смиренно принимать существующий мир, каким бы невыносимым он ни был, в ожидании спасителя и гипотетического будущего; первородный грех христианства, на мой взгляд, это надежда.
Он опять умолк, за столом повисла тишина.
– Ну, простите, я немного увлекся… – смущенно сказал он. – Давайте вернемся к нашей операции. В общем, мои ребята чисты, а мне и делать-то ничего не придется, разве что сесть за руль. Но нам надо обсудить главное. А, нет, есть еще одна мелочь: дома вам потребуется специальное оборудование, как минимум медицинская кровать и инвалидное кресло. Это можно сделать быстро, я знаю поставщиков, ну а с креслом придется немного подождать, его лучше изготовить на заказ.
– А что, нельзя забрать его из больницы? – подал голос Эрве.
– Нет. Как ни по-идиотски это звучит, нас могут именно за него привлечь к ответственности, это будет кража имущества, являющего собственностью Дирекции государственных больничных учреждений. Так что кресло придется им оставить. На кровать плюс кресло придется выложить десять тысяч евро. У вас они есть?
– Есть, – сказал Поль.
– Что ж, прекрасно, а то мы могли бы вам одолжить эту сумму или вообще подарить, мы так поступаем в некоторых случаях, но раз у вас есть деньги, тем лучше. Итак, переходим к самой операции. В принципе, особых сложностей я не предвижу, отделение в Бельвиле практически не охраняется, может, нам даже удастся припарковать фургон во дворе, но не факт, у ворот стоит охранник. – Он замолчал и снова обвел взглядом собравшихся. – А вы Мариз, да? – спросил он, глядя ей прямо в глаза. – Та самая девушка, которая работает в больнице и посодействует нам на месте?
– Да.
– Вам отведена главная роль в нашей операции. Вы уверены, что решитесь на это?
– Совершенно уверена, – спокойно ответила Мариз.
– Хорошо. Наш план предельно прост. Вы провозите его в кресле по коридорам, не торопясь пересекаете двор, подходите к задним дверцам фургона, и мы его загружаем. Если не удастся въехать внутрь, припаркуемся неподалеку, там всегда есть место, и тогда я подхвачу вас у выхода со стороны улицы Полен-Бюссьер. Наш фургон вы узнаете по логотипу лионской больницы Эдуара Эррио. Мои парни наденут униформы их санитаров. Вряд ли это понадобится, но лучше подстраховаться. В смысле, если нас остановят, мы скажем, что везем его в Лион на очередные МРТ и ПЭТ.
– Что такое ПЭТ, я не знаю.
– Это позитронно-эмиссионная томография, сравнительно новое исследование, я не знаю точно, для чего оно делается. Одним словом, хорошо бы вам удалось вывезти его в кресле. Кстати, как вы думаете, какой день подойдет для операции?
– Воскресенье, – твердо сказала Мариз. – Персонала будет меньше, а родственники в основном приезжают как раз по воскресеньям, так что люди, гуляющие во дворе с пациентом в инвалидном кресле, – привычное зрелище. Кроме того, охранника не будет, ворота оставят открытыми, чтобы гости могли припарковаться.
– А!.. Я всего этого не знал, отлично. Значит, решено, мы провернем все в воскресенье, когда вы будете на дежурстве, скажете, в котором часу лучше.
– И все-таки, – заметила Мариз, – меня может застукать кто-нибудь из персонала. Сомневаюсь, что меня остановят, но удивятся точно, я теперь в другом отделении и, по идее, не должна заниматься этим пациентом.
Он бросил на нее озабоченный взгляд.
– Да, это, конечно, проблема, не скрою. Если кто-нибудь из ваших коллег заговорит, начальство примется вас допрашивать, и у вас возникнут серьезные неприятности. Единственный выход – сказать, что она ошиблась, перепутала дни.
– В коридорах есть видеокамеры.
От этого возражения он отмахнулся:
– Вот об этом вам точно не стоит беспокоиться. Их можно дистанционно вывести на час из строя и потом включить. Час – это даже слишком, надеюсь, мы управимся за пять минут. – Он снова замолчал. – Нет, настоящие сложности начнутся, если начальство решит вас допросить в присутствии коллеги. Тогда это будет ее слово против вашего. Ну что… – продолжал он после паузы, – вы по-прежнему с нами?
– Да.
– Хорошо… – Он опять обвел взглядом всех по очереди. – Детали я беру на себя и буду вас держать в курсе через Эрве. Думаю, нам понадобится недели две, не больше; потом мы дождемся вашего дежурства и приступим. Не волнуйтесь… – прибавил он, направляясь к столику своих сподвижников. – Мы справлялись с гораздо более трудными задачами. Мы вытащим его оттуда.
12
Операция и правда заняла в общей сложности четыре с половиной минуты. Через несколько секунд после появления Мариз двое подручных Бриана подняли Эдуара и положили его на носилках в фургон, после чего, сняв ненужные теперь медицинские халаты, уехали на разных машинах; у них не было никакой другой задачи, и слава богу, подумала Мариз, в этих парнях чувствуется такой заряд агрессии, что их поди обуздай. Она села на переднее сиденье. Бриан тронулся с места, свернул на улицу Полен-Бюссьер, затем на улицу Республики, и через пять минут они выехали за пределы Бельвиля. Мариз молчала.
– Все прошло нормально? – спросил Бриан, поскольку она не произнесла ни слова.
– Вообще-то не вполне. Я таки столкнулась с коллегой; к тому же это была Сюзанна из профсоюза, та самая, из-за которой выгнали Мадлен. Она ничего не сказала, но бросила на меня озадаченный взгляд, я почти уверена, что она меня сдаст.
– Черт! – Он ударил кулаком по рулю. – Вот блядь, ведь это же была идеальная операция! – Он постепенно успокоился и добавил: – Вас увидела только она?
– Да. И как назло, в ту минуту, когда я вышла во двор.
– Вам главное не отклоняться от выбранной линии, как мы договорились: вы не понимаете, о чем она, должно быть, она обозналась.
– Вам удалось стереть запись?
– Да, естественно, не волнуйтесь.
– И вы уверены, что не осталось никаких следов после удаления? Они не смогут, изучив запись, вычислить, что какая-то ее часть исчезла?
– Хороший вопрос… – Он улыбнулся и окинул ее неожиданно уважительным взглядом. – Ну, теперь запись с камер идет на жесткий диск, так что проблем с подчисткой информации не будет, мне кажется, но я все-таки сделаю один звонок.
Он остановился на обочине, достал мобильник и набрал номер; ему сразу же ответили.
– Джереми, это Бриан. Да, ты можешь снова запустить запись. Но тут еще кое-что. Как ты думаешь, у тебя получится подменить на жестком диске фрагмент видоса и что-нибудь там похимичить, чтобы никто не заметил твое вмешательство?
На этот раз его собеседник долго что-то ему объяснял, Бриан внимательно слушал, не перебивая, сказал в заключение: “Ладно, давай”, – и нажал на отбой.
Он повернулся к Мариз:
– Все в порядке, не беспокойтесь, к записи не подкопаешься. Я бы даже посоветовал вам попросить директора ее посмотреть, так вы докажете, что не проходили по коридору в этот момент.
Он завел мотор. Через несколько километров, перед въездом в Вилье-Моргон, Мариз спросила, повернувшись к Бриану:
– Вы очень уверены в себе, судя по всему?
– Нет, отнюдь. – Он снова лучезарно улыбнулся. – Я совсем в себе не уверен, до ужаса прямо; но я уверен в своих ребятах.
Мадлен ждала их во дворе одна, но когда Бриан припарковался, Поль и Эрве тут же вышли из дома. Поль выкатил купленную им накануне дешевую инвалидную коляску – заказанную модель они еще не получили. Вдвоем с Брианом они мгновенно подняли Эдуара с носилок и усадили в кресло; он не спал. Возможно, Поль принимал желаемое за действительное, но все же ему показалось, что отец вздрогнул, увидев свой дом; во всяком случае, взгляд его ожил, он переводил его справа налево, внимательно осматриваясь.
Медицинскую кровать пока поставили в столовой; завтра должен прийти рабочий, чтобы смонтировать лестничный подъемник, тогда Эдуар сможет спать в своей комнате.
Было странно, очень странно видеть его снова дома, с ними. Что, интересно, происходит сейчас в его голове? В очередной раз Поль задал себе этот вопрос, на который не находил ответа. Взгляд отца стал спокойнее, он внимательно посмотрел на всех детей по очереди и уставился на Мариз; он, наверное, помнил, что она работала в больнице, и явно удивился, обнаружив ее здесь, в семейном кругу.
Орельен сказал, что ему пора, он непременно должен быть в Шантийи завтра утром.
– Без тебя мы и отпраздновать толком не сможем, – огорчилась Сесиль. – Но все-таки хорошо бы как-то отметить такое событие, – прибавила она, всплеснув руками.
Откровенно говоря, она никак не могла поверить, что все прошло как по маслу, без всяких стычек и происшествий. Ну ладно, она открыла бутылку шампанского и настояла, чтобы Бриан выпил хотя бы глоток.
– Не знаю, как вас и благодарить… – сказала она, передавая ему бокал, – я никогда этого не забуду.
Бриан кивнул, у него тоже стоял комок в горле. Ему не раз случалось видеть слезы радости на глазах у родственников, но он все равно никак не мог к этому привыкнуть.
Вскоре он попрощался, но его мучения на этом не закончились, Поль видел в окно, как Мадлен бросилась к нему и, не дав ему сесть в машину, яростно обняла его, сжала его руку в своих ладонях и вдруг опустилась перед ним на колени; прошло не меньше минуты, прежде чем ему удалось высвободиться.
Орельен решил отправиться в путь только часов в пять вечера.
– Вообще-то нам тоже завтра на работу… – заметил Поль.
Орельен предложил подвезти их.
– Вы же вернетесь, – спросила Сесиль, – чтобы мы устроили настоящий праздник?
Да, конечно, ответила Прюданс, они смогут даже остаться на несколько дней.
Прежде чем сесть за руль, Орельен долго обнимал Мариз. Он будет волноваться, сказал он, правда он будет очень волноваться. Она уклончиво пожала плечами, посмотрим, она, по крайней мере, уверена, что Сюзанна не пошла за ней во двор, они просто пересеклись на минуту, а вот что будет дальше, трудно сказать.
– Я позвоню тебе завтра, – заключила она и поцеловала его на прощание.
Когда они выехали на трассу, Орельена снова одолели мрачные предчувствия, Мариз, естественно, могут уволить, она пошла на это ради них, прежде всего ради него, и эту шарманку он заводил раз десять. Поль сидел рядом с ним, но не мог придумать, что ему на это ответить.
– А тебе не кажется, что ты мог бы вмешаться на политическом уровне? – неожиданно спросила Прюданс. – Ну, не напрямую, а при посредничестве Брюно.
– Я сам все время об этом думаю…
Орельен внезапно замолк, эта мысль явно не приходила ему в голову.
– Сомневаюсь, что Брюно – подходящий человек, – наконец сказал Поль. – Президентская кампания в самом разгаре, сейчас ему нельзя подставляться. Разумеется, если я попрошу, он согласится, но это действительно выходит далеко за рамки его компетенции, я даже не уверен, что он когда-либо разговаривал со своим коллегой из Министерства внутренних дел. Но есть человек, к которому мне ничего не стоит обратиться – Мартен-Рено.
Они удивленно посмотрели на него.
– Ну да, ты ведь его не знаешь… – сказал он Прюданс. – И ты тоже, Орельен, теперь я понимаю, что ты не видел его, он провел у отца всего несколько часов, к тому же в тот день ты паковал скульптуры. Ну, если вкратце, это его бывший коллега, они работали в одном отделе, и, судя по всему, у них сложились близкие отношения, раз он приехал навестить отца в больнице. Он занимает важную должность в спецслужбах, очень важную.
Больше они не заговаривали об этом до самого Парижа. Они приехали около десяти вечера; за последние недели Орельен более или менее привык возвращаться домой достаточно поздно, чтобы Инди успела лечь спать. Однако сейчас он постеснялся их задерживать, но когда он собрался ехать к себе в Монтрёй, его охватило такое явное беспокойство, что Прюданс спросила:
– Может, поужинаешь с нами?
Он тут же согласился.
Около часа ночи он решил, что уже можно ехать.
– Оставайся ночевать, если хочешь… – предложила Прюданс. – Поживи тут несколько дней… у нас теперь есть лишняя комната.
Он обреченно покачал головой. Наверняка через некоторое время он снимет студию или, по крайней мере, попытается что-то найти, но пока ему лучше поговорить с женой, им надо обсудить некоторые вещи. Если они будут общаться только через адвокатов, развод неизбежно затянется, а именно этого он и хотел избежать.
– Ты не забудешь про того важного мужика из спецслужб? – спросил он Поля, стоя на пороге.
– Я позвоню ему завтра утром.
13
В девять утра Поль позвонил Мартену-Рено, тот выслушал его объяснения и назначил встречу на два часа на улице Бастиона. Вид из его кабинета просто потрясающий, подумал Поль, но квартал явно непригоден для жизни; потом он подумал, что так, наверное, рассуждают все, кто переступает порог его кабинета, а кроме того, то же самое можно сказать почти о любом недавно застроенном квартале.
Мартен-Рено предложил ему эспрессо и заодно сделал и себе.
– После вашего звонка я навел справки, – начал он, переходя к делу, – на данный момент в суд Макона не поступало никаких жалоб о похищении и незаконном лишении свободы. Конечно, еще рановато, раз это произошло только вчера. Нам нельзя вмешиваться напрямую: судебные власти очень трепетно относятся к своей независимости, и мы пытаемся обойти это препятствие только в самых исключительных ситуациях.
Он запнулся, увидев, что Поль смущенно опустил глаза.
– Для меня это внове, – наконец сказал Поль, поднимая голову. – Вы удивитесь, но я никогда не просил ни о каких услугах или льготах в обход закона.
– Да, это довольно нетипично для мира политики.
– Я знаю. Возможно, потому что я не совсем из мира политики, я где-то на краешке, скажем так. Да и человек, с которым я работаю, подобными вещами не занимается. Вообще-то, честно говоря, мне никогда не приходилось отстаивать свои интересы; наверное, я вел, так сказать, привилегированное существование; каждый раз, когда я видел, как что-то делается по блату, мне становилось неловко, и я предпочитал отворачиваться. Видимо, мне до сих пор удалось сохранить некоторые иллюзии относительно нашего мира. То есть я знаю, что это иллюзии, но не уверен на сто процентов, понимаете?
Мартен-Рено не ответил.
– Если жалоба поступит, – продолжил он, никак не прокомментировав его слова, – прокурор инициирует производство следственных действий, и это будет поручено полиции – точнее, жандармерии в данном случае. И тогда я запросто могу сделать так, чтобы особой инициативы, извините за каламбур, они не проявляли; я вам гарантирую даже, что проверка зайдет в тупик. Никакие угрызения совести мне не грозят: нам уже приходилось это делать, чтобы защитить коллег или бывших коллег. Более того, ваш отец не совершил никакого правонарушения; скорее он является жертвой – как посмотреть. Вот что я предлагаю: мы сидим тихо, а если судебная машина запустится, я сделаю все необходимое, чтобы притормозить полицию, ну, в смысле, остановить ее.
Его это вполне устроит, с жаром ответил Поль, он об этом и мечтать не мог.
– Любопытно… – сказал Мартен-Рено, – значит, вы пообщались с бывшими членами КУБа. И как они вам?
– Хорошо. Серьезные, толковые, осторожные, никогда не идут на неоправданный риск.
– Согласен с вами. Сегодня утром я перечитал, что у нас на них есть, и это не заняло много времени: у нас нет практически ничего. Они ни разу не допустили ни единой ошибки. Время от времени мы пытаемся собрать о них информацию – не волнуйтесь, я не буду вас допрашивать, – но это, скажем так, рутина, кроме того, они активисты, а вовсе не террористы и никогда не совершали никаких незаконных или насильственных действий. Тем не менее они страшно досаждают официальной идеологии: заставляют ее вернуться к истокам, провести переоценку ценностей, а это она ненавидит больше всего. Что примечательно, у них всегда есть кто-то на месте, чаще всего медсестра, санитарка, иногда даже врач, и, похоже, сообщники у них имеются во всех больницах Франции; у меня сложилось впечатление, что в вопросе эвтаназии медработники сильно расходятся во мнениях.
– А какие у вас новости по поводу интернет-сообщений? – перебил его Поль в надежде избежать разговора о подельниках в больнице.
Эта попытка сменить тему показалась ему самому довольно неуклюжей, но она удалась, Мартена-Рено, очевидно, это тревожило гораздо больше, чем КУБ. Насколько ему известно, ответил он, документы, обнаруженные в папках его отца, вывели на новый след, но пока это мало что дало. Если Поль хочет узнать подробности, ему лучше поговорить с Дутремоном, он ведет это дело.
Войдя в кабинет Дутремона, он застал его в компании Делано Дюрана; Дутремон представил их друг другу.
– Это ведь вашему отцу пришла в голову идея сопоставить наши картинки? – спросил Дюран.
– Да. Вы считаете, что в этом есть какой-то смысл?
– А то! Выпуклый пятиугольник в сообщениях символизирует новичка, профана. Пятиугольник в форме звезды, или пентаграмма на лбу Бафомета, символизирует посвященного, того, кто обладает знанием. Так что все сходится, разве что металлисты, честно говоря, не слишком похожи на посвященных. Если не вдаваться, они просто симпатичные клоуны, им важен только лук и фан, не более того. Имеются еще, конечно, и сатанисты, более сведущие в магических искусствах, но их очень мало, гораздо меньше, чем принято считать, а главное, их, как и металлистов, трудно заподозрить в связях с террористами; это совсем другая компания. Еще есть виккане, они тоже используют звездчатый пятиугольник, но нам от этого не легче.
– Виккане?
– А что, у вас есть знакомые виккане?
– Да.
– Ничего удивительного, число их постоянно растет. Так вот, в некоторых церемониях они действительно используют пентаграммы и пентакли, но заявлять в полицию незачем, это один из самых распространенных магических символов испокон веков. А главное, они так же безобидны, как металлисты и сатанисты, даже более безобидны, если это вообще возможно. С трудом верится, чтобы кто-то из них встал на путь терроризма, не говоря уже о хакерстве высокого полета. Так что нет, это не зацепка. Тем не менее я не могу отделаться от мысли, что я что-то упустил…
Дутремон взглянул на своего юного коллегу. Какой прогресс, подумал он с мрачным удовлетворением, не вечно же ему ходить в беззаботных наглых новичках.
– Например, – продолжал Делано Дюран, не замечая ничего вокруг, – странные символы, повторяющиеся во всех месседжах, имели огромный успех в мире металла – почти такой же, как Бафомет. Некоторые металлисты сделали скриншот с интернета, я уже видел эти символы на майках и флаерах; они фигурируют даже на обложках последних винилов Nyarlathotep и Sepultura. Так что да, – заключил он, повернувшись к Полю, – мне страшно интересно, что могло прийти в голову вашему отцу.
14
Орельен провел ужасную ночь; когда он добрался наконец до дома в Монтрёе, то наткнулся на Инди, которая, несмотря на поздний час, поджидала его руки в боки, ну и конечно, устроила ему страшный скандал, продолжавшийся до четырех утра. Он и сам не понял, как она догадалась (чужой волос на одежде? просто запах духов?), что у него кто-то есть. Какая ей, на хер, разница? – думал он в отчаянии, пытаясь перетерпеть ее крики, они уже много лет не спят вместе и не собираются начинать по новой и вообще разводятся; какая ей, на хер, разница?
Философ Рене Жирар прославился своей теорией миметического (или треугольного) желания, согласно которой мы желаем того, чего желает кто-то еще, подражая ему. На бумаге теория выглядит забавно, но в действительности не соответствует истине. Люди практически безразличны к чужим желаниям, и если они единодушно желают чего-то или кого-то, то только потому, что последние объективно желанны. Точно так же из того факта, что другая женщина возжелала Орельена, вовсе не следует, что в Инди тоже пробудилось желание. Напротив, она впала в ярость и чуть ли не с ума сходила от бешенства при мысли, что Орельен хочет другую женщину и не хочет ее, вот и все; нарциссические стимуляции, замешанные на соперничестве и ненависти, давно, а возможно, и всегда превалировали в ней над сексуальными, а они, в принципе, безграничны.
Он провел тошнотворный день в Шантийи, и когда около шести часов на экране его мобильника появилось лицо Мариз, он сразу встревожился; в таком состоянии он не вынес бы плохих новостей.
Плохих новостей не было, да и никаких не было, если честно. В больнице весь день царила странная атмосфера, сказала Мариз. Об исчезновении его отца никто даже не заговаривал, а если и заговаривал, то вполголоса, иносказательно – или ей так показалось, у страха глаза велики, может, они вообще об этом не говорили. На нее бросали иногда подозрительные взгляды; но сегодня, похоже, все на всех бросали подозрительные взгляды. Директор отделения не провел ни общего собрания персонала, ни, на худой конец, совещания с руководством; короче, ровным счетом ничего не сделал.
Но так же не может продолжаться, думала Мариз. У директора репутация осторожного, более того, довольно трусливого человека, который меньше всего хочет гнать волну, но не может же пациент вот так пропасть бесследно?
Ну а почему бы и нет; что тут такого, ведь никто его не хватился, не обеспокоился его отсутствием. Конечно, журнал регистрации пациентов никуда не делся; только кого это волнует, жалоб же не поступало.
Это так ее заинтриговало, что она попросила Эрве позвонить Бриану – тот дал свой телефон ему одному. По словам Бриана, так бывает, и достаточно часто. Если по прошествии нескольких лет возникают проблемы, директор всегда может заявить, что пациент покинул больницу по просьбе семьи – тем самым невольно сказав чистую правду. Иногда в общих интересах лучше помалкивать, есть надежда, что это именно их случай.
Мариз с сожалением закончила разговор; она совсем растерялась, и ей ужасно не хватало Орельена. Они жили каждый в своем аду и встречались по выходным в своем личном мире, мини-мире, которого не существовало в реальности, потому что он до сих пор был экономически нежизнеспособен. Она по-прежнему возмущалась условиями работы в доме престарелых, возмущалась и поражалась, что такое вообще допустимо во Франции и что старики на закате дней подвергаются подобным унижениям.
Орельен питал вполне современные иллюзии, что разводы проходят спокойно, что это простая мирная процедура, чуть ли не дружеская; оказалось, все как раз наоборот, – давно тлеющая ненависть, раскалившись добела, достигает почти неслыханных масштабов в момент развода. Он торопился покончить с этим, но в переговорах о разводе, напоминал ему всякий раз адвокат, как и в любых других переговорах, в невыгодное положение ставит себя тот, кто торопится заключить сделку. Вот Орельен и взял себя в руки. Смирился.
Они оба смирились, пытаясь извлечь как можно больше радости из кратких свиданий в мини-мире, и предавались мечтаниям, даже не подозревая, насколько они у них похожи; они замерли в ожидании катастрофы или чуда.
Пять
1
Через две недели после возвращения Эдуара домой Поль взял недельный отпуск. Избирательная кампания была в самом разгаре, несколько дней назад он посмотрел выступление Брюно на многолюдном митинге в Марселе, его транслировали в прямом эфире по новостным каналам. Когда, вспотев от напряжения, он зашел за кулисы передохнуть, на экране мелькнула Раксанэ, и по взгляду, который она бросила на него, Поль понял, что они спят друг с другом, это было очевидно.
На этот раз он решил поехать на машине, сам не зная почему, возможно, потому что поездка на машине ассоциировалась у него с отпуском. Они добрались до Сен-Жозефа часам к пяти вечера. Оставив Прюданс в компании Сесиль и Мадлен, он вышел в застекленный коридор, ведущий в зимний сад. Его отец проводил здесь большую часть дня, он всегда любил эту комнату больше остальных, даже когда был здоров. Когда он появился, отец перевел взгляд в его сторону. Поль поцеловал его в щеку и сжал руку; тот ответил слабым, но явным пожатием. Мадлен объяснила ему, что меняет местоположение кресла по нескольку раз в день, чтобы Эдуару открывались разные виды на окрестный пейзаж; в данный момент он сидел лицом к буковой роще. Поль сел рядом, в сущности, ему нечего было сказать, он знал, что Сесиль уже сообщила ему о переменах в ситуации Орельена и в его собственной. Через пару минут он сам погрузился в созерцание ветвей и листьев, трепещущих на ветру. На самом деле он, пожалуй, большего и не требовал от жизни; его настолько это устраивало, что когда, два часа спустя, Мадлен пришла позвать его к ужину, он понял, что за все это время он, как и отец, не сдвинулся ни на сантиметр, не произнес ни слова.
Поль знал, что на выходные сюда приехали дочери Эрве и Сесиль, но уже не волновался по этому поводу, и действительно, Анн-Лиз совершенно непринужденно поднялась, чтобы поцеловать его.
– Ты так давно не видел девочек, они очень выросли… – заметила Сесиль.
И правда. Дебора, более порывистая и спонтанная, совсем была не похожа на сестру, но, как ни поразительно, именно она стала настоящей секс-бомбой, с великолепной фигурой и ослепительно светлыми волосами, – в общем, вылитая мать в том же возрасте. Однако постоянным бойфрендом она не обзавелась, хоть и не разделяла религиозных воззрений Сесиль; просто, как правило, все молодые люди, которые ей попадаются, – “полный отстой”. Эрве явно обожал ее и, конечно, еще и по этой причине рад был вернуться в Аррас – они наметили переезд на конец месяца, он сразу же начнет там работать на новом месте.
На следующее утро Поль встал поздно и за завтраком оказался наедине с Анн-Лиз.
– Я так понимаю, у вас с женой все хорошо… – спросила она, нарушив молчание.
– Да, все наладилось, – подтвердил он.
– Тем лучше… Я рада, если мне удалось внести свой вклад, – мягко сказала она; это был первый и единственный намек на их свидание.
После отъезда девушек в доме стало совсем тихо. Вместе с Прюданс они подолгу катались по окрестностям, он показывал ей Солютре, Божё, однажды они заехали даже в Клюни. По вечерам он заходил к отцу, они проводили вместе пару часов, обычно в полной тишине, любуясь заходящим над виноградниками солнцем; Мадлен на это время оставляла их наедине.
Как-то вечером он заметил на подставке “Человеческую комедию” в издании “Плеяды” – и спросил о ней Мадлен. Да, подтвердила она, Эдуар может читать, не без ее помощи, конечно. Дойдя до конца страницы, он смотрит на нее и моргает; тогда она ее переворачивает. С книгами “Плеяды” удобно, а так приходится ломать корешок, чтобы страницы не закрывались. Обычно он читает классику, в основном Бальзака, иногда детективы; она показала на карманное издание “Внезапного насилия” Малкольма Маккея. Кстати, это третий том трилогии “Глазго”, добавила она, первые два он уже прочел. Поль удивленно посмотрел на нее, надо же, она знает слово “трилогия”.
– По мере возможности я скачиваю текст из интернета и распечатываю его, с отдельными листами таких проблем не возникает, – сказала Мадлен.
Он смотрел на нее с растущим изумлением; а она не дура, отнюдь не дура, просто предпочитает помалкивать, во всяком случае, поменьше разговаривать, видимо, на ее взгляд, слова, как правило, излишни, и она, пожалуй, права. Она достигла каких-то невероятных глубин взаимопонимания с отцом, он это прекрасно видел, они подолгу сидели рядом, держась за руки, их пальцы переплетались и сжимались в различных конфигурациях. Однажды вечером Поль оставил их вдвоем и, поднявшись к себе на минутку перед ужином, задумался, есть ли у них еще сексуальная жизнь. Он смутно помнил, что у паралитиков случается эрекция, короче, он толком не знал, на осознанные движения они не способны, но все же эрекция не вполне осознанное движение. Головокружительная мысль. Если отец может возбуждаться, читать и созерцать трепетание листьев на ветру, значит, подумал Поль, ему всего хватает в жизни.
Неделя миновала быстро, как счастье. Поль позвонил один раз Мартену-Рено, но у того по-прежнему не было новостей, никаких жалоб не поступало. Мариз тоже не трогали, в больнице все меньше судачили об исчезновении Эдуара, все вроде бы шло к мирному забвению. А в пятницу в середине дня Сесиль позвонил Орельен. Его очень плохо было слышно, она никак не могла поймать сеть, это у них обычное дело, но ей показалось, что ее брат пребывает в состоянии крайнего душевного смятения, она не поняла почти ни слова из того, что он говорил, только что он уже в пути и скоро приедет.
Через несколько минут Орельен влетел в усыпанный гравием двор, машину занесло, он сильно долбанулся о крыльцо, но тут же выскочил с раскрытым журналом в руке. Выглядел он так, словно его вот-вот хватит удар, Сесиль испугалась, что у него тоже инсульт. Постепенно он успокоился и смог наконец выговорить:
– Она мне отомстила. Эта сука мне отомстила.
Поль взял у него журнал. Статья Инди, озаглавленная “А фашики-то где?”, занимала три полных разворота. В ней шла речь о похищении Эдуара “вооруженной группировкой”, ворвавшейся в больничный центр в Бельвиле, и его последующем “заточении” в Вилье-Моргоне. Он сразу понял, что статья написана мастерски, что Инди никого не пощадит, но на откровенную ложь и клевету не решится.
Он и только он виноват в том, что она обо всем узнала, в отчаянии признался Орельен. Как-то вечером они вдрызг разругались, она заговорила об отце, снова обозвала его “овощем”, он не выдержал и похвастался, что они сумели вытащить его из больницы. Он не знал, что на него нашло, он просто хотел показать ей, какой он крутой, выйти победителем из ссоры, и как он только не сообразил, что она воспользуется этой информацией; честно, он понятия не имеет, где ей удалось узнать подробности.
Статья начиналась с краткого экскурса в историю движения против эвтаназии, основанного в Соединенных Штатах “евангелическими фундаменталистами по образцу антиабортных групп”, потом в ней прослеживалось его распространение в Бельгии, а затем и во Франции. Это не было явной неправдой, но и правдой не вполне – да, иногда отмечалось некоторое сходство в методах действий этих организаций, но фактических контактов между ними не было. Далее Инди переходила к описанию операции, проведенной в Бельвиле “боевой группой лионских активистов” при соучастии “прелестной санитарки антильского происхождения”.
– Она не антильского происхождения… – машинально уточнил Орельен, но пока что это была единственная безусловная неточность в статье, и, что еще хуже, там упоминалось имя Мариз. Сам он был изображен “маргиналом с уязвимой психикой, укрывшимся в мире средневековых гобеленов”, что тоже было отчасти правдой. Весь процесс похищения она описала с предельной точностью: припаркованный во дворе фургон, Эдуар в инвалидном кресле…
– Как она все это узнала? – удивилась Сесиль.
– Невелика хитрость, – заметил Поль. – Учитывая план местности, это наиболее логичное решение; наверняка она все там сама проверила, а чтобы узнать, что у Мариз роман с Орельеном, достаточно было порасспросить ее коллег.
– Мне надо ей позвонить, – сказал Орельен. – Я должен спросить, как у нее дела.
– Сегодня тут почти нет сети, – отозвалась Сесиль. – Позвони лучше с домашнего, он в передней.
Стоило Орельену выйти, как в комнате повисла напряженная тишина. Через несколько минут он вернулся, на нем лица не было.
– Все пропало, – с ходу объявил он. – Два часа назад ее вызвали к директору, и она во всем призналась. Она собиралась все отрицать, но, увидев статью, раскололась, у нее просто голова пошла кругом. Она очень сожалеет и просит всех нас ее извинить; я сказал, что ей вообще не за что извиняться, что во всем виноват я и что ей достанется больше всех. Ужасно обидно, тем более что блокировка записи сработала идеально, но у нее не хватило духа упомянуть о камерах.
– Что с ней теперь будет? – спросила Сесиль.
– Ее, разумеется, отстранят через день или два. Затем проведут дисциплинарное расследование, и ей грозит увольнение, без предварительного уведомления и выходного пособия.
Он замолчал; в комнате снова воцарилась тишина.
– И во всем виноват я, только я… – спустя несколько секунд повторил Орельен жалобным тоном.
Никто ему не ответил, да и что тут ответишь. Незачем его добивать, подумал Поль, но, конечно, лучше бы он держал язык за зубами. Пока его не было, он просмотрел статью до конца и понял, что сам тоже огребет по полной, да и цель этого предприятия теперь стала ему абсолютно ясна: навредить Брюно. Любопытно, что вредоносность прессы, растерявшей почти всех читателей, только усилилась в последние годы, теперь ей под силу разрушить чью-то жизнь, и она не отказывает себе в этом удовольствии, особенно в предвыборный период, сейчас уже даже необязательно затевать судебное разбирательство, простого подозрения вполне достаточно, чтобы уничтожить человека.
– Если она потеряет работу, – сказал Орельен срывающимся голосом, – ей не продлят вид на жительство. Я не могу жениться на ней, пока не разведусь, а развод зависит от Инди, она может затянуть этот процесс на годы, только чтобы меня позлить, с нее станется. – Он запнулся, казалось, он сейчас потеряет сознание, потом он рухнул на диван и разрыдался.
Сесиль и Эрве не способны были двинуться с места, словно под действием наркоза, Сесиль даже пальцем не пошевелила, чтобы утешить брата, его слабость и ранимость привели к катастрофическим последствиям.
– Мне плохо, я, пожалуй, поднимусь к себе, прилягу, – сказал он через минуту и пошел наверх.
Прошло еще две минуты, по-прежнему в гнетущей тишине, и Поль стал читать дальше. Сесиль изображалась в статье “фанатичной католичкой, близкой к ультраправому движению «Сивитас»”.
– Какая мерзость, – возмутилась она, – это наглая ложь.
– Да, – спокойно ответил Поль, – но “близость” довольно расплывчатое понятие, тут нет откровенной клеветы, и вряд ли можно будет подать на нее в суд на этих основаниях.
Скорее всего, говорилось в статье, пациента не случайно удерживают в Вилье-Моргоне, ведь эта коммуна Божоле, ставшая прибежищем капуцинов Моргона, интегристской католической группировки, отвечающей за систему капелланской службы в “Сивитас”.
– Что за бред? Ты знала об этом? – спросил он сестру.
– Нет, конечно.
– А ты, Мадлен? Ты знала о существовании моргонских капуцинов?
– Нет, не знала.
– Я позвоню священнику Вилье-Моргона, – предложила Сесиль. – Он хороший человек и должен знать, что происходит в его приходе, в конце концов.
Когда она вернулась через некоторое время, вид у нее был озадаченный. Действительно, сказала она, в монастыре Святого Франциска поселилась община капуцинов-традиционалистов. Священник не поддерживает с ними связи, но знает их, и он в курсе, что они являются капелланами “Сивитас”. Тем не менее он, хоть и не разделяет политические взгляды “Сивитас”, отказывается осуждать капуцинов. Они всегда жили в бедности и в служении Господу, и он считает их добрыми христианами.
Далее Инди обрушивалась на Поля, именуя его “мозгом и кошельком операции”. Кошельком еще куда ни шло, он все же оплатил медицинское оборудование. Что касается мозга, то вряд ли, эту роль играл все же Бриан, но его невестка, очевидно, не зашла так далеко в своем расследовании. Затем она упомянула, что он “влиятельный сотрудник министерства”, к этому, собственно, она и клонила. “Внушает тревогу, – негодовала она, – тот факт, что наиболее реакционные группировки ультраправых католиков находят поддержку на самом высоком уровне госаппарата”. Заголовок “А фашики-то где?” заиграл тут всеми красками. Ловкая статейка, ничего не скажешь, подумал Поль. И удивился своей отрешенности и спокойствию, можно подумать, это не касается его напрямую, но решил все же поговорить с Брюно. Теперь уже он пошел к телефону в передней.
Брюно ответил почти сразу.
– Я рад, что ты сам позвонил, – сказал он, – мне не хотелось тебя опережать. – Его голос звучал оживленно, почти весело, без признаков паники, Полю приходилось наблюдать его в куда более напряженном состоянии во время деловых переговоров. – Ну ты это прочел, я полагаю…
– Да. Наверняка статью уже везде перепечатали.
– Именно что везде. Прежде всего, хочу задать тебе очень простой вопрос: изложенные там факты соответствуют действительности?
– Да. Все правда за исключением нескольких деталей.
– Хорошо. Я, в общем-то, так и думал. Не скрою от тебя, в предвыборном штабе переполох. Солен Синьяль сама не своя, она бесится, потому что прекрасно понимает, что тут главное – навредить мне, но понятия не имеет, откуда ветер дует. Фактически выгодно это только кандидату от “Национального объединения”, остальные слишком сильно отстают в опросах, но она не усматривает ни малейшей связи между “Национальным объединением” и этим журналом, кроме того, движения против эвтаназии скорее вписываются в линию этой партии и никак не противоречат ее идеям, если допустить, что таковые вообще у них имеются, короче, она не знает, что и думать, и хочет немедленно с тобой увидеться. Я объяснил ей, что это невозможно, что ты сейчас с семьей, и мне удалось немного ее утихомирить, но все же хорошо бы нам в воскресенье утром провести короткое экстренное совещание.
– Да, утро воскресенья мне подходит, я могу вернуться завтра на машине и прийти в воскресенье, когда скажешь.
– Ок, я перезвоню ей и сразу тебе. По этому номеру?
В ожидании звонка Брюно Поль прошел по коридору к главному выходу, открыл дверь и долго смотрел на солнце, садившееся за виноградниками. Он подумал, что кое-какие ответы на вопросы Солен Синьяль у него есть. Незачем искать тут какие-то политические махинации, это ложный путь, все дело лишь в израненном, уязвленном самолюбии его невестки, которая готова на что угодно, чтобы о ней заговорили, тем более если заодно ей удастся им навредить. Да, никаких загадок тут нет, но он не мог объяснить это Брюно, не так сразу, это не телефонный разговор. Поэтому, когда тот перезвонил ему через несколько минут и спросил: “В восемь утра в воскресенье в моем кабинете тебе нормально?” – он ответил: – “Мне бы хотелось увидеться с тобой до того. В полвосьмого?”
С трудом взобравшись по земляному склону, почва которого крошится у него под ногами, Поль оказывается на круглой площадке, окруженной чахлыми кустами. В центре площадки, неглубоко утопленный в землю, стоит большой гроб из черного лакированного дерева. Мужчины в серых спортивных костюмах поднимают гроб, чтобы отнести его в город; но это, конечно, плохо, потому что они – политические противники Поля. А город с домами из красного кирпича напоминает ему Амьен. Поль постепенно убеждается, что он и правда в Амьене. Тогда он пытается подкупить шестнадцатилетнюю девушку, идущую в лицей (возможно, она учится в десятом классе с научной специализацией), чтобы она изложила ему корректную постановку математической задачи; он знает, что, корректно сформулировав задачу, он наверняка собьет с толку своих политических противников. Девушка стоит вместе с другими старшеклассниками, но он обращается только к ней, как будто она тут одна.
Девушка соглашается предоставить ему корректную постановку задачи; Поль, окрыленный успехом, вправе теперь приказать открыть гроб в самом центре города; внутри покоится бледнолицый великан в черной визитке и черном цилиндре; напуганные этим зрелищем, мужчины в серых спортивных костюмах бросаются врассыпную, размахивая руками. За решение задачи в корректной постановке Поль получает оценку 16 баллов. Учительница математики – молодая женщина в очень короткой плиссированной мини-юбке. Она чем-то похожа на учительницу математики, которая действительно ему преподавала в выпускном классе, и иногда он часами напролет пялился на ее ляжки; как ни странно, она совсем не постарела. Поль знает, что она его политический союзник, притом что придерживается крайне левых взглядов. Они с ней вместе едут на фуникулере в малюсенькой кабинке, рассчитанной на двух человек, фуникулер карабкается по крутым улицам в районе, напоминающем то ли Менильмонтан, то ли Монмартр. Подъем становится все круче, все ужаснее, вот он уже почти отвесный, но разноцветные птички, скорее всего канарейки, бесстрашно порхают вокруг кабины, провожая их наверх.
Затем, без всякого перехода, он попадает в какой-то жуткий подвал, освещенный тусклым желтоватым светом; внизу под ним – отвратительные грязные резервуары, вероятно, это выгребная яма, но на дне виднеются лишь жалкие затхлые лужицы. И тут неожиданно мощный поток воды устремляется вниз по склону, заполняя яму. Поток выносит крошечных свинок к круглому черному отверстию, ведущему, как нам становится интуитивно понятно, на скотобойню.
В телестудии невысокий, лысый и какой-то скособоченный старик пытается натужными шутками спасти программу, но ему это не очень удается, тогда он решает снять штаны и в таком виде пройтись перед камерами (на экране мелькает его член, толстый, вялый и бледный). Затем мы видим, как он плавает в сточной канаве. Его, как и мини-пигов, тоже вынесет к бойне; он знает это, но, похоже, относится к такой перспективе безмятежно, даже с каким-то тайным ликованием.
Внезапно Поль проснулся. В луче света, падающем из коридора, он узнал Сесиль, она трясла его за плечо и шепотом умоляла:
– Пошли! Пошли скорее!
Рядом с ним Прюданс слегка пошевелилась во сне, но не проснулась.
Он вышел за Сесиль в коридор, закрыл за собой дверь в комнату и спросил:
– Что случилось?
– Орельен покончил с собой.
2
Сесиль смогла заговорить, только когда села на кухне, захватив по пути забытую в шкафу бутылку рома, – на его памяти она впервые пила что-то крепкое. Она проснулась среди ночи от приступа необъяснимой тревоги, как-то связанной с Орельеном, это единственное, что она поняла. Постучавшись к нему и не получив ответа, она вошла и убедилась, что комната пуста. После чего безуспешно искала его по всему дому, даже в спальнях и в кабинете отца. Нигде не обнаружив его, она встревожилась – не мог же он отправиться гулять в такую темень. Прошло много, слишком много времени, прежде чем она вспомнила о старом амбаре, служившем их матери мастерской. И как только она вошла, как только включила свет, она увидела его, он висел на высоте пяти метров. Самое ужасное, что его тело еще покачивалось на веревке. Она опоздала, возможно, совсем чуть-чуть, наверное, хватило бы всего минуты, появись она минутой раньше, ей бы удалось спасти его. С этими словами она разрыдалась.
– Не вини себя, ты тут ни при чем, тут нет твоей вины… – механически повторял Поль, нежно похлопывая ее по плечу, и все же не удержался от мысли, что на ее месте он бы быстрее сообразил про амбар. Орельен был очень близок с матерью и часто заходил к ней, когда она работала над своими дурацкими скульптурами, в то время как Сесиль, по сути, практически вычеркнула мать из памяти и, кстати, прекрасно поладила с Мадлен, отношения матери и дочери, как правило, не отличаются простотой, особенно если дочь – красавица. Так или иначе, он не собирался затрагивать эту тему. Сесиль сидела, тихо качая головой, она явно уже немного опьянела, ничего удивительного, она не привыкла пить, но он понимал, что ему придется самому обо всем позаботиться, позвонить в жандармерию и так далее.
Они все же дошли до амбара, видно там было почти как днем, из распахнутых дверей бил слепящий луч света, мать часто работала по ночам, поэтому установила мощную систему освещения. Сесиль остановилась на пороге, ей недоставало сил снова его увидеть, и она села на пол или, скорее, тяжело рухнула и прислонилась к двери.
Поль впервые видел висельника, да и вообще самоубийцу, он ожидал худшего. Лицо брата не налилось кровью, не посинело, оно сохранило почти нормальный цвет. Конечно, его свела легкая судорога, и черты исказились, да и то не слишком, смерть, похоже, была не очень мучительной. Уж далеко не такой мучительной, как его жизнь, – и в ту секунду, когда у Поля мелькнула эта мысль, его захлестнула волна ужасного, нестерпимого сострадания, смешанного с чувством вины, потому что он тоже ничего не сделал, чтобы помочь ему, поддержать его, он чуть с ума не сошел, но взял себя в руки, ему надо было позвонить, сейчас не время распускаться. Он попробовал уцепиться за что-то: у него все-таки была Мариз, ему выпадали мгновения подлинного счастья в самом конце; и еще гобелены, он в них души не чаял, не то чтобы у него совсем ничего не было, нельзя так сказать. И все-таки его младшему брату не везло в жизни, мир отнесся к нему не слишком гостеприимно.
Жандармы приехали быстро, и получаса не прошло, их сопровождал судебный медик и пожарные с телескопической лестницей. Вынув Орельена из петли, они решили перенести тело в его комнату, чтобы судмедэксперт мог приступить к работе. В тот момент, когда они заносили тело, у подножия лестницы появилась Прюданс в ночной рубашке. Сначала она застыла, потеряв дар речи, потом бросилась в объятия Поля. Она выглядела потрясенной, но вроде не очень удивилась, и Поль с горечью вспомнил, что она предупреждала их, несколько раз просила его быть повнимательнее с Орельеном, она чувствовала, что он не в себе, на грани срыва, что он, возможно, в опасности.
Судебный медик вернулся минут через десять. Позже он проведет более детальный осмотр, но, разумеется, факт самоубийства через повешение не вызывает сомнений.
Лейтенант жандармерии обратился к Полю и Сесиль. Ведь они его брат и сестра, не так ли, то есть ближайшие родственники? Поль кивнул. В таком случае не могли бы они явиться на следующий день в жандармерию Макона, чтобы дать показания? Это не займет много времени, ничего загадочного в деле нет. Полю завтра надо в Париж, но утром он придет, да.
– Вы не знаете, почему он так поступил? – спросил лейтенант перед самым отъездом, скорее для очистки совести; как правило, для родных и близких это как гром среди ясного неба, они ничего не понимают, никогда бы не подумали, они, похоже, вообще не в курсе личной жизни покойного, пора задаться вопросом, что на самом деле подразумевается под понятием родные и близкие.
– Нет, мы правда не знаем, я в полном отчаянии… – еле слышно сказала Сесиль.
– Ну почему же, всё мы знаем, – раздраженно перебил ее Поль. – Мы прекрасно знаем, почему он это сделал. Ему было невыносимо жить с чувством вины перед нами, и прежде всего перед Мариз, он винил себя за то, что выложил все Инди и таким образом спровоцировал эту статью. Кроме того, на этом неприятности не кончатся, Мариз потеряет работу, и он это знал, ему казалось, что их жизнь пропала, и все из-за него.
– Мы не должны говорить об этом с полицией… – слабо запротестовала Сесиль.
– Именно что должны! Теперь из-за этого блядского журнальчика все знают, где папа, и полиции не составит труда его найти, если вдруг она его ищет. Нам остается только надеяться, что дело не дойдет до суда!
Повернувшись к лейтенанту, Поль поймал его ошарашенный взгляд, он смотрел на них по очереди, ничего не понимая.
– Короче, запутанная история… – сказал он напоследок, нетерпеливо махнув рукой, – завтра утром я вам все объясню.
Когда жандармы уехали, забрав с собой тело, они снова замолчали.
– Я все понимаю, конечно, – начала Сесиль после долгой паузы, – и в то же время не понимаю. Не понимаю, как можно до такой степени не верить в жизнь. Ее могут уволить, не спорю, но ведь это еще не факт. И потом, его зарплата никуда бы не делась, он госслужащий. В Париже им жить слишком дорого, но зачем непременно в Париже, они, например, могли бы жить здесь, тут полно места. Наконец-то у него появился шанс начать новую жизнь, он собирался развестись, Мариз любила его, это очевидно. Думаешь, она стала бы упрекать его за эту статью? Думаешь, она вообще бы о ней когда-нибудь заговорила? – Ее голос снова угрожающе взмыл до высоких нот, Поль испугался очередного нервного срыва, но совершенно не знал, что ей ответить, кроме того, что она во всем права.
Он налил себе стакан рома, какая же гадость, и отправился в гостиную поискать, нет ли там еще чего-нибудь выпить. Шаря в буфете, он вдруг устыдился, что ведет себя как гурман какой-то, все-таки его брат только что покончил жизнь самоубийством, еще и часа не прошло, ну да ладно, что теперь, и он пошел обратно на кухню с бутылкой арманьяка в руке. Сесиль вроде немного успокоилась и сидела молча, сгорбившись.
Он налил себе большой бокал.
– Трудно сказать, почему одни умеют держать удар, а другие нет. Мы всегда знали, что Орельен принадлежит ко второй категории. – На редкость идиотское замечание, тут же упрекнул он себя, ради него не стоило и рот открывать, лучше бы он промолчал.
Сесиль, впрочем, не ответила, сделав вид, что не расслышала. Еще через минуту у нее внезапно мелькнула какая-то мысль, она изменилась в лице и с ужасом воскликнула:
– Мариз скоро приедет. У нее сейчас закончится ночное дежурство, она поспит и будет у нас к полудню. Что я ей скажу? Что я вообще могу ей сказать?
3
Свидетельские показания в жандармерии Макона заняли больше времени, чем ожидалось. Поль изложил все факты, ничего от них не скрывая, кроме разве что личных данных активистов, которые им помогали, на этот вопрос он не хотел отвечать до того, как его допросят в рамках дела. Честно говоря, он ничуть не волновался, они поговорили с Брюно рано утром, и Брюно все разложил по полочкам. После выхода статьи следовать первоначальному плану Мартена-Рено уже нельзя, и пытаться надавить на судью – плохая идея, пресса всегда отслеживает такого рода вещи, у них есть свои люди в судебных учреждениях. Лучше действовать на опережение, чтобы избежать подачи жалобы. Логика простая: директора больниц подчиняются непосредственно министру здравоохранения; нынешний министр надеется сохранить свой пост в будущем правительстве; надо всего-то попросить его, чтобы он подсказал директору больницы, какую занять позицию по этому вопросу. “Всегда следует выбирать прямой путь к цели, если он существует”, – закончил свою мысль Брюно, Поль не мог вспомнить, чьи это слова – Конфуция, что ли, ну или кого-то в этом роде.
Закончив разговор, он подумал, что мог бы сообразить и сразу посоветоваться с Брюно. Его нежелание одалживаться и использовать дружеские отношения с министром, может, в принципе и заслуживает всяческих похвал, но это стоило жизни его брату. Как бы то ни было, чего уж теперь опасаться, и он чувствовал себя вполне комфортно, давая показания, к тому же с ним обращались с безупречной учтивостью, жандармам, казалось, льстило, что в их стенах находится человек из аппарата министра, и если бы у них водилось печенье к кофе, они, несомненно, подали бы его на стол.
На улице было совсем тепло, Прюданс, ожидая его, вышла из машины и наблюдала за течением воды в Соне, за тем, как стремительно закручивались и так же быстро исчезали водовороты на ее поверхности.
– Как же все это печально, – сказала она. – Орельен не может насладиться таким прекрасным весенним утром и никогда уже не сможет насладиться ни единым прекрасным весенним утром.
Печально, спору нет, что тут скажешь. Это весеннее утро столь же прекрасно для червей и опарышей, через несколько дней они полакомятся его плотью и тоже отпразднуют наступление погожих дней, это было первое, что пришло ему в голову. Он вдруг вспомнил, что много лет назад Прюданс случалось вести долгие беседы с Орельеном, она сама очень любила Средневековье, хорошо знала живопись той эпохи, но про гобелены мало что понимала, и ей было интересно его послушать. Не придумав никаких слов утешения, он взял Прюданс за руку, и, судя по всему, правильно сделал, потому что она, похоже, сразу успокоилась.
Сложнее им пришлось, когда они приехали в Сен-Жозеф и он поставил машину во дворе перед домом. Мариз сидела на каменной скамеечке, тут же, справа от крыльца. Ну, она сидела не так, как человек, бывает, садится перевести дух. Скорее она опустилась на нее машинально, не в силах сделать какое-либо новое движение, ни даже вообразить, каким это новое движение могло бы быть. Поль тоже замер, не представляя, как сделать шаг вперед, как притвориться, что Мариз не существует, что она не сидит у входа в ступоре, из которого, казалось, уже не выйдет. Он с удивлением смотрел, как Прюданс, высвободившись из его объятий, скользнула к ней, села рядом, положила ей руку на плечо и нежно погладила его. Словно женщины от природы так умеют, словно им судьбой предназначено, благодаря какому-то особому пониманию боли, правильно себя вести. Он прошел мимо них, не останавливаясь, даже не бросив лишний взгляд на Прюданс. У него бы так никогда получилось, мало того, ему и присутствовать при этой сцене было невмоготу.
На обратном пути они почти не разговаривали и рано легли спать, съев на ужин немного хлеба с сыром.
Поль проснулся на рассвете и в половине шестого был уже готов, понимая, что сегодняшняя встреча ознаменует собой поворотный момент. Перед самым уходом он заглянул в спальню. Прюданс тут же проснулась, посмотрела на него, хотя он был уверен, что двигается бесшумно. “Ты пошел?” – спросила она. Он кивнул. Она приподнялась в постели. Он нежно поцеловал ее в обе щеки, потом в губы.
Войдя в кабинет Брюно, он понял, что рад его видеть. Он сел и рассказал ему всю историю, начиная с приезда отца в больничный центр Бельвиля и кончая его освобождением. Он говорил о докторе Леру, о его увольнении, о реорганизации отделений. Брюно слушал внимательно, не перебивая, лишь заметил вскользь: “Удивительная женщина эта Мадлен…” Затем Поль, подробно описав роль Мариз, добрался наконец до статьи Инди и самоубийства Орельена. Он объяснил Брюно, что, по его мнению, тут не надо искать никакого постороннего вмешательства или тайной повестки конкурирующей политической организации, за этой статьей стоит всего лишь жажда мщения амбициозной озлобленной бабы; о том, что произошло, она узнала не из каких-то особых источников, а просто из неосторожных откровений его покойного брата. Конечно, прибавил Поль, с себя он тоже не снимает ответственности, он всегда относился к Инди с антипатией и презрением и совершенно не собирался это скрывать; и она жестоко отомстила.
Его рассказ длился долго, и они еще не начали обсуждать, какие надо принять меры, когда им сообщили о приходе Солен Синьяль. Ее сопровождал молодой помощник, как всегда землисто-бледный и безупречно одетый.
– Меня беспокоит вовсе не первый тур, – ринулась она в бой, не потрудившись даже поздороваться. – Мы, конечно, потеряем несколько пунктов, ну и хрен бы с ними, мы все равно пройдем во второй, а там выборы начнутся заново. Проблема в том, что если общественность убедит себя, что в плане социальной политики мы занимаем те же позиции, что и “Национальное объединение”, нам вряд ли удастся перетянуть к себе голоса экологистов, а также левых или того, что от них осталось. И нам мало не покажется. Тем более что наш соперник просто супер, должна признать, Беранжер отлично справилась с задачей, ее еще рано списывать в утиль, вздумай я недооценить ее, я бы сильно облажалась. Не знаю, видел ли ты на днях его дебаты с экологиней, ну знаешь, с толстушкой этой: “Так я тоже люблю природу!.. Пение жаворонка весной на заре, что может быть прекраснее”, – короче, высший пилотаж, эта дура аж рот разинула, какой, на хрен, жаворонок, она даже не знает, что это такое. Вот ты знаешь, что такое жаворонок? – Она с вызовом обернулась к своему помощнику, который не без некоторой печали отрицательно покачал головой. – Ладно, но ты хотя бы не прикидываешься, и, кроме того, ты не кандидат от экологов. А потом он ловко свернул на инсектициды, мол, насекомые исчезают, а не будет насекомых – не будет и жаворонков, а вы как думали. Типа, я это не ради красного словца, я знаю, о чем говорю, какой хороший мальчик. Ну а что касается этой истории, нам надо что-то предпринять, и поскорее.
Она внезапно умолкла. Молчание продлилось почти полминуты, а потом Поль очень спокойно произнес:
– Я уволюсь.
Она посмотрела на него с изумлением, явно не ожидая такого прямого хода.
– Нет, – немедленно и резко, почти грубо оборвал его Брюно. – Нет, не может быть и речи о том, чтобы из-за этого ты ушел. Если бы речь шла о моем отце, я поступил бы точно так же. Поэтому нет. Кроме того, у нас есть другой выход.
– Я вся внимание… – сказала Солен Синьяль.
– Ты уйдешь во временную отставку по семейным обстоятельствам, – сказал Брюно, обращаясь по-прежнему только к Полю. – Обычно на оформление требуется много времени, но я прослежу, мы ускорим процесс и уладим все прямо завтра. Продолжительность такой отставки составляет обычно один год.
– После выборов мне плевать, делайте что хотите… – сказала Солен. – Но будь добр, объясни мне: можем ли мы, не вдаваясь в подробности, объявить, что он покинул свой пост?
– Да, чиновник не обязан объяснять свои мотивы. В обычных условиях моего мнения о его временном освобождении даже не спросили бы, – ответил Брюно.
– Ладно, сойдет, я думаю. Итак, что мы имеем. Первое: в твоем аппарате несколько десятков сотрудников, и ты не можешь быть в курсе личной жизни каждого. Второе: это болезненная семейная проблема, не имеющая никакого отношения к профессиональной деятельности твоего сотрудника, работой которого, к слову, ты всегда был в высшей степени удовлетворен. И третье: на сегодняшний день факты еще не подтверждены, правосудие скажет свое слово…
– Правосудие пока что никак не проявилось, – заметил Поль, – поскольку искового заявления не поступало.
– Что? – изумленно воскликнула она. – Ну слушай, так оно и лучше, все путем, значит, ты ждешь, пока правосудие скажет свое слово. Тогда чего мы дергаемся, раз искового заявления не поступало, я-то была уверена в обратном.
– Искового заявления не будет, – твердо сказал Брюно.
– Ну, раз судебных разбирательств можно не опасаться, нам похуй, подумаешь, ну паршивая статейка, ну в меру язвительная, просто одна второразрядная журналистская сучка вздумала взбить вокруг себя немножко пены… Короче, я организую тебе небольшую пресс-конференцию, сегодня смысла нет, никто не придет, а вот завтра в десять да, ладно?
– Мне придется сделать заявление? – спросил Поль.
– Еще чего не хватало. Предоставь это Брюно. Ты просто безымянный чиновник и таким останешься, так будет гораздо лучше. Хорошо, что мы увиделись, теперь я проведу воскресный день со спокойной душой.
После их ухода в кабинете снова стало тихо. Уже совсем рассвело, солнце озаряло зыбкие воды Сены и безлюдные пока набережные.
– Я очень благодарен тебе за все, что ты для меня делаешь, – сказал Поль.
– Да не за что. – Брюно равнодушно пожал плечами. – Ты же слышал нашу умницу: это всего лишь журнальная статья, чего тут с ума сходить. Начни они судебное разбирательство, тогда другое дело. Какой это все-таки абсурд самоубийство твоего брата, – заговорил он после паузы. – Да и что касается его девушки – полагаю, обошлось бы без увольнения. Ну отстранили бы ее на несколько месяцев, пока все уляжется, и потом она бы спокойно вернулась на работу.
Да, полный абсурд, Поль понял это в ту секунду, когда увидел тело Орельена, висящее на балке в сарае, его смерть столь же абсурдна, как и его жизнь; и он подумал еще, что никогда не рискнет поделиться своими соображениями с Сесиль. У христиан как-то вообще не складывается с абсурдом, он не вписывается в их категории. В христианском видении мира Бог сам управляет всеми событиями, хотя иногда кажется, что мир временно отдан во власть Сатане, но в любом случае все несет в себе мощный смысловой заряд; христианство было придумано для мощных людей, с ярко выраженной волей, иногда ориентированных на добродетель, иногда, к сожалению, на грех. Когда твари Божьи низвергаются в бездну греха, может вступить в действие милосердие. Он вдруг вспомнил строки Клоделя, поразившие его в пятнадцатилетнем возрасте: “А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать”. Слово “преизобиловать” довольно уродливое, только в стихотворении Клоделя и могут попасться подобные слова, но, к счастью, он спохватывается в следующей строке: “Молись, душа: ныне пробил час Князя мира сего”[46]. Следует ли буквально понимать эти слова? Должно ли милосердие рассматриваться как следствие греха? А разве грех допущен не для того лишь, чтобы возвеличить милость и, стало быть, милосердие?
Дело в том, что в христианской типологии нет места таким существам, как Орельен, чья приверженность жизни всегда была слишком слаба и сомнительна, он, в сущности, не столько стремился влиться в мир, сколько сторонился его. Возможно, он даже не вполне поверил в существование Мариз; она проплыла мимо, словно счастливое видение, словно обещание незаслуженно дарованной ему жизни, которую вскоре у него отнимут. Бывает, что от официальных инстанций, из налоговой службы например, приходят письма с таким сообщением: “Была допущена ошибка в вашу пользу”, – что-то подобное, должно быть, и произошло, думал, наверное, Орельен. В его самоубийстве не было решительно ничего удивительного, оно, казалось, было предопределено природой вещей; но все-таки напрасно он так резко оборвал тогда Сесиль. В принципе, детерминизм, в той же степени, что и абсурд, не принадлежит к христианским категориям; и, кстати, они связаны между собой – строго детерминированный мир всегда кажется более или менее абсурдным, и не только христианину, но и человеку вообще.
Когда в юности он размышлял над этими вопросами, ему казалось, что Бог, такой, каким он себе его представлял, вполне сочетается с детерминизмом, поскольку именно он создал его законы, и, думал он, ближе всех к божественной природе подступился, скорее всего, например, Исаак Ньютон. Или, возможно, Давид Гильберт, хотя не факт, для существования математики мир не нужен, но следует ли, исходя из этого, считать Давида Гильберта своего рода коллегой Бога? По правде говоря, он никогда не тратил на эти вопросы особых интеллектуальных усилий, даже в юности, да и задумался о них, если ему не изменяла память, только в выпускном классе, в тот единственный школьный год, в программу которого входило “ознакомление с великими философскими текстами”. То есть интерес к философии проснулся у него в семнадцать лет и три месяца и закончился ровно в восемнадцать лет.
На барже, проплывавшей мимо окон, завыла сирена и вывела его из задумчивости. Он поднял голову. Брюно по-прежнему сидел напротив него, уважительно пережидая его молчание, должно быть, прошло довольно много времени, машин на набережных прибавилось.
– Вряд ли я смог бы бездельничать весь день напролет, со мной такого никогда не случалось, – спокойно сказал Брюно. – Но ты, сдается мне, на это способен.
Так и есть, подумал Поль, но надо ли этому радоваться, вот вопрос; большинство людей сегодня, вероятно, ответили бы “нет”, он живет в эпоху, когда работе придается исключительное значение, равно как и самореализации в работе, а в минувшие времена, напротив, досуг сочли бы единственным подобающем мудрецу образом жизни. По дороге домой он сел на скамейку в безлюдном парке Берси. Он освобожден, напомнил он себе; ему определенно нравилось это слово.
4
На все случаи жизни: идеальные подарки для дам, подруг, невест и жен на Новый год, День святого Валентина, Хэллоуин, День благодарения, Черную пятницу, Рождество, рождественское белье на рождественскую ночь, первую брачную ночь, медовый месяц и на все романтические и страстные ночи.
Презентация нижнего белья GDOFKH
Прюданс встретила эту новость с беспримесной радостью и тихим облегчением – видимо, она готовилась к худшему варианту развития событий, подумал Поль, то есть к его увольнению; однако она ни разу не заговорила с ним об этом. Теперь они в кои-то веки поедут в отпуск, она так долго этого ждала. На самом деле они не так уж давно снова стали вести себя как муж и жена и снова могли обсуждать, не провести ли отпуск вместе; но если она так считала, если ей и впрямь удалось стереть из памяти годы разлуки, то тем лучше.
– Но все-таки есть одна проблема финансового плана, – наконец сказал он, потому что обязан был это сказать. – У меня в течение года не будет зарплаты.
– Ты кое о чем забыл, дорогой… – Она смотрела на него несколько секунд, немного недоверчиво, а потом широко улыбнулась. – Невероятно, ты действительно забыл! А я-то думаю об этом по крайней мере раз в неделю. Через месяц мы закончим выплачивать кредит за квартиру; через месяц мы станем ее полноправными владельцами, раз и навсегда. А на погашение кредита уходило тридцать пять процентов наших зарплат. По тридцать пять процентов с каждого. Таким образом, твоя отставка мало что меняет…
В этом году длинные уикенды оказались слишком короткими, 1 и 8 мая выпали на субботы, и Прюданс взяла отгулы до и после 1 мая, чтобы съездить в Лармор-Баден.
Не очень понятно, откуда что берется, но ее сестра умела управлять парусной лодкой. Они совершали долгие прогулки по заливу, мимо Иль-о-Муан, к Иль-д’Ар, или исследовали россыпи островков, отделяющих их от Локмарьякера. За долгие годы жизни в Канаде Присцилла приобрела определенную деловую хватку, которая резко контрастировала с французскими нравами, ее поведение ассоциировалось скорее с тем, что принято ожидать от жителей США, но ведь она жила в Ванкувере, то есть на западе Канады, не так, в сущности, далеко от Сиэтла, иными словами, в одном из тех мест, где вырисовывается будущее человечества, по крайней мере его технологическое будущее – при условии, что у человечества вообще есть еще какое-то другое будущее. К своему неудавшемуся браку она относилась как к провалу бизнес-проекта, а поскольку поставленных целей достигнуть не удалось, ей следовало поставить крест на этой попытке и начать с чистого листа, тоже мне конец света, почти все срезаются, иногда даже по несколько раз, прежде чем добиться успеха, сам Дональд Трамп не раз терпел неудачи.
Они с сестрой уже плохо понимали друг друга, но им удавалось все же сойтись на почве базовых ценностей, в этом случае культурные различия не играют заметной роли, например в том, что касается надлежащих способов выгодно подчеркнуть достоинства женского тела, и когда они вместе ходили по магазинам, Присцилла не стеснялась в выражениях. “Такую жопу грех скрывать”, – прямодушно заявляла она или мечтала вслух: “Вот будь у меня такая жопа…” – и Прюданс думала: а вдруг и правда, будь оно так, ее судьба сложилась бы иначе, ну да, а что, это вполне может повлиять на судьбу, причем сейчас как никогда раньше, ведь жопа, скажем так, это современный эквивалент носа Клеопатры, мы тут и впрямь имеем дело с судьбой, ибо столь немотивированная генетическая особенность под стать промыслу божью. Лично она, надо признаться, и пальцем не пошевелила, чтобы заслужить такую жопу. Поль удивился и, откровенно говоря, возбудился, когда Прюданс впервые надела мини-шорты, и сразу после ужина потащил ее в спальню и трахнул, такого энтузиазма он уже очень давно не испытывал. Больше она подобной дерзости на публике себе не позволяла, притом что, как ни странно, сочетание майки с бикини казалось ей приемлемым даже в присутствии племянниц, вообще условности – любопытная вещь, два дня спустя она твердой рукой сменила обычные бикини на стринги; ложась спать, она снимала стринги от купальника и надевала хлопчатобумажные стринги, и Поль, проснувшись, в первую очередь принимался смотреть на нее, она спала на животе, и вида ее попы обычно хватало, чтобы у него встал. Теперь они занимались любовью каждое утро, ну, не так сразу, конечно, сначала он выпивал несколько чашек кофе, чтобы прояснилось в голове, после чего у него снова вставал. В плане эротики ничего особенного в этих ранних соитиях они не изобрели, это был просто утренний приветственный ритуал; но они испытывали огромное счастье, и Прюданс явно стало лучше, физически лучше. Теперь он вник в странное понятие “супружеского долга” и больше не считал его таким уж дурацким.
Что касается отца Прюданс, то он проводил весь день в кресле перед панорамным окном, и его единственным занятием было созерцание прилива-отлива волн, набегающих на песчаную отмель, сейчас это движение совсем стихло, иногда оно усиливалось, но без перехлеста, в заливе штормы были не такими бурными, как на океанском побережье. Его состояние не шло ни в какое сравнение с состоянием отца Поля, его мозг не был задет, и он вполне мог бы разговаривать, если бы захотел, но ему больше нечего было сказать. Смерть жены стала для него абсолютным концом, его существование, считал он, не имело никаких причин продолжаться, но ведь можно жить беспричинно, это, кстати, весьма распространенный случай, и он радовался легкой суматохе волн и той суматохе, что поднимали вокруг него дочери и внучки – все его потомство было женского пола, даже интересно. Казалось, с момента их последнего посещения он не сдвинулся с места и все так же сидел в том же кресле, с той лишь разницей, что теперь по правую руку от него на круглом высоком столике лежала книга – сочинение Чезаре Беккариа “О преступлениях и наказаниях”. Неужели это читабельно, мельком удивился Поль; но на самом деле он и не читал, книга день за днем оставалась открытой на одной и той же странице, она лежала тут про запас, вдруг в его сознании пробудится что-то сродни интеллектуальному любопытству. Отец Прюданс был судьей, сначала в суде высокой инстанции, потом в суде присяжных, и завершил карьеру в должности первого председателя Версальского апелляционного суда. Поль понял все это, уже будучи тут, то есть, возможно, он слышал это и раньше, но забыл, он никогда особо не интересовался тестем. Такое отсутствие интереса было взаимным: старик узнал Поля, кивнул ему и снова погрузился в созерцание пейзажа. Отец – судья в Версале, дом в Виль-д’Авре, вилла в Бретани, учеба в лицее Святой Женевьевы, затем в Институте политических исследований и ЭНА, в сущности, нечего удивляться, что Прюданс превратилась в асексуальную веганку. Поражало как раз ее нынешнее стремление обрести свое бабское “я”, Поля потрясли ее мини-шорты, немногие женщины под пятьдесят решились бы на такое; с другой стороны, немногие женщины под пятьдесят могут себе это позволить.
Ухаживать за отцом очень просто, объяснила Присцилла: он сам себя обслуживает, может вставать, умываться и питаться без посторонней помощи. Гигиенические процедуры в его случае, надо сказать, сводились теперь к минимуму, он не принимал ни душ, ни ванну с тех пор, как вернулся из больницы, да и питался исключительно йогуртами, иногда с печеньем. Присцилла, невзирая на весь свой американский оптимизм и динамизм, все-таки спасовала, признав в итоге очевидное: отец ждет смерти, и единственное, что им остается, это сопровождать его к ней как можно ненавязчивее, и всё.
Накануне их возвращения в Париж стояла такая хорошая погода, что Прюданс и Присцилле удалось искупаться, а Поль заснул на солнце. По тропинке, идущей через еловый лес, он вышел к огромному озеру. Он помнил, что сегодня день его рождения, то есть дело было в мае или июне, он забыл точную дату. Он находился в какой-то новой стране, вероятно в Канаде, было еще свежо, но небо сияло чистой лазурью. Озеро, казалось, тянулось до бесконечности, его вода удивительного голубого цвета, почти бирюзового, смотрелась бы привычнее в тропических пейзажах. Пологий склон, переходящий в луг, усеянный маками, маргаритками и нарциссами, спускался к озеру. Поль снял ботинки и брюки и вошел в воду, которая, как он и предполагал, оказалась холодной, но на удивление прозрачной, он прекрасно мог рассмотреть песчаное дно и легко зашагал вперед, дно уходило вглубь очень полого, в нескольких десятках метров от берега вода еле доставала ему до середины икры. За пять минут он прошел двести или триста метров, и когда остановился, вода поднималась уже до середины бедер. Тогда он обернулся и понял, что пейзаж полностью изменился: зеленый луг исчез, сменившись грязной плоской равниной. У самого берега стояла обшарпанная забегаловка, внутри было пусто, окна разбиты, в грязи валялись вывихнутые зонтики. Свинцовое небо теперь нависало прямо над головой, еловые леса на горизонте пропали за клочьями тумана, вода в озере помутнела, приобрела какой-то коричневатый оттенок. Возвращаясь к берегу, Поль заметил отдыхающих, явно из простонародья; они неторопливо прохаживались по тонкому склизкому слою ила, устилавшего кромку озера, с выражением полнейшей покорности на лице. Они, конечно, паршиво проводят отпуск, признался ему один из них, зато так гораздо дешевле.
Когда Прюданс разбудила его, солнце уже садилось над заливом Морбиан. Искупаться в Бретани в июне месяце – редкая удача, и он подумал, что Прюданс с сестрой еще не раз вспомнят об этом в ближайшие годы. Ему тоже никак было не забыть свой сон, в течение нескольких недель ему периодически снилось, что за ночь воды залива Морбиан отступили и вилла в Лармор-Бадене оказалась на самом краю илистого океана. Вообще-то он всегда немного боялся моря.
Холмы Божоле и близко не вызывали в нем такой тревоги, и в следующую субботу они отправились в Сен-Жозеф, тоже на машине. На этот раз Прюданс взяла три дня отгулов, они планировали вернуться в Париж только в среду вечером, до первого тура президентских выборов останется всего ничего. Эрве и Сесиль уже неделю как уехали в Аррас, Мадлен осталась с отцом одна, их жизнь потекла по ставшему уже привычным руслу, и, видимо, такой она уже и будет до самого конца. Отец проводил большую часть дня в зимнем саду, любуясь пейзажем, и день ото дня замечал, наверное, все тончайшие его изменения, которые обычно ускользают от тех, кто ведет более активный образ жизни. Иногда он читал, спасибо Мадлен, чтение давало ему возможность вновь увидеть мир людей, с которым он в значительной мере распростился. Вечером Мадлен ставила его кресло на лестничный подъемник – таким образом он попадал к себе в комнату. Она поднимала его и укладывала на медицинскую кровать с помощью медсестры, которая приходила дважды в день, утром и вечером. По идее, она бы и сама справилась, это потребовало бы от нее незначительных усилий, просто медсестра жила в Вилье-Моргоне, в нескольких минутах езды. Медицинская койка стояла вплотную к ее кровати, и ночью она могла держать Эдуара за руку, движения его пальцев стали еще разнообразнее и точнее, превратившись в своеобразный язык, но этот язык не удалось бы перевести в слова, он выражал скорее эмоции, чем понятия, и был ближе к музыке, чем к членораздельной речи.
У Поля сложилось впечатление, что отец счастлив, во всяком случае, благодаря созданным ему бытовым условиям конец его жизни пройдет, насколько это возможно, в приятной обстановке, а любая жизнь, подумал он, в той или иной степени является концом жизни. Конечно, все держалось на Мадлен, без Мадлен все бы мгновенно рухнуло, но и Поль, когда понадобилось, ни минуты не колеблясь, выделил необходимые средства на покупку медицинского оборудования, то есть проявил себя хорошим сыном, хотя ничто, как говорится, не предвещало.
Пока отец Прюданс созерцал движение волн, его отец созерцал движение веток, колышущихся на ветру. Вероятно, этот процесс не так укоренен в архаичных ментальных репрезентациях человека, не так напрямую связан с его важнейшими мифами; но, с другой стороны, он разнообразнее, утонченнее, легче. Поль уж точно предпочитал спокойные движения, оживляющие сельский пейзаж, и уж точно озера и реки были ему гораздо ближе, чем море.
Мадлен говорила все так же мало, а Эдуар, сидя в своем кресле за столом в столовой, тоже являл собой неиссякаемый источник тишины, так что порой во время общих трапез до самого конца они не произносили ни единого слова, ну и ничего страшного, очень даже хорошо.
На следующий день после приезда Прюданс уединилась на кухне, она собралась приготовить яйца по-бургундски и вообще подумывала заняться готовкой, на эту мысль ее наверняка навели разговоры с Сесиль, когда дело касалось готовки, Сесиль проявляла чудеса харизматичности.
Это была ее первая попытка, и она увенчалась успехом, яйца по-бургундски удались на славу, есть их было легко, они буквально таяли во рту. А вот с мясом у Поля возникли сложности, коренной зуб с правой стороны совсем расшатался, ему казалось, что он прямо сейчас выпадет, да и другой зуб, слева, тоже начал проявлять признаки слабости.
– У тебя все еще болят зубы, дорогой? – Прюданс внезапно застыла, не донеся вилку до рта.
– Да, сегодня я что-то не очень.
– Запишись к зубному, ну правда, ты и так затянул. Позвони ему, когда мы вернемся в Париж, договорились?
Он покорно кивнул, пора уже решиться и поискать нового врача. Поль вспомнил тот день, когда его стоматолог объявил, что собирается на пенсию. Он в то время еще не познакомился с Брюно, с Прюданс у них ничего еще не было, и он существовал практически в полнейшем одиночестве. И когда старик сообщил ему, что прекращает практику, на него нахлынула волна совершенно несоразмерной, чудовищной печали, он чуть не расплакался при мысли, что они так и умрут, не повидавшись снова, притом что они никогда не были так уж дружны, никогда не выходили за рамки отношений врача с пациентом, он даже не припоминал, чтобы они хоть раз вели серьезную беседу и обсуждали что-то не связанное с зубами. Ему претит, с тревогой осознал он, непостоянство как таковое; сама идея, что все, что бы это ни было, заканчивается; то есть претит ему не что иное, как одно из главных условий жизни.
5
Брюно пригласил их в воскресенье на вечеринку по поводу объявления результатов первого тура; она состоится прямо в избирательном штабе, на авеню де Ла-Мотт-Пике. Может, ему лучше рядом с ним особо не светиться, заметил Поль. Сейчас это уже не важно, Брюно считал, что про статью все давно забыли, хотя, конечно, в зале будут слоняться целые орды журналистов, так что они, если захотят, могут сразу пройти за сцену.
Они приехали около восьми, Солен Синьяль с ассистентом и Раксанэ были уже на месте; с непроницаемым лицом Солен что-то быстро набирала на мобильнике и лишь мельком на них взглянула, ей явно приходили дурные вести. Сарфати и Брюно обходили зал, приобнимали то того, то другого, пытаясь, видимо, смягчить удар, каким бы он в итоге ни был.
Результаты, высветившиеся ровно в восемь, и правда не радовали: кандидат от “Национального объединения” набрал 27 %, Сарфати – 20 %, эколог – 13 %, кандидаты от старых правых и левых партий поделили оставшиеся голоса в живописном беспорядке, и поскольку они гурьбой повалили на выборы, большинство избирателей, как показал недавний опрос, затруднялись даже назвать их фамилии. Им удалось все-таки – и в сложившейся ситуации это можно считать чуть ли не успехом – слегка оторваться от троцкистов и анималистов; однако ни один из них не достиг магической отметки 5 %, необходимой для возмещения расходов на кампанию.
– Прогнозы второго тура не изменятся, я думаю, – не замедлила дать свой комментарий Солен Синьяль. – Мы уже две недели стоим на отметке 50–50, 51–49 в лучшем случае, признаюсь, я другого ожидала, короче, я разочарована. – С этими словами она посмотрела прямо в глаза Бенжамену Сарфати, открыто адресуя ему свои упреки. Брюно на протяжении всей кампании был очень конструктивен, нередко просто великолепен, он выполнил и перевыполнил свою часть работы, а вот слабость Сарфати на дебатах стала очевидной, он плавал в некоторых темах, и стратегия употребления в дело звезд реалити-шоу, похоже, исчерпала себя в этот вечер…
Прюданс и Раксанэ направились к буфету, там почти никого не было, на гигантских мониторах, занимавших целиком одну стену, видно было, как понемногу редеет публика, атмосфера, само собой, стала далеко не праздничной. Солен Синьяль ушла, назначив рабочее совещание на завтра, на девять утра. Сарфати резко сжал плечо Брюно и тоже смылся в некотором смущении. Поль оказался наедине с Брюно и открыл бутылку виски.
– Ты расстроен? – спросил он наконец, поскольку Брюно не произнес ни слова.
Брюно пожал плечами:
– Да не особенно; просто обидно будет, если изберут “Национальное объединение”, за Францию обидно.
Поль посмотрел на него с удивлением – он что, пытается уйти от ответа? Да нет, тут же понял он, Брюно всего-навсего высказал свою точку зрения: ему будет обидно за Францию, если победит “Национальное объединение”. Почему он так считает? Исходит из определенной формы экономической рациональности? Антирасистской, гуманистической морали, доставшейся ему по наследству? Или в нем говорит его буржуазное происхождение? Одно другого не исключает, но таковы его убеждения, и именно они подтолкнули его к участию в предвыборной баталии. Брюно отнюдь не циник. И не дурак, он уже сейчас задумывается об истинных мотивах президента. Вполне вероятно, что тот хотел, поддержав кандидатуру такого убожества, как Сарфати, облегчить победу “Национальному объединению”. Придя к власти, предполагал, возможно, он, “Национальное объединение” спровоцирует целую череду катастроф, экономический и социальный крах будет мгновенным, и народ, недолго думая, потребует его назад, таким образом он обеспечит себе переизбрание через пять лет, а если произойдут какие-то ужасные события, выходящие за рамки республиканской законности, то, как знать, ему, может, и не придется ждать пять лет. А вот при умеренном правительстве, проводящем политику более или менее схожую с политикой предыдущего правительства, – в общем, при правительстве, которое не выйдет за “кружок разума”, как выражались некоторые эссеисты прошлого века, – того и гляди, повеет холодком и желание перемен взбудоражит умы; тогда его возвращение к власти станет более проблематичным.
Неужели у президента настолько извращенный ум, что он придумал такой сценарий? Брюно, похоже, склонялся к этой мысли; в конце концов, он знал его лучше, чем Поль, они общались на протяжении долгих лет, так что тут было от чего встревожиться. Мало того, кое-что Брюно от него утаил, потому что сам пока не осмеливался все окончательно для себя сформулировать, хотя в его словах это угадывалось. В ходе избирательной кампании он неожиданно показал себя, проявил настоящий талант трибуна и постепенно начал получать все больше удовольствия от выступлений перед толпой, от того, что умел всколыхнуть ее, вызвать смех, печаль или гнев. Однажды, приехав в Страсбург, он заставил тысячи людей хором спеть “Марсельезу”. Все изумились, в первую очередь он сам; единственный, кто, кажется, ожидал этого, был президент. Президент – умный человек, даже самые ярые его недоброжелатели не оспаривают его интеллект, и к тому же он умеет использовать людей, интуитивно угадывая их нераскрытый потенциал, равно как и их изъяны. Он сразу же все понял про Сарфати, усмотрев в нем обычного паяца, который удовольствуется мишурой власти; он, весьма вероятно, предвидел и преображение Брюно, и то, что Брюно, почувствовав со временем уверенность в себе, в свою очередь задумается о месте первого лица; президент боялся амбиций не Сарфати, а именно что его, Брюно. Президенту и в голову не могло прийти – и это был тупик его умозаключений, единственная “слепая зона”, – что можно так близко подойти к президентскому креслу, не испытав при этом ни упоения, ни головокружения, которое неминуемо заставляет человека жаждать этого поста и превращать его в конечную цель своего существования. Он сам был им зачарован и не допускал мысли, что этим чарам кто-то умеет не поддаваться, и в случае Брюно, как и в случае подавляющего большинства человеческих особей, по крайней мере, особей мужского пола – женщины исторически от них отличаются, хотя все меньше и меньше, – президент не ошибся, удрученно признался себе Поль.
Прюданс и Раксанэ как раз вернулись, они явно нашли друг друга, интересно, что Прюданс сразу признала ее равной себе, а ее положение – симметричным ее собственному. Брюно по-прежнему скрывал их отношения, но Прюданс сразу обо всем догадалась. Непонятно, как женщины ухитряются так быстро сделать правильные выводы, тут, видимо, не обошлось без феромонов, которые, превращаясь в ольфактивные молекулы, рассеиваются в воздухе и улавливаются носом, да, пожалуй. Перед уходом Брюно заставил Поля пообещать, что он еще появится, следующие две недели будут решающими, ну это Сарфати в первую очередь предстоит погрузиться в активную зону реактора, но ему тоже достанется, и общество Поля пойдет ему на пользу.
– Мне тебя ужасно не хватало… – сказал он ему уже с порога, и Поль вдруг понял, что Брюно никогда не бывал у него дома, хотя в последние годы они очень сблизились; он пригласил его прийти к ним поужинать на той неделе. Он был уверен, что их квартира ему понравится, ведь после назначения Брюно на пост министра его жена из чистого снобизма упорно не желала переезжать из квартала Сен-Жермен. Ему никогда не нравилась их маленькая трехкомнатная квартира на улице Сен-Пэр, которую они снимали за непомерные до смешного деньги, так что, вздохнув с облегчением, он поспешил перебраться в служебные апартаменты, как только их расставание стало для него очевидным. Но вообще-то жить по месту работы, сведя к нулю всякую возможность дистанцироваться, – рискованная идея, женщинам обычно она не по душе, так что решение Поля и Прюданс поселиться в четверти часа ходьбы от министерства было отличным компромиссом.
Брюно предупредил, что “придет не один”, достигнув этим, вероятно, высшей точки интимных откровений, и, конечно, они ничуть не удивились, увидев его с Раксанэ, она сама ни капельки не смутилась, мгновенно проявила живейший интерес к их жилищу, настолько неприкрытый, что Прюданс вызвалась показать ей квартиру, а Поль предложил Брюно выпить. Экскурсия, подробная и сугубо утилитарная, продлилась больше получаса, так что когда девушки вернулись в общесемейное пространство, над парком Берси уже садилось солнце, и Раксанэ только и смогла, что прошептать: “Очень хорошо… Просто очень…”
Второй тур должен был состояться через десять дней, и этой темы избежать было трудно, да Поль и не пытался, и честно говоря, его все это очень занимало, он записал часов десять дебатов на жесткий диск, но посмотреть еще не успел. Пока Прюданс возилась с ужином – ей и впрямь теперь нравилось готовить, – они посмотрели одну запись, дискуссию Сарфати с чуваком из каких-то непонятных левых, Поль знал его, но не мог сообразить, кто это и откуда, вероятно из “непокоренных”[47], причем вполне себе известный “непокоренный”. Брюно быстро потерял интерес к этому зрелищу, успев тем временем трижды наполнить свой бокал шампанским. У Раксанэ, напротив, сразу же сработали профессиональные рефлексы: с пультом в руке, она то замедляла видео, то выбирала стоп-кадры, очень внятно объясняя Полю, почему у Сарфати абсолютно идеальный язык тела. Он мог выразить сочувствие, насмешку или гнев, усиливая свой месседж мимикой, наклонами торса и предельно точным, убедительным и подходящим случаю положением рук, очевидно, за этим стояли годы напряженной работы.
– Проблема Бена не в упаковке, а в содержимом, – жестко подвела она итог и нажала на “стоп”; сразу после этого они сели за стол.
В ответ на вопрос Поля она сказала: нет, Солен Синьяль не притворяется, выражая беспокойство в связи с результатами выборов. Победа “Национального объединения” немыслима, но она уже пятьдесят лет как немыслима, а немыслимые вещи порой случаются. Разрыв между правящими классами и населением малых городов в провинции зашкаливает, и, на ее взгляд, забастовки, имевшие место в последние годы, – еще цветочки; кроме того, расовая ненависть в Европе достигла беспрецедентного уровня и вряд ли рассосется в скором будущем. Солен производила впечатление обычной парижанки из информированных кругов, по уши увязшей в междусобойчике медиаэлит, но у нее сохранились родственные связи с рабочей средой, и создавшаяся ситуация всерьез ее тревожила. К тому же респонденты недавно открыли новый способ обманывать опросчиков: они заявляют, что еще колеблются или не имеют твердого мнения, а на самом деле мнение они имеют, и весьма упертое. При этом они не считают, что лгут: кто ж не колеблется, пусть время от времени?
– Вам не кажется, что у меня в жарком слишком чувствуется гвоздика? – спросила Прюданс.
Поль бросил на нее недоуменный взгляд, ее безразличие к политическим темам не переставало его удивлять; впрочем, разве на его памяти Прюданс случалось выражать хоть какое-то политическое мнение? Надо смотреть правде в глаза – ей решительно насрать на все это. Что касается гвоздики, то Раксанэ знала в ней толк и заверила Прюданс, что с гвоздикой действительно сложно справиться, и она, конечно, чувствуется, но в меру, именно то, что нужно, она так считает. Брюно в свою очередь наговорил ей комплиментов, наверняка вполне искренних, вот только его опыт в области гастрономии сводился в лучшем случае к пицце “Четыре сыра”. Для него выборная гонка уже почти завершилась, Сарфати останется на передовой в одиночестве до самого конца; ему еще предстоит большой митинг за три дня до второго тура, по сути, последний митинг кампании с участием нескольких министров. Их с Сарфати выступления будут самыми длинными, по двадцать пять минут, так они запланировали, впрочем, он уже насобачился.
– А потом… Если все пройдет хорошо, я смогу вернуться к своей работе. – Он улыбнулся странной робкой улыбкой, их взгляды с Раксанэ встретились, и они оба смущенно отвели глаза, подумав одновременно об одном и том же: он вернется к своей работе, оно конечно, но в их жизни появится нечто новое. Какая бы культурная пропасть ни зияла между ними, их объединяло одно очень старое и очень странное поверье, пережившее крушение всех цивилизаций и практически всех других поверий: если тебе выпал счастливый билетик, неожиданный подарок судьбы, лучше помалкивать, а главное, не кичиться этим, не то боги разгневаются и кара их будет страшной. Некоторое время они сидели молча, опустив головы, потом Раксанэ подняла глаза на Брюно. Поль не замечал до сих пор, какие у нее яркие зеленые глаза, изумрудно-зеленые, в их яркости было что-то пугающее. Брюно тоже медленно поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Никто не шелохнулся, у Прюданс перехватило дыхание, и на несколько секунд за столом воцарилась полная тишина.
6
Сесиль и Эрве никогда не приезжали в Париж, и по такому случаю Поль запланировал типичную туристическую программу для родственников из провинции: прогулку на кораблике, посещение музеев, ужин в ресторане на острове Сен-Луи. И только в пятницу днем, за несколько часов до их приезда, он сообразил наконец, что Эрве учился в Париже, как, впрочем, и Сесиль, тут они и познакомились, а главное, Сесиль, как и он сам, провела в Париже почти все детство – как он мог это забыть? Неужели окружающие всегда были для него просто призрачными, незначительными существами, которым лишь изредка удавалось достучаться до его сознания? Возможно, с Орельеном так оно и было; но при мысли о Сесиль он огорчился. Если честно, он с трудом вспоминал не только людей; ведь есть же где-то школа, куда он ходил ребенком, коллеж, лицей; он совершенно их забыл. Даже от их парижской квартиры остались лишь смутные образы, бессвязные и размытые, словно из черно-белого фильма сороковых годов. А воспоминания, настоящие детские воспоминания, неизменно возвращали его в дом в Сен-Жозефе.
Что касается Сесиль, то по ней и не скажешь, что она бывшая парижанка: при знакомстве с ней у всех тут же возникала уверенность, что она родом из провинции, а точнее, с севера Франции. Уроженцы этого региона славятся, конечно, своим радушием и теплотой, но все-таки она проявила выдающиеся способности к ассимиляции. Как и все жители департаментов Нор и Па-де-Кале, Эрве и Сесиль с пеной у рта защищали свой край, приводя в пример не только пресловутое гостеприимство его обитателей, но и его красоту и архитектурное великолепие – следы былого расцвета, которым конкретно Аррас обязан был в основном развитию суконной промышленности. Их город славится двумя красивейшими барочными площадями, на одной из них есть колокольня, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Аррас может похвастаться самой высокой во Франции концентрацией исторических памятников – что всегда удивляет приезжих. В то же время они не забывали посетовать на бедность, безработицу и, прямо скажем, антисанитарию, губящие регион. И эта обратная сторона медали была настолько явной, что у них, как и у большинства обитателей Нор – Па-де-Кале, возникал чуть ли не когнитивный диссонанс; однако на шизофрению это не тянуло, правды с обеих сторон было поровну. В данном случае шизофренической была сама реальность.
Отчасти шизофреническим было и отношение Эрве и Сесиль к политической жизни Поля. Они не могли не знать, что он вращается в сферах, близких к госаппарату, к правительству – ну, к бывшему правительству, которое, скорее всего, снова им станет, к правительству, политический курс которого они решительно не одобряли, но это не имело в их глазах никакого значения.
Эрве несколько раз снова виделся с Николя, пристрастие последнего к огнестрельному оружию иногда немного его напрягало, только без Николя они бы не познакомились с Брианом, в одиночку никогда не справились бы, и Эдуар, вероятно, был бы уже мертв к этому часу. При этом он и не думал возвращаться к политическому активизму; ему нравилась его новая профессия страхового агента. По закону страхование часто является обязательной статьей расходов, но порой сильно ударяет по карману бедных и очень бедных людей, преобладающих среди его клиентов. Ему доставляло удовольствие проводить их сквозь заросли гарантий, помогать им избежать уж совсем наглого обмана со стороны страховых компаний, чей цинизм и ненасытность, как правило, не имеют границ, – в общем, он старался хорошо исполнять свои обязанности, как и в бытность свою нотариусом, так что его жизнь вновь приобрела структуру и внутренний стержень – и за это тоже надо сказать спасибо Николя.
Брюно и Эрве, люди серьезные и работящие, оба любили свою страну, но принадлежали к противоположным политическим лагерям. Поль знал, что размышлять над этим бесполезно, он десятки раз об этом задумывался и ни к какому осмысленному выводу так и не пришел. Ситуация при этом не казалась ему полностью зеркальной. Он разделял ангажированность Брюно и готов был голосовать за Сарфати в обоих турах, но отдавал себе отчет, что выбирает наименьшее из зол и просто присоединяется к общему мнению. Этот выбор, однако, не так уж глуп, выбор большинства иногда оказывается и правда лучшим вариантом, так, в придорожных ресторанах предпочтительнее заказывать дежурное блюдо, тут незачем копья ломать, так что и их политические дискуссии в эти выходные особым жаром не отличались. Однако они имели место хотя бы потому, что Эрве и Сесиль предполагали, что у него есть доступ к информации, закрытой для простых смертных, и, понятное дело, хотели все знать. Поль считал, что нет, что он не хранит никаких секретов, – но на самом деле хранит, вдруг с удивлением осознал он: уже тот факт, например, что президент намерен баллотироваться через пять лет, а Сарфати нужен лишь для заполнения паузы, не вызывал у него никаких сомнений; но об этом ведь никогда не заявлялось публично.
В воскресенье утром они планировали повидаться с Анн-Лиз и вернулись в полном восторге. Она жила в чудной, со вкусом обставленной студии, рядом с Ботаническим садом. Примерно через месяц она защитит диссертацию и надеется осенью получить место ассистента. В общем, у девочки все в порядке, за нее можно не беспокоиться. Действительно, подумал Поль, эта юная особа строит свою жизнь на редкость умно и рационально. Он слабо верил, что в долгосрочной перспективе рациональность совместима со счастьем, он даже был уверен, что, как ни крути, она приводит к полному отчаянию, но Анн-Лиз еще далеко до того возраста, когда жизнь заставит ее сделать выбор и сказать, если она еще будет на это способна, разуму прощай.
Отвозя Эрве и Сесиль на Северный вокзал, Поль подумал, что его отношения с сестрой были того же рода, что и с отцом: нерушимыми и безнадежными одновременно. Ничто никогда не сможет прекратить их; но ничто и никогда не сможет сделать их ближе; в этом смысле эти отношения – полная противоположность супружеским. Семья и супружество суть два отмирающих полюса, вокруг которых организуется жизнь последних людей Запада в первой половине XXI века. Некоторые, надо сказать, сумели предугадать износ традиционных форматов, тщетно рассматривали иные, но в изобретении новых форматов не преуспели, так что их роль в истории оказалась полностью негативной. Либеральная доктрина упорно игнорирует эту проблему, наивно полагая, что жажда наживы может заменить любую другую мотивацию человека и обеспечить сама по себе ментальную энергию, необходимую для поддержания сложного общественного устройства. Это очевидным образом ложный посыл, и Поль не сомневался, что вся система рухнет в результате масштабного коллапса, дату и характер которого пока что предсказать нельзя, – но дата, может, уже не за горами, а характер жестокий. Сам он, таким образом, находился в странной ситуации, с завидным постоянством и в чем-то даже самоотверженно работая на благо социальной системы, которая, как он знал, неминуемо обречена на гибель, и, надо полагать, не в самом отдаленном будущем. Эти мысли, однако, вовсе не мешали ему спать спокойно, хотя и погружали обычно в состояние интеллектуальной усталости, от которой его быстро начинало клонить в сон.
Как ни удивительно, внутри довольно уродливой неоготической церкви, похожей на те, что строили в XIX веке – это была, вероятно, базилика Святой Клотильды в 7-м округе Парижа, – обнаружился подлинный каролингский некрополь под охраной свирепых псов. Полю предстояло выполнить там некую миссию, но он сознавал, что если окажется, что он не избранник Божий, псы его сожрут. Люди, выходящие из церкви, высказывали противоречивые мнения на этот счет: первый человек, в облачении протоиерея, настаивал на суровости и непримиримости собак; второй, в облачении бродяги, уверял, что на самом деле они пока мало кого сожрали. Тем не менее оба они загадочным образом придерживались одной и той же точки зрения.
Войдя наконец в церковь, которая была, вероятно, базиликой Святой Клотильды, Поль быстро отыскал вход в некрополь. Огромные молчаливые псы с подозрением посмотрели ему вслед, но даже не шелохнулись. Луч карманного фонарика высветил на стенах геометрические орнаменты, вышедшие словно из научной фантастики семидесятых. Повыше в выступе стены виднелись ниши с плохо сохранившимися мумиями. Поль понимал, что для того, чтобы выполнить задание, ему придется вскарабкаться по стене. На полпути вверх он почувствовал угрозу, неминуемую опасность, но успел ухватиться за край пожарной лестницы; необычайно гибкая лестница мгновенно развернулась в воздухе, и Поль оказался на небольшой площадке, расположенной на высоте около сорока метров над улицей, с нее открывался доступ на строительные леса. Семилетний ребенок быстро лез по лестнице следом за ним, держа в руке мясницкий нож; добравшись до Поля, он ударил его ножом в бедро. Несмотря на обильное кровотечение, Полю удалось вытащить нож. Обезумев от страха при мысли о возмездии, мальчик быстро спустился на несколько ступенек, но Поль выбросил нож на улицу с высоты сорока метров. Мальчик сел на пятки, презрительно глядя на него, и вдруг двое мужчин в котелках, лет тридцати, отпихнули его и проворно взобрались вверх. Дойдя до Поля, они представились режиссером и актером. Вскоре после этого по лесам поднялись их двойники, все они сгрудились на площадке, которая в итоге оказалась шире, чем он думал. Затем четверо мужчин оживленно заговорили и, забыв, очевидно, о присутствии Поля, с простодушным восхищением похвалялись друг перед другом грозным оружием, а именно складными бритвами.
Внизу, по улице, которая на самом деле была широким проспектом, запруженным людьми, ехал автомобиль в форме феодального замка. Стоя на верхушке донжона, несколько мужчин натягивали по всей ширине проспекта длинную жесткую проволоку, острую, как лезвие бритвы. Проволока с поразительной легкостью перерезала туловища прохожих, идущих по проспекту, оставляя за автомобилем груды трупов. Один из мужчин, стоявших на площадке рядом с Полем, с простодушным восторгом помянул Сэмми-мясника, как будто это могло как-то его обезопасить. Тут он просчитался, поскольку металлическая проволока того же рода теперь раскручивалась над машиной-замком, угрожая уже непосредственно им. Их беседа тут же приняла философский оборот, даже теологический: обитатели машины-замка вообще-то не имели никакого отношения к Сэмми-мяснику, он был всего лишь порождением народных суеверий, лишенных какой-либо реальной основы, сами же они являлись служителями рационалистического культа, базирующегося на дисперсии элементов, из которых состоят живые существа, и ставящего целью создание новых структур; их единственным ритуалом было убийство. В самый разгар их беседы послышался вой сирены, повторяющийся через равные промежутки времени, вероятно, кто-то вызвал пожарную команду, так что у них появился шанс быстро скрыться от грозившей им опасности.
Звонок мобильника все-таки разбудил Поля, он оставил его внизу, и звук был еле слышен, интересно, давно ли он трезвонит. Прюданс мирно спала у него под боком.
– Поль? – сказал Брюно, как только он подошел. – Извини, я знаю, что сейчас пять утра.
– Что-то случилось?
– Да. Я думаю, это сорвет избирательную кампанию.
Брюно выждал несколько секунд и рассказал. Произошел очередной теракт, о котором объявило новое интернет-сообщение. Сообщение, судя по всему, появилось около четырех утра, и на этот раз они залили его практически повсюду. Максимум через полчаса об этом сообщат все новостные каналы.
– И что в этом такого страшного? – удивился Поль. – Это уже как минимум четвертый теракт.
– Третий, если считать только те, которые сопровождались интернет-сообщениями.
– Ну хорошо, третий, но все равно эта новинка начинает приедаться.
– Да. Просто на этот раз погибло пятьсот человек.
7
Революционер… Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции.
Сергей НечаевКатехизис революционера
Баржи с африканскими мигрантами, направляющиеся в Европу, в последние годы даже не рассчитывают добраться до Сицилии, потому что корабли ВМС Италии не дают им причалить. Поэтому перевозчики группируются вокруг Орана, в зоне, подконтрольной алжирским джихадистам, и пытаются достичь испанского побережья между Альмерией и Картахеной. Испанское правительство, вновь ставшее социалистическим после смены у власти нескольких партий, встречает их радушно, тем более что почти все они франкофоны и стремятся побыстрее пересечь границу – по Пиренеям пролегают многочисленные тропы во Францию, и на практике их невозможно контролировать; эти массивные мрачные горы служат надежной преградой на пути полномасштабного военного вторжения, но нелегалам всегда удавалось сквозь них просочиться. Единственная опасность для мигрантов исходит не от властей, а от местных дружин, вооруженных бейсбольными битами и ножами, – нередко африканцам, рискнувшим в одиночку выйти из лагеря, перерезали горло или забивали их до смерти, а полиция, как правило, не выказывала особого рвения в поиске преступников, да и испанская пресса почти не освещала подобные происшествия, они, так сказать, уже стали рутиной.
Торпедированную баржу снесло далеко на северо-восток, и она затонула у Балеарских островов, точнее, примерно в тридцати морских милях к востоку от узкого пролива между Ибицей и Форментерой. Ветхие плоскодонные баржи перевозчиков и рядом не стоят с современными контейнеровозами, так что маломощной торпеды, выпущенной с поверхности, более чем достаточно, чтобы их уничтожить, – тут сгодился бы даже обычный гранатомет. От удара баржа раскололась надвое и почти сразу ушла под воду, и большинство пассажиров – цифра пятьсот была лишь приблизительной – погибли в течение нескольких минут.
На видео, выложенном в интернет – снимали наверняка с двух камер, укрепленных на носовой части судна, выпустившего торпеду, одна брала общий план, другая детали, – неторопливо прослеживалось, как тонут человек сто, уцелевших после взрыва. От этих кадров исходило странное впечатление индифферентности операторов. Они не задерживались сверх меры на агонии этих мужчин и женщин – что касается детей, то они почти сразу исчезли из кадра, – но и не пытались умалить значение происходящего. То одному, то другому утопающему удавалось подплыть к судну, с которого шла съемка. Они не то чтобы просили о помощи – никаких криков слышно не было, впрочем, единственным звуком на видео был мерный грохот бьющихся о борт волн, – только безмолвно протягивали к нему руки. Тут раздавалась пулеметная очередь, скорее просто для того, чтобы удержать их на расстоянии, но иногда пуля попадала в человека, решая его судьбу.
Это видео – корабль переплывал от одного тонущего к другому, методично фиксируя агонию каждого из них, пока наконец последний не погрузился под воду, – длилось минут сорок с чем-то, но вряд ли многие интернет-пользователи досмотрели его до конца, кроме разве тех, кому не надоедает наблюдать за гибелью африканских мигрантов.
Поль сразу согласился, что эти кадры и правда потрясут мир, Брюно ничуть не преувеличивал. Он вернулся в спальню, Прюданс вроде бы уже наполовину проснулась, и он в двух словах рассказал ей, что произошло. Она толком даже не отреагировала, у нее только чуть дрогнули веки, потом она снова угнездилась под одеялом и заснула; вероятно, она не расслышала его.
Мартен-Рено приехал в офис к шести утра, ему пришлось обзвонить своих подчиненных и в срочном порядке вызвать их на работу, а также выслушать по телефону упреки министра. Ему, впрочем, нечего было возразить, его службы, надо признать, не добились никакого результата, прошло восемь месяцев после начала расследования, а у них не было ни малейшей зацепки, ни одной достоверной улики; но спецслужбы во всем мире преуспели не больше, это единственное, что он мог сказать в свое оправдание.
Заспанный Дутремон не успел ни причесаться, ни побриться, да и одевался явно наспех, но главное, на этот раз он выглядел совершенно выбитым из колеи. Видео распространилось в интернете с небывалыми ранее агрессией и скоростью, сумев на некоторое время парализовать мировой трафик, и задействовало неизвестные ему ресурсы, это беспрецедентное событие, он не знал, что и думать.
Мартен-Рено считал эту ситуацию непостижимой и с точки зрения общего замысла. В нападении на контейнеровоз логично заподозрить какую-нибудь ультралевую группировку; очень странно, что в их распоряжении оказались такие технические средства, но это еще куда ни шло. Второй теракт, нападение на банк спермы, указывал скорее на католиков-интегристов, то есть с точки зрения логистики – в никуда. Но в данном-то случае кого прикажете подозревать? Возмутится весь мир. Белых супремасистов? Пара-тройка жалких субъектов, которые с трудом способны зашнуровать ботинки, организовали теракт, получивший мировой резонанс, и парализовали интернет почти на четверть часа? Полная чушь.
Пришел Ситбон-Нозьер, как всегда, в безупречном костюме, вот он явно был в отличной форме и выглядел отдохнувшим и свежим; он не разделял пессимизма своих коллег.
– Андерс Беринг Брейвик, норвежский ультраправый убийца, приводит в своем манифесте “2083” обширные цитаты из работ Качинского, – сказал он. – Существует экофашистское движение, рассматривающее род человеческий, а также, впрочем, и другие социальные виды, как совокупность изначально враждующих племен, которые постоянно воюют за контроль над территориями. Этой концепции ранее придерживалась Максимиани Портас, французская интеллектуалка середины двадцатого века. Как и Теодор Качинский, Максимиани Портас получила блестящее математическое образование, в своей докторской диссертации она опирается на труды Готлоба Фреге и Бертрана Рассела. Приняв индуизм, она вышла замуж за брамина и взяла себе имя Савитри Деви, что означает “богиня солнца”. Будучи пылкой поклонницей Гитлера, она в своих текстах предвосхищает также тезисы сторонников глубинной экологии.
Если рассматривать их в контексте экофашистской философии – тут Ситбон-Нозьер воодушевился, – последние два теракта преследовали взаимодополняющие цели: искусственная инсеминация и иммиграция используются современными обществами для компенсации снизившегося суммарного коэффициента рождаемости. Такие продвинутые страны, как Япония и Корея, ориентируются на искусственную инсеминацию, в то время как менее технически развитые страны Западной Европы делают ставку на иммиграцию. В обоих случаях капитализм достигает своей цели – медленного, но верного увеличения численности населения планеты, что позволяет достичь экономического роста и обеспечить приемлемую доходность инвестиций. Единственная альтернатива этому – экофашистская идеология, как у Савитри Деви, или примитивистская, как у Качинского, приверженца концепции антироста, причем их синтез тоже вполне допустим. Эти движения также можно считать родственными нигилизму в том смысле, что они, прежде всего, стремятся к воцарению хаоса, в результате которого, полагают они, возникнет новый мир, обязательно лучше прежнего; нигилистам тоже было необходимо в определенный момент пойти на чудовищные поступки, вызывавшие единодушное осуждение – на убийство детей, например, – для того чтобы отделить истинных борцов от простых попутчиков.
– Честно говоря, я не уверен… – возразил Мартен-Рено, который тоже еще толком не проснулся. Ситбон-Нозьер – специалист по нигилистам, поэтому не удивительно, что нигилисты мерещатся ему повсюду, но он уже и впрямь начинал сомневаться, правильно ли поступил, взяв на работу выпускника Эколь Нормаль. – С интеллектуальной точки зрения это не лишено смысла, – признал он, – но сколько их наберется в мире? Человек десять? Двадцать?
– В данный момент их необязательно должно быть много, – ответил Ситбон-Нозьер. – Благодаря интернету горстка компетентных и решительных людей может добиться впечатляющих результатов. Брейвик действовал в одиночку, а теракт на острове Утойя получил резонанс во всем мире. Сегодня, как никогда прежде, власть зиждется на интеллекте и знаниях, и такие ультраминоритарные идеологии с наибольшей вероятностью привлекут выдающиеся умы. Представьте себе какого-нибудь современного Качинского тридцать лет спустя, который так же хорошо разбирается в информатике, как тот Качинский в математике: он способен сам по себе нанести колоссальный ущерб. Для некоторых терактов, разумеется, необходимо финансирование, но при желании его удается найти. Например, нападение на датский банк спермы сильно навредило всем биотехнологическим фирмам, работающим над репродукцией человека; на каждом конкретном рынке игра на понижение может быть не менее, а иногда и более прибыльной, чем игра на повышение, это классическая финансовая стратегия. Те, кто своевременно продал свои акции этой датской компании, наверняка неплохо заработали, а чужой пример заразителен.
Мартен-Рено бросил на него обеспокоенный взгляд, он уже окончательно проснулся. Биотехнологии – это одно; но для тех, кто играл на понижение внешней торговли Китая, прибыль должна была быть огромной; и ему уже попадались на жизненном пути финансисты, которые, не колеблясь, согласились бы организовать такую операцию. Если его сотрудник прав, то их ждут гораздо более страшные угрозы, чем все, что они до сих пор могли себе вообразить.
– А значит, это обернется, на мой взгляд, – продолжал Ситбон-Нозьер, – тактическим союзом между людьми, у которых есть желание спровоцировать хаос и имеются технические навыки для его достижения, с одной стороны, и теми, кому это выгодно и кто может профинансировать оперативное исполнение. Кроме того, теперь гораздо проще нарушить функционирование системы. Например, транспортировщикам скоро наверняка будет не нужна судовая команда, разве что для захода в порт. При угрозе столкновения экипаж все равно ничего не может сделать, инерция судов слишком велика; спутниковая система наведения более эффективна и куда более экономична, а если используешь такую систему, появляется и возможность ее взломать.
Он замолчал, и они какое-то время поразмышляли над этой перспективой. Мартен-Рено, погруженный в мучительное созерцание футуристического пейзажа из стекла и металла, открывавшегося из панорамного окна, подумал, что его подчиненный прав: средства нападения развиваются гораздо быстрее, чем средства защиты; обеспечить порядок и безопасность в мире станет еще труднее.
К тому моменту, как Поль в семь утра вошел в свой кабинет, Брюно уже успел созвониться с министром внутренних дел, премьер-министром и президентом; они в свою очередь поговорили с зарубежными коллегами. Если коротко, то все склонялись к идее международной траурной церемонии вблизи от места затопления.
– Хорошо хоть, что это в открытом море, обойдемся без их блядских свечек… – с досадой проговорил Брюно; это замечание удивило Поля, которого во времена исламистских терактов тоже воротило от капающих свечей, воздушных шариков, стихов и прочих “Вы не добьетесь от меня ненависти”[48] и т. д. Он считал, что ненавидеть джихадистов вполне законно, равно как и желать, чтобы их поубивали в большом количестве, и, если понадобится, внести свой вклад, короче, жажда мести казалась ему адекватной реакцией. Тогда он еще не знал Брюно, впрочем, Брюно и не был в то время в правительстве, да и впоследствии им не представилось случая поговорить об этом, так что он понятия не имел, что тот тоже терпеть не может эту показушную прекраснодушную хрень.
– В общем, – продолжал Брюно, – они склоняются к тому, чтобы бросить в воду розы, огромные венки из роз, прицепив их к спасательным кругам, это можно сделать с вертолета, президентские службы уже подготовили смету. Туда съедутся главы государств, они рассчитывают человек на сто пятьдесят, ну хотя бы на сотню; соберется вся тяжелая артиллерия: США, Китай, Индия, Россия, плюс папа, само собой, папа счастлив, перезвонил через пять минут, но чтобы разместить всю эту толпу, потребуется авианосец, только авианосец может обеспечить в открытом море достаточно большую плоскую площадку, чтобы телевизионщики получили нужную картинку. И оказывается, что Франция – единственная страна, способная быстро отправить туда авианосец, у нас стоит один на рейде в Тулоне, “Жак Ширак”, и он уже завтра готов быть на месте. Короче, президент повысит свой международный авторитет, и всего-то за неделю до того, как ему придется покинуть свой пост, это правда отличный ход, Солен Синьяль приедет к десяти, я с ней созвонился, она в полном восторге, это в самом деле мощный информационный удар на мировом уровне.
Когда они бросят в воду розы, на платформу авианосца выйдут певцы, их они тоже привезут целую толпу, опять же сотню, по числу государственных деятелей, всех жанров вперемешку: рэп, классика, хард-рок, международное варьете, что касается музыки, они подумывают об оде “К радости”, ну а что, сойдет, Alle Menschen werden Brüder, короче, мы в моменте. Как видишь, они горы свернули с шести утра.
– А что избирательная кампания?
– Ну… – Брюно насмешливо улыбнулся. – Единственное, что я пока понял, сейчас неприлично поднимать эту тему. В общем, Солен не стала распространяться по телефону, сказала: “Главное, молчи, никаких интервью, никаких заявлений, молчи, скоро буду”.
Она действительно появилась через несколько минут, гораздо раньше, чем собиралась, совершенно издерганная, Поль впервые видел ее без ассистента. Однако он тоже пришел сразу после нее, он-то как раз был в порядке, только слегка ослабил узел галстука. В двадцать пять лет легче очухаться, чем в пятьдесят, это понятно. Не пора ли Солен Синьяль передать ему эстафету? – мельком подумал он. Только что она будет делать? Засядет за мемуары, она же знает столько секретов. Нет, ни за что, серьезные пиарщицы никогда на такое не пойдут, они, равно как и пресс-атташе, привыкли держать язык за зубами, этот пост обычно занимают женщины именно потому, что умеют хранить секреты.
– Ну что, мои дорогие… – Она развалилась в кресле, расставив ноги, дала себе волю и вдруг мгновенно превратилась в старуху. – Я созвонилась с Беном, он усвоил инструкции – скорбеть-не-лезть-молчать, все равно за главного там будет президент, а он, сука, знает, что делает. Итак, наша кампания завершена, мы сматываем удочки, ждем воскресенья, и всё. Остальные делают то же самое, мы должны затаиться, никаких митингов, типа национальное единство, президент по ящику, думаю, они эту затею с авианосцем провернут послезавтра, даже Израиль там будет.
– Да, я знаю, о чем вы собираетесь меня спросить… – продолжала она, помолчав. – Впрочем, вам совсем не обязательно меня спрашивать, вы и так все знаете и просто ждете от меня подтверждения. Ну что ж, я подтверждаю: нам, скорее всего, это выгодно, даже наверняка. Конечно, чувачок из “Национального объединения” будет визжать как резаный, он уже развопился сегодня утром на RTL, громогласно выразил свое возмущение и отвращение, я послушала его, по-моему, он вполне хорош, ну правда, он такого не заслужил, но ничего не попишешь, он расплачивается за прошлое своей партии, и толстожопые гуманисты наконец очнутся и встанут стеной у него на пути, он только что потерял десять пунктов. Так что да, мы победили, – сказала она, качая головой с неподдельной грустью, как показалось Полю, у него впервые возникло ощущение, что она говорит искренне. – Я всегда рада победе; это моя работа, я для этого создана. Но, признаюсь вам, я предпочла бы победить другим способом.
8
Прощальная церемония состоялась через день, в среду; все главы государств явились как миленькие, и новостные каналы показали ее в прямом эфире. Как и ожидалось, комментатор разглагольствовал о достоинстве, достоинство последние годы шло на ура, но на этот раз, по общему мнению, президент дал жару – его уровень достоинства зашкаливал. Через несколько минут Поль выключил звук. Когда люди, мнения которых расходятся практически по всем пунктам, собираются вместе, чтобы воздать хвалу какому-то определенному слову, и слово “достоинство” прекрасный тому пример, это означает, что данное слово утратило всякий смысл, подумал Поль. Палуба “Жака Ширака” сверкала на ослепительном солнце; первую линию глав государств операторы медленно снимали с рук, камера следила за ними на отдалении, сохраняя дистанцию, – он узнал президента США и его китайского коллегу, стоящих бок о бок; чуть дальше маячил российский президент. А вот президент Франции стоял в центре, на переднем плане, чтобы попадать во все камеры; с точки зрения пиара это и впрямь оглушительный успех.
Четверг на новостных каналах тоже, скорее всего, будет посвящен терактам, теракты – горячая тема, а новостные каналы могут удержать только одну тему в определенный промежуток времени, это слабое место новостных каналов. В пятницу, за два дня до второго тура, добавят, видимо, немного политики, но это надолго не затянется, в субботу все прекратится, в соответствии с законом. Результат известен, но тем не менее главные комментаторы исполнят свою миссию и проведут воскресный вечер в эфире, переходя из одной студии в другую. Политологи подвергнут тончайшему анализу географическое распределение голосов, уточняя таким образом, но не опровергая давних выкладок Кристофа Гийюи[49]. По ощущениям Поля, работающий механизм демократии издавал звук, подобный легкому урчанию.
Прюданс вернулась в пять с чем-то.
– Значит, мы наконец сможем уехать в отпуск, – сказала она, когда он сообщил ей последние новости.
Ее безразличие к любым политическим и даже историческим событиям не переставало его изумлять, видимо, это результат долгих лет работы в Управлении казначейства, подумал Поль; тогда как его назначение в аппарат министра, а потом и участие Брюно в президентской кампании, напротив, заставили сблизиться с миром медиа, шоу-бизнеса и партийной риторики. Он чуть было не познакомился с лучшими умами и совестью нации; но хотя бы познакомился с теми, кто их знал.
– Можно опять в Бретань или еще куда-нибудь, как хочешь. Это наш последний шанс, по крайней мере в обозримом будущем. Что правда, то правда, перерыв на выборы подходит к концу, уже с понедельника в министерстве все закрутится снова, и начнется аврал.
– В Бретань… – наконец сказал он, – мне хочется обратно в Бретань. – Ему хотелось снова увидеть Прюданс в мини-шортах, затащить ее в спальню, снять с нее мини-шорты и трахнуть ее, может, он даже нуждался в этом, нет, не нуждался, ему именно что хотелось этого, все-таки Эпикур определенно прав в данном вопросе, как и во многих других, сексуальность входит в перечень “естественных, но не необходимых” благ, с точки зрения мужчин во всяком случае, для женщин это скорее сродни потребности, по крайней мере, такое у него сложилось впечатление. Прюданс, надо заметить, явно чувствовала себя гораздо лучше с тех пор, как он трахал ее каждый день, ее движения стали оживленнее, да и лицо вроде бы прояснилось и посвежело, Присцилла, кстати, сказала ей, когда они были в Бретани в прошлый раз: “Ты помолодела на десять лет”.
Бретань подошла бы еще и потому, что у него не было никакого желания открывать для себя новые места, новые пейзажи; он, напротив, чувствовал необходимость поразмыслить, разобраться в своей жизни, подвести своего рода промежуточные итоги. Временная отставка будет, он знал это, уникальным моментом в его жизни, ведь вскоре уже не останется причин продлевать ее, небольшой скандал в прессе, затеянный его невесткой, давно забылся, вот уж правда Орельен умер зря. Да и жил, надо сказать, тоже понапрасну, свидетельств о его пребывании на этой земле наберется немного, он с грустью узнал от Сесиль во время их телефонного разговора, что Мариз собирается вернуться в Бенин, даже не выяснив, будет ли возбуждено в отношении нее дисциплинарное производство. Франция ей порядком опротивела, это понятно; было бы, видимо, некоторым преувеличением сказать, что Франция разбила ей сердце, в ее сердце еще оставались запасы любви, но они, разумеется, уменьшились в объеме.
– Когда мы сможем уехать? – спросил он Прюданс; она озадаченно посмотрела на него, обычно он сам принимал решения такого рода. – Я в отставке… – мягко напомнил он ей; теперь ей придется устанавливать их общее расписание, он совершенно свободен, все дни напролет. И в эту минуту он понял, хотя ему самому было чуждо это чувство, какое унижение испытывал Эрве во время своей затянувшейся безработицы. Брюно – прекрасный министр, он действительно восстановил темпы экономического роста Франции, ее ВВП и торговый баланс, но, возможно, не уделил должного внимания проблеме безработицы, и они чуть не проиграли выборы.
– Завтра, – сказала Прюданс после минутного раздумья. – Уедем в четверг утром и вернемся в воскресенье вечером.
– Мне все же надо проголосовать.
– Да-да. Участки закрываются в восемь, успеешь ты проголосовать, – снисходительно улыбнулась она, словно это было дурацкое ребячество.
Он заглянул к Брюно на следующее утро, из служебной квартиры исчезли гримировальный столик и беговая дорожка, но Раксанэ осталась, она на мгновение появилась из ванной комнаты, обернув вокруг талии полотенце, улыбнулась ему и скрылась в спальне. Брюно уже размышлял о составе будущего правительства, которое он назначит практически сразу после выборов – это надо провернуть как ударную боевую операцию, свистать всех наверх, каждая минута на счету, чтобы оживить экономику Франции, этот пиар-ход не устареет никогда. Сарфати, в общем, нечего было добавить, он на самом деле не знал почти никого из политических деятелей, так что настоящим боссом будет Брюно, это становилось все очевиднее, и он, как всегда вдумчиво, выслушал то, что Поль пришел сказать ему.
– Безработица, значит… – ответил он наконец с протяжным вздохом. – Думаешь, это действительно так важно? Думаешь, “Национальное объединение” набирает очки по этой причине?
– Конечно, есть еще и иммиграция. Но безработица сыграла свою роль, боюсь, что да.
– Наверное, ты прав; и это самая сложная проблема из всех, что мы должны решить. Производительность труда будет продолжать расти в промышленности, другого варианта нет, гонка за производительностью никогда не кончится. У нас есть только один выход – создать в массовом масштабе малоквалифицированные рабочие места в сфере обслуживания, но не те, которые уже существуют, на домработниц и репетиторов рассчитывать нельзя, они навсегда останутся в области теневой экономики. Надо создавать их в госучреждениях и предоставлять огромные налоговые льготы тем предприятиям, которые их создадут. Нам нужны курьеры, ремонтники, ремесленники, люди, которые действительно помогают, чинят, отвечают на звонки; параллельно с этим необходимо притормозить роботизацию и уберизацию; это практически иная модель общества. Так и надо сделать, и если мы раскошелимся, то, по идее, снизим безработицу, но на это потребуется куча денег. Эти суммы нужно сэкономить в другой области, мы не можем избежать бюджетной ортодоксальности, не мне тебя учить, ты десять лет просидел в Управлении по бюджету. Нам придется радикально сократить некоторые расходы.
– У тебя есть идеи?
– У Министерства образования самый большой бюджет, это ясно, у нас слишком много учителей. Только это будет нелегко…
Да, нелегко, но он явно счастлив, что вернулся к работе, к своему привычному образу жизни; к тому же теперь ему ничто не мешает развестись, а это немаловажно. Поль, со своей стороны, в принципе обрадовался возможности взять долгую паузу, во всяком случае, так он думал до сих пор. Они немного помолчали, и его вдруг охватила ужасная печаль при мысли о том, что через несколько минут он выйдет из этой комнаты, пройдет по коридорам министерства в обратном направлении, пересечет парадный двор и выйдет. А ведь он не был так уж счастлив в этих стенах, по крайней мере до знакомства с Брюно, но вопрос не в том, счастлив ли человек в том или ином месте или нет, не поэтому перспектива покинуть его отзывается такой болью, причиной тому сам факт ухода, расставания с какой-то частью своей жизни, когда видишь, как она ухает в небытие – какой бы скучной или даже неприятной она ни была; иными словами, старение, в нем все дело. Он собрался уходить, и его пронзило дурацкое ощущение, что он прощается навсегда, что, так или иначе, он больше никогда не увидит Брюно, что какой-то непредвиденный элемент в конфигурации вещей этому помешает.
– В экономике у нас же хорошая ситуация, у тебя есть пространство для маневра? – добавил он без какой-либо конкретной причины, главным образом, чтобы продлить разговор, и почувствовал, как на него наваливается невероятная, невыразимая усталость.
– О да, ситуация отличная, – ответил Брюно не слишком радостно, – лучше не бывает. Нельзя так говорить, но теракты, вообще-то, сыграли нам на руку. После первого экспорт из азиатских стран резко упал, конечно, и наш торговый баланс восстановился. Второй нас не затронул, Франция отсутствует на рынке репродуктивных технологий. А третий, как ни чудовищно это звучит, нанес сдерживающий удар по иммиграции, и, с электоральной точки зрения, нам это только на руку. В экономическом плане я не уверен, что это хорошая новость, в общем, это сложные расчеты, они зависят от множества факторов, в первую очередь от демографических показателей и уровня безработицы, но с электоральной точки зрения это отлично.
– Ты действительно считаешь, что это отпугнет мигрантов?
– Ну да. Я знаю, все говорят: “Они такие несчастные, что готовы пойти на любой риск”. И так далее. Это неправда. Прежде всего, они не такие уж несчастные, эмигрировать в Европу пытаются, как правило, полубогатые дипломированные специалисты, представители средних классов у себя на родине. И потом, они не готовы пойти на любой риск, они эти риски просчитывают. Они все прекрасно поняли про то, как мы функционируем, про наше чувство вины, остаточное христианство и прочее. Они знают, что их может подобрать гуманитарное судно, а потом уж какая-нибудь европейская страна обязательно позволит им высадиться. Они идут на большой риск, да, безусловно, лодки, которые они используют, как правило, в ужасном состоянии, часто тонут; но на любой риск они не готовы пойти. И теперь им придется ввести новый элемент в свои расчеты.
– Насилие эффективно, ты это хочешь сказать?
– Да, насилие – движущая сила истории, тоже мне новость, и сегодня это так же верно, как и во времена Гегеля. Вопрос – эффективно для чего? Мы так и не знаем, чего хотят эти люди. Разрушение ради разрушения? Спровоцировать катаклизм? Помнишь одно из первых видео, на котором мне отрубали голову?
– Прекрасно помню, да. Мы тогда и заинтересовались их посланиями.
– В этой постановке было что-то безумное, леденящее кровь. Я почувствовал, что мне противостоит сумасшедший, и его необузданность меня потрясла. Ну и кроме того, конечно, не очень приятно ощущать такую ненависть к себе.
– Это, по крайней мере, уже позади. Теперь тебя любят, я полагаю, ты заметил. То, что раньше принимали за холодность, стало вдумчивостью, отстраненность – широтой взглядов, безразличие – уравновешенностью… Ты в данный момент популярнее Сарфати.
Брюно кивнул, но никак не прокомментировал его слова, потому что колебания общественного мнения осмысленно не прокомментируешь. Но пока рано радоваться, он это знал; свободная циркуляция информации вносит дополнительную энтропию в функционирование иерархических систем управления и в конечном итоге разрушает их. Пока что он не допустил ни одной ошибки: он в итоге отказался от фотосессий в доме своего отца в Уазе и ни разу не засветился на страницах “Пари Матч”; в прессу ничего не просочилось ни о его отношениях с женой, ни о существовании Раксанэ. История с похищением отца Поля, не баловавшая ни вожделенными растратами, ни сладкими скабрезными подробностями и в целом скупая на зрелищные ингредиенты, если не считать парочки католиков-фундаменталистов, “на которых уже ни у кого не стоит”, по выражению Солен Синьяль, быстро сдулась.
Уже завтра президент произнесет несколько сочувственных и проникновенных слов, возможно даже поэтических и эффектных, о европейской мечте и о разочарованиях, о Средиземноморье, где южные ветры развеяли пепел раскаяния и стыда; еще через несколько дней состоится второй тур. Президент тихо улизнет, зная, что как нельзя лучше подготовил почву для возвращения; передача полномочий пройдет в теплой, даже дружественной обстановке. Затем снова начнется настоящая работа. Поль прав, подумал Брюно, надо вернуть переменную безработицы на первый план в расчетах, он слишком долго пренебрегал ею. Уравнение и без того сложное, станет еще сложнее, но такая перспектива его отнюдь не смущала.
9
Было уже около восьми, и Дутремон собирался уходить с работы, когда ему позвонил Делано Дюран. У него есть кое-что, объявил он, и ему хотелось бы это показать. Да, можно и завтра; ему понадобится зал с проектором.
Дутремон оставил сообщение Мартену-Рено, и они встретились на следующий день в девять утра в маленьком зале совещаний, примыкающем к офису. Когда Дюран вошел, опоздав на пять минут, Дутремона чуть не стошнило, его внешний вид ничуть не улучшился: спортивный костюм был таким же грязным, волосы такими же длинными и сальными.
– Делано Дюран, наш новый сотрудник, я недавно взял его на работу… – сказал он Мартену-Рено извиняющимся тоном.
– Какое любопытное имя, ваши родители были поклонниками Рузвельта? – Мартена-Рено, судя по всему, отнюдь не шокировала непрезентабельность его подчиненного.
– Да, отец считал его величайшим политическим деятелем двадцатого века, – ответил Дюран и кинул перед собой на стол тонкую папочку. Вынув из нее один лист, он положил его на лоток и включил проектор; появилось изображение Бафомета, обнаруженное в бумагах Эдуара Резона в клинике Бельвиля. – На лбу Бафомета, – начал он, – мы видим звездчатый пятиугольник, или пентаграмму. Как я уже объяснял вам в прошлый раз, – он быстро обернулся на Дутремона, – переход от обычного пятиугольника из интернет-сообщений к звездчатому символизирует переход от стадии профана к стадии посвященного. – Он вынул Бафомета из проектора и заменил его картой Европы с тремя точками, отмеченными красным цветом. – А здесь мы имеем географическое положение трех терактов, которым сопутствовали сообщения в интернете: это китайский контейнеровоз у берегов Ла-Коруньи, датский банк спермы в Орхусе и лодка с мигрантами между Ибицей и Форментерой. Первое, что бросается в глаза, – эти три точки можно соединить окружностью. – Он вывел на экран проекцию второго листа, с нарисованным кругом.
– Разве это не всегда так? – спросил Мартен-Рено. Дюран посмотрел на него в изумлении, ошеломленный таким невежеством. – Нет, разумеется, нет, – сказал он наконец. – Через любые две точки всегда можно провести окружность, но это, как правило, не относится к совокупности трех точек: лишь незначительное их число может располагаться на одной и той же окружности с определенным центром.
– Вы не отметили центр на своей схеме… – заметил Мартен-Рено.
– Нет, не отметил. – Он бросил взгляд на карту. – В нашем случае центр находится во Франции, в Эндре или в Шере, иными словами, более или менее совпадает с географическом центром страны. Странная история… – Вид у него был обескураженный, но он сумел справиться с собой. – Ну, с центром мы, может быть, разберемся попозже, пока что я хочу поговорить о другом. – Он достал очередной лист. – Три точки, соответствующие трем терактам, образуют, разумеется, треугольник; но смысл в том, что это не абы какой треугольник, а золотой, то есть равнобедренный, соотношение сторон которого составляет золотую пропорцию, а такой треугольник – это половина пентаграммы.
Он вывел на экран следующий лист.
– Чтобы получить пентаграмму, я отмечу две новые точки, симметричные предыдущим. Но мы имеем дело не с прямой пентаграммой острием вверх, как та, что фигурирует на лбу Бафомета; у нас тут, напротив, перевернутая пентаграмма, острием вниз. Для большинства оккультистов переход от прямой пентаграммы к перевернутой символизирует победу материи над духом, хаоса над порядком и, говоря шире, – победу сил зла над силами добра.
Жестом фокусника он достал последний лист.
– Если я обведу пентаграмму окружностью, она превратится в пентакль, который, в свою очередь, символизирует переход от теории к практике, от знания к силе; надо заметить, что пентакль – самый мощный магический инструмент не только в белой, но и в черной магии.
Он неожиданно замолчал. Наступила тишина, и прошло не меньше минуты, прежде чем послышался голос Мартена-Рено.
– Если я правильно вас понимаю… – сказал он, глядя Делано Дюрану прямо в глаза, – две новые точки, которые вы нанесли на карту…
– Первая находится на северо-западе Ирландии, в графстве Донегол, насколько я помню. Вторая – в Хорватии, где-то между Сплитом и Дубровником.

© Michel Houellebecq
– Эти точки, по идее, должны обозначать места следующих двух терактов.
– Да, это было бы логично.
Мартен-Рено вскочил.
– Так, это я забираю! – воскликнул он, выдернув лист из проектора.
– Подождите, шеф, подождите. – Дюран успокаивающе поднял руку. – Это всего лишь приблизительная схема, чтобы объяснить вам, что к чему. Разумеется, я вычислил точные географические координаты новых точек; это, правда, пара пустяков, учитывая, что у меня есть координаты предыдущих терактов. – Он порылся в папке под горящим от нетерпения взглядом Мартена-Рено. – Вот! – наконец весело воскликнул он, доставая бумажку, испещренную математическими вычислениями. – Вот они, ваши координаты. Первая точка – это действительно Донегол, где-то между Гортахорком и Данфанахи. Вторая расположена у берегов Хорватии; может быть, на острове – там, кажется, полно островов.
– В девять часов, – отрезал Мартен-Рено, вырвав у него листок. – Увидимся завтра утром в девять, в моем кабинете. Мне надо сделать несколько звонков, довольно много звонков на самом деле.
Дутремон появился на следующий день ровно в девять. Мартен-Рено уже сидел у себя с Ситбон-Нозьером, одетым, как всегда, с иголочки. Делано Дюран, по обыкновению расхристанный, явился на десять минут позже, но Мартен-Рено не сделал ему ни единого замечания; более того, когда тот развалился в кресле перед его столом, он посмотрел на него с каким-то даже почтительным изумлением.
– У нас есть новости, – без предисловий начал он. – Это важные, существенные данные. Нам пришлось попотеть, наших приятелей из АНБ уломать не просто, но я приготовил заначку для торга, им не терпелось заполучить кое-какую информацию. И все благодаря вам, Дюран, – добавил он. Тот коротко кивнул. – Первые координаты в Ирландии – они в итоге раскололись – соответствуют местоположению штаб-квартиры “Нейтрино”, это компания высоких технологий, мировой лидер в области нейросетей. – Он медленно обвел взглядом своих сотрудников, все они сидели открыв рот, все, кроме Делано Дюрана, который снова кивнул, к величайшему изумлению Мартена-Рено. Он что, и в нейросетях разбирается? Откуда он такой взялся вообще? – Я не совсем понял, – продолжал он, – вживляют ли они человеческие нейроны в электронные схемы или микрочипы в мозг человека; думаю, и так, и так, их главная цель – создание гибридных существ, чего-то среднего между компьютером и человеком. Компания располагает огромными средствами, Apple и Google внесли вклад в ее капитал. Кроме того, она значится секретным оборонным предприятием, мне кажется, они связаны с военной промышленностью и разрабатывают новый тип солдата, который с успехом заменит человека, поскольку ему будет чужда эмпатия, равно как и всякого рода угрызения совести. Компания находится в Донеголе, одном из самых пустынных регионов Ирландии; сотрудников размещают в жилом комплексе вдали от окрестных деревень, и они сидят там безвылазно, и еще у них есть свой аэродром, короче, это действительно весьма неприметная компания. А самое интересное, их штаб-квартира три дня назад сгорела дотла в результате умышленного поджога. Прототипы, чертежи, цифровые данные – все уничтожено. Пожар вспыхнул среди ночи, их закидали напалмом и белым фосфором – те же горючие материалы были использованы при нападении на датский банк спермы. То есть снова боевые вещества; разница лишь в том, что на этот раз они не приняли нужных мер предосторожности, и три человека из ночной смены погибли. АНБ удалось избежать утечек в прессе, поэтому, когда я назвал им точные географические координаты, они, естественно, обомлели и согласились сотрудничать. Что касается второй точки, – продолжил он после паузы, – то тут из них было еще труднее вытащить хоть какую-то информацию. Речь действительно идет о хорватском острове, вернее, островке, неподалеку от Хвара. Он принадлежит американцу, который купил его лет десять назад, чтобы построить там себе летнюю резиденцию. Они в итоге назвали мне фамилию этого типа; оказывается, он чуть ли не легендарная личность в Силиконовой долине. Он не вполне технарь, ну, то есть, будучи докой в технических вопросах, он скорее все же инвестор. Инвестирует он исключительно в высокотехнологические компании и славится своим незаурядным чутьем: всякий раз, когда он вкладывается в какой-нибудь в стартап, тот в разы увеличивает свой капитал в течение нескольких лет. Так что, понятное дело, он очень богат, а главное, он стал своего рода гуру в области новых технологий, его мнения побаиваются и относятся к нему с большим уважением. Иногда ему приписывают политические амбиции; не знаю, так ли это, но мои собеседники из АНБ, похоже, стараются его оберегать, эта история дошла до министра обороны и, я думаю, даже до президента, после чего они все-таки поделились информацией. Каждое лето он организует на своем острове недельный семинар, на который приглашает человек пятьдесят мировых лидеров цифровых технологий; сплошь высокое начальство, не ниже директора или технического директора. Семинар проходит в неформальной обстановке, у них нет ни лекций, ни точной программы, он просто дает людям возможность встретиться и поговорить, на что в течение года у них не хватает времени. На этих встречах принимается много важных решений, даже компании создаются – в частности, “Нейтрино”, о которой я упомянул. Следующий сбор объявлен в начале июля, через месяц с чем-то. Логично предположить, что теракт должен произойти именно тогда; эта мысль и возникла в первую очередь у моих собеседников из АНБ.
– И что они собираются предпринять? – спросил Дутремон.
– Ну, разумеется, они попытаются задержать этих людей в тот момент, когда они будут готовить теракт; я вовсе не уверен, что им это удастся. Учитывая характер этого дела, оно будет передано в ЦРУ; они поднаторели в операциях, требующих применения грубой силы, но им часто недостает проницательности; кроме того, до сих пор террористы действовали очень ловко. На этот раз мы хотя бы не дали им развернуться; мы сейчас на шаг впереди. Конечно, они спросили, как мы к этому пришли. Я попытался объяснить им историю с пентаграммой, но сомневаюсь, что они все поняли; я сам не уверен, что понял. Не важно, главное, что успехом мы обязаны вам, Дюран.
Он повернулся к нему. Делано Дюран кивнул, немного смутившись.
– И еще вашему бывшему коллеге, ну, тому, что лежит в больнице… – запротестовал он. – Главная трудность заключалась в том, чтобы увидеть связь между правильным пятиугольником и звездчатым; все остальное, в общем, уже логически из этого вытекает.
– Их цели вполне сообразуются с устремлениями активистов-технофобов… – заметил Ситбон-Нозьер после минутного молчания.
– Да, именно так, – сказал Мартен-Рено, – это полностью подтверждает ваш анализ. Даже подумать страшно, что какие-то никому не известные активисты спланировали столь масштабную операцию; но, боюсь, только такой вывод и напрашивается. А вот это желание вписаться в магическую традицию не очень на них похоже; возможно, это как-то связано с идеями анархо-примитивистов. Как бы то ни было, – обреченно продолжал он, – я уже давно перестал искать рациональное зерно в поведении человека; для работы нам это не требуется, достаточно выявить структуры, а в нашем случае, – он снова повернулся к Делано Дюрану и посмотрел ему прямо в глаза, – вам определенно удалось выявить некую структуру. То есть вы спасли жизнь мировым лидерам в области новых технологий; не уверен, честно говоря, хорошо ли это, но вы это сделали.
10
В 19.15 Поль припарковался в неположенном месте, зато рядом с избирательным участком.
– Ты уверена? Не хочешь проголосовать? – не отставал он.
Прюданс равнодушно пожала плечами; он оставил ей ключи от машины.
Он взял два бюллетеня со столика у входа; там было еще полно народу, перед кабинками для голосования стояла очередь; многие парижане, должно быть, уезжали на выходные и только вернулись. Когда одна кабинка освободилась, он задернул за собой штору, держа наготове в правой руке бумажку с именем Сарфати; но в то мгновение, когда он собрался вложить ее в конверт, его внезапно охватило странное, парализующее ощущение, и он так и застыл с поднятой рукой. Через несколько секунд он понял, что вступил в зону неподвижности, своего рода психологический эквивалент стазиса, с ним это иногда, не очень часто к счастью, случалось, с тех пор как он вышел из подросткового возраста. В течение последующих минут, а возможно и часов, он будет не в состоянии принять какое-либо решение, совершить какое-либо действие, выходящее хоть немного за рамки повседневной рутины. Ждать, пока это пройдет, он не мог, за ним уже образовалась очередь, поколебаться пару секунд еще куда ни шло, но не более того. Он рефлекторно достал из кармана фломастер, вычеркнул фамилию Сарфати и сунул бюллетень в конверт.
К урнам тоже стояла очередь. Поль встал в ее конце, но тут понял, что, честно говоря, ему не так уж и хочется принимать участие в голосовании – да и какой смысл пополнять число испорченных бюллетеней. Он вышел из очереди, скомкал конверт, выбросил его в мусорный ящик, после чего покинул избирательный участок.
– Все нормально? – спросила Прюданс, когда он сел за руль. Он кивнул, предпочитая не распространяться. Впервые после своего совершеннолетия он не смог проголосовать. Возможно, это знак; но знак чего?
Было уже полвосьмого, он еле успевал доехать до площади Республики. Бенжамен Сарфати планировал выступить там с короткой речью в самом начале девятого, после чего в арендованном партией большом зале на бульваре Тампль состоится торжественный прием. О приеме они объявили заблаговременно, без тени сомнений относительно итогов голосования, что некоторые комментаторы сочли некоторой наглостью.
Как ни странно, ВИП-парковка находилась на бульваре Мажента, на противоположной стороне площади, и Полю потребовалось довольно много времени, чтобы туда добраться; площадь Республики всегда казалась ему непомерно большой. Какой смысл в таких больших площадях? – думал он; чтобы видеть издалека воздвигнутую в центре пафосную статую – это единственный возможный ответ; республиканский китч, несомненно, худший из всех. В восемь часов, хотя его сомнения в концепции республики продолжали расти, он включил авторадио: Сарфати набирал 54,2 %, его оппонент – 45,8 %. Это была бесспорная победа, не такая оглушительная, как они надеялись, но тем не менее бесспорная.
Площадь была запружена людьми, но эта толпа, в которой преобладали молодые люди в ярко выраженном прикиде парижских пригородов, сильно отличалась от той, что собралась на предыдущих выборах. Тут Поль вспомнил, что Сарфати получил кучу голосов в округах, которые по-прежнему деликатно именовались проблемными зонами. В Клиши и Монфермейе он набрал аж 85, а то и 90 процентов. Судя по всему, сегодня вечером в Париж съехались все отморозки, в таких количествах их можно наблюдать разве что на матчах чемпионата мира по футболу. Они уже начинали передавать друг другу косяки и банки “Баварии” и “Амстердамера”. Пробираясь сквозь толпу, Поль отметил, что Сарфати называют не иначе как “Большой Бен” и что его избрание, по всеобщему мнению, просто “отвал башки”. Пока что они, похоже, пребывали в хорошем настроении, но все же он испытал облегчение, когда, дойдя до бульвара Тампль, вручил охраннику свое приглашение. Внутри тусовались сплошные ВИПы, за пару минут он узнал большую часть французских актеров и телеведущих. А вот присутствие Мартена-Рено его удивило: положив локти на длиннющую барную стойку, он стоял в полном одиночестве перед стаканом виски на противоположном ее конце. Поль подошел поздороваться и сказал, что не ожидал его тут увидеть.
– Да, знаю, я теневая фигура… – усмехнулся он. И похвастался недавним успехом их служб: через несколько часов после министра внутренних дел ему позвонил сам президент, чтобы поздравить его и пригласить на эту вечеринку.
– Так, по-вашему, теракты закончились?
– Конечно нет. – Мартен-Рено покачал головой. – Более того, я уверен в обратном; через два дня после нашей телефонной конференции с американскими спецслужбами появилось новое сообщение. На этот раз не такое громогласное, его выложили только на десятке серверов, причем исключительно французских. И оно совсем краткое на этот раз, в нем всего три строки; к нему прицеплена аэрофотосъемка наших помещений на улице Бастиона. Оно адресовано нам напрямую, то есть они типа бросают нам вызов, намекают, что они знают, что мы знаем. Но все же, я думаю, мы их выбили из колеи; их явно интересует, насколько хорошо мы информированы. – Он замолчал и сделал глоток виски. – То есть они на этом не остановятся, просто изменят modus operandi, усилят меры предосторожности. Игра только началась; и я не уверен, что мне суждено увидеть ее финал.
В глубине зала засветился огромный монитор; он предназначался, главным образом, для трансляции речи Сарфати. Поль с удивлением отметил, что гости в большинстве своем совершенно этим не заинтересовались, многие продолжали разговаривать, не обращая на экран никакого внимания. Он также отметил, что вокруг площади Республики собрались значительные силы полиции. В этом, конечно, был свой смысл, учитывая контингент собравшихся; если вечер закончится грабежом и поджогами автомобилей, это будет первым звоночком для буржуазии Нейи-сюр-Сен, массово проголосовавшей за нового президента, это, кстати, один из главных выводов, который наблюдатели сделают уже на следующий день после выборов; ось Монфермей-Нейи – это и правда что-то новенькое.
А вот появление Брюно, напротив, не прошло незамеченным, разговоры внезапно смолкли, постепенно сменившись ропотом и перешептываниями, все присутствующие, вероятно, поняли, что он станет важной персоной в новом правительстве. Поль никогда не видел Раксанэ в вечернем платье; она выглядела потрясающе, ее серебряное колье казалось прямо-таки варварски роскошным. По залу бродили журналисты и фотографы, но Брюно явно решил не тушеваться.
Через несколько минут появились рука об руку Сарфати и действующий президент. Они на минутку застыли в дверях, чтобы насладиться аплодисментами собравшихся и сфотографироваться вместе, затем президент отпустил руку Сарфати и растворился в толпе, пробиваясь к человеку, в котором Поль не без труда узнал министра внутренних дел. Сияющий от радости Сарфати подождал, пока фотографы и операторы с ним закончат, и направился к бару. В эту минуту Поль заметил Солен Синьяль. Уединившись в углу зала, она завороженно наблюдала, как президент переходит от одного гостя к другому, кладет каждому руку на плечо, чтобы завладеть его вниманием, и посвящает лично ему пару минут, всем своим видом показывая, что ему интересен только он и только ради него он сюда и пришел. Какое он все-таки великолепное политическое животное, думала она с искренним сожалением. Он никогда не обращался ни к специалистам по семиотике коммуникации, ни даже к спин-доктору, с самого начала своего головокружительного взлета ему удавалось справляться самостоятельно. Она мельком поздоровалась с Полем, не теряя из виду президента, который как раз заметил в зале Мартена-Рено.
– А это кто такой, я его не знаю? – удивилась она вслух. В кои-то веки Поль знал что-то, чего не знала она, и он рассказал ей про недавние достижения ГУВБ. Для президента это непредвиденная удача, тут же заключила она; он добился бесспорных успехов в экономике, но в плане безопасности ситуация оставляет желать лучшего. У него еще есть несколько дней, чтобы воспользоваться этой информацией – завтра она неминуемо попадет во все ведущие медиа, и он упомянет об этом в своей прощальной речи в среду. У него довольно высокие шансы на переизбрание через пять лет, особенно если Сарфати совершит какие-нибудь ошибки, а ему их не избежать, сокрушенно прибавила она. Ей лично не в чем себя упрекнуть, она выполнила свою часть работы, и даже перевыполнила: когда, лет десять назад, она согласилась взять Бенжамена Сарфати в качестве клиента, сделать из него президента Республики было задачей не из легких; она единственная из пяти человек, составлявших тогда ее команду, верила в победу.
Они направились к бару. Солен налила себе бокал белого, Поль попросил еще шампанского. Его обслужили не сразу, у стойки толклись приятели Сарфати, разобрав почти все бутылки. Они что-то орали и громко смеялись, большинство уже лыка не вязали, в ход пошли травка и кокс. Сарфати удавалось держать их на отдалении во время избирательной кампании, но после победы они вернулись, а как иначе, они все из телевизионной тусовки, а некоторые не расставались с ним с самых первых его передач. Теперь они наводнят Елисейский дворец и в течение всего пятилетнего мандата будут устраивать там вечеринки и блевать на диваны из фонда национального достояния. Малоприятная перспектива, особенно для обслуживающего персонала президентского дворца, но, в конце концов, и это можно пережить. Президент прав: Сарфати не представляет для него ни малейшей опасности. Теперь уже практически не остается сомнений, что в следующий раз президентская баталия разыграется между ним и Брюно; главной интригой следующего президентского срока станет тайная дистанционная война между ними. Солен Синьяль покачала головой, все это она предвидела. Она не собиралась пока предлагать свои услуги Брюно, еще не время. А он сам-то как, что с отставкой? – спросила она. Какая-то она была сегодня странная, чуть ли не мечтательная, и впервые на его памяти заинтересовалась чем-то посторонним, не имеющим отношения к ее профессиональной деятельности. Ну, он хоть сейчас может приступить к работе, в контексте текущих событий никто не обратит на это внимания; только какой смысл, лучше подождать, пока пройдут парламентские выборы, потом летние отпуска, он, пожалуй, вернется во второй половине августа, когда начнется какое-то оживление. В предыдущие пять лет у Брюно не было полной свободы действий, ему приходилось считаться с высокопоставленными чиновниками в Берси, разными протеже президента, учитывая, что он сам в прошлом инспектор финансов. С Сарфати таких проблем не возникнет.
Солен Синьяль кивнула, она внимательно слушала его. Вероятно, он прав, наверняка произойдут какие-то драмы малой амплитуды, наметятся линии разлома, но пройдет два или три года, прежде чем позиции президента начнут сдвигаться, и эти изменения станут заметны. Парламентские выборы уже давно не ее уровень; она вправе позволить себе полноценный отдых в течение следующих нескольких недель, попробовать переустроить свою жизнь, задуматься хоть о какой-нибудь личной жизни, но в этом она никому не признавалась, самой себе тоже.
Вскоре Поль ушел, даже не попрощавшись с Брюно, вокруг которого весь вечер толпился народ. Приятели Сарфати орали все громче, у него снова заныла десна, во рту появился неприятный привкус, надо прямо завтра утром записаться к зубному. Результат выборов – хорошая новость для страны, он в этом не сомневался; во всяком случае, для него это точно хорошая новость, и все же с той минуты, как его охватило странное оцепенение, когда он собирался проголосовать, он не мог отделаться от чувства неуверенности и печали.
Шесть

© Michel Houellebecq
1
На первый прием к стоматологу, вообще врачу или, возьмем шире, к любому поставщику услуг, записываешься почти всегда по чьей-то рекомендации, родственника или друга; но так получилось, что Поль не знал никого, кто мог бы порекомендовать ему стоматолога в Париже. А тот факт, что он не знал никого, кто мог бы порекомендовать ему стоматолога в Париже, означал, что он вообще мало кого знал. Все-таки его жизнь могла быть немного поживее, подумал он в приступе саможаления и сразу стал себе противен. У него была Прюданс, но, если не считать Брюно и Сесиль – раз-два и обчелся, – он жил с Прюданс словно на необитаемом острове посреди океана пустоты.
Если задуматься, в этом вакууме, лишенном человеческих связей, он пребывал всегда. Так было в университете и даже в школьные годы, которые обычно способствуют установлению человеческих отношений. И лишь сексуальное желание иногда, очень редко, обладало достаточной силой, чтобы снести эту стену. Мы всегда общаемся более или менее в рамках своей возрастной группы; люди, принадлежащие к другой возрастной группе, не связанные с нами прямыми родственными узами, то есть миллиарды человеческих особей, населяющих вместе с нами эту планету, для нас не существуют. Чем старше становился Поль, тем реже по естественным причинам случались у него сексуальные контакты и тем отчаяннее становилось его одиночество.
Пока что у него болели зубы, болели все сильнее и сильнее, особенно с левой стороны, он уже с трудом мог пошевелить языком, надо было срочно что-то с этим делать. На сайте Doctolib тут же открылся длинный список дантистов, консультирующих в 12-м округе. Многие из них, судя по фамилиям, евреи – так подтверждается очередной стереотип, мелькнула у него мысль. Впрочем, выбрал он Башара Аль-Назри, видимо, арабского происхождения. У него не было никаких причин выбирать именно его, просто из дому ему удобнее добираться до улицы Шарантон – всего-то пройдя мимо церкви Рождества Богоматери в Берси, повернуть на улицу Прудона, это даже не улица, скорее туннель под железнодорожными путями, идущими от Лионского вокзала, наверняка он не раз, даже не подозревая об этом, проезжал над этой улицей на скоростном поезде; из туннеля он попадал сразу на улицу Шарантон, в двух шагах от станции метро “Дюгомье”. Он обрадовался неожиданно выпавшей ему возможности снова посмотреть на церковь Рождества Богоматери в Берси; ему казалось, что он в своей жизни что-то недовыяснил с этой церковью – и, видимо, с христианством в целом.
– Откройте рот… Пошире, – терпеливо повторял Аль-Назри, когда он сел, а вернее, лег в кресло.
Аль-Назри, молодой человек лет, скажем, тридцати, с коротко стриженными черными волосами, был не похож на североафриканца, скорее на сирийца или иракца, во всяком случае, ничто в нем не выдавало исламиста и вообще мусульманина, он производил в целом очень приятное впечатление серьезного профессионала, в совершенстве владеющего современными медицинскими методиками и манипуляциями. Некоторые иммигранты во Франции еще пока добиваются успеха, подумал Поль, хотя теперь это большая редкость, очевидно, Аль-Назри один из них. Он с озабоченным видом исследовал ему рот металлическим зондом. С правой стороны еще куда ни шло, но слева Поль почувствовал ужасную стреляющую боль, стоило тонкому стержню прикоснутся к больному зубу, и не смог сдержать крика.
– Да… – он тут же вынул зонд, – вам следовало бы обратиться к врачу несколько месяцев назад, полагаю, вы это сами понимаете. Теперь удаления нам не избежать. В утешение скажу вам, что наличие четырех зубов мудрости – исключительное явление в вашем возрасте, так что с оставшимися двумя вы окажетесь, так сказать, в пределах нормы. Вы говорили еще, что вам больно двигать языком и во рту появляется иногда неприятный привкус?
– Да, привкус гнили, он держится недолго, но это очень противно.
Он надел латексные перчатки и с предельной осторожностью провел пальцами по челюсти Поля.
– Тут у вас небольшое уплотнение, не замечали? Обычно люди замечают уплотнение. Ладно, давайте уж заодно сделаем рентген.
Сделав рентген, он поднял кресло, тщательно изучил снимок на подсвеченном экране и сказал:
– Два зуба придется удалить, это точно. Кроме того, я дам вам координаты ЛОРа, на всякий случай. Мы можем их вырвать прямо сейчас?
– Да, конечно, очень хорошо, я и не надеялся, что все получится так быстро.
– Вот увидите, это совсем не больно, и вам сразу станет лучше.
И правда, все прошло быстро и безболезненно, анестезия отлично подействовала, и у него сразу появилось ощущение легкости и комфорта во рту, которого он не испытывал уже многие годы.
– Ну вот, – сказал Аль-Назри, – зря вы так затянули. Вы курите, я полагаю? – Он кивнул. – Надо регулярно делать чистку зубов, по крайней мере раз в полгода. И не забудьте записаться на прием к Наккашу, ЛОРу, я вам написал его координаты. Мы не уделяем достаточного внимания зубам, принято считать, что это не самое важное, но иногда могут возникнуть серьезные осложнения.
Поль кивнул, пытаясь изобразить на лице требуемую озабоченность в надежде, что таким образом убедит его, что внял предупреждению, что он не из тех, кто считает дантистов врачами второго сорта, но тем не менее на улицу Шарантон он вышел скорее в радостном и беспечном настроении и тут же позвонил Прюданс, сообщить, что только от зубного и что все в порядке. Но главное, он рассчитывал, когда звонил ей, что она его похвалит, ведь он наконец занялся своими зубами, а роль женщины традиционно заключается в том, чтобы поощрять мужчин следить за собой, в частности за своим здоровьем, и в целом приобщать их к жизни, поскольку в дружеские отношения мужчин с жизнью в лучшем случае верится с трудом.
Он не был в церкви Рождества Богоматери в Берси с начала января. Он помнил, что зашел туда на следующий день после того, как обнаружил наряженную Прюданс рождественскую елку и впервые допустил мысль, сам еще толком для себя ее не сформулировав, почти бессознательно, что однажды между ними может еще что-то снова произойти. Не исключено, что как раз в этой невнятной надежде он тогда и зажег свечи – все же прелюбопытный поступок, учитывая, что он атеист или, пожалуй, агностик, но его принципиальный атеизм неустойчив, ибо не подкреплен никакой состоятельной онтологией. Материален ли мир? Есть такая гипотеза, но, насколько ему известно, мир с таким же успехом может состоять из духовных сущностей, он уже забыл, что именно подразумевает наука под “материей”, и вообще употребляется ли все еще этот термин, что-то не похоже, теперь, если ему не изменяет память, оперируют скорее матрицами вероятностей наличия, но все это он изучал очень давно и, по правде говоря, недалеко продвинулся, да и его бакалавриат по точным наукам этой темы особо не касался, ну и уж конечно, не в Институте политических исследований он смог бы узнать о чем-то подобном. Ему пришел на ум отрывок из Паскаля, кстати, довольно-таки нехристианский отрывок, в котором автор сокрушается, что в вопросе о существовании творца природа не предлагает ему ничего, “что не вызывало бы сомнений и тревоги”[50].
Вероятно, Прюданс предается в этот час викканским заклинаниям, очень может быть. По их календарю приближается саббат Лита, соответствующий летнему солнцестоянию, а это время, “особенно благоприятное для целительства и любовной магии”, – прочитал он накануне. Существуют ли вообще другие виды магии? Будь то африканские марабуты, которые иногда бросают в почтовые ящики рекламные флаеры, виккане или христиане – все они просили у своих божеств примерно одного и того же – здоровья и любви. Неужели люди бескорыстнее, чем принято думать? Либо все они, за исключением жителей англосаксонских стран, полагают финансовые вопросы слишком низменными, чтобы утруждать ими Господа? Как бы то ни было, свечи, которые он зажег Богоматери в первых числах января, совершенно неожиданно возымели действие, и он поставил на алтарь еще две.
Вернувшись домой, он огляделся вокруг в поисках книг, в которых смог бы почерпнуть сведения о существовании творца. В очередной раз констатировав, что его библиотека бедна на философию, он в итоге обнаружил все-таки среди научных трудов увесистый том под названием “Философия и современная физика”, тут, похоже, содержатся некоторые разъяснения или хотя бы предположения относительно интересующей его темы, автор не то чтобы впрямую высказывался о существовании Бога, но выражал некоторые сомнения в существовании мира и, в более широком смысле, задавался вопросом о понятии существования как такового. В одной довольно мудреной фразе он утверждал, например, что “мир состоит не из того, что есть, а из того, что имеет место”. В конце книги обнаружился указатель, где фигурировало в том числе словосочетание “иметь место”. По мнению автора, оно означало “быть подтвержденным неким очевидцем в соответствии с определенным протоколом подтверждения”. Поль включил телевизор, прервав свои интеллектуальные искания. На канале Public Sénat транслировалось в записи совместное заседание обеих палат парламента, собранное для принятия конституционных поправок, упраздняющих пост премьер-министра и учреждающих промежуточные парламентские выборы. Разумеется, поправки будут приняты; уже сегодня вечером Брюно станет фактически самым влиятельным политиком Франции. Разве что все немного усложнится; уже сейчас, пусть и вдалеке, маячит битва за следующий президентский мандат.
Верховной власти добиваются люди очень специфического типа, Поль давно это понял; он просто не предполагал, что Брюно может принадлежать к их числу. Однако он помнил один их довольно необычный разговор, который мог бы навести его на эту мысль. Он ждал Брюно в служебной квартире, президент вызвал его в Елисейский дворец на рабочую встречу, тот предчувствовал, что встреча будет напряженной и ему захочется поговорить с Полем по возвращении. Это было зимой, в час пик уже совсем стемнело, и, как это случалось с ним все чаще и чаще, он чувствовал, что его угнетает зрелище машин, медленно ползущих вдоль наземной ветки метро, этот поток одинаковых и тоскливых судеб. Он заказал у мажордома бутылку вина, бордо, уточнил он, и через несколько минут тот принес сен-жюльен, предложил перелить вино в графин, чтобы оно подышало, но Поль отказался, ему надо было выпить прямо сейчас.
Брюно действительно вернулся подавленным. Президент принял решение не в его пользу, постановив закрыть десяток атомных электростанций, и все в надежде наскрести горстку голосов от экологов, которые при любом раскладе достанутся правительственному большинству, ни один эколог никогда не проголосует за “Национальное объединение”, это онтологически невозможно, максимум, чего он добьется закрытием станций, это переубедит парочку воздержавшихся. Брюно не был настроен так уж враждебно по отношению к экологам, например, по собственной инициативе он увеличил налоговые льготы частным лицам за экономию энергии по месту жительства, но в целом он считал их все же опасными идиотами, а главное, не понимал, что за нелепое желание лишить себя ядерной энергетики, в этом вопросе он всегда верен себе. А найдется ли хоть один вопрос, в отношении которого всегда верен себе президент?
– В сущности, – сказал в итоге Брюно Полю, – у президента есть одно политическое убеждение, одно-единственное. Оно точно такое же, как у всех его предшественников, и сформулировать его можно в одной фразе: “Я создан для того, чтобы быть президентом Республики”. В остальном, будь то принимаемые им решения или выбор направлений государственной политики, он готов практически на все, если только это не идет, на его взгляд, вразрез с его политическими интересами.
Может, таким цинизмом заразился уже и Брюно? Поль так не думал, хотя некоторые мелочи, казалось бы, прямо указывали на это. Общая атмосфера последних лет способствовала протекционизму, и Брюно становился все более и более открытым протекционистом – но он был совершенно искренен в этом, и свободная торговля уже давно казалась ему самоубийственным вариантом для Франции. В то же время экономический патриотизм, по его мнению, мог бы стать мощным объединяющим фактором. Война всегда была самым верным способом сплотить нацию и повысить популярность главы государства. За неимением военного конфликта, слишком дорогого удовольствия для страны среднего размера, сгодилась бы и экономическая война, и Брюно упорно двигался в этом направлении, устраивая бесконечные провокации в отношении развивающихся или недавно разбогатевших стран. Брюно считал, что не надо бояться вступать в экономическую войну, мы рискуем проиграть только те экономические войны, сказал он как-то, вступить в которые нам не хватает смелости.
Позже вечером, пока Поль практически в одиночестве допивал бутылку сен-жюльена, Брюно, явно приуныв после встречи с президентом, усомнился в возможности политической деятельности как таковой. Способен ли политик на самом деле повлиять на ход событий? Очень сомнительно. А вот технический прогресс, несомненно, может; и еще, вероятно, экономический баланс сил до известной степени может, хотя Брюно склонен в общем и целом рассматривать экономику как побочный продукт технологии. Есть и еще кое-что, некая темная, тайная сила, природа которой может быть психологического, социологического или просто биологического характера, нам неизвестно, что это за сила, но она страшно важна, потому что от нее зависит все остальное – демография, религия да и, наконец, желание людей жить, будущее их цивилизаций. Понятие упадка трудно определить, однако это остро ощутимая реальность, и ее в числе прочего, а то и прежде всего политикам не дано изменить. Даже такие авторитарные и решительные лидеры, как генерал де Голль, оказались бессильны противостоять вектору истории, вся Европа целиком превратилась в отдаленную, стареющую, депрессивную и немного несуразную провинцию Соединенных Штатов Америки. Так уж ли судьба Франции, при всем колоритном фанфаронстве генерала, отличалась от удела других стран Западной Европы?
Брюно говорил все тише и тише, словно про себя; разумеется, он никогда не смог бы высказать все это публично. Час пик миновал, движение на набережной Рапе рассосалось, и тут он сказал еле слышно, что отсутствие убеждений у политического лидера не обязательно признак цинизма, скорее зрелости. Разве короли Франции являлись народу, размахивая политической программой или планом реформ? Отнюдь. И тем не менее они остались в истории великими королями или, напротив, презренными королями, в зависимости от их способности выполнять неявное, но конкретное техзадание. Не уменьшать территорию королевства, например, а, напротив, по возможности расширить ее путем приобретения новых территорий, чаще всего путем войны, не допуская при этом совсем уж невообразимых трат на наемников и вообще избегая излишнего налогового бремени. Предотвращать гражданские войны внутри королевства – особенно религиозные войны, они всегда самые смертоносные, – что достигалось назначением в приказном порядке доминирующей религии; при этом второстепенным культам предоставлялись довольно широкие права на богослужение при условии, что им никогда не позволят забыть, что их в лучшем случае терпят на территории страны и что эта толерантность зависит целиком от воли монарха. Если потребуется, укреплять престиж королевства посредством возведения памятников и поддержкой искусств. Проведение в жизнь этой идеальной программы обеспечило на несколько столетий престиж причудливого тандема Ришелье – Людовик XIII, не очень понятно, как они действовали, но, главное, успешно. Показатели Людовика XIV не столь однозначны, как он сам признался на смертном одре, по свидетельству Сен-Симона и прочих. Кстати, “король-солнце” сожалел не о своих роскошных замках, скорее о том, что так любил повоевать, причем ради весьма посредственных результатов, и о том, что был глух к страданиям своего народа, чудовищным, надо заметить, в частности от голода, притом что ему на них указывали Вобан, Лабрюйер и вообще лучшие умы той эпохи. Задача президентов Республики, сказал Брюно, – вспоминая этот разговор, Поль уже не так внимательно следил за трансляцией на канале Public Sénat, – задача президентов Республики вопреки тому, что можно было бы ожидать исходя из чрезмерной веры в прогресс и, в более широком смысле, в важность исторических изменений, в сущности, схожа с задачей королей. В некоторой степени, но не полностью экономическое соперничество пришло на смену военному, и речь идет уже о завоевании не столько территорий, сколько долей рынка; но и вопрос территорий не следует окончательно сбрасывать со счетов. Задача президентов Республики, премьер-министров и королей, словом, носителей верховной власти, заключается сейчас, как и прежде, в защите по мере возможности интересов вверенной им страны – республики или монархии; так в некотором роде миссия руководителя предприятия состоит в защите интересов своей компании перед лицом неслабеющих интересов конкурирующих компаний. Задача сложная, но, в принципе, того же порядка и не предполагает ни выбора какой-либо идеологии, ни определенной политической ориентации.
Заседание в Версале шло без заминок. Сенаторы по очереди подходили к трибуне и опускали бюллетени в урну, это было тайное голосование; за ними последуют депутаты Национального собрания; зрелище было монотонным и, в сущности, довольно концептуальным. К тому времени, когда Поль уснул, сидя на диване, проголосовала уже половина депутатов. Ему приснилось, что у него появился чернокожий друг, длинный и тощий, наверное, бразилец, он говорил по-португальски. Они встретились в каком-то квартале за Северным и Восточным вокзалами, улицы там были темные и совершенно безлюдные. По идее, это квартал иммигрантов, там живут представители самых разных общин; однако Поль вскоре понял, что все эти иммигрантские заморочки придуманы для отвода глаз и за фасадами здешних домов происходят на редкость отвратные и жуткие порнографические бдения. Его бразильский друг познакомил его с одним из своих друзей, молодым магрибинцем, и они почти сразу же бросили его одного на небольшой площади, почти наверняка Ференца Листа, под тем предлогом, что им надо “сгонять за жратвой”. На площади было темно. Группы людей разной расовой принадлежности ходили мимо, исподтишка на него поглядывая. Охваченный страхом, Поль побрел наугад по тускло освещенным улицам. Несколько иммигрантов следовали за ним на расстоянии, но, как ни удивительно, никто не осмеливался напасть на него, как будто он находился под чьим-то сверхъестественным покровительством. Поль вернулся на площадь, почти наверняка Ференца Листа. И вот тут, к его величайшей радости, появился его бразильский друг и крепко обнял его за плечи. Следуя за ним по пятам, его приятель-магрибинец нес полные ящики моллюсков и креветок; они собирались запивать их белым вином. Так, зажатый между бразильцем и его североафриканским приятелем, Поль поднялся по ступенькам в отель, где им предстояло провести ночь. Из их разговора, однако, он постепенно понял, что эти мнимые друзья задумали подвергнуть его пыткам и затем расчленить, снимая на камеру все этапы его мучений; с этой целью они сюда и пришли и якобы завязали с ним дружбу; а потом они отпразднуют успешное завершение нового фильма, вкушая креветки с белым вином. Их поджидала хозяйка отеля; это была коренастая приземистая тетка лет шестидесяти, с маленькими глазками и маленьким седым пучком; она напоминала чем-то Симону Вейль и еще бабу из песка. Она объявила, что к съемкам все готово. Поль понял тогда, что она собирается принять в них участие, а то и сыграть ведущую роль в процессе; на прошлой неделе она стояла с камерой на лестничной площадке, и ей удалось заснять падение во двор отрубленной кисти руки.
Его разбудила Прюданс, осторожно потрепав по плечу; заседание парламента закончилось, теперь на экране телевизора суетились политические комментаторы.
– Они приняли проект конституционных поправок? – спросил он. Она кивнула. Он встал, еще до конца не проснувшись, пошел за ней в спальню и быстро разделся; потом прижался к ней и почти сразу уснул.
2
Он спал долго, глубоким сном, а когда проснулся, было уже около одиннадцати. Он удивился, услышав какие-то звуки на кухне, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что сегодня суббота и Прюданс не работает. Его временная отставка началась не так давно, но он успел уже забыть чередование выходных и рабочих дней, странно, как быстро угасают рефлексы покорности.
– Тебе ужасно трудно купить подарок… – сказала она, когда он сел за стол на кухне. – У тебя через неделю день рождения, а я до сих пор ничего не придумала.
– Не морочь себе голову, дорогая. Я никогда особо не любил отмечать свои дни рождения.
– Мы все-таки что-нибудь устроим. Пятьдесят лет как-никак. Можем никого не приглашать, если тебе не хочется, но я, по крайней мере, приготовлю хороший ужин, хоть так, ты ведь теперь нормально ешь.
На прием к Амиту Наккашу, ЛОРу, порекомендованному ему дантистом, он записался на 29 июня, как раз в свой день рождения. Его кабинет находится на улице Ортолан, улице умеренной длины, соединяющей площадь Монж и улицу Муфтар. Поль обрадовался, что его снова занесло в этот район, в сущности, он этот квартал любил; во всяком случае, когда разговор заходил об этом квартале, что, впрочем, происходило нечасто, он утверждал, что любит его, такова была в некотором роде его официальная позиция в отношении этого квартала. На самом деле он не был уверен, что сейчас вообще способен любить какой бы то ни было квартал, этот глагол казался ему чрезмерным, например, он вовсе не передавал чувство, которое он испытывал к своему нынешнему кварталу, притом что квартал этот нравился всем без исключения людям его круга и уровня образования, но это классическая тема для разговора, дающая возможность большинству собеседников выразить искренние чувства, не выказывая неумеренных страстей, – в общем, удобная тема.
Понимаясь по лестнице в кабинет доктора, он вдруг осознал, что ему только что исполнилось пятьдесят лет. Как интересно! Как быстро пролетела жизнь!.. А вторая ее половина, что-то ему подсказывало, пройдет еще быстрее, рассеется в мгновение ока, прошелестит легким дуновением, не бог весть что эта жизнь. Говорить о второй половине, кстати, было бы чересчур оптимистично, хотя, кто знает, сейчас полно столетних стариков, жизнь до ста лет становится постепенно чуть ли не нормой, если не брать в расчет тех, кому выпало заниматься тяжелым физическим трудом, но его, само собой, это не касалось.
ЛОР, мужчина лет сорока, полноватый и с виду вполне доброжелательный, но все же какой-то задерганный, предложил Полю сесть и задал ему несколько обычных вопросов – имя, фамилия, адрес, род занятий, семейное положение – для разминки, так сказать. Поль, со своей стороны, пытался примирить свои первые разноплановые впечатления от Наккаша, и у него это получалось все лучше и лучше: состояние встревоженной доброжелательности – самое то для врача, практически готовое определение профессионального отношения к пациенту. Ответив на первые вопросы, он протянул ему письмо Аль-Назри. “Да, все верно, коллега мне позвонил”, – кивнул он, наскоро пробежав все-таки письмо глазами, сказал, что проведет дополнительный осмотр, и попросил его сесть в большое откидное кресло с мягкой обивкой и подлокотниками, точно такое же, как у стоматолога, и Поль успокоился при мысли, что они не выходят за рамки все той же – сугубо зубной – области, ну, возможно, с незначительными осложнениями. Поначалу все на самом деле шло гладко, он тоже велел ему широко открыть рот, затем очень деликатно прощупал десну, после чего уже вооружился широким шпателем из светлого дерева, ни металлическим, ни островерхим, то есть совершенно безобидным инструментом по сравнению с теми, что используют стоматологи. Он долго пальпировал ему шею, нажимая посильнее в разных местах, это было странно, но не больно. Наконец он взял длинную гибкую канюлю, тонкую и прозрачную, опустил спинку сиденья, приведя его почти в горизонтальное положение, и осторожно приблизил пластиковую трубочку к его ноздрям. Поль сразу испугался, а через пять секунд, когда его пронзила жгучая, мучительная боль, и вообще закричал, не сумев сдержаться, ему казалось, что трубочка впилась ему прямо в мозг. Врач немедленно трубочку вытащил и бросил на него тревожный взгляд.
– Извините, – сказал он нерешительно, – у вас, по всей видимости, очень чувствительные ноздри.
– Да, это было невыносимо. – Поль, смутившись, понял, что у него текут слезы, но не смог совладать с собой.
– Проблема в том, что мне надо проверить вторую ноздрю.
– Нет, не надо! – умоляюще воскликнул он.
– Послушайте, я буду продвигаться с предельной осторожностью и не так глубоко, но, к сожалению, без этой процедуры нам не обойтись.
Действительно, в правую ноздрю он вводил канюлю постепенно, боль была не такой ужасной, но в каком-то смысле оно и хуже, потому что она нарастала и нарастала, он снова закричал, и когда Наккаш вынул трубочку, его снова затрясло от рыданий.
– Все, я закончил осмотр.
– Что, правда закончили? И больше не будете?
– Нет, в принципе, это больше не понадобится. Мне очень жаль, что вам было так больно, но хорошо, что мы это сделали. По крайней мере, я знаю, что в носовых проходах осложнений нет.
– Осложнений чего? – Поль задал вопрос автоматически, продолжая рыдать, он никак не мог остановиться.
Наккаш замялся, настал тяжелый момент.
– Вы, наверное, заметили… – начал он очень мягко, – что у вас появилось странное уплотнение на десне. На данном этапе, конечно, – спохватился он, – мы не знаем природу этого отека, надо провести биопсию. – Он достал длинный шприц с иглой. – Мне придется сделать вам еще один маленький укольчик, – добавил он с услужливым воодушевлением, и в тоне его прозвучала наигранная угроза, словно он попытался скрыть, что меняет тему.
Поль никак не отреагировал. “Уплотнение” и “отек” переварить, как правило, легче, чем “опухоль”, но на этой стадии они все-таки начинают тревожиться, а он нет, удивленно отметил про себя Наккаш, у него так и текут слезы облегчения при мысли, что ему больше не полезут в нос, он даже рот машинально открыл, не протестуя, теперь какой-то укольчик ему уже нипочем. Все и впрямь произошло очень быстро, он ощутил лишь легкое жжение. Наккаш вылил содержимое шприца в пробирку, заполненную полупрозрачной жидкостью, а затем, не переставая что-то говорить, принялся строчить направления. В дополнение к биопсии Полю надо сделать МРТ челюсти и ПЭТ, это словосочетание что-то смутно ему напомнило, ему показалось, что он уже слышал его по поводу отца. Ну и наконец, он назначил ему повторную консультацию ровно через неделю, день в день, час в час. Это впритык, ему не хватит времени на все обследования, заметил Поль. Не стоит волноваться, сказал Наккаш, он записал ему фамилии всех специалистов, которые им займутся, и он еще сам им позвонит, они всегда ухитряются освободить место в случае необходимости. Выходя из кабинета, Поль чувствовал себя немного неловко, слезы его наконец-то иссякли, и он извинился, что устроил такой цирк. Наккаш отмахнулся, какая ерунда, дружески сжал ему плечо и ободряющим тоном пожелал на прощание “удачи”, прием был окончен.
И только когда он спустился по лестнице, прошел улицу Ортолан в обратном направлении и сел на скамейку на площади Монж, а воспоминание о боли стало понемногу отступать, Поль задумался о своей болезни. Отек может оказаться чем-то серьезным, кстати, странно, что доктор обещал побыстрее устроить ему все обследования, он сказал “в случае необходимости”, но, судя по всему, это эвфемизм и имелось в виду “в экстренном случае”, да и то, как сочувственно он сжал ему плечо, пожелав удачи, уже само по себе внушало тревогу. Он включил мобильник, погуглил, и его подозрения тут же подтвердились: если исходить из назначенных ему обследований, Наккаш, скорее всего, подозревал у него рак полости рта. Было одиннадцать утра, по случаю базарного дня на площади Монж расставили прилавки с сырами, колбасными изделиями и сезонными овощами и фруктами. Жалко, что он не может тут всего понакупить, не умеет разбираться в овощах и фруктах, примечать необычный свежий улов в рыбной лавке; уже поздно, подумал он, сознавая одновременно, что умрет, что его пятидесятилетие, вероятно, станет его последним днем рождения, что он уже существует не совсем в той же реальности, что все эти женщины разных возрастов, которые со знающим видом сновали между рядами, везя за собой сумки на колесиках. Потом все вдруг перевернулось, и он почувствовал, что снова принадлежит их миру, может, он умрет не сразу, все будет зависеть от результатов обследований, ему еще повезло, что он во временной отставке, Прюданс он ничего не скажет, и если все пройдет хорошо, она вообще не узнает об этом инциденте. Он ступил на эскалатор, ему всегда нравился гигантский головокружительный эскалатор в метро “Монж”, он спускался очень быстро очень глубоко под землю и никогда не выходил из строя, в отличие от всех остальных эскалаторов парижского метро, за почти тридцать лет, что он им пользовался, он ни разу не сломался, но на этот раз, спускаясь в подземную тьму, он чувствовал себя подавленным и, доехав до самого низа, обернулся и увидел высоко над головой кусочек неба и ветви деревьев в солнечном свете. Он тут же поехал на эскалаторе вверх, злясь на себя за этот порыв, но желание вновь очутиться на свежем воздухе пересилило. Лучше он поедет домой на такси, общественный транспорт ему сейчас не подойдет, подспудное ощущение, что он отрезанный ломоть, могло захлестнуть его снова в любой момент. Он поднялся прямо к аптеке и магазину бытовой химии и ножевых изделий на улице Монж, мимо которого он тоже ходил уже почти тридцать лет. Потом снова обошел рыночные ряды, разглядывая прилавки с итальянскими мясными деликатесами и разнообразными колбасами, неужели ему придется от всего этого отказаться? Очень даже может быть, более того, именно этим все обычно и заканчивается, и тогда говорят “он прожил прекрасную жизнь”, потом устраивают похороны, иногда, кстати, это в общем и целом соответствует истине, и в то же время это всегда неправда, жизнь никогда не прекрасна, если принять во внимание ее конец, и Паскаль выразил это со свойственной ему прямотой. “Последний акт кровав, как бы ни была весела вся остальная пьеса. Потом бросают горсть земли на голову – и дело с концом”. Мир внезапно показался ему ограниченным и печальным, почти бесконечно печальным.
Такси, понял он, тоже идея так себе, на обратном пути они проехали вдоль больницы Питье-Сальпетриер, и внезапно он проникся уверенностью, что в муках закончит там свою жизнь, больница казалась гигантской, чудовищной цитаделью в самом сердце Парижа, полностью отданной под боль, болезнь и смерть. Это впечатление улетучилось, стоило им подъехать к парку Берси, он попросил водителя остановиться и пошел дальше пешком, ему было совершенно необходимо унять колебания мысли или, по крайней мере, сократить их амплитуду, перед тем как увидеться с Прюданс. Отцу хотя бы удалось сбежать из больницы, он доживает свои дни дома, в родной обстановке. Ему удалось все организовать для отца, получится ли у него сделать то же самое для себя? Совсем не факт, интересно, отважится ли Прюданс разделить его точку зрения. Она склонна подчиняться начальству и доверять компетентным людям – в данном случае врачам; чтобы открыто противостоять медицинским властям, отстаивая свои права жены, ей предстоит приложить немало усилий. Ему самому, по сути, не пришлось пройти через это в истории с отцом, он противостоял властям административным, чья тупость общеизвестна, а не больничным в лице доктора Леру. Чтобы решиться на откровенную конфронтацию с медицинскими властями, если до этого дойдет, надо заблаговременно обзавестись своим врачом, с внушительным набором степеней и званий, по меньшей мере бывшим интерном больницы с хорошей репутацией, а еще лучше бывшим заведующим клиникой, звание профессора тоже не повредит, современная система ценностей в медицинской среде допускает не больше фантазии, чем при дворе короля Людовика XIV, так что с Прюданс они справятся одной левой. Ему самому следует проявить твердость и подготовиться к борьбе.
Вернувшись домой, он налил себе большой стакан “Джека Дэниелса”, постепенно успокоился, затем убрал рецепты в ящик стола в своей бывшей спальне, служившей теперь гостевой комнатой, а то и рабочим кабинетом, а учитывая, что у него практически не возникало потребности в рабочем кабинете, он туда редко заходил, а Прюданс и вовсе никогда, так что можно не волноваться.
Она пришла домой с работы в начале седьмого и отправилась прямиком на кухню, готовить сливочное ризотто с морскими гребешками под шафрановым соусом, ризотто – дело рискованное и требует определенной сосредоточенности. Попивая сотерн и прислушиваясь к звукам, доносившимся из кухни, Поль подумал, что ему наконец-то удалось достичь некой формы счастья, и сейчас было бы обидно умирать; затем, собравшись с духом, он попытался прогнать эту мысль. Как он и ожидал, Прюданс совершенно не озаботилась его походом к ЛОРу, она, судя по всему, вообще о нем забыла, так что он мог временно выдохнуть. За ужином она рассуждала об отпуске, ей бы хотелось поехать на Сардинию, она уже так давно мечтает побывать на Сардинии, прибавила она. Она впервые заговорила об этом; она искренне воображает, что давно мечтает о Сардинии, не понимая, взволнованно подумал Поль, что просто надеется повторить чудо их корсиканских каникул двадцатилетней давности. К сожалению, в конце июня уже слишком поздно бронировать что-то на август. Наверное, они могли бы перенести отдых на сентябрь, по крайней мере частично, хотя в министерстве теперь крайне строгие нормы в отношении летних отпусков, им, вероятно, пришлось бы взять по меньшей мере две недели в августе, но планировать сейчас поездку все равно куда, пусть даже в менее популярное место, чем Сардиния, – безнадежная затея. Оставались еще Сен-Жозеф и Лармор-Баден, что он предпочитает? Сен-Жозеф, твердо ответил Поль. Выбор между Сен-Жозефом и Лармор-Баденом сводится в некотором смысле к выбору между двумя умирающими стариками, и у него возникло ощущение, что он не дообщался с отцом, что ему еще предстоит кое-что прояснить в отношении отца, в то время как Прюданс о своем отце вроде бы совершенно не беспокоилась.
– Тогда прощайте мини-шорты… – сказала она, усмехнувшись.
– Вот еще, – ответил Поль, она запросто может кататься в мини-шортах на велосипеде, в тех местах есть несколько прекрасных велосипедных маршрутов. И он, конечно, не преминет затащить ее в рощу и трахнуть, он вспомнил, что читал в журнале, вероятно женском, что сто процентов опрошенных женщин в своих фантазиях занимались любовью в лесу, видимо, в растительности содержится нечто, что стимулирует у них выработку гормонов, очень любопытно. Да, подумал он, прекрасный мог бы получиться отпуск; но, по всей видимости, подумал он следом, его летний отпуск пройдет в больнице Питье-Сальпетриер.
3
Как и обещал Наккаш, ему удалось без всяких проволочек записаться на МРТ и ПЭТ, теперь он вспомнил: впервые он услышал эти слова от медсестры в Лионе, той самой, симпатичной, с хорошей фигурой, и Бриан тоже говорил об этом, полностью это называется “позитронно-эмиссионная томография”. Впечатляющее название, да и массивный аппарат из белого металла с кремовым оттенком был ему под стать, на ум сразу приходили самые зрелищные научно-фантастические фильмы – на эту штуку, похоже, потратили половину общего бюджета больницы.
В следующий вторник в десять утра он снова пошел к Наккашу. Тот долго тряс ему руку, потом предложил сесть и, судя по всему, погрузился в длительную медитацию личного характера. Интересно, подумал Поль, уж не пытается ли он этим спектаклем ввести его в состояние необходимой тревоги, равновеликой серьезности диагноза; если да, то он своего добился.
– У меня есть для вас хорошие и плохие новости, – решился Наккаш наконец. – Плохая новость заключается в том, что биопсия подтвердила злокачественный характер опухоли у вас на десне.
– Злокачественная в смысле раковая, вы хотите сказать?
Он бросил на него укоризненный взгляд: нет, именно этого он и не хотел говорить; но, в общем, да, если уж на то пошло, то это рак. Но рак у него в ограниченной стадии, поспешил добавить он, и это хорошая новость. Да, лимфатические узлы на шее тоже поражены, но это явление частое, так что всегда показано удаление лимфатических узлов; в некоторых случаях, когда они затронуты, возникает опасение, что рак гортани сопровождается раком полости рта; но к нему это не относится.
– И самое главное, – добавил он, – ПЭТ не выявила никаких метастазов. Ваш рак точно не распространяется, и это, поверьте мне, отличная новость. Итак, мы имеем опухоль, опухоль серьезную, и сделаем все необходимое, чтобы вас от нее избавить, – говорил Наккаш боевым тоном, типа “Вьетнам!”, он явно приобрел необходимые навыки человеческого общения, подумал Поль, он сам бы лучше не справился. – При отсутствии метастазов, – продолжал Наккаш, – операции должно, по идее, хватить, плюс немного химиотерапии и облучения, но совсем чуть-чуть, я правда так думаю. А не очень хорошая новость заключается в том, что опухоль имеет определенную протяженность; жаль, обратись вы к нам месяца два-три назад, этого можно было бы избежать, но сейчас придется рассмотреть серьезное хирургическое вмешательство.
– То есть?
– Я предпочитаю, чтобы хирург сам все вам рассказал. Если я правильно понимаю, в настоящий момент вы не работаете, то есть относительно свободны?
– Ну, допустим.
– Я взял на себя смелость записать вас на утро пятницы к нему на прием. Разумеется, я пойду с вами.
– И где это?
– В больнице Питье-Сальпетриер.
После нескончаемого, как показалось Полю, путешествия по бледно-зеленым коридорам, бессчетное число раз переходивших в другие бледно-зеленые коридоры, они наконец добрались до кабинета B132. Наккаш постучал по матовому стеклу в верхней части двери. Они вошли в небольшую комнату с белыми стенами, единственным предметом обстановки тут был стол, тоже белый. За столом сидели двое мужчин в больничных халатах, перед ними лежали папки с документами. Оба практически лысые, с черными усами – вылитые Дюпон и Дюпонн из “Тинтина”, разве что усы у них пожиже, да и сходство все же не такое разительное, один немного полнее и выглядит старше, но они оба умудрились принять одинаковый хмуро-благожелательный вид, как будто больные – это такие существа, от которых ничего хорошего ждать не приходится, и тем не менее им следует помогать, даже через не хочу. Все это скорее обнадеживало, как и тот факт, что они уже ознакомились с его выписками – Поль узнал бланк одной из лабораторий и теперь гадал, кто из них хирург.
– Я доктор Умон, – сказал тот, что постарше, – химиотерапевт.
– А я доктор Благон, радиотерапевт, – представился второй.
– Доктор Марс немного задерживается, – предупредил Наккаш, – он будет вашим хирургом.
Вышеупомянутый хирург появился через пять минут. Ничего общего с теми двумя он не имел. Лет тридцати с чем-то, с вьющимися волосами средней длины, он был весьма хорош собой, точь-в-точь хирург из романов издательства Harlequin или какого-нибудь американского сериала. Однако он отличался от Джорджа Клуни более раскованным стилем, носил фирменные кроссовки “Джон Б. Кинг” по имени молодого американского баскетболиста, самого высокооплачиваемого спортсмена в мире, его зарплата недавно превысила зарплату центрального нападающего мадридского “Реала”; подошва у них минимум пять сантиметров толщиной, он никогда не видел обуви с такой толстой подошвой, разве что в документальном фильме о свингующем Лондоне, там на девушке надета одновременно невообразимо короткая мини-юбка, больше похожая на пояс, и туфли на невообразимо высокой, наполненной водой платформе, внутри которой плавают золотые рыбки. В таких условиях рыбки умирали в течение нескольких дней, и эти туфли вскоре запретили после акции протеста какого-то общества защиты животных. Он не знал, почему сейчас об этом подумал, ему с трудом удавалось вникать в слова хирурга, который как раз обратился к нему: “Месье Резон…” – но дальше шло что-то совсем непонятное, он рассуждал о мандибулэктомии, глоссэктомии и резекции опухоли, но все это было для него пустым звуком. С той минуты, как он вошел в эту комнату, его мозговая деятельность замедлилась словно под воздействием чего-то среднего между анестезией и колдовством, но в конце концов он все же смог сформулировать вопрос.
– То есть операцией дело не ограничится… – уточнил он, обращаясь к Дюпону и Дюпонну, – будут еще облучение и химия.
Они деликатно поерзали на месте, словно шимпанзе, желающие показать себя с лучшей стороны на кастинге в цирке.
– Да, все верно, – промямлил наконец радиотерапевт, – хирургия, к сожалению, не всесильна. – Он бросил украдкой томный взгляд на Марсьяля, тот слегка затрепетал, но воздержался от ответа.
– Доктор Умон займется вами в предоперационный период, – продолжал он, – чтобы по возможности уменьшить опухоль или хотя бы стабилизировать ее рост; я же в послеоперационный период постараюсь устранить стойкие раковые клетки вблизи опухоли.
– Но я так понял, что метастазов нет…
Умон смотрел на него с серьезным выражением лица и несколько раз открыл и закрыл рот, прежде чем заговорить. ПЭТ действительно не выявила метастазов, но это именно что неожиданный результат. Такие виды рака челюсти часто бывают очень инвазивными, особенно когда затронуты лимфатические узлы, потому что в этом случае раковые клетки могут перейти в лимфу, которая орошает все участки организма. Короче, правильнее будет сказать, что метастазов пока нет. Более того, иногда ПЭТ не позволяет обнаружить определенные метастазы, печально заметил он; и впрямь тут есть из-за чего опечалиться, подумал Поль, если даже этот агрегат, который, судя по его виду, стоит не меньше аэробуса, не справляется со своей задачей.
– ПЭТ – все же огромный шаг вперед, – снова подал голос врач помоложе, Поль успел забыть его фамилию и решил про себя назначить его Дюпонном, в нем было что-то мечтательное, хорошо сочетавшееся с протяжным “нн” в конце, а тот, что постарше, более приземленный, укорененный в повседневной реальности, будет идеальным Дюпоном. Что касается хирурга, то назовем его Кингом, для простоты. Он наконец обратил на него внимание и признался, что ничего не понял из его объяснений про операцию, которую ему предстоит перенести.
– Действительно, – согласился Кинг, – некоторые технические термины следовало бы прояснить. Резекция – это просто удаление опухоли. Сегментарная мандибулэктомия заключается в частичном удалении нижней челюсти; учитывая ситуацию, придется удалить всю горизонтальную ветвь левой челюсти, а также центральный симфиз – иными словами, подбородок. Что касается глоссэктомии, то это означает удаление языка; к сожалению, данная операция затронет всю его подвижную часть.
В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Поль никак не отреагировал на его слова, и хирург встревожился. На этом этапе одни падают духом, приходят в отчаяние, другие в приступе ярости активно протестуют против такой перспективы, иногда даже ругаются; ну а третьи тут же начинают торговаться, надеясь, видимо, при помощи какого-нибудь хитроумного приема договориться о более легкой операции; но он еще ни разу не встречал человека, который согласился бы на операцию сразу, по доброй воле, или, как Поль, остался бы абсолютно безучастным, словно не расслышал диагноз. Это было так непривычно, что он в конце концов спросил:
– Вы хорошо поняли, что я сказал, месье Резон? – Поль кивнул, по-прежнему не произнеся ни слова.
– Как долго мне придется пробыть в больнице? – наконец спросил он, нарушив совсем уж тягостное молчание. Хирург чуть поморщился; рано или поздно этот вопрос задают все пациенты, но почти никогда с него не начинают.
– Если не будет осложнений, вы проведете в стационаре недели три, не меньше, – ответил он. – Операция все же тяжелая, вы, как говорится, ляжете на стол на продолжительное время.
– Продолжительное?
Вот, уже лучше, подумал хирург, пошли нормальные вопросы.
– Часов на десять-двенадцать. Возможно, придется провести пару дополнительных операций, но гораздо короче, на час-два, не больше. Первая операция – самая важная: я произведу удаление и сразу же после – реконструкцию, так что в промежутке вам не придется ходить обезображенным. Классическая реконструкция предполагает использование лопаточной кости для восстановления челюсти, а для восстановления языка – широчайшей мышцы спины с примыкающей к ней кожей. Но в вашем случае, скорее всего, можно рассматривать использование искусственной челюсти из титана, сформированной при помощи 3D-принтера, мне надо проконсультироваться с одним коллегой; тогда операция будет немного короче. Кроме того, я должен уточнить, – продолжал хирург, – что пересаженный язык не будет полностью функционален, его смысл главным образом состоит в том, чтобы заполнить рот. У него не будет ни вкусовых рецепторов, ни мышц, тогда как нормальный человеческий язык имеет семнадцать мышц.
Если Полю и удастся им шевелить, то только благодаря мышцам, оставшимся в основании языка, их нельзя удалить, не вызвав обширного некроза. После длительной реабилитации – надо рассчитывать месяца на три по меньшей мере – он будет в состоянии снова говорить и есть более или менее нормально. Поначалу ему придется питаться через гастростому, ему также потребуется провести трахеотомию, по крайней мере на первую неделю, чтобы он мог дышать.
Наккаш с тревогой взглянул на Поля, который сидел все так же безучастно, создавалось впечатление, что он присутствует тут лишь отчасти и его все это не очень касается. После очередной паузы он все-таки открыл рот, чтобы спросить, так уж ли срочно надо делать операцию.
– К сожалению, да, – ответил хирург. – Чем дольше мы прождем, тем быстрее опухоль будет прогрессировать. Надо провести операцию до конца месяца, самое позднее в начале августа. Вообще-то, если подумать, от идеи искусственной челюсти из титана, скорее всего, придется отказаться: в настоящее время они производятся только в США, и на доставку уйдет слишком много времени.
Поль молча покачал головой; других вопросов у него не было.
Все так же в сопровождении Наккаша он пошел в обратном направлении по бесконечным бледно-зеленым коридорам. У главного входа на территорию больницы стояла вереница такси, но он решил пойти домой пешком, это займет минут пятнадцать, максимум двадцать. Наккаш собрался сесть в такси. Он повернулся к нему, замялся, подыскивая слова.
– Операция, да еще такая срочная, это, конечно, шок для вас, я понимаю… – проговорил он с трудом.
Поль бросил на него равнодушный взгляд и спокойно ответил:
– И речи быть не может, чтобы я согласился на такую операцию. Облучение и химиотерапия – да; операция – нет.
– Как это, подождите, подождите минутку! – в панике воскликнул Наккаш. – Вы не должны так к этому относиться! У вас тяжелый рак. Жизненный прогноз при поражении костей и так не особо хорош по сравнению с другими видами рака ротовой полости: пятилетняя выживаемость составляет двадцать пять процентов. Если вы откажетесь от операции, он еще снизится.
– Вы хотите сказать, – перебил его Поль, – что мне удалят челюсть и вырежут язык ради того, чтобы дать один шанс из четырех на выживание?
Наккаш мгновенно умолк; так оно и есть, понял Поль. ЛОР явно смутился и разозлился на себя, он совершенно не собирался выдавать эту информацию, но да, так оно и есть.
– Нам еще надо все обсудить… – быстро проговорил Наккаш. – У меня нет при себе записной книжки, позвоните мне завтра или прямо сегодня вечером, и я найду для вас время.
Поль кивнул, не говоря ни слова, он твердо решил ничего не делать. Он принял окончательное решение.
Он остановился посередине моста Берси. Слева от него было Министерство экономики, за ним, чуть дальше, виднелись часы Лионского вокзала; справа простирался парк Берси. Все-таки его жизнь протекала в ограниченном пространстве, подумал он, и так оно и будет до самого ее конца, потому что за его спиной находится больница Питье-Сальпетриер, где, по всей вероятности, и наступит ее финал. Как все-таки это странно! Ужасно странно. Еще три недели назад он был нормальным человеком, мог испытывать влечение, строить планы на отпуск, предвкушать долгую и, как знать, счастливую жизнь, да, он мог предвкушать ее теперь, с тех пор как вновь обрел Прюданс, он всегда любил ее, и она тоже всегда его любила, сейчас это стало очевидно. А потом несколько медицинских консультаций – и все рухнуло, капкан захлопнулся, капкан уже не разожмется, напротив, боль от его укуса будет ощущаться все острее, опухоль продолжит пожирать его плоть до тех пор, пока не покончит с ним. Его выбросило на какую-то непонятную крутую горку, спуск с которой неминуемо ведет к смерти. Сколько времени ему осталось? Месяц? Три месяца? Год? Надо узнать у врачей. А потом наступит небытие, небытие окончательное и бесповоротное. Он ничего больше не увидит, ничего больше не услышит, ни к чему больше не прикоснется, ничего больше не почувствует, больше никогда. Его сознание полностью исчезнет, и будет так, словно он никогда и не существовал, его плоть сгниет в земле – если только он не предпочтет более радикальный вариант уничтожения – кремацию. А мир никуда не денется, человеческие существа будут спариваться, испытывать желания, преследовать свои цели, лелеять мечты, но все это будет происходить без него. Он оставит слабый след в памяти людей; а потом и этот след тоже сотрется. И он вздрогнул от внезапного приступа ненависти к Сесиль и ее идиотским верованиям. Паскаль прав, как всегда: “Потом бросают горсть земли на голову – и дело с концом”.
Пока что надо поскорее поговорить с Прюданс, откладывать больше нельзя. К счастью, сегодня пятница, он плохо представлял себе, как сообщить ей это в будний день, зная, что утром ей на работу; он плохо представлял себе, как сообщить ей это и в субботу; по правде говоря, он вообще плохо представлял себе, как ей это сообщить; но куда денешься.
4
Ему удалось поговорить с ней только в воскресенье, ближе к полудню, потому что утром они занимались любовью дольше, чем обычно, и он доставил ей, он твердо в это верил, больше удовольствия, чем обычно, но ставки теперь были уж очень высоки, тут требовался бы какой-то абсолютный, теллурический оргазм, оргазм, который сам по себе мог бы оправдать целую жизнь, то есть требуется нечто, чего не существует, разве что в романах Хемингуэя, он вспомнил один на редкость дурацкий пассаж в “По ком звонит колокол”.
Он говорил долго, подробно, больше десяти минут, ничего не скрывая от нее, даже не пытаясь соврать. Она сидела поджав ноги в постели, опираясь на подушки, и слушала его, не произнося ни слова. Она не разрыдалась, да и вообще почти никак не отреагировала, лишь несколько раз странно взмахнула правой рукой, словно бессильно ударяя в пустоту, и еще время от времени вдруг начинала тяжело дышать. Когда он закончил, она помолчала еще пару минут, потом повернулась к нему и сказала очень сухо, почти враждебно:
– Тебе надо получить второе мнение. Мнение другого врача.
– Какого врача?
– Не знаю. Позвони Брюно.
– Почему Брюно? Он ничего не смыслит в медицине.
– Он же поговорил с министром здравоохранения по поводу твоего отца; они знакомы, у них хорошие отношения. Он-то должен знать, кто у нас лучший в этой области; ну, хочется думать, что министр здравоохранения кое-что смыслит в здравоохранении.
– Да, ты, наверное, права.
– Звони прямо сейчас.
– Сегодня воскресенье.
– Я знаю, что сегодня воскресенье. Звони прямо сейчас.
Он успел забыть, в каком ритме работает Брюно, но тот перезвонил ему почти мгновенно, молча выслушал его и сказал:
– Я должен поговорить кое с кем и дождаться ответов. Дай мне пару часов.
Они ждали его звонка и смотрели на канале Arte архивные показы “Воскресения Мартена”. Жак Мартен, один из грандов французского телевидения второй половины двадцатого века, превратился уже в народное достояние, им неизбежно станет и Мишель Дрюкер, даже еще быстрее, буквально в первые несколько недель после смерти.
Брюно позвонил ровно через два часа.
– Завтра в десять утра ты записан на прием к профессору Бокобзе, он лучший в Европе специалист в области хирургии рака полости рта. Он принимает в Институте Гюстава Русси в Вильжюифе. Доктор Наккаш – это ЛОР, к которому ты ходил, да? – пошлет ему твою медкарту по мейлу сегодня во второй половине дня.
Поль выехал с трассы А6 у проспекта Президента Альенде, свернул на улицу Марселя Громениля и с нее уже на улицу Эдуара Вайяна, где и находится институт.
Марсель Громениль, сын Ипполита Громениля и Жюльенны Фрюи, после получения школьного аттестата прошел трехлетнее ремесленное обучение и поступил на военную службу в кавалерию в Провене. Токарь по специальности, он 31 октября 1925 года сочетался браком с Мари Матюрен Кадоре. У супругов родился сын Бернар. Семья жила в доме номер 10 по улице Жантийи в Вильжюифе, где жена держала лавку. Работал токарем на заводе “Испано-Сюиза” в 14-м округе Парижа, в 1935 году перешел в компанию по производству авиационных двигателей “Гном и Рон” и в мае того же года был избран муниципальным советником в Вильжюифе в избирательном списке, который возглавлял Поль Вайян-Кутюрье. Совет префектуры лишил его мандата 29 февраля 1940 года за членство в компартии. Его работодатель 30 июня 1940 года заявил, что он “в исходе”[51]; вновь принят на работу 23 апреля 1941 года. Был арестован вместе со своим другом Раймоном Пезаром, когда собирался примкнуть к Свободным французским силам в Алжире, и заключен в тюрьму в Бордо, затем интернирован в Компьене и депортирован в Германию, в лагерь Ораниенбург, где и скончался в апреле 1945 года. 14 декабря 1948 года признан павшим за Францию.
А вообще Вильжюиф, которым с 1925 по 2014 год бесперебойно руководили мэры-коммунисты, долгое время считался типичным “красным пригородом”, и только недавние перемещения населения изменили расклад. Начнем с того, что там было не так много евреев[52], и коммуна, напротив, заявила о себе несколькими исламистскими терактами или попытками таковых. В январе 2015 года Амеди Кулибали, который позже принял участие в захвате заложников в супермаркете кошерных продуктов у Порт-де-Венсенн, убив там четырех человек, взорвал машину в Вильжюифе. В апреле 2015-го алжирского студента Сида Ахмеда Глама арестовали в тот момент, когда он собирался совершить теракт с применением огнестрельного оружия во время воскресной мессы в двух церквях Вильжюифа. 13 ноября 2015 года зал мэрии был подожжен в знак поддержки массового убийства, свершенного в Париже чуть раньше в тот же вечер, в результате которого погибли 129 человек. Направляясь по улице Эдуара Вайяна в сторону больницы, Поль проехал вдоль департаментского парка “От-Брюейр”, где в январе 2020 года какой-то псих, только что принявший ислам, напал с ножом на прохожих, зарезав одного и серьезно ранив двоих. Поль начинал склоняться к мысли, что лучше было поехать на метро, но во дворе больницы обнаружилась парковка, какой приятный сюрприз. Фасад, оживленный яркими разноцветными пятнами, чем-то напомнил ему здание больницы Сен-Люк в Лионе. После ПЭТ с перспективой трахеотомии и гастростомии этот фасад… Да уж, подумал Поль со смешанным чувством, он все увереннее идет по стопам отца.
Профессор Бокобза в безупречной светло-серой тройке и бордовом галстуке-бабочке под белым больничным халатом показался ему вылитым главврачом, каким его изображают многочисленные популярные фильмы и телесериалы, и Поль приободрился; всегда спокойнее, честно говоря, когда что-то соответствует стереотипу. Строгое лицо, очки в тонкой металлической оправе – все в нем в высшей степени обнадеживало, а у хирурга из Питье-Сальпетриер волосы были уж слишком длинные, а главное, подошвы кроссовок слишком толстые. Поль и не подозревал, что окажется таким конформистом старой закалки, судя по всему, это проявлялось в нем, как только дело касалось жизни и смерти; наверное, так почти со всеми и происходит, подозревал он.
– Значит, вы друг нашего министра… – усмехнулся Бокобза и сел напротив него.
– Не совсем, – ответил Поль, – скорее, друг одного из его коллег.
– Я знаю, как ругают протекцию, привилегии и прочий блат… Оно и справедливо, разумеется, но все используют свои связи, если таковые имеются, даже люди, находящиеся в самом низу социальной лестницы, и нельзя не признать, что иногда таким образом удается найти выход из ситуации, которая из-за избытка норм и правил становится неразрешимой; что касается лично вас, то ваш рак, надо заметить, дело серьезное, и вы, конечно, имеете право на самое лучшее лечение. Кое-что я сразу хочу вам объяснить: в вашем положении потребность во втором мнении совершенно в порядке вещей, но все же это важный поступок. Вы решились на него потому, что в той или иной степени не доверяете своему хирургу?
– Не знаю, – ответил Поль после довольно долгих размышлений. – Вообще-то меня попросила это сделать жена. С другой стороны, должен сказать, что сама идея этой операции мне совсем не по душе; но я правда не знаю, что именно мне не по душе – хирург или операция как таковая; думаю, все вместе в каком-то смысле.
– То есть, насколько я понимаю, у вас возникли сомнения, – немедленно подхватил Бокобза, – и мне этого достаточно. Раз вы не безоговорочно доверяете хирургу, который собирается вас оперировать – даже если это иррациональное и необоснованное чувство, – вы не можете позволить ему вас оперировать. Вы читали “Лоскут” Филиппа Лансона?
– Нет, но я слышал о нем, он ведь был журналистом в “Шарли Эбдо”, да? И стал одной из жертв исламистов?
– Верно. Ему выстрелили прямо в лицо из автомата Калашникова, пришлось делать восстановительную операцию, то есть он оказался в ситуации, очень похожей на ту, в которой окажетесь вы после удаления челюсти. Я вспомнил его, потому что, читая книгу, хорошо понимаешь, как для него были важны доверительные отношения с хирургом; к тому же действие по большей части происходит в Питье-Сальпетриер. Почитайте, я вам очень рекомендую, это хорошая книга, хотя, должен признаться, она не слишком обнадеживает пациентов. Автор перенес уж не знаю сколько хирургических операций, десять или пятнадцать, там легко сбиться со счета; в общей сложности он провел в больнице два года. Надо заметить, что это исключительный случай, к вам это не относится. Книга написана чуть больше десяти лет назад, за это время мы добились определенного прогресса; трансплантация по-прежнему является деликатной операцией и часто заканчивается неудачей, но техника трехмерной графики и искусственные челюсти очень нам помогли.
– Хирург в Питье считает, что в моем состоянии это неприменимо: операция срочная, протез придется заказывать в США, и времени на это нет.
– Что ж, в этом вопросе я, пожалуй, не соглашусь с коллегой; у вас агрессивный рак, но малоинвазивный. Бывает, что благодаря химиотерапии удается уменьшить опухоль или хотя бы затормозить ее развитие на несколько месяцев, как раз на время, необходимое для изготовления протеза; Умон – отличный химиотерапевт, я полностью ему доверяю. Будь вы моим пациентом, я бы заказал протез прямо сейчас, а операцию запланировал бы на конец октября. Вас вполне можно прооперировать здесь, а химиотерапию и облучение проводить в Питье-Сальпетриер; более того, я вам так и советую сделать, это утомительные процедуры, и вам лучше свести к минимуму свои передвижения. Ну, я, разумеется, не хочу навязывать вам себя в качестве хирурга, решать, конечно, вам; взвесьте все спокойно и еще раз поговорите с Наккашем, он хороший врач, вам повезло.
Ему на самом деле хотелось прежде всего поговорить с Прюданс; если уж на то пошло, кого, кроме нее, действительно волнует его смерть? В какой-то степени его самого, но в меньшей, подумал он, ведь наша смерть не имеет к нам никакого отношения, Эпикур, как всегда, прав. Ладно, пока лучше в это не вникать, не сейчас, во всяком случае.
– По словам Наккаша, мои шансы на выживание оцениваются приблизительно как один к четырем, – продолжал он на удивление отстраненным тоном, он сам не понимал, откуда у него взялся такой тон.
– Да, – спокойно ответил Бокобза. – Когда затронута кость, цифры приблизительно такие. Тем не менее, учитывая отсутствие у вас метастазов и малоинвазивный характер рака, коэффициент может увеличиться, я бы сказал, до одного к двум.
– Один шанс на двоих, как в кино, да?
– Шутить ваше право, – сказал Бокобза страдальческим тоном. – С моей стороны, конечно, это было бы неуместно, но вы имеете право шутить о собственном выживании, это входит в права человека в каком-то смысле.
– У меня еще один вопрос. Я, в общем, не возражаю, чтобы мне вставили искусственную челюсть из титана, даже напротив, у меня столько проблем с зубами, что я, может, вздохну с облегчением. Но вот, если я правильно понимаю – так, по крайней мере, сказал мне хирург, – в том, что касается языка, в настоящее время никакого хорошего решения не существует.
Бокобза опустил голову и устало вздохнул, прежде чем ответить:
– Да, это правда. Мы действительно пока отстаем в этой области. Изменится вкус продуктов, речь будет затруднена. Подвижность языка в целом уменьшится.
– Нельзя ли ограничиться операцией на челюсти и не трогать язык?
Хирург невольно улыбнулся:
– Знаете, чем вы сейчас занимаетесь? Вы пытаетесь торговаться. Я бы вам посоветовал почитать еще Элизабет Кюблер-Росс. Она автор теории пяти стадий горя. Эта теория относится к нашей собственной смерти, к смерти близкого человека и, говоря шире, к любой форме горя, будь то развод или ампутация. – Он вновь посерьезнел и печально покачал головой. – Возвращаясь к вашему вопросу, ответ, увы, отрицательный. Частичное удаление опухоли не имеет смысла, это может даже стимулировать распространение рака.
– А если я откажусь от любого хирургического вмешательства? И мы ограничимся химией и радиотерапией?
– Тогда ваши шансы на жизнь существенно снизятся; с другой стороны, как знать, сделать точный прогноз невозможно. Химия сама по себе не приводит к излечению, но радиотерапия иногда, мы не знаем почему, способствует стабилизации, а затем и уменьшению опухоли, вплоть до ее полного рассасывания. Это случается редко, но случается.
– А если вообще ничего не делать, сколько мне останется?
– Месяц или около того.
Поль коротко хохотнул и внезапно умолк. Бокобза смущенно опустил голову, поднял ее через пару секунд и смутился еще больше, увидев, что по щекам Поля медленно и беззвучно текут слезы.
– У меня больше нет вопросов, доктор, – наконец сказал он совершенно спокойным голосом.
– Конечно, я бы предпочел, чтобы вы согласились на операцию… – признался Бокобза, провожая его к выходу. И за секунду до того, как Поль вышел в коридор, он схватил его за рукав и посмотрел ему прямо в глаза: – И последнее. Если облучение и химиотерапия не помогут, вы еще успеете вернуться к операции. Она будет сложнее, ткани станут более хрупкими, повысится вероятность отторжения кожного лоскута; но тем не менее все возможно. Я рискнул как-то провести такую операцию – и она прошла успешно.
5
По дороге домой Поль зашел во “ФНАК-Берси-Виллаж” на Кур-Сент-Эмильон и тут же увидел книгу Филиппа Лансона. В разделе “Духовный поиск” карманной серии он выбрал “Смерть, ворота в жизнь”[53] Элизабет Кюблер-Росс, довольно спорное название на первый взгляд, скорее уж наоборот, подумал он. Немного помедлив, он взял еще “Смерть – новое солнце”, тоже на редкость дебильное утверждение, но оно что-то ему напомнило, он не понял, что именно. И под конец купил еще книжицу некоего Давида Серван-Шрейбера, судя по всему, сборник психологических советов для больных раком. Не самая лучшая идея, сразу понял он: глубоко проникнувшись принципами позитивного мышления, автор призывал баловать себя по мере возможности, не пренебрегая, в частности, дружескими посиделками с шутками и прибаутками за бокалом доброго местного вина, употребляя его в умеренном количестве, он даже дошел до восхваления анекдотов про бельгийцев; от всего этого хотелось только лечь и умереть, особенно от шуток и прибауток; на самом деле оды местным винам и прибауткам тоже уже давно лезли у него из ушей – одним словом, это сочинение точно не для него. Элизабет Кюблер-Росс оказалась немногим лучше, его совершенно не убедила ее теория пяти стадий горя. Первые две стадии, отрицание и гнев, он, видимо, просто-напросто проскочил; третья – торг – в общем, тоже его почти не затронула, что касается последней – приятия, то она показалась ему какой-то насмешкой, и лишь четвертая стадия – депрессия – имела, на его взгляд, отношение к действительности; не теория, а сплошное очковтирательство, “Смерти, ворот в жизнь” ему хватило ненадолго. Открыв “Смерть – новое солнце”, он вдруг сообразил, что ему напомнило это название: дурацкое сравнение Ларошфуко, утверждавшего, что ни на то ни на другое нельзя посмотреть в упор, в случае солнца это откровенное вранье, в чем можно убеждаться каждое утро и довольно часто на закате. Несмотря на кретинское название, вторая книга оказалась гораздо интереснее первой: швейцарская психологиня была первопроходцем в описании околосмертных переживаний, near death experience, он смутно помнил, что о них шла речь в одной американской романтической комедии, впрочем, это все, что он из нее запомнил. Он тут же вернулся в книжный, купил произведение очередного первооткрывателя, Рэймонда Моуди, и сразу зачитался, книга уж точно намного интереснее того фильма. Все начинается с декорпорации, человек покидает свое физическое тело и зависает в воздухе в нескольких метрах от него, в больничной палате или поблизости от разбитого автомобиля. Потом раздается пронзительный звонок, вроде того, что в школе возвещает о конце перемены, и его всасывает в темный туннель, по которому он проносится с головокружительной скоростью. Затем туннель выбрасывает его куда-то в новое пространство, неизвестное и какое-то абстрактное. В некоторых случаях вся жизнь прокручивается перед его взором заново, чередой нескольких сотен мгновенных изображений. Затем появляются светящиеся существа. Родные и близкие новоприбывшего, умершие раньше него, собираются вместе, чтобы объяснить ему, как будут происходить следующие этапы; он узнаёт их всех, бабушек, дедушек и старших друзей, узнаёт каждого по отдельности. Наконец, на заключительной стадии, он воспринимает первозданный свет, согласившийся временно принять зримую форму, и понимает, что свет всегда пребудет с ним, но пока что дает возможность родственникам указать ему путь.
Эти свидетельства были прекрасны и убедительны, тем более что исходили от простых людей с ограниченным словарным запасом, они явно не смогли бы выдумать такие истории. Внетелесный опыт, безусловно, был самым критическим; Полю казалось, что нельзя даже вообразить себе жизнь вне физического тела, это немыслимо, считал он; но именно о ней люди и вспоминали, когда пробуждались, и в их воспоминаниях – в отличие от тех, других, полных гармонии и света, о продолжении пути, – ничего особо приятного не содержалось, но и неприятного, впрочем, тоже, в большинстве своем люди испытывали лишь относительное безразличие к своему физическому телу, хотя иногда у них возникало желание вернуться в него, просто потому что они к нему привыкли, но надо всеми их чувствами довлела глубочайшая неуверенность, о чем, в частности, рассказала кассирша из “Волмарта”: “Я подумала, что, наверное, умерла, но меня тревожил не столько сам факт моей смерти, сколько непонимание, куда я должна теперь идти. Я все время повторяла про себя: «Что ж мне теперь делать? Куда идти?» и еще: «Боже мой, вот я и умерла! Поверить не могу!» В конце концов я решила подождать, пока уляжется суета и унесут мое тело, а затем уже подумать, куда податься”. Как же трогательно она ожидала дальнейших инструкций, при жизни она наверняка была отличной кассиршей, и тут уж точно никак нельзя было заподозрить, что ее история всего лишь следствие повышенной секреции эндорфинов, в ней не содержалось ничего экстатического, она просто звучала ужасно странно; во всяком случае, именно такие моменты положили начало – и это касается всех возвращенцев – радикальному пересмотру их концепции жизни. Если бы он сам пережил подобный опыт, подумал Поль, то наверняка с легкостью принял бы смерть. Тот простой факт, что можно вспомнить собственную смерть и само состояние смерти, принес бы человечеству величайшее утешение, такой вывод напрашивался после прочтения свидетельств тех, кто выжил после клинической смерти. Например, фермера из Аризоны: “Я ощущал только приятное тепло и огромное счастье, какого я никогда раньше не испытывал. Я помню, что подумал: я, видимо, умер”. Или рабочего-металлурга из Коннектикута: “Я совершенно ничего не чувствовал, кроме, пожалуй, умиротворения, покоя, благодати, безмятежности. Мне казалось, что все мои неприятности позади, и я сказал себе: как тут хорошо и спокойно, у меня больше нигде ничего не болит”. Их рассказы, как правило незамысловатые и конкретные, вдруг приобретали возвышенное звучание, когда они пытались описать первозданный свет. Если бы Полю посчастливилось пережить такой опыт, он, несомненно, ожидал бы смерти без малейшего страха; но этого не случилось, так что смерть по-прежнему представлялась ему абсолютным разрушением, пугающим погружением в небытие. Никакое описание, каким бы волнующим оно ни было, не могло, судя по всему, заменить пережитый опыт. Однако он читал запоем всю вторую половину дня и вдруг подумал, что если Прюданс наткнется на эту книгу, то неминуемо решит, что он готовится к смерти; придется спрятать ее в кабинете и читать в ее отсутствие. В общем, оставался один Лансон; но, пролистав его, он быстро понял, что тут другая ситуация, в те годы 3D-печать была еще футуристической мечтой, а главное, хоть журналисту и раздробили челюсть, язык не пострадал – одним словом, их истории не имели практически ничего общего. Поэтому он принялся сочинять приемлемую версию для Прюданс без всякого подспорья; она, конечно, сразу как придет, прямо с порога, накинется на него с расспросами, но вряд ли все же заговорит с ним об этом по телефону до прихода домой, им надо физически находиться рядом, чтобы обсуждать такую важную тему; то есть у него есть еще немного времени, чтобы довести до ума свой отчет.
Идеальная ложь складывается путем наложения различных пластов правды, разделенных прослойками умолчаний; фактически она в основном состоит из недомолвок, иногда с тщательно отмеренными преувеличениями. Профессор Бокобза показался ему замечательным врачом, он полностью доверяет ему, куда больше, чем хирургу из Питье-Сальпетриер; все это он мог сказать, это же правда, и у Прюданс не возникло никаких сомнений, она безоговорочно доверяла рекомендациям Брюно. Итак, ему предлагается два способа лечения: хирургическое вмешательство, с одной стороны, и облучение с химиотерапией – с другой; это тоже правда, он просто не стал уточнять, что оба пути вполне совместимы, шансы на успех в том и в другом случае не равны и профессор Бокобза однозначно рекомендует операцию. Он тут же постарался забыть эту неудобную информацию: хорошая ложь – это ложь, в которую удается в итоге поверить самому, и Поль по ходу своих объяснений чувствовал, что лжет великолепно, что недоверие Прюданс постепенно рассеивается, еще немного – и он сам забудет о реальности, хотя бы на какое-то время.
Чрезмерно щадящая история прозвучала бы неправдоподобно, речь идет о раке как-никак, поэтому ему пришлось сдобрить рассказ тревожными, мучительными компонентами; облучение и химиотерапия пришлись очень кстати благодаря целой веренице побочных эффектов, хорошо описанных: чудовищная усталость, рвота, потеря аппетита, внезапное снижение уровня эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, иногда выпадение волос. Поль также узнал, что этот конкретный рак, рак полости рта, кроме всего прочего, имеет неприятную особенность сопровождаться зловонием, изо рта идет смрад; химиотерапия позволяет ослабить этот феномен, но не устраняет его полностью. Их разговор длился чуть больше двух часов, и Полю удалось не сорваться до самого конца, хотя это давалось ему все труднее, порой его одолевали сомнения, и хотя он ни разу не солгал в строгом смысле слова, в нем росло искушение выложить ей всю правду. Он не сдавался, зная, что поступает правильно, ему конец, понятное дело, и рано или поздно она это сообразит, причем, скорее всего, довольно быстро, но пусть дойдет до этого сама, в своем ритме. Ей будет тяжело, видимо, им все-таки следовало завести детей, ну хоть что-то это им дало бы так или иначе, что-то вроде запасной любви. Такая мысль уже приходила ему в голову несколько раз в жизни, но в конце концов он отмахнулся от нее, еще чего не хватало. В пору его юности некоторые журнальные статьи пропагандировали идеи американских социобиологов об “эгоистичном гене”; американские социобиологи рассматривали деторождение как своего рода первобытный крик гена, готового на все, чтобы обеспечить собственное выживание, пусть даже в ущерб самым элементарным интересам его носителей, при помощи дерзкого обмана подпитывая в них иллюзию, что, размножаясь, они выигрывают поединок против смерти, хотя, разумеется, верно как раз обратное, размножение у всех животных – это первый шаг к кончине, а то и мгновенная ее причина, и это частичное генетическое выживание в любом случае лишь жалкая пародия на выживание подлинное. Ничто в его воспоминаниях об отце не соответствовало этой схеме; посвятив свою жизнь служению Франции, его отец – он точно это знал – видел себя, прежде всего, стражем порядка и безопасности своей родины и, возможно, в более широком смысле – западного мира; огорченный его отношением к ГУВБ, он был еще больше удручен позицией Орельена, он усматривал в ней отказ от принципов, которые определяли его жизнь, поэтому всю отцовскую любовь он перенес на Сесиль, а затем и на ее мужа, генетика тут ни при чем, это чистой воды культурная трансмиссия.
Этот недалекий редукционизм американских социобиологов любопытным образом подкрепляет одну довольно старую американскую концепцию детства, которая по-прежнему находит свое отражение в современном американском романе: если профессиональные, дружеские и любовные отношения подаются в нем с самым отвратительным цинизмом, то отношения с детьми представляются, напротив, неким зачарованным миром, волшебным островком в бескрайнем море эгоизма; это еще отчасти объяснимо в случае с младенцем, который прижимается всем своим нежным тельцем к вашему плечу, правда, потом за несколько секунд перекидывает вас из этого рая в ад беспричинных приступов ярости, загодя проявляя таким образом свою тираническую, авторитарную сущность. Восьмилетний ребенок, свято чтимый партнер по бейсболу и озорной мальчонка, еще не утратил своего очарования, но вскоре после этого, как известно, все катится под откос. Любовь родителей к детям общепризнана, это даже естественное явление, особенно у женщин; но дети никогда не отвечают на эту любовь и никогда не бывают ее достойны, любовь детей к родителям абсолютно противоестественна. Если бы, не дай бог, у них родился ребенок, подумал Поль, им с Прюданс не выпало бы счастье воссоединения. Ребенок, едва достигший берегов юности, видит свою первостепенную задачу в разрушении супружеской жизни родителей, в частности, в сексуальном плане; ребенку невыносимо сознавать, что родители занимаются сексом, тем более друг с другом, он вполне логично полагает, что с момента его появления на свет эта сторона их жизни лишается права на существование и являет собой не более чем гадкий старческий порок. Это не совсем то, чему учил нас Фрейд, но Фрейд вообще мало что в этом смыслил. Уничтожив родителей как пару, ребенок принимается уничтожать их по отдельности, его главная забота – дождаться их смерти и получить наследство, о чем наглядно свидетельствует французская реалистическая литература XIX века. Еще спасибо, что они не всегда пытаются торопить события, как у Мопассана, который писал с натуры и нормандских крестьян изучил лучше, чем кто-либо. Короче, с детьми вот так оно обычно и происходит.
Видимо, им все-таки следовало завести собаку, но они ее не завели, и теперь остались друг у друга одни, и им себя должно хватить до самого конца. Единое целое, образованное супружеской парой, а точнее, гетеросексуальной парой, остается основной практической возможностью проявления любви, и через несколько месяцев, а то и через несколько недель Прюданс утратит это навсегда. Потом придет ее очередь умирать, с этим она быстро справится, но последние минуты жизни дадутся ей нелегко, и не по причине ее собственной смерти, на нее ей глубоко наплевать, женщины с легкостью отождествляют себя с возложенной на них функцией и с легкостью понимают, что когда их функция заканчивается, заканчивается и их жизнь; мужчины же находятся в более деликатном положении, ввиду различных исторических причин им иногда удается определить свою функцию по отношению к собственному бытию, или, по крайней мере, им так кажется, в связи с чем они, естественно, склонны придавать вышеозначенному бытию особое значение и бывают весьма обескуражены, когда и оно подходит к концу. Последние минуты жизни дадутся Прюданс нелегко просто потому, что пройдут в одиночестве и будут лишены смысла: зачем? чего ради?
Она заснула в его объятиях, очевидно успокоившись; когда кто-то, а главное женщина, страстно желает чего-то, то убедить ее в том, что это желание исполнится, не составляет особого труда. С Брюно придется труднее: он знал, что Бокобза – хирург и, возможно, уже даже успел с ним поговорить; надо будет прямо завтра ему позвонить.
Честно говоря, в правила хорошего тона, принятые в среде, где вращался Поль, лишь недавно включили обязанность умалчивать о собственной агонии. Поначалу неприличной стала считаться болезнь как таковая, этот феномен широко распространился на Западе еще в пятидесятых годах прошлого века, в первую очередь в англосаксонских странах; любая болезнь в некотором смысле являлась теперь стыдной болезнью, а смертельные болезни, естественно, самыми стыдными из всех. Что касается смерти, то это уж верх непристойности, и вскоре ее решили скрывать как можно дольше. Похоронные церемонии укоротились, и благодаря техническому нововведению – кремации – удалось ускорить процесс, так что к восьмидесятым годам все более или менее устаканилось. И уже совсем недавно в наиболее просвещенных и прогрессивных слоях общества договорились замалчивать и агонию. Никуда не денешься, умирающие не оправдывают возложенных на них надежд, более того, они зачастую упрямятся, отказываются позиционировать свою кончину как отличный предлог устроить мегапати, что приводит порой к досадным недоразумениям. В таких условиях наиболее просвещенные и прогрессивные слои общества пришли к выводу, что лучше даже не заикаться о госпитализации, так что супругам или, за неимением оных, ближайшим родственникам вменяется в обязанность преподносить ее как внеочередной отпуск. В случае если она затягивается, многие прибегают к более рискованной выдумке, вроде саббатикала, например, но за пределами университетских кругов в это трудно поверить, да и необходимость в длительной госпитализации теперь возникает довольно редко, она стала исключением, поскольку решение об эвтаназии принимается обычно в течение нескольких недель, а то и дней. Развеивание праха проводится по-тихому кем-то из членов семьи, когда таковой находится, а если нет, то каким-нибудь юным клерком из нотариальной конторы. Такую одинокую смерть, более одинокую, чем когда-либо за всю историю человечества, недавно превознесли до небес авторы ряда работ о личностном росте, те же самые, что несколько лет назад курили фимиам далай-ламе, а сравнительно недавно перекинулись на фундаментальную экологию. Они усмотрели в этом долгожданный возврат к определенной форме звериной мудрости. Ведь не только птицы прячутся, чтобы умереть[54], как гласит во французском варианте название знаменитого бестселлера австралийской писательницы, по которому, кстати, сняли еще более знаменитый и прибыльный телесериал; подавляющее большинство животных, даже самые социальные из них, как, скажем, волки и слоны, чувствуя приближение смерти, испытывают необходимость отделиться от группы; так говорит голос природы, исполненный многовековой мудрости, подчеркивали авторы ряда работ по личностному росту.
Он знал, что Брюно не придерживается этих новомодных цивилизационных кодов, принятых в сфере образованной буржуазии; он был скорее из тех, кто привык смотреть правде в лицо, называть вещи своими именами и не прилагать ни малейших усилий для лакировки действительности. Кстати, он сам первый позвонил, Поль даже не успел еще до конца отшлифовать свою версию событий. Однако он, в общем, неплохо справился, во всяком случае, такое у него сложилось впечатление. От операции как от терапии первой линии он отказался и откровенно признался, что это уменьшает шансы на выживание, но к этому вопросу он сможет вернуться позже, если радиотерапия не принесет желаемого результата. Он просто решил не уточнять, что шансов на успех операции при таком раскладе будет намного меньше. Две правды плюс одно умолчание: та же тактика лжи, что в разговоре с Прюданс, сработала, судя по всему, и с Брюно; он будет ему позванивать, сказал Брюно перед тем, как попрощаться.
На следующий день у него была назначена встреча с Дюпоном и Дюпонном, на сей раз в кабинете химиотерапевта, небольшом уютном помещении с затянутыми зеленым бархатом стенами – поразительная картина для больницы. Полю указали на диванчик у правой стены. Дюпон сидел во вращающемся кресле за своим столом, Дюпонн в вольтеровском кресле напротив него. Дюпонн повернулся к Полю, посмотрел на него долгим взглядом и сказал:
– Естественно, мы сделаем все, что в наших силах, – и по его смиренному тону сразу стало понятно, что он вполне допускает провал.
– Бокобза, надо думать, подробно описал вам ситуацию, – подхватил Дюпон. Явно они все испытывали глубокое почтение к Бокобзе, даже Брюно никогда не пользовался в кругу своих коллег и соратников таким единодушным уважением, а он, упрекнул себя Поль, пробыв в присутствии Бокобзы несколько минут, не отнесся с подобающим вниманием к этому человеку, выдающемуся практику и специалисту в своей области, таких, как он, немного – несколько тысяч, а то и сотен, никак не больше, – все держится на их плечах, благодаря им и функционирует социальная машина.
Дюпон никоим образом не мог гарантировать ему жизнь, да и никто не смог бы, кроме, возможно, Господа Бога или архонтов иных обществ, скорее обществ будущего, смутное представление о которых нам дает Южная Корея; он мог гарантировать только, что все будет сделано в соответствии со стандартами социального обеспечения в его стране. Франция находится, конечно, в упадке, но пока еще предоставляет все-таки лучшую техническую базу, чем Венесуэла или Нигер.
Затем врачи исполнили оживленный дуэт, его основные сюжетные линии были наверняка стандартными для всех пациентов, но в каждом конкретном случае добавлялась экспромтом какая-нибудь деталь, их задачей было примирить больного с мыслью, что ему придется нелегко, а то и совсем тяжко – особенно, видимо, лично ему, отказ от операции подразумевает необходимость лобовой атаки на опухоль массивными дозами облучения. Усталости, тошноты и рвоты избежать не удастся. Следует ожидать также и значительной потери веса, учитывая, что раковые клетки потребляют невероятное количество энергии, гораздо больше, чем здоровые. Да, в том, что раковые клетки крайне энергоемки и способны захапать всю энергию, поступающую в организм, заключена известная ирония, ирония и жестокость, с грустью признал Дюпон; какая же мерзость этот рак, кто б сомневался.
6
В понедельник, 19 июля, ближе к полудню, Поль отправился в больницу на первые сеансы. Город уже начали постепенно покидать его обитатели, окончательно он опустеет через две недели; в это время он любил оставаться в Париже – в обычной жизни.
Он не без труда отыскал нужное место. Это оказалось просторное блочное одноэтажное строение, одиноко стоявшее во внутреннем дворе – в эту часть больницы он раньше не попадал. В застекленном коридоре ждали своей очереди человек десять. Когда он сел рядом с ними, предварительно назвав свою фамилию медсестре в регистратуре, они подняли головы, коротко взглянули на него и отвернулись. Никто из присутствующих не разговаривал и не читал; их одиночество было полнейшим. Время от времени они смотрели друг на друга “с мукой и без надежды”, как сказал Паскаль, и снова замыкались в себе. Они, несомненно, являли собой “образ удела человеческого”, как сказал все тот же Паскаль, и это еще был отнюдь не худший удел старого цивилизованного общества; в мире найдется немало мест, где люди вместо того, чтобы целые дни напролет сидеть в камере смертников, готовы с энтузиазмом предаться хмельной кровавой битве; в мире найдется немало мест, где уход ближнего своего, коллеги, к месту казни встречают не равнодушно, а взрывом неистовой радости.
Поль захватил с собой книгу Филиппа Лансона, но с удивлением понял, что у него нет желания ее читать. Лучше бы он купил ее несколько недель назад, когда изнывал при мысли, что попадет в лагерь тяжелобольных; теперь уже слишком поздно. Филипп Лансон тяжело и даже безнадежно болен, он всегда будет вызывать отвращение у себе подобных, и в некотором смысле ему подобных у него больше не будет. Но Поль с тех пор, как узнал, что смертельно болен, уже прошел ту стадию, когда еще можно искать себе подобных; он оказался среди приговоренных, неисцелимых, в сообществе, которое таковым никогда не станет, в безмолвном сообществе существ, растворяющихся мало-помалу вокруг него, он шел “долиною смертной тени”, как говорится, и впервые эти слова явились ему во всей своей силе; он открывал для себя странную, остаточную форму жизни, совершенно отдельную, с абсолютно иными устремлениями, чем те, что обуревают живых.
Ждал он недолго, вскоре его позвали в один из залов по левой стороне коридора. В центре комнаты возвышался огромный агрегат из того же кремового металла, что и ПЭТ, и он тоже, казалось, вышел прямиком из “Звездных войн”. Дюпонн, которому ассистировала медсестра, производил впечатление служителя культа при агрегате; он сам устроил Поля на койке между нарисованными фломастером метками и вынул маску из плотной резины.
– Мне придется надеть это вам на голову, – предупредил он, – в течение сеанса вы должны лежать неподвижно, чтобы избежать облучения здоровых участков.
Затем он закрепил маску на койке. Поль почувствовал, что невольно вздрогнул, но его лицо и плечи оказались надежно обездвижены.
– Не волнуйтесь, – тихо сказал врач. – Я знаю, как неприятно, когда вас так зажимают, но это не займет много времени, и вам будет совсем не больно.
Поль закрыл глаза.
После сеанса у него немного кружилась голова, Дюпонн помог ему встать, это нормально, сказал он, ему бы лучше отлежаться на соседней кушетке перед уходом. Сеанс химиотерапии ему назначили на час дня, так что у него есть время что-нибудь перекусить, если захочется, у них тут превосходный больничный кафетерий, так он считает, ну, Поль, вероятно, не слишком голоден. Как только Поль лег, на него накатил ужасный приступ тошноты, он бросился в туалет, но его вырвало лишь каплей едкой желчи.
Химиотерапия проходила в другой части больницы, где он тоже еще не бывал, вот ведь какая огромная больница. Он вошел в зал с высокими потолками и длинными рядами одинаковых кроватей, стоящих на расстоянии нескольких метров друг от друга, наверное, это очень старый зал. Действительно, подтвердил Дюпон, его построили в 1910 году, в этой больнице представлены почти все эпохи последнего столетия, а то и двух, ну, пациенты, разумеется, предпочитают более современные помещения, но на самом деле это не играет никакой роли, оборудование, само собой, везде одинаковое, хотя, конечно, в атмосфере общественного хосписа веселого мало, тут ночевать никому не захочется, так что фактически эта палата используется только как дневной стационар. Что касается собственно химиотерапии, то “я вам тут приготовил один коктейльчик”, – он попытался изобразить лукавую ухмылку, но его лицо не было создано для лукавой ухмылки.
– Мы надеемся, что химия поможет сократить самые неприятные моменты, – продолжал он уже серьезнее.
– Запах? – спросил Поль.
– Да, в частности, запах, – скорбно кивнул он, – ваша опухоль скоро завоняет. Я понимаю, как ужасно, когда близкие отшатываются от вас, но что они могут поделать, поймите, иногда изо рта прямо гнилью несет; но я вам обещаю, что до этого не дойдет. Лечение проводится путем внутривенных вливаний, сейчас придет медсестра, чтобы установить инфузионный пакет, капельница прокапает часов за шесть.
Он сам зайдет через час-два проверить, все ли в порядке. Поль обалдел: шесть часов под капельницей, он не ожидал.
– Да, – согласился Дюпон, – выдержать это трудно, но зато это самый эффективный метод; позже, если все пройдет хорошо, можно будет, вероятно, рассмотреть прием этого препарата в таблетках, но пока что без капельницы никак. – Тут подошла медсестра, толкая перед собой стойку с капельницей на колесиках. – Жена ведь заедет за вами? – спросил врач. Поль кивнул. – Ну и хорошо, – сказал он. – По идее, побочные эффекты проявятся позже, ближе к вечеру, но так, конечно, будет спокойнее.
Когда он ушел, Поль огляделся. В зале почти никого не было, человек десять пациентов от силы рассредоточились на значительном расстоянии друг от друга, как одинокие светила.
Большинство из них лежали, как и он, другие сидели на стуле рядом с капельницей. В окне, высоко под потолком, золотился сквозь пыль солнечный луч; стояла полная тишина. Шесть часов под капельницей каждый день, пять раз в неделю, все-таки перебор, подумал он. Чтобы это выдержать, нужны книги; вот только какие? На кону стоит его жизнь как-никак, так что книги должны быть на высоте положения. Может, Паскаль, чтобы далеко не ходить. Или что-то совсем другое, какие-нибудь эскапистские романы или таинственные приключения, типа Бакена или Конан Дойла.
Дюпон вернулся в семь с чем-то, как раз перед тем, как его должны были отпустить; первый раз он зашел к нему в три, сказал он, но Поль спал. Уходя, он вручил ему листок с перечнем побочных эффектов, в котором более подробно объяснялось то, что он уже рассказал ему раньше. В конце недели ему сделают анализ крови, снижение форменных элементов крови иногда проявляется не сразу.
Прюданс ждала его у главного входа; она бросила на него обеспокоенный взгляд, обняла за талию и повела к такси. Да ладно, все в порядке, запротестовал он; но на самом деле, стоило ему войти в квартиру, как он почувствовал необходимость прилечь, позже ему удалось проглотить лишь несколько ложек супа, и его снова вырвало. Бедная Прюданс, подумал он, взбила овощи, и все такое. Ему ведь надо как-то питаться, сказала она; в больничной памятке рекомендовали картофель, пасту, крахмалосодержащие продукты. Поначалу будет очень тяжело, успокоил ее он, но ему пообещали, что через пару дней станет лучше. Ничего подобного ему не обещали, и когда он это говорил, ему стало очевидно, что Прюданс верит ему не только потому, что жаждет поверить в любую хорошую новость, а в сущности, потому, что сама не способна ни соврать, ни даже помыслить о вранье, это не в ее характере.
Он быстро отыскал в своей библиотеке полное собрание рассказов о Шерлоке Холмсе, изданное в двух томах в серии “Книжки”, но все-таки удивился, когда уже на следующий день после обеда ему удалось отрешиться от собственного существования и увлечься умозаключениями гениального сыщика и зловещими кознями профессора Мориарти; что еще, кроме книги, могло бы оказать на него такое действие? Уж никак не фильм и тем более не музыка; музыка – это для здоровых людей. Да и философия не подошла бы, равно как и поэзия, поэзия тоже не предназначена для умирающих; это обязательно должно быть художественное произведение, и чтобы в нем непременно описывались жизни, не похожие на его жизнь. И в сущности, подумал он, эти другие жизни не обязаны быть такими уж захватывающими, тут даже не требуется невероятное воображение и талант Артура Конан Дойла, выдающегося рассказчика, описанные жизни могут быть таким же тоскливыми и неинтересными, как его жизнь; они просто должны быть другими. И кроме того, уже по более загадочным причинам – вымышленными; ни биография, ни автобиография не подойдут. “Какой роман – моя жизнь!” – воскликнул Наполеон – и ошибся. “Мемориал Святой Елены”, его автобиографию, читать так же невыносимо скучно, как историю какого-нибудь почтового служащего, – нет, реальная жизнь явно не на высоте. Жизни, подобные наполеоновской, могут еще местами оказаться интересными – не исключено, например, что он оттянулся по полной при Ваграме или Аустерлице, но это еще не повод называть в их честь станции метро.
Посредственные жизни с малой амплитудой, преображенные талантом или гением – ненужное зачеркнуть – автора, возможно, имеют дополнительное преимущество, наглядно демонстрируя, что его собственная жизнь не так уж и никчемна. Отдых на Корсике с Прюданс вполне достоин добросовестного порнофильма, особенно эпизоды на пляже Мориани – вот как этот пляж назывался, он вспомнил наконец; некоторые их диалоги с Брюно не стыдно было бы включить в политический триллер. Одним словом, есть что вспомнить.
В пятницу после обеда он погрузился в чтение “Долины страха”, точнее, сцены, где Макмердо с поразительным мужеством переносит церемонию посвящения у метельщиков, но тут санитарка сообщила, что его пришла повидать сестра. “Сестра?” – тупо переспросил он. “У вас же есть сестра?” – забеспокоилась санитарка, не могла же она впустить незнамо кого, с нее потом спросят. Да, разумеется, у него есть сестра, медленно проговорил Поль и с превеликим трудом оторвался от книги.
Когда Сесиль оказалась в трех метрах от кровати, он понял, что дело плохо, она сейчас даст волю ярости.
– Операция! – воскликнула она и умолкла, задыхаясь от возмущения, не в силах продолжать. – И не надо мне лапшу на уши вешать, я ходила к твоему ЛОРу. – Он изумился и пробормотал что-то о врачебной тайне. – Никакой врачебной тайны он не выдал. Я сказала, что мне известно, что ты отказался от операции; я была уверена, что ты что-то подобное выкинешь, я все прочла в интернете об этом типе рака, ну, и тебя немного знаю. Я сказала, что пришла просить его, чтобы он заставил тебя передумать. Он ответил, что и рад был бы попытаться, но ты ведь не перезвонил ему, чтобы записаться на прием, и договорился напрямую с больницей.
– Все равно уже поздно… – произнес Поль слабым голосом.
– Да, знаю, это он мне тоже сообщил. Теперь уж лучше продолжать радиотерапию в течение семи недель, потом они заново изучат ситуацию.
– Почему семи недель?
– Ты даже не поинтересовался! – в бешенстве выкрикнула она, по ее виду было ясно, что она вот-вот снова взорвется. – При пяти сеансах в неделю потребуется семь недель, чтобы достичь семидесяти греев, это максимальная доза облучения, которую может выдержать человек; радиотерапия не безвредная вещь, есть сопутствующий ущерб, как выразился твой доктор. Но тебе, судя по всему, только бы уклониться от операции, и плевать ты хотел на все остальное. Я не понимаю, Поль. Он сказал, что тебя готов прооперировать лучший хирург в Европе. Я знаю, что все мужики – трусы, но чтоб до такой степени… К тому же, я уверена, что ты солгал своей жене.
– Нет, не вполне.
– Да ну? То есть умолчал о некоторых вещах?
– Скорее так.
– Понятно. Даже соврать толком тебе слабо. Не волнуйся… – продолжала она, поймав его обеспокоенный взгляд. – Я ничего ей не скажу и вообще не собираюсь вмешиваться в вашу жизнь. Тем более что уже поздно менять лечение, зачем попусту причинять ей боль. Но вот интересно, сколько ты еще намерен тянуть, прежде чем скажешь ей правду…
Поль молчал; на самом деле он сам себе задавал этот вопрос. Сесиль тоже замолчала; судя по ее виду, она успокаивалась, и ее ярость постепенно уступила место печали.
– В этом году уже умер Орельен, это будет перебор, – сказала она наконец. – Думаешь, мне приятно, что оба моих брата – самоубийцы?
– Это совершенно разные вещи! Я не кончаю с собой, просто предпочитаю одно лечение другому. Бывает, что радиотерапия приводит к полному выздоровлению, спроси врачей, они тебе подтвердят.
Она поморщилась с сомнением, почти презрительно; очевидно, Наккаш не нахваливал ей преимущества радиотерапии.
– Это сложная история, но я могу вылечиться таким образом, – настаивал Поль. – Кстати, помолись за меня, если захочешь.
– Прекрати! – Она вскочила, снова рассвирепев. – Немедленно прекрати!
– Что опять не так? – Он определенно ничего не смыслил в ее вере.
– За тебя молиться бессмысленно! – закричала она. – Это будет чуть ли не святотатством, молитва никак на тебе не отразится, потому что в глубине души ты не хочешь жить. Жизнь – это дар Божий, и Бог поможет тебе, если ты сам себе помогаешь, но если ты отвергаешь дар Божий, он бессилен что-либо для тебя сделать, к тому же ты не имеешь никакого права его отвергать, ты воображаешь, что твоя жизнь принадлежит тебе, но это не так, твоя жизнь принадлежит тем, кто тебя любит, ты принадлежишь Прюданс прежде всего, но немножко и мне и, возможно, еще другим людям, с которыми я не знакома, ты принадлежишь другим, даже если и не знаешь об этом.
Смутившись, она снова села и попыталась успокоиться, ее дыхание пришло в норму, но ей понадобилась целая минута, чтобы заговорить снова:
– Я, конечно, конченая дура, ты лежишь под капельницей, а я прихожу и ору на тебя… Но я правда разозлилась. Я просто потрясена была, узнав, что ты отказался от операции. Я не хочу, чтобы ты умер, Поль.
Слабым, еле слышным голосом он ответил:
– Я не хочу, чтобы мне отрезали язык.
Она тяжело вздохнула и встала:
– Прости меня. Все, что я тебе тут наговорила, это полная ерунда, я пойду, мне надо прийти в себя и подумать немного. Но имей в виду… – Она пристально посмотрела ему прямо в глаза, ее лицо стало любящим, ясным, ей это шло куда больше, нравственный надрыв уж точно не ее конек. – Что бы ни случилось, ты всегда можешь позвонить мне, я все брошу и примчусь сидеть с тобой, это займет у меня всего несколько часов. Ты можешь позвонить мне в самый последний момент, и даже если до того ни разу не позвонил и не держал меня в курсе дела. И я приеду.
Уходя, она все время оборачивалась и махала ему рукой, но ее силуэт почему-то постепенно размывался в его глазах; вероятно, у него проблемы со зрением вдобавок ко всему.
Семь
1
Когда она переступила порог зала и вышла, у Поля возникло очень четкое ощущение, почти уверенность в том, что он больше никогда не увидит ни Сесиль, ни Эрве, а уж Анн-Лиз и подавно. Он вообще мало кого еще увидит на этой земле, а если увидит, то сделает все, чтобы избежать атмосферы прощания, он ни на мгновение не утратит в меру оптимистичного и даже смешливого отношения к происходящему, он поступит, как все, то есть утаит собственную агонию. Можно сколько угодно презирать, а то и ненавидеть свое поколение и свое время – хочешь не хочешь ты к ним принадлежишь и действуешь, сообразуясь с принятым взглядом на вещи; только незаурядная сила духа позволяет от этого отрешиться, а такой силой он никогда не обладал. Несколько дней назад он, наверное, в последний раз разговаривал по телефону с Брюно, и, по своему обыкновению, Брюно проявил себя человеком компетентным, преданным, деловым. Он повидался с Сесиль, и, по своему обыкновению, Сесиль была сердечной, эмоциональной, вспыльчивой. Он собирался еще повидаться с отцом, хоть и не понимал пока, когда именно, ему необходима эта последняя встреча, с отцом будет еще проще, учитывая его состояние, он может быть только непроницаемым, загадочным и безмолвным, да он таким и был всю жизнь. Отношения между людьми, вообще говоря, очень незначительно меняются в течение жизни, они подчиняются схемам, установившимся с самых первых мгновений знакомства, и, видимо, так было всегда.
Наконец-то он останется наедине с Прюданс до самого финала, такое одиночество им выпадет впервые. Одну лишь Прюданс он чувствовал себя вправе подвергнуть этому испытанию, каким станет для нее увядание его тела, ей придется сопровождать его в угасании и муках, она несет ответственность за его тело, в этом и состоит, казалось ему, смысл брака, он отдал свое тело на милость Прюданс и, в общем-то, правильно сделал, она сумеет заботиться о нем до самого конца. Он удивился собственной внезапной беззаботности, какой-то потусторонней, и с легким сердцем снова окунулся в приключения Макмердо, Сканлана и Макгинти. Всю неделю он не отрываясь читал приключения Шерлока Холмса и благодаря им легко переносил ежедневную шестичасовую химию. Дюпон навещал его каждый день ближе к вечеру, вооружившись шпателем, изучал его нёбо, иногда брал пробу из опухоли и, похоже, был удовлетворен, она не прогрессирует, возможно, даже немного регрессирует, но он не хочет зря его обнадеживать, она в любой момент может снова начать расти, это непредсказуемо.
Прюданс, со своей стороны, наконец нашла продукты, которые он мог переварить и есть, не испытывая немедленно позывов к рвоте: в основном все свелось к отварной картошке, пасте без соуса и безвкусным сырам типа плавленых; с гастрономической точки зрения закат его жизни был ничем не примечателен.
На сексуальном фронте ситуация оказалась не столь однозначной. Он очень ослаб, его передвижения по квартире постепенно ограничились пространством между кроватью и креслом, прямо как в песне Жака Бреля, хотя он еще не достиг последней стадии “с кровати в кровать”. Он мог вставать, но ему удавалось пройти всего несколько метров, потом ноги непроизвольно подкашивались, и приходилось садиться; теперь даже просто перевернуться в постели с боку на бок стоило ему неимоверных усилий. В таких условиях не очень понятно, как заниматься любовью. Но тем не менее у него стоял, и даже почти нормально, очевидно, его член вообще не заморачивался его здоровьем, требовал воздать ему по заслугам и, судя по всему, жил своей жизнью, совершенно независимой от остального тела. Да и мозг, надо сказать, находился в том же состоянии: Поль не испытывал трудностей при чтении, легко понимал авторские аллюзии и остроты, мог по достоинству оценить фигуры речи; как же все-таки интересно это устроено.
Саббат Лугнасад выпал на первое августа, в это время, по словам Скотта Каннингема, “по мере того, как ночи становятся длиннее, Бог постепенно теряет силу; Богиня наблюдает за ним с печалью и радостью, она понимает, что Бог агонизирует, но продолжает жить в ней словно ее ребенок”. В то воскресенье, первого августа, около шести часов вечера Поль сидел на супружеской кровати, опираясь на подушки, он только что закончил “Человека с побелевшим лицом”, восхитительный рассказ, в финале которого происходит что-то вроде медицинского чуда, и он подумал, что его уже гораздо меньше отвращает выклянчивание чуда у Господа, языческих богов да и у любых других сущностей, но тут к кровати подошла Прюданс в одной коротенькой футболке выше пояса и спросила, не сделать ли ему минет. Последние несколько дней она никак не решалась на это, потому что предложение сделать ему минет в какой-то степени означало бы, что она утвердилась в мысли, что он никогда больше не сможет ее трахнуть, войти в нее по-настоящему, но сегодня в середине дня она вдруг с предельной ясностью осознала, что он действительно устал, что им неминуемо придется как-то приспосабливаться, если они хотят и впредь жить половой жизнью, пора уже посмотреть правде в глаза, кроме того, у нее всегда мастерски получался минет, каким-то она обладала особым чутьем.
У них получился очень долгий мечтательный минет, он начался в начале седьмого, закончился около девяти вечера и доставил ему невероятное наслаждение, одно из величайших наслаждений, которые он испытал в своей жизни. Она прерывалась иногда, чтобы отдышаться, и во время одного такого перерыва он начал ее лизать; не будучи столь же одаренным, он все-таки худо-бедно справлялся с оральным сексом и даже попытался пошутить о последствиях, которыми было бы чревато удаление языка для их супружеской жизни; но на эту тему, он сразу понял, шутить сложно.
Так начались две самые спокойные недели в году, в первой половине августа Париж весь целиком напоминал ему больницу, но при этом в нем не ощущалось никакой тревоги, то есть скорее не больницу, а санаторий. Во вторник, 3 августа, после полудня, вскоре после того, как медсестра поставила ему капельницу, он начал читать “Его прощальный поклон”, ну, то есть саму новеллу, последнюю в одноименном сборнике. Незадолго до начала Первой мировой войны Шерлок Холмс прервал свое пчеловодческое уединение ради служения родине и успешно осуществил поимку немецкого шпиона фон Борка. Поль долго размышлял над последней страницей, которую нельзя все же рассматривать как завещание Конан Дойла – он много чего написал еще впоследствии, – но вот завещанием самого его прославленного персонажа – пожалуй, да.
– Скоро подует восточный ветер, Уотсон.
– Не думаю, Холмс. Очень тепло.
– Эх, старина Уотсон! В этом переменчивом веке вы один не меняетесь. Да, скоро поднимется такой восточный ветер, какой никогда еще не дул на Англию. Холодный, колючий ветер, Уотсон, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет ниспослан Богом, и когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее. Пускайте машину, Уотсон, пора ехать[55].
Поль отнюдь не верил, что Англия вышла окрепшей из Первой мировой войны, как, впрочем, и другие европейские нации; ему казалось, что, напротив, эта дурацкая бойня, несомненно, положила начало терминальной фазе заката Европы; но раз Конан Дойлу удалось убедить себя, что Англия выйдет из нее возрожденной, то тем лучше; прочитав два тома рассказов о Шерлоке Холмсе, он преисполнился нежной признательности Артуру Конан Дойлу, благодаря которому он на десять дней и думать забыл про капельницу, рак и все прочее. Пятнадцати томов полного собрания сочинений Агаты Кристи, которые он только что купил, с лихвой хватит на всю радиотерапию и химию – ему оставалось еще недель шесть, если верить Сесиль.
Но с Агатой Кристи у него довольно быстро возникли затруднения, дело в том, что она хоть и хороший писатель, но все же до Конан Дойла ей далеко. Ее книги менее увлекательны и не обладают столь же мощным воздействием, так что вскоре он снова вспомнил о капельнице и об игле, вонзенной ему в руку, испытывая жгучее желание выдернуть ее. В идеале ему надо было бы уснуть, но он никогда не умел спать на спине. Это положение напоминало ему надгробные памятники королей Франции, застывших на веки вечные в иератической позе, с молитвенно сложенными руками, что никак не сочеталось с его представлением о ночном отдыхе. Спать на животе немногим лучше, это удобно лишь после чересчур обильной трапезы, и вообще-то это очень похоже на глупый сон сытого животного. Он в принципе предпочитал, причем всегда предпочитал, спать на боку. Кроме того, только так, свернувшись, можно повторить позу эмбриона, неизменно вызывающую в нас до конца наших дней неистребимую ностальгию.
Он всегда предпочитал не только спать на боку, но и заниматься любовью, лежа на боку, особенно с Прюданс. На взгляд Поля, миссионерская поза мало чем отличается от позы раком, в обоих случаях ритм и жестокость хватки контролирует движениями таза мужчина. В обоих случаях женщина – раздвинув бедра или приподняв попу – попадает в ситуацию подчинения, что, конечно, является весомым аргументом в пользу этих поз, но в то же время подчеркивает их ограниченность, поскольку они все же позаимствованы из мира животных, особенно поза раком. Позиция, где женщина сверху, казалась ему, напротив, излишне торжественной, возвышающей женщину до положения женского божества, предающегося некому ритуалу поклонения фаллосу; ни он, ни его фаллос, считал он, не заслуживали такого пафоса. А главное, только в положении на боку ему удавалось, проникая в Прюданс, сжимать ее в объятиях, ласкать ее, прежде всего ласкать ее грудь, она всегда это любила; Полю казалось, что это самая любовная и сентиментальная поза из всех, самая человечная.
Во многих жизненных обстоятельствах он чувствовал себя лучше на боку. Даже в случае такого куда менее важного занятия, как плавание, он плавал на боку, стилем овер-арм, и всегда отдавал ему предпочтение. Потому что так можно постоянно держать нос и рот над водой и, следовательно, дышать в своем ритме независимо от скорости движений; то есть это единственный стиль, благодаря которому плавание превращается в обычное приятное занятие. Плавание на спине тоже, в общем, могло бы отвечать его критериям, но невозможность задать точное направление движению противоречит основному принципу плавания – поскольку, как и ходьба, это способ перемещения из одного места в другое – и превращает его в искусственное и бессодержательное упражнение. Короче говоря, Поль большую часть времени старался жить на боку.
2
В пятницу, 6 августа, его раздражение из-за капельницы достигло такого накала, что сочинениям Агаты Кристи уже не удавалось его рассеять, за исключением разве что нескольких историй с Пуаро, и он решил обсудить эту проблему с Дюпоном, когда тот к нему зашел. Дюпон выслушал его без удивления, даже с некоторой долей смирения, а потом достал из портфеля какую-то карточку.
– Вы продержались три недели, ни разу не пожаловавшись, – заметил он, – что, в общем, в пределах нормы. Практически никто не в состоянии выдержать капельницы до конца. А жаль, ведь иногда это дает надежду на выздоровление, правда, не в вашем случае: если нам удастся стабилизировать ситуацию, уже хорошо.
Зато появилась, судя по всему, перспектива нового лечения, нечто совсем другое, ну, это, конечно, пока неточно, надо будет взять на анализ несколько раковых клеток и провести молекулярно-генетическое тестирование, тогда он сможет сказать что-то определенное; он готов взять клетки прямо сегодня. Поль кивнул. Если он не против, продолжал Дюпон, ему все же продлят химию на неделю, а потом уже примут решение. Поль опять кивнул.
Дюпон снова пришел только через неделю, в пятницу 13 августа, в конце дня, Поль уже не слишком сосредотачивался на капельнице, он с увлечением читал “Свидание со смертью”, довольно неплохой роман с Пуаро, особенно в нем удался образ деспотичной леди Бойнтон. Она была изображена настоящим чудовищем, ее дети дрожали от страха в ее присутствии, так что ее смерть представлялась им единственным шансом на избавление.
На молекулярный анализ ушло много времени, сказал Дюпон, потом он долго с этим разбирался, важно понять, что это инновационный метод лечения, его еще толком и не опробовали.
– В моем положении, – заметил Поль, – можно и поэкспериментировать, я считаю…
Врач невольно улыбнулся. “Вы правы, – признал он, – я бы предпочел сформулировать это иначе, но так оно и есть”. Он собирается предложить ему сочетание легкой – пероральной – химиотерапии и иммунотерапии, основанной на совершенно другом принципе: тут дело уже не в прямой атаке на опухоль, важно научить иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Если говорить конкретно, то от капельниц его это не избавит, но они будут короче, их можно ставить в домашних условиях и, главное, гораздо реже – одной инфузии раз в две недели будет достаточно.
– Сущий пустяк!.. – воскликнул Поль. – Это совсем другое дело!
– В каком-то смысле да, но вы должны понимать, что у нас нет ни достаточных наблюдений по иммунотерапии, ни клинических испытаний, то есть никаких гарантий дать нельзя, не исключены также и побочные эффекты, о которых мы ничего не знаем.
– И когда мы приступаем? – спросил Поль, вполуха выслушав его предостережения.
– В следующий понедельник.
Дюпон ушел только около семи, уже через несколько минут за ним заедет Прюданс, и тут он вдруг безумно обрадовался при мысли, что впервые ему не придется ей врать. Он может даже подчеркнуть, что это передовая терапия, а о связанных с ней рисках упоминать необязательно. Главное, начиная с понедельника он будет возвращаться домой уже к часу дня, к тому же радиотерапия завершится через три недели, в начале сентября, ему вообще не нужно будет ездить в больницу, и они наконец смогут подумать о том, чтобы уехать из Парижа.
Он заговорил с ней об этом, только когда они пришли домой. Ну как еще она могла отнестись к таким новостям, ее захлестнули волны восторга и надежды, она преисполнилась уверенности, что на этот раз все будет в лучшем виде, что процесс исцеления пойдет полным ходом, Поль не помнил, чтобы когда-нибудь видел ее такой счастливой, и ему недостало мужества умерить ее оптимизм; он-то понимал, что все еще может пойти по совсем другому сценарию. В отличие от Наккаша, Дюпон-Дюпонн вовсе не старались представить ситуацию в розовом цвете, они, напротив, старались предостеречь его от несбыточных надежд и вообще были до ужаса правдивы, большинство врачей такого бы себе не позволили. Они, например, не стали скрывать от него, что иногда, глядя на МРТ или КТ, кажется, что опухоль полностью рассосалась, а на самом деле она просто стала такой микроскопической, что ее нельзя обнаружить, а потом, немного позже она снова начинает расти; а иногда химия, которая поначалу вроде подействовала, становится вдруг неэффективной, поскольку опухоль успевает к ней адаптироваться. Поль отмечал про себя все эти сведения, он в основном мыслил рационально и говорил себе, что ему, скорее всего, пришел конец, но ему все же не удавалось в общем и целом осмыслить этот факт, он по-прежнему не в состоянии был представить себе собственную смерть.
Однако иногда у него это получалось, в мучительном проблеске сознания, причем непременно когда он находился среди людей, ни разу в одиночестве. Из-за этого он постепенно стал побаиваться толпы и даже незначительного скопления народа, потому что первым и самым ужасным чувством, накатывавшим на него, была зависть при виде этой публики: все они завтра, послезавтра и, может быть, еще в течение нескольких десятилетий будут жить в гуще вещей и людей, ощущать их физическое присутствие, в то время как у него больше ничего не будет, он воображал себя погребенным в ледяной грязи посреди бесконечной ночи, холод пронизывал его с ног до головы, и его трясло в течение часа или двух, а иногда он потом целый день не мог прийти в себя. Бывало и наоборот, его вдруг охватывал какой-то бредовый оптимизм: он вылечится, иммунотерапия – это волшебное открытие, а доктор Дюпон – гений; но это продолжалось совсем недолго, несколько минут, не более того.
Они сидели в гостиной, солнце садилось над парком Берси. Очевидно, Прюданс решила поверить в его выздоровление, как только он рассказал ей об иммунотерапии, и верить в него изо всех сил, ну а что, все может быть, прогресс в медицине налицо, такое случается. Он сам вдруг ощутил прилив оптимизма и начал выпивать. На следующее утро, в сонном тумане, он почувствовал, как Прюданс взяла его в рот, она часто делала это до того, как он просыпался окончательно. Уже, наверное, давно рассвело, но поскольку шторы были задернуты, он мало что мог рассмотреть, хотя ему показалось, что она совершает какие-то странные движения, приподнявшись, она дрочила ему правой рукой, и вдруг он понял, что левой она дрочит себе, это что-то новенькое, он вдруг понял это, когда она перекинула через него ногу, схватила его член и засунула в себя, там было очень влажно, и он легко проник в нее. Тогда она принялась ритмично сжимать его, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и, дойдя до основания, направилась вверх, ее движения становились все неспешнее и мягче, поднявшись так до головки, она снова скользнула вниз, всасывая его все сильнее, она вообще лихо управлялась, его наслаждение неодолимо росло, и он кончил в нее, у него даже мысли не возникло, что можно и сдержаться. Она рухнула на него, обвила его шею рукой, понемногу переводя дыхание.
– Как странно, мы никогда раньше так не делали, непонятно почему… – сказал Поль, невольно подумав, что сейчас уж точно не время умирать.
– Я тоже не понимаю, – отозвалась она и добавила, помолчав: – Может, на самом деле для меня естественнее пассивная поза, ну, то есть я никогда и не собиралась что-то менять, но вот не было счастья, так несчастье помогло.
Она все еще предполагала какое-то будущее, она явно верила, что он будет жить, и ему стало как-то не по себе, но он тут же постарался убедить в этом и себя, надо просто потренироваться, сделать усилие, и ведь у него же получается. Как правило. Но на этот раз мысль о смерти вернулась моментально, с внезапностью удара в живот, у него на несколько секунд перехватило дыхание. Проблема в том, что теперь Прюданс все знала и реагировала мгновенно, по ее лицу пробежала дрожь беспомощной печали. Он чувствовал, что скоро, очень скоро в ее присутствии он вовсе перестанет стесняться, и тогда они действительно будут вместе, больше чем когда-либо, они будут наедине постоянно, как сейчас в сексе, и вместе пройдут долиной смертной тени. Их плотская любовь продлится до самого конца, уж как-нибудь Прюданс приладится. И даже если его опухоль и впрямь начнет вонять, она только моргнет незаметно и постарается усыпить свое обоняние, ей удастся любить его, ведь некоторые очень любящие женщины как-то справлялись с запахом дерьма, поднимавшимся из истерзанных внутренностей мужа, чье дыхание делалось зловонным, да что там запах дерьма – это еще полбеды, его опухоль будет источать трупный запах, запах разлагающейся плоти, так поступает природа, вот она, природа-мать, в своем репертуаре, впрочем, до этого дело не дойдет, Дюпон обещал ему, что благодаря химиотерапии запах значительно уменьшится, а уж Дюпон не какой-то там шутник или фигляр; Дюпон сказал, Дюпон сделает.
Как ни странно, мысли Поля иногда принимали политический оборот. Честно говоря, ему уже поздновато думать о таких вещах, но долгие годы жизни он провел в мире политики, вообще, по сути, о ней не задумываясь. Его мнение никогда не имело большого значения, а сейчас уж и подавно, единственное, что теперь важно, это баталия с неясным исходом, развязанная в его организме между раковыми клетками и иммунными клетками, и от ее результата зависит, сколько он протянет. При этом он не утратил еще способности генерировать определенные идеи, пусть в ограниченном количестве, но его интеллектуальные запросы всегда отличались скромностью; что-то такое плавало время от времени на грани его сознания. В этом отношении он был похож на большинство мужчин и не мог полностью избежать мыслей о проблемах общего порядка, понимая при этом, что ему не дано разрешить ни одну из них.
Поль знал людей, у которых и мысли не возникает о том, чтобы нарушить данное ими слово, поэтому нет необходимости требовать от них формальной клятвы. Поразительно, что такие люди существуют и по сей день, и их не так уж и мало. Бокобза, вероятно, человек старой закалки, но Поль лучше знал Дюпона, а главное, Брюно. В течение последнего столетия или около того стало появляться все больше мужчин иного склада; эти скользкие весельчаки не могут похвастаться даже относительной невинностью обезьяны, они движимы адской миссией разгрызть и вытравить все связи, уничтожить все жизненно важное, все человеческое. К сожалению, они в итоге добрались до широкой публики, до народных масс. Образованная публика уже давно под влиянием мыслителей, перечислять которых скучно и утомительно, считает, что культура в упадке, но не в том дело, теперь правит бал широкая публика, она стала со времен “Битлз”, а возможно, и со времен Элвиса Пресли эталоном всякого признания, эту роль образованный класс, потерпевший крах как в этическом, так и в эстетическом плане и к тому же серьезно скомпрометировавший себя интеллектуально, уже играть не в состоянии. Таким образом, широкая публика приобрела статус универсального авторитета, и неизбежное снижение уровня ее требовательности – достойный сожаления факт, думал Поль, и может привести только к жестокому и печальному концу.
В течение первой недели Дюпон приходил к нему каждый день, когда он отдыхал после сеанса радиотерапии. Он проводил осмотр, вооружившись шпателем, затем брал кровь на анализ; казалось, он поглощен какими-то туманными мыслями. Поль же, стоя перед зеркалом, старался не смотреть на опухоль, выглядела эта штука довольно мерзко, но, по крайней мере, не сильно воняла. И все-таки он даже не помышлял о том, чтобы поцеловать Прюданс в губы, хотя запах пока был вполне терпимым.
В пятницу, 20 августа, в конце первой недели, Дюпон объявил ему, что он хорошо реагирует на иммунотерапию, по крайней мере, никаких очевидных побочных эффектов не выявлено, так что, на его взгляд, можно продолжать. Он уже заканчивал свои объяснения, когда в комнату вошел его коллега Дюпонн и тоже сел у его койки. Он собирается ему сообщить менее приятные вещи, сразу предупредил он: по его мнению, лучше закончить радиотерапию на неделю раньше запланированного срока, чтобы избежать необратимых некрозов. В этом нет ничего необычного или тревожного, поскольку пациенты по-разному переносят облучение, и в его случае доза в шестьдесят греев кажется ему предпочтительнее семидесяти. Поль тогда поинтересовался, подействовало ли лечение и доволен ли он результатами. Но дать ответ на этот, бесспорно самый существенный, вопрос он не имеет возможности; опухоль после прекращения радиотерапии часто склонна к инволюции. Надо подождать хотя бы месяц, то есть до начала октября, при этом, конечно, продолжая химию и иммунотерапию, и тогда уже провести полное тестирование: КТ, МРТ, ПЭТ, углубленное клиническое обследование. Лично он сомневается, что дополнительная неделя радиотерапии как-то изменит ситуацию, но в то же время это не исключено; он уверен, однако, что организм Поля не выдержит дозу в семьдесят греев, не претерпев необратимых повреждений; в канцерологии постоянно возникает такая дилемма. Может, есть золотая середина, предположил Поль. Да, это вариант, согласился Дюпонн. Он вернулся к своим записям и что-то быстро подсчитал. Дозы в шестьдесят пять греев, на самом деле максимальной, на его взгляд, они достигнут, прекратив терапию 31 августа.
3
Тридцать первого августа он отправился в Питье-Сальпетриер на последний сеанс с Дюпонном. Возможно, он видит Дюпонна в последний раз и, возможно, в последний раз видит Питье-Сальпетриер; если ему суждено умереть в больнице, то, скорее всего, в Вильжюифе; теперь, что бы он ни делал, у него всякий раз возникало чувство, что это на прощание. Иногда он невольно вспоминал последнюю фразу Шерлока Холмса: “Пускайте машину, Уотсон, пора ехать”, и у него всякий раз наворачивались слезы. Ему не хотелось покидать этот мир, совсем не хотелось; а придется.
Филипп Лансон описывает в своей книге укромные уголки Питье-Сальпетриер, примечательные своей красотой или исторической ценностью; ему пока не попался ни один из них. Правда, Лансон провел здесь два года, у него хватало времени на туризм; учитывая состояние Поля, ему оставался только онлайн-туризм. На сайте www.paris-promeneurs.com он наткнулся на статью о бывшей тюрьме “Птит Форс”, находившейся на территории больницы, где когда-то содержались женщины – “раковые, чесоточные, шелудивые, золотушные и эпилептички”, – иными словами, неисцелимые тех времен, а теперь располагалось психиатрическое отделение, но все это потом, а до Революции, при старом режиме, она служила для заключения проституток в ожидании их депортации в новые колонии, в заселение коих они призваны были внести свой вклад. Во время Революции тюрьма стала одним из театров сентябрьской резни. Лансон не упоминает об этом в книге, вероятно, он туда не догулял; надо сказать, что на фотографиях, представленных на сайте, выглядит это место чудовищно и даже зловеще – столь же зловеще, как и события, которые там происходили; маленькие темные дворики, окруженные серыми зданиями, куда, судя по всему, никогда не проникает солнечный свет, – идеальное место для резни.
Тюрьму “Птит Форс”, как и другие тюрьмы, в сентябре 1792 года захватила толпа санкюлотов, действовавших, по мнению историков, спонтанно, в поисках недобитых аристократов. Как и в других тюрьмах, они самовольно освободили некоторых заключенных, а вот другим перерезали горло и изрубили на куски в буквальном смысле слова. Читая дальше, Поль дошел до письма маркиза де Сада, он был в те дни в Париже и так пересказал события: “Третьего сентября в течение дня погибли десять тысяч заключенных. Среди жертв была и принцесса де Ламбаль; ее голову, насаженную на острие пики, продемонстрировали королю и королеве, ее несчастное тело таскали по улицам, надругавшись над ним, как говорят, самыми гнусными развратными способами”. Жильбер Лели, его биограф, счел необходимым уточнить в своем рассказе, который, конечно, поражал воображение: “Они отрезали ей грудь и вульву. Из этого прелестного органа палач сделал себе усы, к вящей радости «патриотов», и воскликнул: «Шлюха! Теперь уже никто не сможет ее натянуть!»”
Пожилым людям свойственно интересоваться историей, и это неудивительно, история, прослеживая судьбы важных, прославленных, а то и всемогущих людей, с тем же успехом обратившихся в прах, отчасти примиряет их с собственной смертью. А Поль – весьма пожилой человек, если исходить из того, что реальный возраст исчисляется не прожитыми годами, а теми, что еще остались. Видимо, это и сблизило его с Жозефом де Местром, любимым, как он недавно выяснил, автором отца. Он купил его основные произведения, собранные в один том, решив читать их попеременно с Агатой Кристи, ему показалось, что это удачный микс. Он довольно быстро ухватил главный тезис савойца де Местра: в сущности, Французская революция – чисто сатанинское предприятие, философы Просвещения, стоявшие у ее истоков, равно как и Лютер в свое время, получали инструкции прямиком от Князя тьмы. Нельзя не признать, что подобная интерпретация, если встать на безусловно необычную точку зрения католика-роялиста, может показаться достаточно последовательной.
Он никогда не думал, что лучевая терапия истощит его до такой степени, усталость въедалась в него постепенно, но поразительно, как быстро стали восстанавливаться силы после первого сентября. Он отметил изменения уже к концу первой недели, а еще через две это стало очевидно. Он не только ходил теперь гораздо лучше и мог уже совершать долгие прогулки по парку Берси, ему удавалось даже трахаться с Прюданс, лежа на боку. Раком и миссионером пока никак не получалось и уже вряд ли когда-нибудь получится, но восстановление позы на боку и так стало для него огромным счастьем; кончив, он засыпал, не выпуская ее из объятий, он спал, может, час или два, а когда просыпался, у него снова вставал, и он тут же входил в нее, они снова засыпали, и через пару часов весь этот цикл возобновлялся, в ней почти все время было мокро. Вот идеальный, безупречный образ жизни, к тому же малозатратный. Теперь, когда они выплатили кредит за квартиру, зарплаты Прюданс на полставки им вполне хватало.
Он чувствовал себя все лучше и лучше и в конце второй недели предложил ей поехать на несколько дней в Сен-Жозеф; она сразу согласилась. Ему необходимо было повидать отца, она это знала, хоть и не понимала зачем, понимала еще меньше, разумеется, чем он сам. Если они уедут в субботу и пробудут там три дня, то смогут вернуться к вечеру 21-го, в первый день осени, это идеальная дата для возвращения. Поль всегда любил “Знак” Аполлинера, и особенно первую строку: “Знак Осени мой герб, он страж мой и вожатый”[56], всякий раз ему чудилось, что он проникает под сень роскошной тайны. А вот последняя строка “Взлетают голуби в последний раз с озер” всегда немного раздражала его. Голуби? Какие еще голуби? What’s the fuck with the fucking doves?
Ему хоть и стало лучше, но он еще не чувствовал себя в состоянии вести машину, и в субботу 18-го, вскоре после полудня, за руль села Прюданс. Когда они доехали до первых лесов, он понял, что эта поездка – отличная идея и что они будут очень счастливы эти несколько дней, возможно в последний раз; в любом случае это наверняка их последняя поездка. Прюданс хорошо водила, спокойно и уверенно. Они почти не разговаривали, но в этом не было необходимости; пейзаж, и без того красивый на въезде в Бургундию, стал просто потрясающим сразу после Макона, как только они оказались собственно в Божоле. Виноградники утопали в багрянце и золоте вроде даже больше обычного, но, вероятно, ему так кажется, потому что он скоро умрет и никогда уже не увидит любимый с детства пейзаж.
Излагая ситуацию Мадлен, Прюданс немного подсластила пилюлю: действительно, он в плохом состоянии, у него все же рак, никуда не денешься, но лечение продолжается, и прогнозы довольно обнадеживающие. Буржуазные правила приличия не входили в горизонт возможностей Мадлен и, заметив Поля на пороге – виноградники обволакивал мучительно прекрасный свет, – она не сумела сдержать удивленного возгласа: “Ой, как вы похудели!”
Конечно, похудел, одни только клетки его опухоли потребляют энергетический рацион двух среднестатистических взрослых мужчин, и ему по-прежнему очень трудно есть. Но попытка Прюданс выработать оптимистичную версию обусловлена была не столько буржуазными приличиями, сколько тем, что она сама поверила в свою историю, и Мадлен поняла это в мгновение ока, как и свой промах, она опустила голову под сверкающим взглядом Прюданс и пришла в себя, только вернувшись к обязанностям прислуги.
– Ваша комната готова, – сказала она, – пойдите передохните, вам это, должно быть, необходимо.
На самом деле не особенно, подумаешь, четыре часа легкой дороги, но что-то же ей нужно было сказать.
– Поль не будет ужинать, – сказала Прюданс, – он действительно устал и с отцом повидается завтра, но тарелка протертого овощного супа не помешала бы и, может быть, немного пюре.
Он и правда заснул почти сразу, минут через десять после того, как лег, не поняв толком, что произошло между женщинами; все-таки это ненормальная ситуация, и Мадлен еще должна с ней свыкнуться, обычно сыновья не умирают раньше отцов, а тут он потеряет уже второго сына, старшего на сей раз. Прюданс разбудила Поля, чтобы он мог поесть, она принесла ему наверх легкий ужин, после окончания радиотерапии его перестало тошнить, и теперь он вроде как превратился в ее сыночка, страдающего от какой-то детской болезни, либо в беспомощного старика отца, и в то же время она как никогда обожала его член, все это ничуть ее не смущало, он может быть ей сыном, отцом и любовником одновременно, ей глубоко наплевать на всю эту символику, главное – он рядом.
На следующее утро Полю захотелось провести немного времени в своей бывшей комнате. Прюданс осторожно покачала головой; как и все влюбленные женщины, она с волнением думала о тех нескольких годах, когда Поль, уже почти взрослый мальчик, еще с ней не познакомился; о тех нескольких годах, одновременно пустых и полных невероятных возможностей, когда оба они, каждый со своей стороны, волей-неволей вышли из подросткового возраста и привыкали нести бремя человеческого бытия.
Ну вот, сразу понял Поль, стоило ему открыть дверь своей комнаты, с Куртом Кобейном покончено навсегда. С Киану Ривзом пока не факт. С Керри-Энн Мосс он, конечно, не покончил, скорее даже наоборот, и он мгновенно понял, что ему придется уничтожить эти фотографии – сейчас или никогда, и вообще-то лучше прямо сейчас.
После обеда, который прошел, пожалуй, хорошо – ему удалось съесть немного больше обычного, но он снова почувствовал необходимость прилечь в середине застолья, – Мадлен сказала, что его отец сидит в зимнем саду; она не добавила, что он ждет его, но смысл ее слов заключался именно в этом. Он опять поднялся с трудом, но не особенно встревожился, такого рода инциденты еще будут происходить некоторое время, предупредил его радиотерапевт, ничего страшного. Прюданс помогла ему спуститься по лестнице и отправилась за старым инвалидным креслом отца обычной модели.
В ту минуту, когда Прюданс, толкая перед собой кресло, вошла в застекленную галерею, он снова вздрогнул при виде открывшихся за окном пейзажей, лесов и виноградников; ему хотелось удержать в памяти до конца, до самых последних своих мгновений это наслоение красок, зеленого, алого и золотого. Они доехали до зимнего сада; отец сидел за маленьким круглым столиком, спинка кресла была откинута назад. Прюданс выпрямила ее и усадила Поля по другую сторону стола, напротив него, чтобы им хорошо было видно друг друга.
– Когда за тобой зайти? – спросила она, уходя.
– Думаю, перед ужином.
– Ты хочешь остаться тут так надолго? До самого вечера?
– Мне не так просто будет все ему рассказать.
Когда она вернулась в семь с чем-то, Поль сидел рядом с отцом, лицом к окну. Они любовались пейзажем, теперь, в лучах заходящего солнца, он был какой-то сверхъестественной красоты; она застыла, захваченная этим зрелищем. Ее первоначальным намерением было сообщить Эдуару, что она сейчас увезет Поля, скоро ужин, и что потом Мадлен зайдет за ним; так она и сделает, разумеется, но не сразу, ужин подождет, ей казалось немыслимым нарушать их созерцание заката. У Клода Желле, известного как Клод Лоррен, иногда получалось почти так же хорошо, ну или чуть хуже, некоторые его полотна пробуждают в человеке пьянящее искушение уйти в иной, более прекрасный мир, мир состоявшихся радостей. Этот уход обычно случается на закате, но это всего лишь символ, подлинным мгновением ухода является смерть. Закатное солнце еще не прощание, ночь будет короткой и увенчается абсолютным рассветом, первым абсолютным рассветом в истории мира, вот что тут можно себе нафантазировать, думал Поль, когда любовался картинами Клода Желле, известного как Клод Лоррен, и еще когда любовался солнцем, садящимся за холмы Божоле.
Прошло не так много времени, минут пятнадцать, как уже совсем стемнело, и Прюданс решила отвезти его в столовую. Поскольку он молчал, она все-таки спросила его, потому что они уже почти пришли и сейчас увидят Мадлен:
– С отцом все прошло нормально?
– Я ничего ему не сказал.
– То есть как “ничего”?
– Ничего особенного, ничего нового. Просто что я болен, что у меня рак, но меня хорошо лечат и надежда есть.
Это не то чтобы была ложь, но все же весьма упрощенная версия.
– Я думала, ему ты как раз хотел сказать все как есть… – заметила Прюданс через некоторое время.
– Я тоже так думал, но в итоге не сказал.
4
Назавтра поздним утром они поехали кататься. Полю хотелось снова спуститься по извилистой дороге, ведущей с перевала Фю-д’Авенас к Божё, он уже ездил по ней, правда в одиночестве, когда впервые отправился в Бельвиль-ан-Божоле навестить отца в больнице. Он не знал, что Орельен совершил ту же поездку в компании Мариз и это положило начало их любви, то есть единственной радости в его несчастной жизни. Но ведь это событие свершилось, а могло бы и не свершиться. События случаются или не случаются, изменяя или разрушая жизнь человека, что тут скажешь? Что поделаешь? Ничего, само собой.
Прюданс сложила инвалидное кресло и убрала его в багажник, он наверняка захочет где-нибудь остановиться. Ей пришла в голову мысль, довольно комичная, о мини-шортах, она взяла с собой три пары, но они определенно ей не пригодятся, уж точно не сейчас.
Поль и правда попросил ее остановиться на полпути к Божё, ровно на том же месте, что и несколько месяцев назад. Она разложила кресло, и он сел, любуясь пейзажем; она села по-турецки рядом с ним. В бескрайнем лесу, простиравшемся перед ними, ощущалось какое-то движение, по листве волнами пробегал легкий ветерок, и это легчайшее дуновение успокаивало даже лучше, чем идеальная недвижность: лес, казалось, оживляло спокойное дыхание, бесконечно более спокойное, чем дыхание животного; чуждый всякому непокою, как и всякому чувству, он не был неодушевленной сущностью, он казался деликатнее и нежнее, словно возможный посредник между материей и человеком, это была сокровенная жизнь, мирная жизнь, не ведающая борьбы и боли. Лес не навевает мысли о вечности, не в этом дело, просто, когда забываешься в его созерцании, начинает казаться, что смерть не так уж и важна.
Они провели так часа два с чем-то, постепенно проникаясь бездонным покоем, потом сели в машину.
– Мы уедем завтра, как и планировали, – сказал Поль, прежде чем Прюданс тронулась с места. – Разве что тебе хочется побыть тут подольше.
– Мы еще сюда вернемся, – сказала Прюданс.
Он ответил, что да, вернутся, но она стала страшно восприимчива к каждому мельчайшему оттенку его интонации, и от этого его “да” у нее сжалось сердце, она поняла, что он совсем не верит, что вернется сюда, и чувствует, что проделывает все это в последний раз, словно отдает дань памяти, и что в каком-то смысле он уже далеко, очень далеко от нее; но при этом нуждается, как никогда, в ее присутствии рядом с ним.
Они остановились выпить в Божё, и опять, сам того не зная, Поль выбрал то же кафе, что и Орельен за несколько месяцев до него, когда остановился выпить с Мариз, – “Ретентон”.
Хоть они вырвались и ненадолго, сказал он Прюданс, поездка полностью оправдала его ожидания. Он в который раз поразился очевидной прочности и несокрушимости отцовской воли к жизни, так резко контрастировавшей с убогостью его собственной, не говоря уже о его несчастном брате. Затем он обобщил свою мысль, это чуть ли не первородный грех – такая повальная склонность людей к обобщениям, но в каком-то смысле в этом заключено и их величие, если угодно, где бы мы все были без обобщений, без всяких-разных теорий? В тот момент, когда официант принес пиво, он вспомнил свой разговор с Брюно, один из их первых долгих разговоров, вскоре после возвращения из Аддис-Абебы; ну, надо признаться, говорил практически один Брюно – о том, что было, как Поль постепенно понял, одной из его главных навязчивых идей. Беби-бумеры – удивительное явление, заметил он тогда, как и сам беби-бум. За войнами обычно следует волна снижения рождаемости и упадок духа; демонстрируя абсурдность удела человеческого, войны оказывают мощное деморализующее воздействие. Это особенно верно в случае Первой мировой войны, достигшей беспрецедентного уровня абсурда; кроме всего прочего, она отличалась – ведь, хочешь не хочешь, невольно сравниваешь страдания солдат в окопах и обогащение тыловых крыс – и вопиющей аморальностью. Таким образом, вполне логично, что после нее появилось весьма посредственное, циничное и бесхребетное поколение – и прежде всего поколение немногочисленное; начиная с 1935 года количество родившихся во Франции было ниже количества умерших. В пятидесятые годы ситуация перевернулась, а фактически еще в сороковых, в разгар войны, что можно объяснить – вспомнил Поль слова Брюно – только лишь идеологическим, политическим и нравственным характером Второй мировой войны: борьба против нацизма, какой бы кровопролитной она ни была, не свелась к отвоеванию территорий, эта борьба не была абсурдной, и поколение, одержавшее победу над Гитлером, ясно сознавало, что сражается на стороне Добра. Вторая мировая война, таким образом, не просто рядовая внешняя война, но и в определенном смысле война гражданская, люди воевали не ради каких-то жалких патриотических интересов, но во имя определенного понимания морального закона. То есть она вполне сравнима с революциями и, в частности, с матерью всех революций – Французской революцией, идиотским продолжением которой стали Наполеоновские войны. Нацизм тоже был по-своему революционным движением, стремившимся заменить существующую систему ценностей, и нападение на европейские страны ставило своей целью не только завоевание, но и перестройку системы ценностей этих стран, и, как и Французская революция согласно де Местру, нацизм имел, без всякого сомнения, сатанинское происхождение. Соответственно, поколение беби-бумеров, то есть поколение победы над нацизмом, можно сравнить, при прочих равных, с поколением романтиков – поколением победы над Революцией, так считал Брюно, вспомнил Поль. Кроме того, оно пришлось на особый период времени, когда впервые в мировой истории массовая культурная продукция оказалась в эстетическом смысле выше элитарной культурной продукции. Жанровый роман, будь то детектив или научная фантастика, в те годы поднялся значительно выше мейнстримного романа; комиксы оставили далеко позади произведения официальных представителей изобразительного искусства; а главное, на фоне популярной музыки все субсидированные потуги сочинителей “экспериментальной” музыки выглядели смехотворными. Тем не менее нельзя не признать, что рок, главный художественный феномен этого поколения, так и не поднялся до красот романтической поэзии; но общим для них можно считать творческое начало, энергию и своеобразную наивность тоже. Защищая Бога и короля от ужасов революции, призывая к реставрации католицизма и монархии, ранние романтики пытались возродить дух рыцарства и Средневековья и были убеждены, как и противники нацизма, что действуют на стороне Добра. Нагляднее всего, утверждал Брюно, это показывает “Ролла”, длинная эпическая поэма, повествующая о самоубийстве девятнадцатилетнего юноши после развратной ночи в компании пятнадцатилетней проститутки, притом что она тоже ужасно добрая, почти святая и, кстати, полный улет, Мюссе не из тех, кто обходит молчанием эту сторону вопроса, но отчаяние молодого человека слишком велико, и девушке не удается вернуть его к жизни, это правда потрясающая поэма, уверял его Брюно, даже Достоевский в подобных сценах ее не переплюнул, и такое отчаяние героя вызвано – Мюссе практически настаивает на этом – разрушительным атеизмом предыдущего поколения.
В состоянии полного ступора Поль смотрел тогда, как Брюно встает из-за рабочего стола – в этот полночный час в министерстве было безлюдно – и принимается декламировать Мюссе. Поль всегда изумлялся любви Брюно к историческим умозаключениям, но, поняв, что тот знает наизусть поэмы Мюссе, он просто развел руками; это не входит в программу обучения Института политических исследований, равно как и ЭНА; некоторые политики заканчивали филологическое отделение Эколь Нормаль на улице Ульм, что еще хоть как-то объяснило бы подобную аномалию, но к Брюно это не имело отношения.
Далее, в последней части поэмы, Мюссе прямо нападает на виновников, более того, как он считал – на главного виновника этой цивилизационной катастрофы. Поль, как и все, склонен был многое прощать Руссо, но тут Брюно с ним не соглашался: он считал, что Руссо несет ответственность за Революцию, причем даже в большей степени, чем все остальные, и вообще что он последний мудак и тот еще ублюдок, но в этих по-прежнему знаменитых строках Мюссе нападает на другого философа эпохи Просвещения:
Брюно продекламировал эту строфу и смущенно умолк, сообразив, что Поль уже не очень-то его и слушает; в течение следующих нескольких месяцев он ограничивался обсуждением сугубо технических вопросов. Продолжая тем не менее читать Тэна, Ренана, Тойнби и Шпенглера, он постепенно смирился с мыслью, что собеседника для разговоров на эти темы ему не найти. Возможно, именно с этого момента, считал Поль, Брюно, сам не сознавая этого в полной мере, стал вынашивать президентские амбиции. Попадаются, конечно, отвязные беспринципные демагоги вроде Жака Ширака или другие авторитеты местного значения, не блещущие интеллектом, которые благодаря своей популярности среди мудаков иногда выигрывают разного рода выборы и возносятся шальной судьбой гораздо выше подобающего им уровня, но все-таки от президента Республики во Франции традиционно ожидается, что он должен обладать минимальным историческим видением и хоть чуточку задумываться об истории, по крайней мере об истории Франции, как вот Брюно например; что-то в глубине души уже тогда побуждало его, добавил Поль, стать кем-то покрупнее обычного министра. Прюданс слушала его благосклонно, испытывая облегчение оттого, что он думает о чем-то кроме своей болезни и последней встречи с отцом, которая, как ей показалось, что бы он там ни говорил, все-таки немного его разочаровала. Над площадью Свободы неторопливо сгущались сумерки, официанты в “Ретентоне” уже расставляли столы для ужина. В этом заведении кухня, “в лучших традициях Божоле”, плыла по волнам идей и сезонов, а вкус и качество служили ей путеводной звездой; а значит, подчеркивалось в их проспекте, данное заведение одинаково хорошо подходит для ужина с коллегами, девичников и романтического вечера. Но все-таки они решили поскорее вернуться в Сен-Жозеф и заняться там любовью, опять же как Орельен и Мариз несколько месяцев назад. Вопреки ожиданиям, хотя по утрам он чувствовал себя очень усталым, все движения давались Полю чуть ли не с легкостью. Лампа в изголовье отбрасывала четко очерченный, теплый круг света. Все происходило медленно, постепенно, с неспешными ласками, порнографическими и нежными.
– Хорошо, что мы с тобой переспали здесь, – сказала Прюданс, перед тем как спуститься к ужину.
На следующее утро, около девяти, Поль, уже сев в машину на переднее сиденье, вдруг сказал, что хочет вернуться и в последний раз повидать отца; Прюданс выключила мотор. Он пришел минут через десять и сел рядом с ней, не произнеся ни слова. Она бросила на него заинтригованный взгляд, но сдержалась и задала ему вопрос чуть позже, когда свернула на трассу. Он ответил, что нет, он ничего больше ему не сказал, только молча смотрел на него.
5
Все обследования назначили скопом на последнюю неделю сентября. Лаборатории были те же, что и в прошлый раз, в начале лета, но теперь у него сложилось впечатление, что, проводя КТ, МРТ и ПЭТ, врачи, медсестры и даже девушка-секретарша обращались к нему с особой многозначительностью и жалостью, с какой-то даже елейностью в голосе, словно знали, что сейчас на карту поставлена его жизнь, словно смерть уже читалась у него на лице. Похоже, это не только впечатление, подумал Поль, ну, девушка-секретарша вряд ли все же, тут он немного хватил. Как бы то ни было, все процедуры прошли по расписанию. После чего профессор Бокобза принял его первого октября в Институте Гюстава Русси, где он собирался провести под общим наркозом обследование на выявление других возможных опухолей, а заодно и взять биопсии.
Он проснулся после наркоза в пять с чем-то, Прюданс сказала, что заедет за ним в шесть, и он заглянул к профессору Бокобзе; Полю просто хотелось узнать, что дальше.
Оказалось, много чего: состоится представительный консилиум, на котором будут присутствовать, кроме самого Бокобзы, доктор Благон и доктор Умон, с ними он уже знаком – после минутного колебания Поль сам себе перевел – Дюпонн и Дюпон, – а также доктор Наккаш в качестве лечащего врача и другие специалисты: врач-патологоанатом для расшифровки биопсий и радиолог – он поможет с чтением ПЭТ. Им понадобится наверняка провести несколько междисциплинарных встреч такого типа, после чего они примут решение о дальнейшем лечении. Одним словом, западное технологическое сообщество мобилизует все свои ресурсы – довольно существенные и по-прежнему самые значительные в неазиатском мире, – чтобы обеспечить его выживание.
– А потом, – заключил Бокобза, – мы договоримся о новой встрече, чтобы обсудить перспективы, например, в районе пятнадцатого октября. В этой связи позвольте узнать, вы с самого начала ходите на процедуры в одиночестве… – Поль кивнул. – Извините за нескромный вопрос, но мне кажется, у вас есть спутница жизни, я не ошибаюсь, это ведь она за вами заезжает? – Он снова кивнул. – Это, конечно, не мое дело, но не пришло ли время ввести ее в курс дела? Я имею в виду, действительно ввести ее в курс дела? Я понимаю ваше стремление оберегать ее, но все же на определенном этапе лучше сказать всю правду, вы так не думаете?
– Да уж, вряд ли мне удастся скрыть от нее свою смерть, – проговорил Поль сквозь зубы и тут же, увидев, как лицо Бокобзы исказилось от досады, пожалел о своих словах, он все-таки хороший мужик, этот Бокобза, к тому же лучший хирург в Европе по раку челюсти и старается изо всех сил.
Да, он придет с Прюданс, в конце концов ответил он.
Утром 15 октября моросил мелкий дождик, и на магистрали A6 в направлении Вильжюифа машин было немного. Они легко нашли зал заседаний в конце длинного светлого коридора. Наккаш вымучил дружелюбную улыбку, Дюпон-Дюпонны лишь механически кивнули ему, они сидели с замкнутыми лицами, а Наккашу, похоже, наоборот, не терпелось поговорить, по нему толком и не поймешь. Прюданс села рядом, бросив на него встревоженный взгляд, он забыл ее предупредить, что тут соберется так много врачей; он крепко сжал ей руку. Через несколько секунд в зал вошел Бокобза с объемистой папкой под мышкой, в сердцах кинул ее на стол и сел – он, очевидно, был не в настроении, можно подумать, его пригнали на скучное рабочее совещание, он бегло оглядел участников и заговорил:
– Результаты обследований и анализы просто невероятные, – начал он, – потому что прямо противоположные. Что касается челюсти, то опухоль, судя по всему, уничтожена, радиотерапия оказалась крайне эффективной, настолько, что хирургическое вмешательство теперь практически не имеет смысла. К сожалению, с языком дела обстоят не так хорошо, тут, напротив, опухоль распространилась вплоть до его корня, так что в данный момент уже нельзя рассматривать ее уничтожение без полного удаления языка. – Тут Поль все понял, и его передернуло; Дюпон-Дюпонны тоже все поняли и как-то разом скукожились в идеальном темпо-ритме. – Кроме того, – продолжал Бокобза, – обследования выявили инвазию в область верхнего нёба.
Он снова обвел взглядом собравшихся; никто, надо полагать, не осознал важности этой информации. Все равно он сам должен вынести заключение, такова его роль. Он сделал несколько медленных вдохов и сказал:
– В этих условиях я не считаю возможным предложить какое-либо хирургическое вмешательство, поскольку его последствия будут чрезвычайно травматичными и смогут обеспечить лишь весьма низкое качество жизни; кроме того, маловероятно, что пациент, учитывая состояние общего истощения, выдержит столь тяжелую операцию. – На этот раз Прюданс тоже все поняла и беззвучно заплакала, слезы у нее текли сами собой, и она даже не думала их вытирать, она впервые сломалась, сказал себе Поль, впервые за все время. Он снова попытался взять ее за руку, но она съежилась, словно защищаясь. Молчание длилось больше минуты, все смущенно уставились в стол, не зная, как продолжать, пока наконец Прюданс не вскинула голову, плакать она перестала.
– Если я правильно вас поняла, – сказала она, повернувшись к Дюпонну, который дернулся, словно она влепила ему пощечину, – планировать новую радиотерапию смысла нет. – Он кивнул с побитым видом и снова опустил голову. Тогда она повернулась к Бокобзе, который покорно посмотрел на нее. – Операция также не представляется возможной, – продолжала она. Он замялся, не в силах выдержать ее взгляд, потом собрался, похоже, что-то сказать, но просто скорчил гримасу в знак согласия и в свою очередь опустил глаза. – Итак, – медленно обратилась Прюданс к Дюпону, – остаетесь только вы.
Он сидел сгорбившись и, помолчав полминуты, произнес тихим голосом:
– Да, это так, мадам. – Этого было мало, он прекрасно все понимал, но прошло еще полминуты, прежде чем он смог выговорить: – Химиотерапия, как я уже объяснил месье Резону, может облегчить его состояние, но не вылечить, к сожалению. Что касается иммунотерапии, то мы, честно говоря, ничего или почти ничего о ней не знаем. Бывают удивительные случаи ремиссии при некоторых видах рака, особенно при раке легких, но, увы, это не относится к раку ротовой полости, как у вашего мужа.
Он не отрываясь смотрел на Прюданс извиняющимся, искренним взглядом; она снова заплакала, еще тише, чем раньше.
Пора закругляться, подумал Поль и поспешно встал, в конце концов, это его собрание, он тут в некотором роде церемониймейстер; Бокобза тоже встал и бросился к нему, он, видимо, намеревался заговорить с ним, но не сумел и только крепко сжал ему плечо; вот интересно, подумал Поль, он, должно быть, проделывал это десятки раз, и у него до сих пор ничего не получается. Он удивился еще больше, когда хирург обернулся к Прюданс и спросил, приехала ли она на машине, и если да, то чувствует ли она себя в состоянии сесть за руль, иначе их, разумеется, отвезут домой, никаких проблем. Типично мужское поведение, подумал Поль; мужчинам необходимо проявить технические навыки, восстановить некий технический контроль над ситуацией, в которой они обречены на провал. Но Прюданс после минутного колебания ответила, что нет, она вполне способна вести машину, более того, ей, может, так, наоборот, полегчает.
Дома они вообще об этом не говорили, и Поль даже неплохо себя почувствовал, выпив две рюмки “Гран Марнье”, у него не было сил двинуться с места, но он с удовольствием смотрел, как Прюданс ходит взад-вперед между дальней частью комнаты и ванной в короткой майке и мини-шортах, она все же правда похожа на Тринити, подумал он, но на Тринити в мини-шортах, Тринити из другого фильма. И ведь он в ней не ошибся, она сохраняет присутствие духа; Тринити тоже сохраняла присутствие духа, наблюдая агонию Нео, но в его случае она была короче.
6
Проснувшись на следующий день, он с радостью увидел, что она предусмотрительно надела стринги и легла на животе поперек одеяла. Он попытался дотянуться до ее попы, но едва смог приподнять руку на несколько сантиметров, его конечности казались ему пугающе тяжелыми, и он со вздохом откинулся на подушки. Она проснулась и положила руку ему на грудь:
– Тебе плохо? Не выспался? Сможешь встать?
– Думаю, да.
Через полчаса он действительно встал, без особых усилий сделал несколько шагов и даже самостоятельно спустился по лестнице, все-таки невозможно привыкнуть к таким перепадам. И лучше, конечно, перенести кровать в общесемейное пространство.
В тот же вечер пришли два грузчика и поставили кровать внизу, под большим окном.
Странно все же жить вместе в общей комнате, это напомнило им годы юности, их первое жилье на улице Фейантин. Студия Прюданс выходила на просторный сад, там было намного приятнее, чем у него. Да и вкус у нее всегда был получше, это опять же она нашла им квартиру, ту самую, где он вскоре умрет, вид на парк Берси не утратил своей красоты даже с приближением зимы. Время от времени он заставлял себя встать с кровати и перебирался на диван, он еще немного опасался пролежней, хотя понимал, что они, скорее всего, не успеют образоваться. Но большую часть времени он тихо сидел в постели, откинувшись на гору подушек. Иногда Прюданс поднималась наверх или шла за покупками, но, как правило, была рядом, он провожал ее взглядом, когда она входила-выходила из кухонного отсека или ванной комнаты. Иногда она расхаживала в одних стрингах, она была бесконечно счастлива показывать ему свою грудь и попу и бесконечно гордилась, что возбуждает его. Он и сам поразился, насколько это возбуждение неожиданно и даже нелепо, бессмысленно, гротескно, в некотором смысле почти неприлично и никак не вяжется с его представлением об умирании, но наш биологический вид, как выясняется, преследует свои собственные цели, совершенно не сообразуясь с целью отдельных особей; однако он не исключает нежность и даже способствует ей, так что сексуальное наслаждение, если посмотреть на него под другим углом, оказывается просто следствием нежности. А вот что потеряло уже всякое значение, так это слова; они по целым дням иногда не разговаривали друг с другом.
В начале следующей недели он отправился на последнюю встречу с Дюпоном. Он не заходил к нему в кабинет с начала лечения, то есть уже месяца три. На этот раз он сел в вольтеровское кресло, стоявшее у стола, тут оказалось намного симпатичнее, чем в его воспоминаниях, он и забыл, что окно выходит в небольшой садик. Наверное, и правда тяжело умирать весной, но ему не стоит волноваться, не факт даже, что он продержится до зимы, хорошо бы, кстати, у Дюпона уточнить.
Приступы усталости, значит; Дюпон вроде бы удивился. При этом анемии у него не было, хотя это один из классических побочных эффектов, но нет, ничего такого, анализ крови почти в норме.
– Вы отдаете себе отчет, что еще похудели? – спросил он наконец.
Опухоль потребляет много энергии и будет потреблять еще больше, поэтому ему надо заставлять себя есть. Ведь тошнота, в общем, его уже не беспокоит? Поль подтвердил, что не беспокоит.
– Ну и чудно, – сказал Дюпон, – питайтесь как следует, и все будет хорошо, приступы усталости пройдут.
Он и так много ест, возразил Поль, и к тому же самые что ни на есть калорийные продукты: полные тарелки картофельного пюре с растопленным маслом, жирные сыры, такие, как, например, брийа-саварен и маскарпоне; однако весы подтвердили – он потерял еще два килограмма со времени своего последнего визита.
Дюпон позвонил по внутреннему номеру и попросил немедленно провести КТ. Вернувшись из рентгенологического кабинета, Поль подождал несколько минут, Дюпон в промежутке принял другого пациента; затем он пригласил его войти и сесть и, мельком взглянув на снимок, отложил его. Наверное, уже пора, сказал он напоследок, попросить жену проводить все время с ним. Он даст ему также телефон медицинских услуг на дому, они приезжают в течение десяти минут.
Он со вздохом взял свою папку, вид у него был усталый, он попытался, явно через силу, сосредоточиться на каких-то страницах и заговорил уверенным тоном:
– Что касается химии и иммунотерапии, я ничего менять не буду; вот только опухоль может стать более болезненной в ближайшие недели; я пропишу вам морфий. Смеси севредола и скенана перорально хватит, я полагаю; по идее, боли не должны быть уж очень сильными. Я не думаю, что есть необходимость устанавливать морфиновую помпу на дому; но, разумеется, если я ошибаюсь и вам станет хуже, немедленно звоните. К тому же ваша жена любит вас.
Он внезапно умолк, лицо его застыло, и он покраснел: какое все же трогательное, чуть ли не тревожное зрелище внезапно покрасневший суровый лысый мужик лет пятидесяти.
– Извините, – пробормотал он, – я не должен был это говорить, ваша личная жизнь меня, естественно, не касается.
– Ну что вы, – мягко сказал Поль, – продолжайте, я не так уж дорожу приватностью.
– Ну раз так… – Дюпон колебался еще несколько секунд и решился: – К сожалению, у меня была возможность приобрести довольно существенный опыт в этой области. Люди, которым мы назначаем морфий, ну те, кто выживает, относятся к нему с большим энтузиазмом. Благодаря морфию они не просто справлялись с болями, но и проникали в мир гармонии, покоя и счастья. Обычно, когда радиотерапия не помогает, а операцию признают невозможной или когда она дает плохие результаты и пациенты находятся действительно в плачевном состоянии, их помещают в паллиативное отделение, потому что держать их дома невозможно. Конечно, у нас любят разглагольствовать о солидарности, о родных и близких, но, скажу я вам, чаще всего старики умирают в одиночестве. Те, кто развелся или никогда не состоял в браке; те, у кого нет детей, или они не поддерживают с ними связь. Стареть в одиночестве то еще удовольствие, а уж умирать в одиночестве – совсем тоска. Но есть одно исключение: состоятельные граждане, которые могут позволить себе сиделку. И вот их, по-моему, бессмысленно отправлять в паллиативное отделение: им там назначат то же лечение, что и я, а умирать все предпочитают дома, это всеобщее желание. И тогда я становлюсь их последним собеседником из врачей. Так что поверьте мне, я не раз видел, как умирают богатые, и, скажу я вам, в такие моменты богатство не играет особой роли. Лично я всегда, не раздумывая, прописываю им морфиновую помпу; человеку достаточно в любой момент просто нажать на кнопку, ввести себе болюс морфия и, примирившись с миром, пребывать какое-то время в нежной ауре, это как доза искусственной любви, они могут впрыскивать ее себе, сколько душе угодно. И потом, – сказал он после очередной заминки, – некоторых, например, тех, кто счастлив в браке, продолжают любить до самого последнего мгновения. Что далеко не общий случай, скажу я вам. Им, я считаю, морфиновая помпа без надобности, любви достаточно; кроме того, если мне не изменяет память, вы не большой поклонник капельниц.
Поль кивнул. На столе у Дюпона стояли фотографии в рамках. Даже не видя их, он вдруг проникся уверенностью, что это семейные фотографии и что у самого Дюпона счастливая семейная жизнь.
У него был еще один вопрос, и тут пришла его очередь замяться. И все-таки ему не терпелось это узнать.
– Как вы думаете, – проговорил он наконец, – сколько мне осталось?
– А… Я бы и хотел вам ответить, что понятия не имею, но это было бы не совсем правдой; все-таки я могу прикинуть, хотя бы приблизительно. Ну допустим, несколько недель или несколько месяцев, всякое бывает; если исходить из статистики, я бы сказал, от одного до двух месяцев.
– То есть я умру, по идее, к концу осени? До того, как дни начнут увеличиваться?
– Скорее всего, да.
Когда он выходил из кабинета, Дюпон повторил, что они будут продолжать иммунотерапию, все-таки надежда умирает последней. Поль безразлично кивнул, понимая, что они оба более или менее одинаково верят в эту надежду. Дюпон проводил его с каким-то обиженным выражением лица; он пожал ему руку и закрыл за ним дверь своего кабинета.
7
Поль всегда любил это время года, когда дни действительно становятся короче, когда кажется, что понемножку натягиваешь на лицо одеяло и оно медленно заволакивает тебя тьмой. Прюданс ждала его у входа в больницу; он сказал ей только, что ему назначили морфий. Она чуть вздрогнула, но больше никакой реакции не последовало. Она знала, что это означает; она этого ждала.
По дороге домой они купили севредол и скенан. Поль начал принимать их на следующее утро, и боль тут же стихла. Самое поразительное, что в последующие две недели не произошло никаких изменений. При этом смерть была уже не за горами, теперь в этом не осталось сомнений; но его не покидало ощущение, что он не в состоянии приблизиться к ней, во всяком случае не вплотную. Как будто он ходит по краю пропасти, время от времени теряя равновесие. Сначала ему чудилось, что он падает, до невыносимости медленно, и по мере того, как он приближается к точке крушения, у него от ужаса перехватывает дыхание. Потом возникало ощущение, что он ударяется о землю, его внутренние органы взрываются, сломанные кости протыкают кожу, голова превращается в лужу мозгов и крови; но это все еще не смерть, а лишь предвосхищение мучений, которые, как он полагал, должны неминуемо ей предшествовать. Сама смерть станет, видимо, следующим этапом, когда залетные птицы примутся выклевывать и пожирать плоть, начиная с глазных яблок и до мозга разбитых костей; но он ни разу до этого не дошел, спохватываясь в последний момент, и снова принимался брести вдоль обрыва.
Прюданс научилась все лучше распознавать эти мгновения по тому, как изменялось его дыхание, ему даже не нужно было ей ничего говорить. Она тут же обнимала его, повинуясь мгновенному порыву, но умиротворение долго не наступало. Как-то во второй половине дня, когда ей показалось, что он встревожен больше обычного, она провела ему губами вдоль живота, расстегивая пуговицы на его пижаме.
– Наверное, ничего не выйдет, – сказал он; она недоверчиво усмехнулась, расстегнула последнюю пуговицу.
К его величайшему изумлению, он тут же возбудился, и за пять минут все мысли о смерти улетучились; это было немыслимо, абсурдно, непристойно, но что было, то было. Они так и продолжали заниматься любовью только в одном положении, Прюданс была сверху, ему стало слишком тяжело на боку. Иногда она садилась лицом к нему, глядя ему прямо в глаза, и вбирала его в себя с любовью – и отчаянием; иногда поворачивалась спиной, чтобы он видел движения ее попы; обе позы доставляли им равное наслаждение.
Через неделю наступит 31 октября, саббат Самайн по викканскому календарю, но Прюданс, похоже, вообще об этом забыла. Притом что именно в этот день, согласно их вере, следует воспоминать прошедший год или даже всю свою жизнь и готовиться к смерти. Досадно все же, подумал Поль, что ее религия не особо ей помогает в такого рода вопросах, а ведь религия для этого, по идее, и предназначена. Она сдабривается, как правило, болтовней разной степени пространности на всевозможные темы, с редкими вкраплениями очередных дурацких ограничений и заповедей, но все же истинным предметом всякой религии является смерть, своя собственная и чужая, как жаль, подумал Поль, что викка не слишком ей помогает.
Нет, все же помогает, гораздо больше, чем ему казалось, но он понял это только 31-го числа, в самый день Самайна, или кануна Дня Всех Святых по католическому календарю. Это было воскресенье, и Прюданс предложила ему в полдень прогуляться по лесу. Они пообедали в “Бистро дю Шато” в Компьене; как ни удивительно, на террасе было очень тепло для этого времени года; потом они пошли в ближний лес. В этом огромном лесу все было огромно, начиная с деревьев, дубов или буков, поди разбери, их великолепные, редко стоящие стволы обхватом в несколько метров доставали до неба.
Широкие, идеально ровные аллеи пересекались под прямым углом и тянулись до бесконечности, их устилали багряные и золотые листья, что, естественно, наводило на мысль о смерти, но на этот раз о мирной смерти, которая ассоциируется с долгим сном. У христиан избранные пробуждаются в ослепительном свете Нового Иерусалима, но Поль, надо сказать, не испытывал желания созерцать Всевышнего во славе, ему больше всего хотелось спать, возможно, с редкими мгновениями полупробуждения – на пару секунд, не больше, просто чтобы успеть положить руку на тело возлюбленной, лежащей рядом. Они вполне могли заблудиться в тот день, тем более что в лесу было на удивление безлюдно для воскресенья. Они шли долго, и он не чувствовал ни малейшей усталости. Осенние листья устилали аллеи в несколько слоев, которые становились все толще и красивее, наконец они остановились и сели, прислонясь к дереву. Все-таки сезон смерти еще не совсем наступил, подумал Поль, цвета вокруг пока слишком теплые, слишком ослепительные, надо дождаться, чтобы листья поблекли, смешались с ошметками грязи, и еще чтобы похолодало, чтобы ранним утром в воздухе проступили первые намеки на долгие зимние морозы, но все это произойдет через несколько недель, несколько дней, и вот тогда на самом деле наступит время прощания. Мысли унесли его далеко за пределы сиюминутной действительности, и он машинально спросил Прюданс:
– Ты будешь готова, дорогая?
Не выказав никакого удивления, она повернулась к нему, кивнула и улыбнулась; странная это была улыбка, и у Поля закружилась голова, когда она сказала нежно:
– Не беспокойся, любовь моя, я не заставлю себя ждать.
Поначалу он удивился, уж не бредит ли она, а потом вдруг понял. Они уже довольно давно не заговаривали о реинкарнации, но наверняка она все еще в нее верила, и, должно быть, верила сильнее, чем когда-либо. Он прекрасно помнил основную мысль в изложении Прюданс: в момент смерти его душа будет некоторое время парить в неведомом пространстве, после чего вселится в новое тело. Его жизнь была лишена каких-либо выдающихся поступков, достойных ли, недостойных, ему редко предоставлялась возможность принести много добра или причинить много зла, так что в духовном плане его положение мало изменилось; он, скорее всего, переродится в человека, и эмбрион наверняка будет мужского пола. Через некоторое время то же самое произойдет с Прюданс, только она переродится в женщину, законы кармы, как правило, учитывают разделение вселенной на два начала. А потом они встретятся вновь; это новое воплощение даст им новый шанс не просто для индивидуального духовного развития, но и для любви. Они узнают друг друга на каком-то глубинном уровне и снова полюбят друг друга, не вспоминая при этом о прежних жизнях; только немногим санньясинам, считают некоторые авторы, удается вспомнить свои предыдущие воплощения, но в этом Прюданс сомневалась. Однако, если в будущем воплощении судьба в один прекрасный осенний день снова сведет их вместе на аллеях Компьенского леса, они, наверное, почувствуют, как их пробирает странная дрожь, так называемое дежавю.
И так будет повторяться от одного воплощения к другому, может быть, на протяжении десятков последовательных воплощений, прежде чем они смогут выйти из цикла сансарического существования и перебраться на другой берег, берег просветления, вневременного слияния с мировой душой, нирваны. А такой долгий, такой изнурительный путь лучше пройти вдвоем. Прюданс приникла головой к его голове и, казалось, витала в облаках, во всяком случае, ни о чем не думала; скоро уже совсем стемнеет, становилось прохладно. Она прижалась к нему и спросила или сказала, он был не уверен, что это вопрос:
– Мы же не были так уж созданы для жизни, правда?
Печальная мысль, он почувствовал, что она вот-вот расплачется. Может быть, в конечном счете этот мир прав, подумал Поль, может, им обоим вообще нет места в реальности и они просто прошли сквозь нее с испуганным недоумением. Но им повезло, очень повезло. Большинство совершает этот путь в одиночку, от начала до конца.
– Не думаю, что в нашей власти было что-то изменить, – проговорил он наконец.
Налетел ледяной порыв ветра, и он крепче обнял ее.
– Конечно, дорогой. – Она посмотрела ему в глаза, чуть улыбнувшись, но на ее лице блеснули слезы. – Нам был нужен какой-нибудь чудесный обман.
Благодарности автора
Если некоторые факты неточны, то это связано не только с возможными ошибками с моей стороны, но главным образом с сознательным искажением реальности. В конце концов, это роман, и реальность – лишь исходный материал. Но все же надо хоть немного знать ее, поэтому я постарался собрать некоторую информацию, особенно в отношении медицинских вопросов.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить профессора Ксавье Дюкрока, заведующего отделением неврологии в Региональном клиническом центре Мец-Тьонвиль. Невероятно, что человеческий мозг настолько сложен для понимания, что мы настолько чужды сами себе; и если я приобрел какие-то знания в этой области, то обязан этим именно ему.
Профессор познакомил меня с людьми, непосредственно занимающимися уходом за инвалидами. Сначала с доктором Бернаром Жанбланом, который руководил (думаю, он уже вышел на пенсию) отделением ХВС-СМС под Страсбургом; в моей истории таким персонажем можно считать доктора Леру.
Если я напишу, что Астрид Нильсен мужественно ухаживает за своим мужем, она будет недовольна, поэтому я не буду этого писать, но воспользуюсь возможностью сказать ей то, что не решился сказать ей лично: когда я возвращался ночью на вокзал Тьонвиля, проведя весь день у нее дома, я впервые почувствовал, что я должен, что бы ни случилось, закончить эту книгу.
Для других сцен в романе я получил ценную информацию от мэтра Жюльена Лотера, нотариуса – не только информацию, но и слова; но некоторые термины, которые Эрве использует в своем “нотариальном спиче”, я, признаюсь, включил еще и ради удовольствия.
В конце книги речь идет еще об одной болезни, в связи с которой мне пришлось обратиться к другим специалистам. Я очень благодарен доктору Фанни Анри, стоматологу; вот в кабинете такого добросовестного стоматолога, как она, в принципе, и должен был бы начаться медицинский путь, описанный в этой книге.
Среди врачей, к которым я регулярно обращаюсь, отмечу доктора Алена Корре, ЛОР-специалиста, на нем лежит самая главная ответственность; учитывая жизнь, которую я вел, я бы точно не избежал рака ротовой полости. В дополнение к ценной медицинской информации я обязан ему фразой, которую доктор Наккаш произносит боевым тоном типа “Вьетнам!”; благодарю его за это.
Когда состояние моего персонажа ухудшилось, именно он направил меня к доктору Сильвену Бензакину, ЛОР-хирургу, руководителю онкологического отделения в больнице Фонда А. де Ротшильда в Париже. Перечитывая нашу переписку, я до сих пор поражаюсь точности его ответов и, разумеется, тому, сколько времени ему пришлось на них потратить, несмотря на множество других дел.
Вообще-то французским писателям следует чаще обращаться к специалистам; многие люди любят свою профессию и с удовольствием объясняют ее профанам. Вот мне чудом и удалось прийти наконец к положительному заключению; значит, пора остановиться.
Благодарности переводчика
Переводчик благодарит за консультации Александра Бондарева, Александра Гольца, Екатерину Журавскую, Алексея Моторова, Сергея Пархоменко, Сашу Шафта.
Примечания
1
ГУВБ (DGSI) – Главное управление внутренней безопасности. (Здесь и далее – прим. перев.)
(обратно)2
БРМСИТ (BEFTI) – Бригада по расследованию мошенничества в сфере информационных технологий.
(обратно)3
НРИФЛ (RNIPP) – Национальный реестр идентификации физических лиц.
(обратно)4
“Виталь” – карта медицинского страхования системы здравоохранения Франции.
(обратно)5
Энарх – выпускник ЭНА (ENA), Национальной школы администрации.
(обратно)6
АНБ – Агентство национальной безопасности США.
(обратно)7
Бронка – бурное возмущение зрителей действиями неумелого торреро во время корриды.
(обратно)8
Страна стартапов (англ.).
(обратно)9
Акционерное общества “Пежо”.
(обратно)10
“Национальное объединение” (до 1 июня 2018 г. “Национальный фронт”) – националистическая партия, основанная в 1972 г. Жаном-Мари Ле Пеном; с 2011 г. партию возглавляет его дочь Марин Ле Пен. С 13 сентября 2021 г. функции председателя партии фактически исполняет Жордан Барделла.
(обратно)11
Черный блок (англ.), тактика протестных демонстраций, участники которых носят черную одежду, маски и темные очки для анонимности и защиты от слезоточивого газа.
(обратно)12
Мишель Дрюкер – популярный журналист, ведущий развлекательных программ на французском телевидении.
(обратно)13
Стефан Берн – французский журналист, радио- и телеведущий.
(обратно)14
Сирил Хануна – французский радио- и телеведущий, писатель, колумнист.
(обратно)15
Буиг, Боллоре – владельцы крупнейших медиагрупп, конкурирующие друг с другом.
(обратно)16
Перемирие кондитеров – так во Франции называют неделю между Рождеством и Новым годом, когда приостанавливается вся политическая деятельность.
(обратно)17
“Блок идентичности” (Bloc identitaire) – правое националистическое движение во Франции, оформившееся как политическая партия в 2009 г.
(обратно)18
Народные стихи времен Столетней войны с перечислением последних не захваченных Англией владений дофина (будущего короля Франции Карла VII). Перевод И. Кузнецовой.
(обратно)19
Цитируется в переводе П. Санаева
(обратно)20
Когда приходит время задуматься над такого рода вопросами (а рано или поздно мы неминуемо задумываемся над такого рода вопросами), необходимо учитывать тот факт, что мы всегда помещаем себя точно в центр морального мира, что мы всегда полагаем самих себя людьми ни хорошими, ни дурными, морально нейтральными (полагаем, конечно, про себя, в самых сокровенных закоулках своего существа, поскольку на людях каждый из нас склонен называть себя “скорее приличным человеком”, хотя в глубине души мы на это не ведемся, в глубине души у нас всегда присутствует тайная шкала, возвращающая нас точно в центр морального мира). Таким образом, в нашем наблюдении возникает определенный методологический сдвиг, и операция перемещения почти всякий раз оказывается неизбежной. (Прим. автора.)
(обратно)21
ФРАК (FRAC) – Региональный фонд современного искусства.
(обратно)22
Бернар Кушнер (р. 1939) – французский врач, один из основателей организации “Врачи без границ”; был вынужден покинуть пост министра здравоохранения по политическим причинам.
(обратно)23
Намек на знаменитую акцию Бернара Кушнера, который в 1992 г. призвал французских детей приносить в школу рис для голодающих сомалийцев. Впоследствии его упрекали в том, что в Сомали он позировал с мешком риса перед журналистами.
(обратно)24
Ироническая отсылка к финалу автобиографической повести Сартра “Слова”: “Весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой”. Перевод Л. Зониной и Ю. Яхниной.
(обратно)25
Задисты (от ZAD, zone à défendre, зона, которую надо защитить, франц.) – воинствующие защитники окружающей среды, захватывающие природные или сельскохозяйственные территории, чтобы не допустить их реконструкцию или застройку.
(обратно)26
Без завещания (лат.).
(обратно)27
НИСЭИ (INSEE) – Национальный институт статистики и экономических исследований.
(обратно)28
15 августа – праздник Успения Пресвятой Девы Марии; во Франции выходной день.
(обратно)29
“Таинственная звезда” – десятый альбом комикса “Приключения Тинтина”.
(обратно)30
Слишком велика, чтобы рухнуть (англ.).
(обратно)31
ВКП (HEC) – Высшая коммерческая школа Парижа.
(обратно)32
Ален Бадью (р. 1937) – французский философ.
(обратно)33
Ж. Расин. Британик. Перевод Э. Линецкой.
(обратно)34
Барбара. Черный орел. Перевод И. Кузнецовой.
(обратно)35
П. Корнель. Гораций. Цитируется в переводе Н. Рыковой.
(обратно)36
ООКД (STDR) – Отдел обработки корректирующих деклараций.
(обратно)37
Имеется в виду французский политический журналист и обозреватель Ален Дюамель.
(обратно)38
Готлис, баслис – ткацкие станки с вертикальным или горизонтальным креплением основы.
(обратно)39
Имеются в виду неоднократные антисемитские высказывания Ле Пена.
(обратно)40
Агреже – ученое звание специалиста высокой квалификации, дающее право преподавать в лицеях и университетах.
(обратно)41
Джон Зерзан. Первобытный человек будущего. Перевод А. Шеховцова.
(обратно)42
Теодор Качинский, рассылавший по почте с 1978 по 1995 год самодельные бомбы, объяснял в работе “Индустриальное общество и его будущее” (также называемой “Манифест Унабомбера”), что его бомбы были необходимы для того, чтобы привлечь внимание к ограничению свободы человека из-за современных технологий.
(обратно)43
Деятельность корпорации Meta Inc (Facebook, Instagram) решением российского суда признана экстремистской и запрещена на территории России.
(обратно)44
“Сивитас” – ультраконсервативная католическая партия во Франции.
(обратно)45
Бобо (франц. bobo) – богемные буржуа; термин образован от слов bourgeois (буржуа) и bohème (богема).
(обратно)46
П. Клодель. Во тьме. Перевод В. Козового.
(обратно)47
Имеется в виду левая партия “Непокоренная Франция”, основанная в 2016 г. для поддержки кандидатуры Жан-Люка Меланшона на президентских выборах.
(обратно)48
“Вы не добьетесь от меня ненависти” – журналист Антуан Лейрис, чья жена погибла при теракте джихадистов в Париже 13 ноября 2015 г., опубликовал манифест и книгу под таким названием.
(обратно)49
Кристоф Гийюи (р. 1964) – социолог, политический аналитик, специалист по “периферийной Франции”, с которой, по его мнению, политическая элита потеряла связь.
(обратно)50
Здесь и далее “Мысли” Б. Паскаля цитируются в переводе Ю. Гинзбург.
(обратно)51
Имеется в виду массовое бегство гражданского населения Франции в июне 1940 г. от наступающих немецких войск.
(обратно)52
Название южного пригорода Парижа Вильжюиф (Villejuif) в переводе с французского языка может означать “Еврейский город”, хотя никаких данных о евреях в этом поселении не сохранилось.
(обратно)53
Названия книг американского психиатра Элизабет Кюблер-Росс изменены французскими издателями.
(обратно)54
“Птицы прячутся, чтобы умереть” – так во французском издании назван роман Колин Маккалоу “Поющие в терновнике”.
(обратно)55
Перевод Н. Дехтеревой.
(обратно)56
Перевод И. Кузнецовой.
(обратно)57
Перевод И. Кузнецовой.
(обратно)58
Перевод Н. Грекова.
(обратно)