| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Только анархизм: Антология анархистских текстов после 1945 года (fb2)
 - Только анархизм: Антология анархистских текстов после 1945 года (пер. Николай Охотин,Степан Михайленко,Армен Арамян,Анастасия Новикова,Владимир Садовский) 6447K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Коллектив авторов - Боб Блэк
- Только анархизм: Антология анархистских текстов после 1945 года (пер. Николай Охотин,Степан Михайленко,Армен Арамян,Анастасия Новикова,Владимир Садовский) 6447K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Коллектив авторов - Боб БлэкТолько анархизм: Антология анархистских текстов после 1945 года
Составитель Боб Блэк
Переводы для нас выполнили: Владимир Садовский (с английского – большинство текстов, включая введение и вступительные статьи к разделам),
Степан Михайленко (с английского и французского),
Николай Охотин (с английского), Армен Арамян и
Анастасия Новикова (с французского)
В оформлении обложки использована карикатура Алана Хардмана «Государственная машина» (1980-е гг.)

© Книгоиздательство «Гилея», переводы на русский язык, 2020
Введение
B 1961 году Джордж Вудкок, лучший англоязычный историк анархизма, пришёл к выводу, что как историческое движение анархизм умер в 1939 году Он провалился1.1939 год стал годом, когда последнее популярное анархистское движение – в Испании – было уничтожено. К такому же заключению пришёл и Даниэль Герен2. Некогда широкие анархистские движения существовали во Франции, в Мексике, Италии и на Украине. Анархисты также временами пользовались значительным влиянием в Италии, Аргентине, Бразилии, Швейцарии, России, Китае, Японии, Великобритании, США и других странах. В период Первой мировой войны и последующее время анархистов повсюду подавляли или абсорбировали коммунисты, фашисты, нацисты и даже перонисты. Победа фашистов в Испании в 1939 году довершила разгром последнего массового революционного анархистского движения, начатый ещё коммунистами в 1937 году.
К 1961 году большая часть анархистов съёжилась до небольших кучек постаревших бойцов. Некоторые из них были этническими эмигрантами (в Соединённых Штатах это итальянцы или евреи) или изолированными эксцентриками, в основном в Британии, Франции и США. Некогда вызывавший страх анархизм оказался почти забытым. Даже Вудкок, сам бывший активный анархист в 1940-х и 1950-х годах, полагал, что хотя анархистские идеалы и не могут исчезнуть, но останутся существовать лишь как источник вдохновения3. Несколько академических учёных – а анархизм теперь был достаточно безопасен для изучения – разделяли это снисходительное мнение4. Революционный анархистский пыл исчез. Некоторые говорили об «анархизме без финалов»: об отказе от «утопического» идеала будущего свободного общества в пользу анархистов, тихо культивирующих анархистские персональные взаимоотношения в своих анклавах5.
К 1968 году Вудкок в некоторой степени поменял своё мнение. Всё ещё нигде не существовало организованного анархистского движения. Но к тому времени антивоенные демонстрации стали частыми в Западной Европе. В Соединённых Штатах это были не только антивоенные и анти-призывные движения, но и движения за гражданские права, за власть студентов, власть чёрных, за сексуальную свободу и освобождение женщин; на подходе были и другие требования. Вудкок ещё не оказался свидетелем некоторых из них, однако он заметил, что нечто происходит: что-то пусть не ярко анархистское, но однозначно анархическое6. С ним согласился Пол Гудман7. Мюррей Букчин писал об «интуитивном анархизме среди сегодняшней молодёжи»8.
Некоторые, я бы сказал, мягкие анархисты-интеллектуалы уже пользовались скромным успехом у широкого круга американских читателей (Дуайт Макдональд, Карл Шапиро, Кеннет Рексрот, как и сам Джордж Вудкок и в особенности Пол Гудман). Но «новые левые» на своём излёте часто становились авторитаристами, о чём Гудман сокрушался в своей последней книге9. В начале 1970-х годов мейнстримовые издательства начали переиздавать таких анархистов, как Прудон, Бакунин, Кропоткин, Гольдман и Беркман – все они, за исключением Прудона, были уроженцами России – а историки стали публиковать новые исследования об истории анархизма в Испании, России, Мексике и других странах. Этот процесс продолжается и сейчас. Я буду цитировать многие из этих книг. Они оказались ресурсами для обновления анархизма.
Гручо Маркс в одном из фильмов братьев Маркс иронизировал, что он тяжким трудом продвинулся от ничтожества до состояния крайней нищеты. В похожем положении находился и анархизм в 1960-х годах. Ему было некуда идти, кроме как наверх (как гласит американское выражение). Он и восходил, медленно, но неуклонно. Было бы чудовищным преувеличением сказать в 1978 году, что анархизм испытывал «одну из своих периодических волн популярности»10. Анархизм никогда не был популярен. Но вот такое движение наверх было, когда я впервые повстречал настоящих анархистов. Меня они в основном не впечатляли. Были, к примеру, панки-анархисты. По крайней мере, они были молодыми. Но анархизм, который можно выучить из текстов песен (и текстов не слишком-то умных, надо признать), будет в лучшем случае поверхностным. Большинство из тех белых юнцов среднего класса теперь стали белыми старпёрами среднего класса. Среди них больше юристов, чем анархистов (а я – и тот, и другой). Но малая их часть стала серьёзными анархистами. Анархисты всё ещё порождаются тем, что осталось от панк-сцены, не только в Соединённых Штатах, но и в таких отдалённых местах, как Эстония или Филиппины.
Семидесятые и восьмидесятые были также зенитом субкультуры “do-it-yourself’, которую я называю «маргинальной средой»11. Это была очень децентрализованная субкультура, в которой индивидуалы или очень небольшие, обычно эфемерные группы сами выпускали постеры, фэнзины, “mail art” и кассеты, которые отдавались, обменивались или продавались за небольшие деньги. Вы бы могли назвать это самиздатом, если не считать тот факт, что у этих маргиналов гораздо менее вероятно, по сравнению с советскими диссидентами, могли возникнуть проблемы с законом. Но иногда это случалось и с ними. Существовало некоторое пересечение с субкультурой панков, а также с научно-фантастическим фэндомом. В основном этим занимались подростки и молодёжь, в основном белые, в основном мужчины, в основном североамериканские. Некоторые из них были открыто политизированными, как правило, анархистами. Но сам дух всей этой сцены был анархическим. Это было место, на тот момент одно из немногих, где анархисты могли позволить себе самовыражение и где их могли принять всерьёз. Я был активным участником этой субкультуры и писал об этих маргиналах12.
Лишь немногие из маргинальной среды остаются в рамках своих изначальных средств выражения. Я связываю упадок этой субкультуры в основном с развитием Интернета, где частично продолжается похожая деятельность. Пусть ситуация сложилась действительно так, но было бы пуристской придиркой говорить, как это делает Хаким Бей, что «они сохраняли посреднические структуры почтовой коммуникации и ксерографии и таким образом не смогли преодолеть изоляцию игроков, в буквальном смысле оказавшихся вне пределов игрового поля»13. Собственно говоря, благодаря этим маргинальным медиа я лично встретился со многими из самых интересных людей в моей жизни, завёл несколько романов, а также познакомился с Джерри Рейтом, чей текст включён в настоящую антологию, и с самим Хакимом Беем.
Такова самая свежая история анархизма, которую я способен дать моим читателям в настоящее время. То, что Джордж Вудкок и другие14 называли классическим анархизмом, было в основном ориентировано на борьбу рабочего класса в Европе и частично в Северной и Южной Америках. Но этим он не исчерпывается. Кое-что из классического анархизма всё ещё ценно, даже при отсутствии анархизма рабочего класса. Однако перед вами не антология классического анархизма. На английском языке доступно несколько анархистских антологий, но как минимум две из них довольно скверного качества15. Одна из достойных внимания доходит до 1945 года16, то есть до даты, где моя антология только начинается. Ещё одна из хороших работ доведена до 1968 года17, а значит до эпистемологического прорыва постлевых анархистов. Перед вами же антология, составленная мной на основе моих глубоко субъективных выдержек из того, что я знаю об анархистской литературе после 1945 года. У меня был доступ только к англоязычным материалам, некоторые из них были переводами, но в основном это тексты, написанные на английском. Я бы хотел знать больше, но не имел такой возможности. Я включаю только авторов, определяющих себя как анархисты. Изредка я скептически отношусь к таким заявлениям, но я им верю, если их тексты мне интересны.
В 1969 году Николас Уолтер писал: «Анархистская литература из прошлого тяжко давит настоящее и усложняет нам написание новой литературы будущего»18. Но начиная с 1960-х годов этот груз уже не был столь тяжким для многих анархистов. Классические анархистские тексты продолжали писаться (среди прочих, и самим Уолтером) и после 1945 года. Несколько из них я включил в книгу, но не для того, чтобы классический анархизм был справедливо представлен, а потому что считаю их до сих пор имеющими ценность.
У меня нет намерения быть беспристрастным. Я не включаю сюда ни один из современных текстов, который бы, по моему мнению, был нечитабельным или неинтересным или неанархистским. В США большинство из того, что выпускается якобы анархистскими издательствами, анархистским не является19. Я не включил в антологию никаких реформистских, националистических, расистских, отстаивающих «третью позицию», национал-анархистских, национал-большевистских, лефтистских, “tankie”20 или авторитаристских текстов. Здесь вы также не найдёте ни анархо-синдикализма, ни анархо-капитализма. Эти два последних направления в лучшем случае несут в себе «привкус анархизма», но они не являются анархистскими21. Здесь нет «платформизма»22. Нет пуританского, трансфобного «радикального феминизма». Нет «постанархизма». Нет «прямой демократии». Нет «репрессивного труда». Да здесь вообще ничего про труд нет! Здесь только анархизм. Включая, например, тексты Алекса Комфорта, Роберта Пола Вольффа и Эрнста Манна, практически неизвестные современным анархистам.
Многие из постклассических анархистских текстов можно обобщённо охарактеризовать и как «постлевые»23. Яркую общую критику левых можно найти в главе про левачество. Но многие из авторов, вошедших в антологию, критикуют официальный левый курс в рамках любой из рассматриваемых здесь тем. В своё время классический анархизм имел немалую ценность, хотя у него были и недостатки. Катастрофическим изъяном являлась его неспособность отделить себя от левых. Раз за разом анархисты поддерживали левых, которые всякий раз предавали их. Как написал Макс Неттлау, «авторитарные социалисты всегда были нашими врагами»24. Современный анархо-лефтизм соединяет в себе архаичную наивность классического анархизма с реформизмом и авторитаризмом левых. А вместе с этим разделяет и непопулярность левых. Левые обвиняют постлевых в том, что те повернулись спиной к рабочему классу. Но на самом деле именно рабочий класс повернулся спиной к левым.
Я не начинаю с главы-введения в анархизм. После 1945 года таких введений было написано множество. Все они, по моему мнению, неудовлетворительные, включая и моё собственное25. Даже сами определения анархизма часто оказываются неполными и противоречивыми. Например, определение, предложенное Мюрреем Букчином, даже умудряется не включать в себя тезис об уничтожении государства26. Мне нравятся минималистичные определения, например, Пауль Эльцбахер утверждал, что анархисты «для нашего будущего отрицают государство»27. Или как писал Питер Маршалл: «Анархию обычно определяют как общество без управления, а анархизм – как социальную философию, чьей целью является реализация этого»28. Всегда есть искушение определить анархизм так, чтобы он включал в себя всё хорошее, истинное и прекрасное, забывая о его изначальном значении, определяющем одно принципиальное условие, при котором и возможно процветание хорошего, истинного и прекрасного. Определение анархизма не должно быть похожим на десять заповедей29. Что есть анархия? Самоорганизующееся общество30. Зачем быть анархистом? По меньшей мере, началом ответа на этот вопрос будет – а зачем быть кем-то ещё?31
Нескольких тематических разделов, часто включающихся в анархистские антологии, вы здесь не найдёте. Анархисты, начиная с Уильяма Годвина (так много всего пошло от него), часто интересуются вопросами образования. Поскольку меня перед поступлением в колледж четыре раза исключали из различных школ, я тоже этим интересуюсь. Но современные анархисты, за исключением Пола Гудмана32, на эту тему писали весьма немного. Самая радикальная критика, как, например, у Ивана Иллича33, исходит не от анархистов. Среди них популярна тема технологий, но здесь для неё у меня нет места, хотя она и возникает то тут, то там. Опять же, хотя современные анархисты, в особенности анархо-примитивисты, весьма часто продолжают критиковать Технологию, они весьма немногое добавили к уже имеющейся критике Льюиса Мамфорда, Жака Эллюля, Э.Ф. Шумахера, Ивана Иллича и Лэнгдона Уиннера. Нечто под названием «повстанческий анархизм» тоже представляет собой современное увлечение. Он выглядит похожим на смешение идей Михаила Бакунина и Макса Штирнера. Я не могу найти для него внятной формулировки.
Закончу же я на наблюдении, которое делали многие анархисты, но немногие подчёркивали: о том, что наше общество в большинстве своём уже анархическое. Рудольф Рокер писал об этом: «Факт заключается в том, что даже при самом худшем деспотизме большинство личных отношений человека со своими товарищами определяется свободными соглашениями и солидарным взаимодействием, без которых общественная жизнь будет вообще невозможна»34. Человечество наслаждалось долгой предысторией анархии. Даже за последний миллион лет «большинство людей жило вне рамок чего-либо, что можно было бы назвать государством»35. Практически все и практически всегда мы были анархистами-собирателями, огородниками, скотоводами и земледельцами. Кое-кто из нас до сих пор такой, но ещё больше тех, кто может им стать. И сегодня анархия способна приобрести новые формы, как она делала это раньше. Если то, что испанские анархисты называли «Идеей», сохранится, её выражения и проявления продолжат меняться36.
Боб Блэк
1 См.: Woodcock G. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements. Cleveland, Ohio: Meridian Books, 1962. P. 468. Эта кн. недостаточно левая, чтобы удовлетворить анархистов – сторонников классовой борьбы, см.: Mintz F. Anarchism by George Woodcock // Cienfuegos Press Anarchist Review. No. 4. 1978. Есть ещё один англоязычный историк, Питер Маршалл, более современный, но его кн. в два раза больше и вполовину хуже, см.: Marshall Р. Demanding the Impossible: A History of Anarchism. New ed. Oakland, California: PM Press, 2010.
2 См.: Герен Д. Анархизм: От теории к практике ⁄ Пер.: Сообщество анархистов Барнаула, Т. Давыдова, Ж. Петивер. М.: Радикальная теория и практика, 2015. С. 4 (впервые опубл, в 1965 г.).
3 См.: Woodcock G. Anarchism. P. 468–469, 474–476; см. также: Gordon U. Anarchy Alive! Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory. London & Ann Arbor, Michigan: Pluto Press, 2008. P. 29–30. Подзаголовок Гордона является сознательной инверсией подзаголовка кн. Герена. Я спрашивал Гордона об этом, и он подтверждает.
4 См., напр.: Horowitz I.L. A Postscript to the Anarchists // The Anarchists ⁄ Ed. I.L. Horowitz. New York: Dell Publishing Co., 1964. P. 601–603 («Анархисты – это романтичная, абсурдная порода, неспособная, слава богу, примириться с некоторыми из издержек угнетения цивилизации»). Составители другой антологии с ним не соглашались: «Наш сборник продемонстрировал, что анархизм невозможно сдать в архив, посчитав его вспышкой романтизма в политике, грубым видом девиантного насилия, конечным продуктом атеизма или социализма, нервной версией либерализма в философии [или] непоследовательным голосом протеста», см.: Krimerman L.L., Perry L. Anarchism: The Method of Individuation // Patterns of Anarchy: A collection of writings on the anarchist tradition / Ed. L.L. Krimerman, L. Perry. Garden City, New York: Anchor Books, 1966. P. 554.
5 См.: Baker A J. Anarchism without Ends // Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas / Ed. R. Graham. Vol. 2. Montréal, Québec, Canada: Black Rose Books, 2009. P. 237–240 (впервые опубл, в 1960 г.). Эта – не слишком хорошая – антология анархизма с 1939 по 1977 г. далее приводится как “Documentary History” с указанием тома (первый том, который я также буду цитировать, был опубл, в 2005 г.).
6 См.: Woodcock G. Anarchism Revisited // Anarchism and Anarchists. Kingston, Ontario, Canada: Quarry Press, 1992. P. 40–58 (впервые опубл, в 1968 г.); см. также: Gordon U. Anarchy Alive! P. 30–35.
7 См.: Goodman P. The Black Flag of Anarchism ⁄ ⁄ Drawing the Line: The Political Essays of Paul Goodman / Ed. Taylor Stoehr. New York: Free Life Editions, 1977. P. 203–214 (впервые опубл, в 1968 г.).
8 См.: Bookchin М. Ecology and Revolutionary Thought // Bookchin M. Post-Scarcity Anarchism. Berkeley, California: Ramparts Press, 1971. P. 70 (впервые опубл, в 1965 г.).
9 См.: Goodman Р. New Reformation: Notes of a Neolithic Conservative. New York: Random House, 1970; см. также: Woodcock G. Paul Goodman: The Anarchist as Conservator // Anarchism and Anarchists. P. 229–251.
10 См.: Pennock J.R., Chapman J.W. Preface // Nomos XIX: Anarchism // Ed. J.R. Pennock, J.W. Chapman. New York: New York University Press, 1978. P. vii.
11 См.: Блэк Б. Под подпольем ⁄⁄ Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии ⁄ Сост., пер. с англ, и примеч. Д. Каледина. М.: Гилея, 2004. С. 185–200); Black В. Mailing Their Way into Anarchy // Boston Review. Aug. 1986.
12 См.: Блэк Б. Под подпольем; см. также: Gunderloy М., Janice C. G. The World of Zines: A Guide to the Independent Magazine Revolution. New York: Penguin Books, 1992; Xerox Pirates: “High” Tech & the New Collage Underground / Ed. Autonomedia Collective. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1992.
13 См.: Hakim Bey. Immediatism // Immediatism: Essays by Hakim Bey. Edinburgh, Scotland & San Francisco, California: AK Press, 1994. P. 12.
14 См., напр.: Crowder G. Classical Anarchism: The Political Thought of Godwin, Proudhon, Bakunin and Kropotkin. Oxford: Clarendon Press, 1991; MarshallP. Demanding the Impossible. Part Four: Classical Anarchist Thinkers. P. 189–427.
15 См.: No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism // Ed. D. Guérin, trans. P. Sharkey. Oakland, California: AK Press, 2005. Я дал отрицательный отзыв на эту кн. в статье “No Gods, No Masters, No Thanks”, доступной на: www.ac-ademia.edu. Ещё хуже кн. “The Anarchists” (процит. в примеч. 4). Многие из включённых в эту антологию анархистами не являются. Среди них Дени Дидро, Фёдор Достоевский, Альбер Камю, Жорж Сорель и Филип Селзник.
16 См.: Patterns of Anarchy.
17 См.: The Essential Works of Anarchism // Ed. M.S. Shatz. New York: Quadrangle Books, 1972.
18 См.: Walter N. About Anarchism. Updated ed. London: Freedom Press, 2002. P. 25. Также он заявлял, что большинство анархистской литературы на англ, является переводами. Не думаю, что сегодня это так.
19 См.: Black В. Class Struggle Social Democrats, or, the Press of Business // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 64. Fall – Winter 2007. P. 26–29; см. также: Jarach L. Having No Dog in the Fight: AK Press versus Michael Schmidt // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 77 (n. d.). P. 42–47 (Шмидт, южноафриканский левый деятель, один из любимых авторов изд-ва “AK Press”, оказался сторонником превосходства белой расы). Я охарактеризовал “АК Press” как «самое выдающееся антианархистское издательство в англоязычном мире»; см. моё письмо в редакцию, опубл, в: Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 65. Spring/Summer 2008. P. 75.
20 Это слово, я надеюсь, покажется забавным русским читателям. Так называют левых, включая и немногих анархистов, ностальгирующих по Советскому Союзу и поддерживающих текущую политику РФ. Их называют “tankies”, намекая на то, как советские танки восстанавливали «рабочие государства» наперекор воле самих рабочих в Венгрии и Чехословакии.
21 См.: Gaus G.F., Chapman J. W. Anarchism and Political Philosophy: An Introduction // Nomos XIX: Anarchism. P. xxiv – xxv.
22 «Организационная платформа либертарных коммунистов» была опубл, в 1926 г. в Париже в газ. «Дело труда» группой эмигрировавших рус. и укр. анархистов (см.: [АршиновП.А.). Организационная платформа Всеобщего союза анархистов (Проект) ⁄⁄ Анархисты: Документы и материалы. 1883–1935 гг. В 2 т. Т. 2. 1917–1935 гг. М. РОССПЭН, 1999. С. 471–493). Её авторами были Нестор Махно, Ида Метт, Пётр Аршинов, Валевский и Линский. Они считали, что анархисты потерпели поражение в революции из-за того, что не все объединились в единую упорядоченную организацию с жёсткой идеологией. Что они были побеждены большевиками, поскольку у них не было организации большевистского типа. «Платформу» по всему свету осудили самые выдающиеся анархисты того времени (платформисты назвали их «конфузистами»). См.: Black В. Wooden Shoes or Platform Shoes? On the “Organizational Platform of the Libertarian Communists” // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 54. Winter 2002–2003. P. 14–15, 19; JarachL. Anarcho-Communists, Platformism, and Dual Power: Innovation or Travesty? // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 54. Winter 2002–2003. P. 41–45; Alone L.S. Not My Vision of Liberation // Uncivilized: The Best of Green Anarchy. [Eugene, Oregon]: Green Anarchy Press, 2012. P. 13–15. Есть переводы на англ.: Organisational Platform of the Libertarian Communists. Dublin, Ireland: Workers Solidary Movement, 1989. P. 11–34, а также см.: Skirda A. Facing the Enemy: A History of Anarchist Organization from Proudhon to May 1968 / Trans. P. Sharkey. Edinburgh, Scotland & Oakland, California: AK Press, 2002. P 192–213. Скирда не упоминает тот факт, что Ида Метт, одна из авторов «Платформы», была его матерью. На задней странице обложки другой кн., изданной “АК Press”, стыдливо сообщается, что Скирда «родился в 1942 году в семье украинского отца и русской матери…», см.: Makhno N. The Struggle Against the State and Other Essays // Ed. A. Skirda. Edinburgh, Scotland & San Francisco, California: AK Press, 1996. По всему миру «Платформу» осудили ведущие анархисты своего времени, среди прочих: Эррико Малатеста, Волин, Себастьен Фор, Макс Неттлау, Жан Грав, Камило Бернери и Луиджи Фаббри, см.: CasasJ.G. Anarchist Organisation: The History of the F.A.I. / Trans. A. Bluestein. Montréal, Québec, Canada: Black Rose Books & Buffalo, New York: University of Toronto Press, 1986. P. 101–105.
23 См.: Black B. Anarchy after Leftism. Columbia, Missouri: C.A.L. Press, 1997. P. 150. Я придумал выражение «постлевый анархизм», ibid. P. 150.
24 См.: Nettlau М. A Short History of Anarchism / Trans. I.P. Isca, ed. H.M. Becker. London: Freedom Press, 1996. P. 293 (впервые опубл, на исп. языке в 1934 г.).
25 См.: Блэк Б. Азбука анархизма ⁄⁄ Блэк Б. Анархия и демократия ⁄ Пер. с англ. А. Умняшова под ред. С. Михайленко. М.: Гилея, 2014. С. 70–86.
26 Его «четыре столпа» это: «муниципальный конфедерализм, оппозиция к статизму [но не к государству!], прямая демократия и в конце концов [?] либертарный коммунизм…», см.: Bookchin М. Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm. Edinburgh; San Francisco: AK Press, 1995. P. 60 (см. также рус. изд., где эта цитата приведена неточно: Букчин М. Социальный анархизм или анархизм образа жизни? ⁄ Пер. с англ. [Б. м.]: Самоопределение, 2013. С. 89).
27 См.: Элъцбахер П. Анархизм: Изложение учений: Годвина, Прудона, М. Штирнера, Бакунина, Кропоткина, Туккера и Л. Толстого ⁄ Пер. с нем. Р. Стрельцова. СПб.: Изд. О.И. Поповой, 1906. С. 295 (впервые опубл, в 1900 г.).
28 См.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 3.
29 Такой пример есть – десять заповедей для анархистов буквально предписываются в кн.: Bufe Ch. Listen Anarchist! Tucson, Arizona: See Sharp Press, 1998 (опровержение этой постыдной брошюры можно найти тут: Капе В., Jarach L. Hold Your Tongue Demagogue: Turning a Deaf Ear to Pure Buffoonery, www.theanarchistlibrary.org). Новое введение, написанное Джанет Биэль, подстилкой Мюррея Букчина, заново излагает дряхлые тирады из его кн.
“Social Anarchism or Lifestyle Anarchism”, к которым она прибавила порочащие утверждения о моей личной жизни. Учитывая момент времени (год спустя после моей “Anarchy after Leftism”), весьма вероятно, что это переизд. профинансировал Букчин. Букчин призывал своих читателей принимать во внимание эти и другие личные нападки, никогда не упоминая о моих опровержениях, см. главу о Букчине в кн.: Black В. Withered Anarchism ⁄ Ed. J. McQuinn. Columbia: C.A.L. Press, 1993. P. 247, n. 6). Биэль в своей биографии Букчина не упоминает об этом эпизоде.
30 См.: Ward С. Housing: An Anarchist Approach. London: Freedom Press, 1983- р 7
31 См.: Tucker В.R. Why I am an Anarchist // State Socialism and Anarchism and Other Essays. Colorado Springs, Colorado: Ralph Myles Publisher, 1972. P. 35.
32 См.: Goodman P. Compulsory Miseducation & The Community of Scholars. New York: Vintage Books. 1966.
33 См.: ИлличИ. Освобождение от школ ⁄⁄ Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М.: Просвещение, 2006 (впервые опубл, в 1971 г.).
34 См.: RockerR. Anarcho-Syndicalism. London: Pluto Press, 1989. P. 19; см. также: Berkman A. What Is Communist Anarchism? New York: Dover Publications, 1972. P. 187 (впервые опубл, в 1929 г.); GoodmanР. Reflections on Drawing the Line // Drawing the Line. P. 2 (впервые опубл, в 1946 г.); Gelderloos Р. Anarchy Works: Exemplary Anarchist Ideas in Practice (2d ed.). San Francisco, California: Ardent Press, 2010; Ward C. Anarchy in Action. London: Allen & Unwin, 1973. P. 11.
35 См.: Scott J.C. Two Cheers for Anarchism. Princeton, New Jersey & Oxford: Princeton University Press, 2012. P. 88.
36 См.: Ibanez T. The Anarchism to Come (2017), www.theanarchistlibrary.org.
I. Психология
Психология не входит в список тем, за которые прежде всего брались в предыдущих антологиях анархизма. Но если анархизм, как утверждают марксисты, субъективен и индивидуалистичен – в то время как марксизм научен, объективен и основан на коллективизме, – вы вправе ожидать, что анархисты будут весьма заинтересованы в психологии. Некоторые, особенно в Калифорнии, да, действительно заинтересованы, хотя и в рамках своей личной жизни. Но теория анархизма редко пересекалась с психиатрией или психологией, что не пошло на пользу им всем1. Один из анархистов, Пол Гудман, в 1950-х годах периодически занимался психотерапией и стал соавтором некогда известной книги «Гештальт-терапия»2. Отто Гросс (1877–1920) был анархистским психоаналитиком, оказавшим влияние на Карла Густава Юнга3. Сегодня он неизвестен ни анархистам, ни психоаналитикам.
Анархистов часто обзывали сумасшедшими, особенно во времена, когда они славились бомбометаниями и ограблениями банков4. В карикатурном виде их изображали такие гиганты литературы, как Фёдор Достоевский, Джозеф Конрад, Генри Джеймс и Гилберт Кит Честертон. Но почему же желать стать свободным – это безумие? Какой сумасшедший жаждет контролировать других людей? Политологи только в редких случаях задавались вопросом, почему с такой готовностью люди подчиняются тирании5. Несколько известных экспериментов, проведённых современными социальными психологами, говорят о том, что обычные люди выполнят практически всё, что им скажут их предполагаемые власти6.
Психоаналитик Вильгельм Райх в период своего увлечения марксизмом писал о массовой психологии фашизма7. Теодор Адорно, марксист Франкфуртской школы, и его коллеги написали толстый том, посвящённый исследованию авторитарной личности8. Зигмунд Фрейд с сожалением пришёл к выводу, что цивилизация основана на подавлении инстинктов9. Невроз, полагал он, является платой за цивилизацию. Но, возможно, «сама нормальность является неврозом, отступлением от реальности жизни, нервной маской»10. Анархисты считали, что эта плата слишком велика. Психологи-бихевиористы заявляли, что выявили во влиянии окружающей среды технику привыкания индивида к требованиям общества11. Ничто из этой предполагаемой науки не поддерживало анархистское требование свободного общества. В том, что Джон Зерзан называет Психологическим Сообществом, «Социальные конфликты всех типов… автоматически переходят в разряд психических проблем: ответственность за них возлагается на отдельных людей и их рассматривают как частные случаи»12. Пятое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5)13, официального руководства Американской психиатрической ассоциации (АПА), несмотря на хронические разногласия и частые пересмотры позиций, всё ещё рассматривает некоторые случаи обычного поведения как предмет медицинского исследования14.
Обвинения в том, что психиатрия рассматривает политическое инакомыслие и культурный нонконформизм как патологии, не новы, но до сих пор справедливы. К примеру, гомосексуальность классифицировалась как психиатрическое расстройство – до тех пор, пока движение освобождения геев не развилось и не потребовало признания гомосексуальности нормой, что и было сделано на ежегодном собрании АПА. Однажды мне пришлось слышать речь знаменитого психиатра и критика психиатрии доктора Томаса Саса, в которой он указал на то, что психиатрия не является аполитичной – ибо что может быть более политическим, чем акт голосования? DSM-5 содержит упоминание (новое!) «вызывающего оппозиционного расстройства», являющегося классическим примером обвинения самой жертвы15. Анархизм же часто классифицировался как преступление. Почти столь же часто его определяли в качестве умственного расстройства, как это делал знаменитый криминалист Чезаре Ломброзо. Не изучив ни одного анархиста, он пришёл к выводу, что анархисты «по большей части или преступники, или сумасшедшие, или и то и другое вместе»16.
С другой стороны, анархисты, как и все остальные люди, действительно иногда сходят с ума17. Я знал слишком много сумасшедших анархистов. В анархизме доля святых, героев, мучеников и маньяков выше положенной.
Раздел «Психология» я начинаю с дискуссии среди анархистов (впервые опубликованной в 1978 году), с широкого райхианского взгляда на аспекты социализации, характера, морали и идеологии, и на то, как они подавляют «прозрачную» (открытую и искреннюю) коммуникацию. Только индивиды, склонные к прозрачной коммуникации, способны к настоящему анархическому объединению.
С 1944 по 1952 год Алекс Комфорт изучал медицину, биологию и детскую психологию, став доктором философии в биохимии18. В это же время он активно участвовал в анархистской и пацифистской деятельности в Англии. Доктор Комфорт получил международную известность в начале 1960-х годов с публикацией своего бестселлера, книги «Радости секса»19. В 1950-х годах его работа «Власть и преступность в современном государстве: Криминологический подход к проблеме власти» осталась забытой. Он утверждал, что современные политические институты систематически выбирают «нарушителей» для занятия властных должностей. Так почему же этой патологии нет в DSM-5? В качестве теоретического аппарата Комфорт использовал методы психоанализа Фрейда. Я считаю возможным, игнорируя аппарат, оценить приводимые аргументы.
Содержание раздела «Психология»
Джей Эмрод, Лев Чёрный. Вне характера и морали: К прозрачной коммуникации и гармоничной организации (пер. с англ. В. Садовского по: Amrod J., Chernyi L. Beyond Character and Morality: Towards Transparent Communication and Coherent Organization // Reinventing Anarchy, Again / Ed. HJ. Ehrlich. Rev. ed. Edinburgh, Scotland; San Francisco, California: AK Press, 1996. P. 318–322).
Алекс Комфорт. Власть и преступность в современном государстве: Криминологический подход к проблеме власти (пер. с англ. В. Садовского по: Comfort А. Authority and Delinquency in the Modern State: A Criminological Approach to the Problem of Power. London: Routledge & Kegan Paul, 1950. P. 7–18, 33–36).
Вне характера и морали. К прозрачной коммуникации и гармоничной организации
Джей Эмрод и Лев Чёрный
1
Чтобы создать революционную организацию, недостаточно механически объединить определённое количество людей с революционными намерениями. Создание подобной организации должно включать осознанный план агрессивного разрушения всех препятствий для коммуникации, мышления и действия как внутри, так и за пределами организации. Оно включает осознанную выработку теории и практики, адекватных поставленной задаче. А кроме того, нужна и преданность делу перемен, никогда не ставящая под сомнение необходимость меняться самому. Вы не сможете изменить мир, если собираетесь оставаться неизменными сами.
2
Логично, что первым шагом в разрушении всех препятствий для коммуникации, мышления и действия является определение самих этих препятствий. При тщательном исследовании нашей ситуации мы неизбежно обнаруживаем, что все эти препятствия можно отнести в общую категорию «капитала», понимаемого как гармоничная целостность всех аспектов, вместе его образующих. Единственно логичным выводом будет, что той силой, которая сдерживает все наши попытки ликвидировать капиталистическое общество, в конечном счёте, является лишь сам капитал.
3
Для достижения наших теоретических и практических целей мы сфокусируем своё внимание на том моменте или аспекте капитала, который Вильгельм Райх назвал «характером». Характер – это «капитал», видимый нами в отдельной личности. Это не множество случайных ограничений, а связанная структура неспособностей и ограничений, которые, будучи организованными в единое целое, выполняют свою функцию в рамках капиталистического общества. Характер никогда не следует рассматривать как вещь в себе, отделённую от любой другой социальной реальности. Он существует лишь как одно мгновение в целостности капитала. Действовать в соответствии с любыми другими пониманиями характера – значит упускать всю суть.
4
Вспомните своё детство. По ходу этого вы будете вспоминать, как формировалась структура вашего характера, как создавалась эта модель, появившаяся вследствие вашего поражения (и вашего подчинения) логике капитала, с которой вы познакомились в своей семье, у сверстников, в церкви или храме, в медиа и в школе. Тот же процесс вы можете наблюдать ежедневно, если посмотрите, как живут дети вокруг вас. Им нелегко даётся обучение логике капитала, как и нам всем когда-то. Каждый раз, когда ребёнок появляется на свет, его или её способности саморегулирования систематически подвергаются атакам самых близких к нему/ней людей.
Это обычно начинается с жёсткого графика кормления, что не только удобно для матерей и родильных домов, но также несёт в себе дополнительную функцию раннего приучения ребёнка к «принципу реальности» («Будешь есть по расписанию, а не тогда, когда голоден»), иначе известного как логика характера и капитала. Для значительного числа новорождённых мальчиков к этому добавляется травма обрезания[1], служащая им напоминанием о той «заботе», которую можно ожидать от своих родителей. В быстрой последовательности ребёнку открывается всё больше и больше видов выработки условного рефлекса, пока он или она наименее приспособлен для их понимания и оппонирования им. Нередко детей, которые не могут ещё ходить, приучают к горшку. Наиболее консервативные родители оперативно наказывают за любое прикосновение к гениталиям, и дети приучаются к постоянному ношению одежды («нехорошо, когда люди видят тебя голым»). Родители вводят жёсткие расписания сна для детей, хотя те и так хорошо знают, когда устали и когда хотят вставать. И вообще детям позволено исследовать окружающий мир и пробовать свои силы только лишь в рамках ограничений, дозволенных их поработителями – будь то родители, школы и т. п.
5
Единственный простой сигнал, всегда возникающий при каждой выработке рефлекса, состоит в том, что ситуацию контролирует не ребёнок, а кто-то другой. Дети отвечают на это единственным возможным для них образом – они адаптируются к такой ситуации посредством проб и ошибок. Когда ребёнок оказывается впервые отшлёпанным за то, что считал естественным действием, на его лице отражается изумление и любопытство. После того, как его накажут уже много раз за непостижимо простые дела, ребёнок, оказываясь в присутствии кажущегося иррациональным агрессора, учится избегать такого развития вещей. Он в итоге приобретает почтение к фигурам, облечённым властью (произвольной силой) внутри семьи. Это в конечном счёте обобщается до «уважения» и почтения ко всем властям, по мере того как ребёнок оказывается открыт всё более широким сферам осознания и действия. Стоит прояснить одну вещь – немногие люди осознанно приучают детей. Распространённая форма приучения является обычно результатом всей организации сил, действующих через родителей и других. Эти силы включают в себя экономическое давление, вмешательство родителей, общественные нравы и т. д. Капитал должен всё время воспроизводить себя или он перестанет существовать.
6
Мы живём в обществе без естественных нехваток. Наши естественные желания нередко оказываются временно невыполнимыми в силу природных причин. Обычно это не оказывает долговременного эффекта на наши жизни, поскольку в конечном счёте мы учимся на своих ошибках или же природные обстоятельства меняются так, что нам оказывается под силу исполнить свои желания. Однако к сожалению мы живём в обществе, где правит капитал, а это означает, что мы живём в обществе хронических, социально внедрённых (то есть искусственных) нехваток. Эти нехватки приводят к постоянным фрустрациям определённых желаний. И когда важные естественные желания оказываются хронически недостижимыми, не просто запретными, но часто и наказуемыми, мы вскоре оказываемся вынуждены примириться с таким отказом. Чтобы избежать наказания, которое бы последовало за попытку удовлетворить свои потребности, мы учимся подавлять их, как только они начинают проникать в наше сознание. Часть той энергии, которую иначе бы потратили на исполнение своих желаний, мы используем на их подавление с целью удовлетворить своё вторичное желание избежать наказания. И когда это самоподавление существует сколько-нибудь длительный период, оно становится обычным и переходит в подсознательную установку структуры нашего характера. Наше осознание изначальной ситуации этой хронической фрустрации подавляется, поскольку поддерживать его становится слишком болезненно. Мы выучиваем, что наше желание «иррациональное», «плохое», «нездоровое» и т. д. Мы усваиваем логику капитала как черты характера, и они становятся «естественными» для нас, а изначальные желания превращаются в желания «иррациональные». Даже когда угрозы наказания за действия в рамках логики изначального желания больше нет, мы автоматически продолжаем его подавлять. Мы выучились калечить себя, и нам это нравится.
7
На протяжении первых лет нашей жизни нас принуждают не просто усваивать некоторые аспекты капитала, а выстраивать структуру усвоений. Пока наша способность естественного гармоничного саморегулирования ломалась, её место заняла новая система саморегуляции, логически последовательная система, включающая в себя все аспекты самоподавления. Мы приняли участие в продолжающемся проекте капитала по колонизации, колонизируя самих себя, продолжая работу над построением унитарного характера-структуры (характера брони), унитарной защиты против всех побуждений, чувств и желаний, которые, как мы усвоили, было опасно выражать. На месте наших изначально ясных взаимоотношений с миром мы создали структуру барьеров для нашего самовыражения, скрывающую нас от нас самих и других людей.
8
Результаты характера можно обнаружить во всех аспектах нашего поведения, так как характер представляет собой унитарную деформацию всей структуры нашего существования. Он ухудшает нашу способность жить свободно и полноценно, разрушая структурные основания свободной жизни. Характер – это не ментальное явление. Это структурное явление всего нашего существования. Он проявляется как подавленность, хроническая напряжённость мышц, чувство вины, перцептивные барьеры, творческие блокады, психосоматические или психогенетические заболевания (во многих случаях различных «болезней», таких как хроническая бессонница, артрит, обсессивно-компульсивные неврозы, хронические головные боли, хроническая тревожность и т. д.). Он проявляется как уважение к власти, догматизм, мистицизм, сексизм, коммуникативные барьеры, неуверенность в собственной безопасности, расизм, страх свободы, ролевые игры, вера в «Бога» и т. д., ad nauseum[2]. В каждом индивиде эти черты характера приобретают согласованную структуру, которая и определяет характер этого человека.
Так же как характер является ограничением и деформацией свободной человеческой деятельности в целом на службе у капитала, так и идеология является ограничением и деформацией мысли на службе у капитала. Идеология это всегда принятие на том или ином уровне логики капитала. Это форма, приобретаемая отчуждением в области мышления.
9
При помощи идеологии я оправдываю своё соучастие капиталу, я оправдываю своё самоподавление (моё подчинение, мою вину, мою жертву, моё страдание, мою скуку и т. д. – иными словами, мой характер). С другой стороны, структура моего характера, существуя как зафиксированное, обусловленное поведение, естественным путём склоняется к выражению своего существования в мышлении в виде зафиксированных идей, господствующих надо мной. Характер и идеология не могут существовать друг без друга. И то, и другое – части одного унитарного явления. Вся идеология – это выражение бессилия моего мышления, и весь характер – это выражение бессилия моей деятельности.
10
Особенно коварной формой идеологии является расползающийся морализм, извечно бывший чумой либертарного революционного движения. Он уничтожает возможности для прозрачной коммуникации и последовательной коллективной деятельности. Поставить границы чьему-то поведению в соответствии с наставлениями морали (поисков «добра» или «правды») будет означать угнетение чьей-то воли ради удовлетворения некоего идеала. А поскольку похоже, что мы не можем ничего иного, кроме как пытаться удовлетворять и отчуждать самих себя, когда одна часть нас подчиняет остальные – это оказывается ещё одной ступенью характера. Если существует мораль, коммуникация подменяется манипуляцией. Вместо разговора со мной моралист пытается манипулировать мной, обращаясь к моим интернализациям капитала, к моему характеру в надежде, что этот вид идеологии позволит ему получить влияние над моим разумом и поведением. «Проекции моей субъективности, подпитываемые чувством вины, торчат из моей головы словно множество рукояток, предлагаемых любому манипулятору, любому идеологу, желающим завладеть мной, чьё профессиональное умение заключается в способности почувствовать такие рукоятки» (из книги «Право быть жадным»[3]). Единственной реально прозрачной, а значит и революционной коммуникацией является та, которая происходит, когда мы сами и наши желания оказываются в открытом пространстве, когда в воздухе нет никаких моралей, идеалов или принуждений. Мы будем аморалами, в противном случае станем манипуляторами и манипулируемыми. Единственной гармоничной организацией будет та, в которой все мы объединимся как индивидуальные личности, осознающие свои желания, не желающие идти ни на какие уступки мистификации и давлению, не страшащиеся действовать свободно в своих собственных интересах.
Власть и преступность в современном государстве. Криминологический подход к проблеме власти
Алекс Комфорт
В нашей собственной культуре и в тех обстоятельствах, при которых возникло изучение преступности с точки зрения психологии, мы имеем дело с результатом этого процесса, отличающимся от более ранних его стадий. В настоящее время мы вынуждены противостоять не столько самому правонарушителю, чьи успех и энергия подавляют противодействие, сколько широко распространённому встраиванию преступных моделей поведения в современные нам структуру и механизм общества. Экономическая и политическая власть распространилась вместе с цивилизацией, а цивилизация выросла со времён промышленной революции, преимущественно за счёт «биоцентрических» элементов. Законы и управление, быстро трансформируясь перед лицом стремительно сменяющих друг друга событий и сдвигов в балансе политических сил, начали вытеснять традицию и обычаи. Тирании, вызывавшие такую тревогу и возмущение у Западного либерализма, за последние годы получили даже больше власти принуждать, чем это было у местных вождей в небольших сообществах, так как они оказались сравнительно не ограниченными обычаями и получили возможности форматировать и видоизменять верования и обычаи в беспрецедентном масштабе. Нам следует признать, что централизованные городские культуры, включая и нашу собственную, подошли к моменту детального выбора типов индивидуального преступления, при иных обстоятельствах неразличимых, которые они будут, с одной стороны, терпеть или поощрять, а с другой – осуждать и карать. Рамки законов, определяющие преступление, больше строго не ограничены нравами общества или превалирующих в нём групп, в то время как само общество хотя и чувствует для себя угрозу от роста индивидуальной преступности, в своём существовании стало зависеть от притока того самого типа граждан, от которых можно ожидать криминальных действий. В подобном обществе у преступника возникает намерение стать свободным одиночкой, правонарушителем без лицензии, которому не хватило умения, удачи или возможности, чтобы выразить свою склонность к нарушениям в рамках структуры власти.
Правонарушитель как гражданин
Как правило, самые современные исследования сходятся в том, что антиобщественное поведение индивидов закладывается в детстве. Если какое-либо общество обнаруживает, что производит нарушителей в необычайно большом количестве, то причины такого роста чаще всего усматриваются в факторах жизни сообщества, негативно влияющих на семью или на принятые родителями методы воспитания. В какой-то момент, который может наступить как в детстве, так и позднее, человек, имеющий подобные изъяны в воспитании, сталкивается с проблемой взаимоотношений с остальными членами общества. Некоторые культуры обладают большими способностями ассимилировать таких людей, чем прочие. Ассимиляционная сила нашей культуры с точки зрения её способности к окончательному урегулированию конфликтов и «излечению» сравнительно невысока. Однако все эти потенциальные нарушители ни в коей мере не становятся автоматически врагами общества. Централизованные общества сталкиваются со значительными сложностями, пытаясь исправить своих заблудших членов, но при этом обладают удивительной способностью абсорбировать их, не меняя коренным образом.
Выбор, стоящий перед правонарушителем, ищущим выход для своих преступных наклонностей, – это выбор не между борьбой с обществом и переделкой себя под воздействием традиций и нравов этого общества. Это выбор между дозволяемым правонарушением и не дозволяемым. Ключевым фактором, делающим любое явное действие «правонарушением», является притязание субъекта деяния на право вести себя, не считаясь с остальными. Он может совершить ограбление или убийство, приняв их последствия, или же может найти место в социальной структуре, дающее ему лицензию при определённых ограничениях беспрепятственно воплотить свои притязания. Возможности для такого принятого и приемлемого правонарушения практически полностью находятся в рамках структур власти. Если у правонарушителей в таких режимах, как нацистская Германия, есть своё очевидное место, то в структурах любого другого сообщества, где принуждение является допустимой частью общественных институтов, у них есть скрытое место. Сам «выбор», разумеется, является почти целиком случайным. Преступник становится преступником в основном из-за своих возможностей, контактов и в силу случайного столкновения с законом ещё в начале своей карьеры. Если отклонение в поведении такого субъекта затрагивает собственность, то едва ли он сможет выразить его в допустимой форме. Если же оно в основном касается личных взаимоотношений, это ему будет вполне под силу.
После того как изначальный выбор сделан, человек, который находит способ увязать свою антисоциальность с обществом, может сделать это двумя путями. Если у него есть какая-то способность к «принятию» дисциплины, то в современном обществе существует множество занятий (почти все из которых связаны с исполнительной стороной власти), дающих ограниченную лицензию на причинение боли или на судебный произвол, причём эти занятия обязательны при современном укладе жизни. Или же его девиантное стремление может удовлетворяться приватно, пока не дойдёт до той стадии, когда этот индивид, став законодателем или авторитетом общественного мнения, сам сможет вписать его в жизнь своей культурной общности. Сама по себе машина власти есть во многом механизм, при помощи которого такая ситуация становится возможной.
Вероятно, было бы справедливым утверждать, что наиболее серьёзной проблемой современной криминологии является необходимый и лицензированный правонарушитель. Существование на национальном и персональном уровне правонарушений такого рода, а также то влияние, которое оказывают на обстановку во всём обществе психопаты, в настоящее время становятся более серьёзной угрозой для личной безопасности, чем обычная преступность. В некоторых случаях, как во времена расцвета чикагских гангстеров или в нацистской Германии, происходит неприкрытый взаимообмен между этими двумя категориями – в социальных демократиях внимание общества в большей степени направлено на вторую категорию, однако главную угрозу выживанию несёт первая. Эта угроза распространяется как на культурные и экономические блага централизованного общества, так и на будущее науки. И если, разбираясь с отдельным преступлением, в наши дни целенаправленно прибегают к научной психиатрии, то таковая непременно должна быть широко задействована и при изучении некриминальных форм правонарушений, от которых уже стали зависеть структуры централизованного общества, поскольку как спрос, так и предложение на правонарушителей можно рассматривать как продукт этого общества. Осуждённые преступники в определённой степени являются не столько устранимым побочным продуктом нашей культуры, сколько порочным переизбытком одного из её производителей.
Правонарушитель как эмоциональная отдушина
Помимо рассмотренной выше функции, которую правонарушители и потенциальные правонарушители могут исполнять в институтах современных обществ, у них есть, в силу их статуса изгоев и преступников, и вторая функция, которую можно обоснованно считать даже более важной. Райвальд (1949)20 привлёк внимание к рассмотрению преступника и его наказания во многом как к блуждающей и подавляемой агрессии цивилизованной публики. Он разделяет преступления на «удовлетворяющие» и «неудовлетворяющие». «Удовлетворяющее» преступление эмоционально заряжено и служит хорошей почвой для большого количества криминальной и детективной литературы: убийство, тема детективного рассказа, и сексуальное преступление, тема репортажа в воскресной газете, – вот основные «удовлетворяющие» преступления. Растрата, мошенничество и всевозможного рода «махинации» эмоционально «не удовлетворяют» – они не совпадают ни с одним из наших более или менее значимых представлений о вине. Преступник, в особенности «удовлетворяющего» типа, более или менее атавистический, чьё наказание снимает вину с читателя и зрителя, в такой степени и «нужен» обществу. Райвальд сомневается в возможности современных обществ отказаться от представлений такого рода, не прибегая к другим, более разрушительным.
Консервативный взгляд на наказание и на закон воспринимает решительные и устрашающие утверждения в современных уголовных кодексах буквально и тем самым явно недооценивает ритуальные и магические элементы в развитии общественного восприятия преступности. Многие из поразительных расхождений между очевидными намерениями закона и теми методами, к которым он прибегает, объясняются пережитками подобного рода. В первобытных обществах человек, нарушающий закон, имел особый магический статус. Преступник, по сути, поддаётся тем порывам, которыми в своих фантазиях развлекается большинство в его культуре и которые считаются источником вины. Делая это, он предлагает себя самого в качестве жертвы ради менее возбудимых или более зажатых членов общества, выражающих ему подобающую признательность. В этом смысле идея проклятого как спасителя и экзорциста гораздо древнее, чем её использование в христианском символизме. Как утверждалось, так и отрицалось, что наказание, как оно понимается нами, неизвестно в большинстве первобытных культур – казнь преступника, способная принять и форму самоубийства, это не столько наказание, сколько экзорцизм, очищающий эффект которого распространяется на всё общество. В рамках такого акта преступнику действительно могут даже аплодировать за то, что он стал козлом отпущения для тех, кто совершает преступления в уме.
Остатки первобытного подхода такого рода, безусловно, присутствуют в современном праве, хотя их не всегда легко вычленить. Райвальд указывает на практику, просуществовавшую в Англии вплоть до последнего столетия, когда осуждённого считали животным (и помещали в коровью шкуру), и на тенденцию цивилизованных государств рассматривать судебные заседания и казни как форму празднеств. Даже головной убор медика, который надевает на свою голову современный судья, оглашая смертный приговор, имеет долгую и выдающуюся антропологическую историю. Заинтересованное, восторженное или оргиастическое отношение публики к её узаконенным врагам по меньшей мере настолько же амбивалентно, как и у любой первобытной культуры. Подобные связи с преступником как благодетелем общества делают возможным понимание другой формы терпимой преступности, формы сурового или тиранического первобытного монарха. Он, подобно приговорённому, является магической фигурой – тем, кому дозволено, и тем, кто приносится в жертву ради ритуальных благ всего сообщества в конце своего срока правления. Монарх и приговорённый нарушитель закона в какие-то моменты истории общества оказываются взаимозаменяемыми. Преобразование цареубийства в правление происходит как бы на сцене, где дублёром, казнимым вместо монарха, фактически являлся осуждённый преступник. По словам Райвальда: «…преступник без оглядки на общество стремится к неудержимому инстинктивному удовлетворению. В точности такое же стремление характерно и для вождя племени. Именно его положения хочет достичь преступник, пренебрегающий общественными табу, – и по этой причине подсознательное приобретает для него такое возвышенное значение».
Помимо всех аналитических или исторических соображений, кажется очевидным, что в современных централизованных культурах нарушитель закона и правитель действительно занимают противоположные концы единой эмоциональной оси. Оба они являются козлами отпущения для необъявленных актов агрессии индивида: к обоим относятся с заметной терпимостью в случаях дискомфорта и повреждений, которые они могут причинить сообществу в силу своего положения. Предположение Райвальда о том, что такое отношение к преступности в обществе отчасти возникает в силу необходимости её поддерживать и, карая её, достигать эмоциональной разрядки, выглядит хорошо обоснованным. В случае правителей-угнетателей весь этот процесс оказывается более осознанным. Терпимость к тирану, вопреки тем страданиям, которые он причиняет, нередко возникает из того факта, что он становится точкой концентрации агрессивных фантазий в народе, независимо от того, отождествляют ли они себя с ним или реагируют на него ненавистью. Демократические правительства, подобно преступникам в демократических обществах, также служат козлами отпущения для народа. Правители избавляют нас от наших неудовлетворённостей при помощи нашей безответственности, а наказание преступников и то неодобрение, которое мы им выказываем, разряжают нашу тревогу из-за стремлений, которые мы разделяем с убийцей или насильником. Без большого объёма фактических знаний неразумно чрезмерно увлекаться концепциями такого рода, однако современные исследования психосимволизма и истории взаимодействий правителя-жертвы и преступника-жертвы слишком вызывающи, чтобы целиком их игнорировать. С точки зрения общества эти две функции могут сливаться. Правитель и преступник, по их же собственным личным взглядам, могут олицетворять разделение между теми, кто стремится выплеснуть агрессию, открыто сопротивляясь обществу, и соглашаясь с тем наказанием, которое это сопротивление включает, а иногда активно (подсознательно) желая его, и теми, кто стремится высвободить те же самые агрессивные стремления, становясь контролёрами или хранителями совести общества, формируя его по своим собственным меркам.
Формы терпимой преступности
Терпимые правонарушители в централизованных культурах находятся на двух различных уровнях. Они способны внедряться в механизм законодательной и политической власти и контролировать его, будучи высокопоставленными политиками и правителями. Как правило, в ещё большем числе их можно встретить в составе исполнительных органов, вклинивающихся между должностным лицом и гражданином. Нашим принятием существования и роли этих терпимых правонарушителей, а также их способности причинять вред мы обязаны подъёму тоталитарных государств, однако возрождение преступности и военной тирании как социально приемлемых линий поведения в цивилизованных государствах привело и должно приводить к пристальному изучению подобных механизмов внутри социальных демократий.
Социальная демократия была изобретена (по крайней мере в том виде, в каком она развилась как определённая продуманная система) с целью ограничить возможные злоупотребления властью её представителями. Полномочия самих представителей появились в результате общественного недовольства безответственным правительством. Таким образом, говоря языком либеральной теории, социальная демократия должна всесторонне гарантировать защиту от захвата власти преступными индивидами или группами. Конституция Соединённых Штатов специально оформлена так, чтобы эта цель была заметна. Однако гарантии, предоставляемые конституциями и теориями управления, упускают из расчётов куда более значимые эффекты, оказываемые на общество экономическими и социальными силами, которые не смогли предвидеть теоретики. Демократия подвержена рискам, с которыми сталкивались и другие общества – рискам от амбиций энергичных и беспринципных личностей, а также от чрезмерной концентрации власти, но есть у неё и свои собственные риски. Число претендентов на политическую власть при монархии ограничено кругом военных руководителей и знати, которые могут надеяться на успех при узурпации; чем шире критерии для поста, тем больше конкуренция. Демократические сообщества, в особенности в своих централизованных формах, дают шанс на попадание в сферу государственных дел многим агрессивным людям, чьи амбиции в ином случае могли бы ограничиваться лишь локальными вопросами. Более того, реальный контроль, который делегированные правители осуществляют над жизнями простых граждан, оказывается ещё более эффективным и доскональным, чем даже тот, о котором могли помыслить древние монархи, а сам факт делегирования в некоторой степени ограничивает сопротивление народа такому контролю. С ростом урбанизированного общества и расширением области и пределов администрирования высокопоставленные политики получили ресурсы силы и убеждения, и это не встречало сколько-нибудь значимого организованного сопротивления, за исключением периодов экономических спадов или распространённой нищеты.
В то же самое время концентрация населения и политических функций в городах привела к постепенному расширению размеров и пределов действия механизмов принуждения. Эти организации постепенно обретали автономное функционирование, которое может быть свободным от контроля как политической элиты, так и народа. Городская полиция сыграла важную роль в конфликтах вокруг политических партий и в установлениях диктатур. Можно вспомнить, что римская конституция предусматривала специальные и спланированные проверки использования армии для принуждения внутри страны на основании различия между imperium domi и imperium militae[4], а военные командиры обычно лишались власти в пределах города21. Уникальная череда императоров-психопатов в поздней истории Рима была почти в каждом случае обязана своей властью самовольным действиям принуждающих частей армии (императорских телохранителей), которые часто набирались из иностранных наёмников или имели их поддержку. В этом случае исполнительная власть была в физическом и буквальном смысле чужой, инородной для нравов и установок римского общества. Слом этой системы последовал после появления среди исполнительной власти достаточно мощных и амбициозных претендентов для разделения между ними центральной власти.
При этом либеральная теория западных демократий почти или даже совсем не имела влияния на планы их биологического роста. Централизация повлекла колоссальные изменения, многие из которых стали решающими для статуса семьи и безопасности личности и не были нейтрализованы техническими достижениями. Хэллидей22 привлёк внимание к растущей значимости культурно наследуемой тревоги в таких обществах. Исторические свидетельства, взятые из судьбы более древних городов-государств, отошедших от своих биологических основ, далеки от того, чтобы быть убедительными. Нарастающие тенденции к страху, опасности, а также курс на войну в таких демократических культурах становятся постоянными характеристиками, их можно обнаружить и в нашей собственной. Мамфорд23 уже продемонстрировал пугающе реалистичную картину процессов дезинтеграции в городских агломерациях – в этих условиях развитие психопатий приобретает масштаб пандемии: вина и её проекции в военной агрессии могут стать в демократических и традиционно пацифистских культурах даже более заметными, чем в более устойчивых авторитарных. Эффект, оказанный на современное американское сознание атомными бомбами, был более значимым, чем для немцев эффект от военного поражения. Либеральные гарантии в современной социальной демократии оказываются всё более вынуждены противостоять факторам, никогда не приходившим в головы её изобретателей. Осуждаемые современными либералами тоталитарные режимы, на которые те проецируют свои собственные чувства вины и тревоги, являются конечными продуктами похожих процессов в тех культурах, где сопротивление было ещё ниже в силу традиции или стечения обстоятельств.
В аристократических олигархиях члены правительства набирались по праву наследования из правящей касты и периодически пополнялись из нижестоящих слоёв за счёт браков и появления новых, самостоятельно продвинувшихся дворян. Управление было одной из многих функций, осуществлявшихся этим классом. В централизованных демократиях управление – это профессиональное занятие, притом обычно исключающее совмещение с другими формами деятельности. Следовательно, оно должно конкурировать с другими занятиями равного достоинства и статуса за необходимых для работы сотрудников. Руководство современной политической партией не предлагает ни экономических, ни интеллектуальных стимулов, превосходящих стимулы, предоставляемые технологиями, профессиями или более высоким положением в администрации на гражданской службе – её привлекательность для отдельного человека, вероятно, зависит в основном от предлагаемых ею возможностей изменить жизни других. Механизмы принуждения, полиция и тюремные службы в прошлом могли набирать к себе людей в силу ассоциации личной безопасности с работой на государственной службе. Многие годы служба в полиции или армии была единственным респектабельным занятием, дающим право на пенсию, на что могли претендовать представители рабочего класса24. Такого положения больше нет. Рост социальной защищённости и повышение стандартов уровня жизни в целом упразднили их привлекательность. По сравнению с другими занятиями, у работы в службах принуждения плохая оплата и более жёсткая дисциплина. Здесь, как и в органах законодательной власти, при поступлении всё более важную роль играет, по всей видимости, осознанный выбор. Таким образом, в централизованных обществах есть тенденция набирать персонал для подобных занятий в основном из числа тех, кто более всего озабочен страстью к власти, к полномочиям контролировать и направлять других. В случае будущих политиков подобные устремления могут происходить из высокоразвитого политического и общественного чутья, с той же вероятностью их источником может быть и плохая приспособляемость и глубоко укоренившееся стремление к самоуверенности и доминированию. В социальных демократиях существует лакуна между индивидом, желающим получить должность, и должностью, которую он желает, между механизмами избрания и механизмами партийной системы, включая и необходимость побуждать многочисленные электората! с разным уровнем интеллекта поддерживать кандидата при голосовании. В таком процессе прямота и альтруизм могут оказаться в проигрыше по отношению к коварству и эгоистичным амбициям. Более того, в то время как альтруизм и социальный идеализм могут найти готовые выходы для себя в других областях деятельности, например в научных исследованиях, медицине, религии или социальной сфере, все из которых обладают достаточным интеллектуальным и общественным престижем, централизация власти неизбежно привлекает к административному центру тех, для кого власть сама по себе является целью. Жажда успеха посредством богатства или успеха посредством славы и почёта более адекватно удовлетворяется в других сферах общества, и хотя политической власти возможно достичь другими путями, эта жажда остаётся превалирующим признаком правления в современных городских культурах.
Рассуждения подобного рода могут служить констатацией, скорее, возможного риска, нежели реального положения вещей в психологии английской политики в настоящее время. Число амбициозных и непорядочных людей в любом сегодняшнем парламенте, вероятно, не выше, чем в предыдущие периоды, когда условия были иными. Однако другие факторы, помимо тех, что связаны с политикой партий, в любое время могут вмешаться с целью привести посредством выборных технологий на ту или иную должность психопатов или группы, которые станут вести себя противоправно, будь это их долгожданной целью, объектом внимания и выражением сдерживаемой общественной тревоги и фрустрации, или же посредством разрушающего влияния, которое обширная власть, изоляция и кризис могут оказывать на колеблющихся личностей. Стандарты членов парламента Великобритании, а также общества в ходе межвоенной депрессии и Второй мировой войны претерпели значительные изменения. Вопреки этим переменам и давлению, оказываемому современным правительством на изначально общественно активных людей, институциональные меры безопасности едва ли окажутся эффективными.
Более того, что бы мы ни считали нормой неприкосновенности частной жизни и как бы полно этот стандарт не поддерживался английскими политиками, существует резкое разделение между личными качествами и публичной политикой. Это разделение характерно для сегодняшнего политического сумасшествия, когда явно порочная публичная политическая деятельность может сочетаться с примерным поведением в частной жизни. Предположение, что те, кто отдаёт приказы совершать мошенничество, бойни или депортации, должны непременно быть преступниками или садистами в своих частных взаимоотношениях, не поддерживается теорией или данными наблюдений. Когда такие действия явно безумны, нормальность тех, кто их совершает в других сферах деятельности, не более убедительна, чем та внешняя адаптация, которую нередко демонстрируют преступники вне своего специфического расстройства поведения. Представляется бесспорным, что интенсивная нагрузка и другие аспекты современной политической деятельности оказывают очевидное влияние на побуждения к преступному поведению у людей, которые при иной ситуации не проявляли бы его. Сомнительно, был бы Гитлер активным преступником, если бы не получил свою должность, несмотря на его безусловно ненормальную природу.
Обсуждая эти феномены в их нынешнем контексте, можно ссылаться на историю, но очевидные причины препятствуют публикации исторических расследований или оценок ныне живущих личностей. В любом случае, следует отказаться от долгосрочной диагностики умственной ненормальности у человека, известного лишь по своим высказываниям. Но вряд ли мы не заметим релевантность психиатрической классификации политической сцены последних двадцати лет. Тот факт, что ненормальные люди существуют и достигают власти, в рамках политической системы не является сам по себе её осуждением. То же самое относится и к другим сферам деятельности. Можно сформулировать важнейшие суждения, на основе которых надо строить оценку современного государства: во-первых, привлекает ли оно психопатов избирательно; во-вторых, является ли само стремление к власти демонстрацией провинности у некоторых или у всех, кто его демонстрирует; и, в-третьих, увеличивают ли и побуждают институциональные модели ненормальные склонности у руководителей государства? Чтобы дать ответ на эти вопросы, мы должны рассмотреть проблему с другой её стороны и изучить типы руководства, которые существуют в современных демократиях, а также их совместимость с устоявшимися социальными отношениями.
Всякая классификация общественной провинности должна включать в себя большинство, если не все из известных проявлений расстройств поведения, поскольку преступное поведение может возникать в широком наборе условий. Всё больше признаётся тот факт25, что отнюдь не все правонарушители и тем более не все преступники могут быть признаны имеющими психические отклонения. Наша важнейшая проблема – «не-нормальный и не-ненормальный» индивид. Однако некоторые явные примеры нестабильности психики являются довольно частыми причинами антиобщественного поведения. Органические психозы в силу их медленного развития в ранее нормальных личностях легко приобретают общественную значимость – едва ли шизофрения в своих крайних формах совместима с политической активностью, хотя такое случается в случаях с влиятельными религиозными или квазирелигиозными пророками. Маниакально-депрессивные психозы совместимы с активным и внушительным участием в общественной жизни – они могут негативно влиять на рассудительность, особенно в своих умеренных формах, не будучи замеченными пациентом или его коллегами, а циклическая депрессия в критических точках, как утверждают, вызывала провалы кампаний. Параноидные, истерические и навязчивые модели поведения, вероятно, также имеют очевидную общественную значимость: однако наиболее существенными в плане современной политики являются различные психопатические личности, ещё не доходящие до психоза, но уже безусловно страдающие неврозами. Даже человек с крайней степенью умственной неполноценности благодаря своей беспрекословной преданности, а также и «нравственно неполноценный», но не окончательно опустившийся человек могут занимать определённые должности в структуре общества.
Неадекватный психопат может дрейфовать в сторону преступления, но гораздо менее вероятно, что этот дрейф приведёт его к занятию должности, поскольку дрейф – неудовлетворительный способ продвижения по службе в конкурентном обществе. Там, где он несёт ответственность, будучи нейтральной третьей стороной между агрессивными оппонентами, уравновешивающими один другого, как это бывает в профсоюзе или на национальных выборах, он может набрать популярность, прослыв покладистым, гениальным и внешне общительным человеком, чья безмятежность и эмоциональная тупость могут быть приняты за глубину ума. Будучи неспособным совладать с кризисами или неудовольствием среди коллег, от которых он зависит, и которые, возможно, ему льстят, в неотложной ситуации он может бешено стараться наладить контроль или отвечать агрессией загнанного в угол кролика. За последние годы несколько подобных персонажей промелькнуло на политической сцене, при этом срок их жизни при демократических порядках был, пожалуй, дольше, чем при тираниях, поскольку они оказались не столь предсказуемы, как их правоверные приспешники.
Агрессивный эгоцентрик – вот куда более типичная фигура в политической борьбе. Антиобщественная сущность подобных субъектов заключается как в их мироощущении, так и в нескрываемом поведении – они тщеславны, амбициозны, деспотичны и нетерпимы.
Это не только вопрос степени, которая отделяет нормальное от ненормального, но и того факта, что эмоциональная нестабильность и неспособность извлечь выгоду из опыта делают поведение агрессивной, эгоцентричной психопатической личности непредсказуемым, ненадёжным и часто опасным. Качества, которые требуют твёрдого руководства, если вы рассчитываете на успех, оказываются неконтролируемыми и действуют во вред как самому человеку, так и обществу26.
Люди такого типа, обладающие средствами управления и высоким интеллектом, легко продвигаются к господствующим постам – они прирождённые боссы, для которых статус неоспоримого лидера является главной целью в жизни. В других случаях целью может являться достижение высоких позиций в бизнесе из корыстных побуждений, при условии, что недобросовестность этих личностей и их некритическая оценка собственных возможностей не приведут к неприятностям. Наступление тоталитарного порядка значительно расширяет радиус беспорядочного поведения такого типа, вполне совместимого с высокими политическими должностями, – эгоцентрик, способный достаточно приноровиться к вышестоящему и более успешному эгоцентрику, будет весьма высоко цениться за свою тупость, отсутствие сентиментальности и агрессивное отношение к нижестоящим.
Люди, отклоняющиеся в этическом отношении, характеризуются полным отсутствием или серьёзным повреждением чувства моральной ответственности, которое может соседствовать с острым интеллектом и кажущейся разумной, внушающей доверие внешностью, становятся опасными и неумолимыми преступниками, но в основном предпочитают действовать в одиночку27 и в качестве политических фигур скорее возникают на гребне волны революционного насилия, чем в ходе нормальных выборных процедур; одно лишь пренебрежение к моральным стандартам ещё не является достаточным поводом для включения кого-либо в эту группу, а случаи реальной нравственной отсталости достаточно редки. По крайней мере некоторые из них являются результатом органического психоза – тогда как другие рассматривались как конституционально ненормальные28. Бывали случаи, когда подобные личности получали наследственный или даже выборный пост – такой диагноз некоторые исследователи ставили императору Калигуле.
Среди этих типов агрессивный и стяжательский безоговорочно являются самыми вероятными для плетения интриг и занятия высоких должностей. Границы, в пределах которых они способны это делать, зависят от модели общества. На ранних стадиях индустриализации преобладал стяжательский тип психопата, обнаруживший для себя готовое свободное пространство посреди экспансии промышленности, коммерции и финансов. Его появление, по сути, стало знаком для принятия первых законов, призванных дать гарантии его финансовым жертвам, а позднее также и законов о контроле за условиями занятости в промышленности. Увеличившиеся возможности корыстных правонарушений в централизованных обществах форсировали расширение политического контроля вплоть до этого предела. Изменения в институтах и экономическом положении Британии уже серьёзно уменьшили эту возможность. Умышленные правонарушители стяжательского типа, вероятно, нашли для себя более подходящий выход в преступлениях или граничащих с преступными действиях, и денежные выгоды политики едва ли для них привлекательны. Однако здесь, как и бывает обычно в таких случаях, финансовый успех – это скорее средство, а не цель сама по себе, и его достижение мотивировано желанием наслаждаться властью и безопасностью, сопровождающей богатство, бухгалтерская оценка здесь, скорее всего, не к месту. Власть в своей тоталитарной форме казалась обеспечивающей адекватные награды для удовлетворения и тщеславия, и жадности – медали Геринга и его коллекция картин, по сути, относятся больше к попытке бахвальства, нежели к алчности скопидома. Стяжательство ради самого стяжательства – это, вероятно, сравнительно редкая форма преступности.
В послевоенном английском обществе психопаты власть-стяжающего типа, по всей видимости, процветают на периферии органов власти, скорее, в качестве посредников и агентов влияния, нежели как законодатели внутри них. В Америке сохраняется прежняя модель конкуренции бизнеса, и эгоцентричный психопат стал моделью для широко распространённого национального мифа об успехе. В силу своего героического статуса подобные личности могут вмешиваться в политику для гарантирования своих интересов или удовлетворения своих амбиций с большей лёгкостью, чем это возможно в Британии, где общество относится к ним с меньшим пиететом.
Примечания к разделу «Психология»
1 См.: Fox D. Anarchism and Psychology (2011), www.theanarchistlibrary.org. «Анархисты, вероятно, уделяли второстепенным проблемам революции больше внимания, чем любое другое революционное движение» (см.: Bookchin М. Introduction ⁄⁄ Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism. P. 19).
2 См.: Peris F., Hefferline R., Goodman P. Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality. New York: Julian Press, 1951. Гудман написал второй том “Novelty, Excitement, and Growth”.
3 См.: Gross O. Selected Writings, 1901–1920 / Trans. L.L. Madison. Hamilton, New York: Mindpiece, 2012; Gross O. Overcoming Cultural Crisis (1913) / Documentary History, 1. P. 281–284; Jung C.G. Psychological Types / Trans. H.G. Baynes, rev. R.F.C. Hull. Princeton, Newjersey: Princeton University Press, 1976. P. 101–111 (в этой кн. Юнг признаёт влияние Гросса). Существует Международное общество Отто Гросса: www.ottogross.org. Гросс и Юнг являются главными героями фильма «Опасный метод» (2011).
4 Наир.: HongN. Constructing the Anarchist Beast in American Periodical Literature, 1880–1903 // Critical Studies in Mass Communications, 9 (1) (1992). P. 110–130; сокр. переизд.: HongN. The Anarchist Beast. Berkeley, California: LBC Books, 2011. Среди примеров навешивания ярлыка «безумцев»: Anarchist Peril: Psychology of the Anarchist / Trans. J.-P. Cortane. Vancouver, Canada: Pulp Press, 1973; сокр. версия кн.: Dubois F. The Anarchist Peril / Trans. & ed. R. Derechef. London: T. Fisher Unwin, 1894. «Литература об анархистах, написанная капитанами полиции, журналистами, судьями и случайными обозревателями, огромна» (см.: Foreword ⁄⁄ Patterns of Anarchy. P. xvi). Крайне неисторично в наше время винить в перманентной непопулярности анархизма терроризм конца XIX в., как это делает Колин Уорд, см.: Ward С. Anarchism: AVery Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 12–13. Большевики и сионисты были террористами, однако они стали популярными и остаются такими для некоторых до сих пор.
5 Одним из занимавшихся этим вопросом был Этьен де ла Боэси (1530–1562). См. его кн.: Ла Боэси Э. де. Рассуждение о добровольном рабстве ⁄ Пер. с фр. М.: АН СССР, 1952 (впервые опубл, в 1574 г.). Он был другом Мишеля Монтеня. Под конец своей недолгой жизни стал консерватором и видным юристом.
6 См.: Milgram S. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper & Row, 1974; Lombardo L. The Lucifer Effect: How Good People Turn Evil. New York: Random House, 2006.
7 См.: РайхВ. Психология масс и фашизм ⁄ Пер. с нем. Ю.М. Донец. СПб.: Университетская книга, 1997; BrintonM. [ChristopherPallis]. The Irrational in Politics: Sexual Repression and Authoritarian Conditioning (2d ed.; London: London Solidarity, 1975), reprinted in: For Workers’ Power: The Selected Writings of Maurice Brinton / Ed. D. Goodway. Oakland, California: AK Press, 2004. P. 257–292; VoyerJ.-P. Reich: Howto Use. Trans. K. Knabb. Berkeley, California: Bureau of Public Secrets, 1973. Райх также писал на эту тему, более популярно, но и более параноидально в кн.: РайхВ. Посмотри на себя, маленький человек! ⁄ Пер. с нем. А. Шмонина. М.: Мир Гештальта, 1997- Анархисты того времени практически полностью игнорировали Райха. Редким исключением был анархист с инициалами “H.R.” (вероятно, нем. анархо-синдикалист Гельмут Рюдигер), ценивший исследования Райха по сексуальности, но полагавший, что тот, будучи коммунистом, не смог прийти к должным социально-революционным выводам, см.: Wilhelm Reich and the Mass Psychology of Fascism (1935) // Documentary History, 1. P. 444–448.
8 См.: Адорно T.B. Исследование авторитарной личности ⁄ Пер. с нем. М. Кондратенко, М. Поповой, общ. ред. В.П. Култыгина. М.: Серебряные нити, 2001 (впервые опубл, в 1950 г.).
9 См.: Фрейд 3. Недовольство культурой ⁄⁄ Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура ⁄ Пер. с нем., сост. и вступ. ст. А.М. Руткевича. М.: Ренессанс, 1992. Вполне возможно творческое неверное прочтение этой кн., как у сюрреалистов (см.: Cafard М. [John Clark]. The Politics of the Imagination // Cafard M. The Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. Baton Rouge, Louisiana: Exquisite Corpse, 2003. P. 23–24).
10 См.: Read H. Poetry and Anarchism. London: Faber & Faber, 1938. P. 80.
11 См.: Skinner B.F. Walden Two. New York: Macmillan Co., 1962 (впервые опубл, в 1948 г.). Бихевиористская утопия оказывается не столь отталкивающей, как это может показаться на первый взгляд. Некоторые коммуны хиппи черпали вдохновение из этой кн., см.: SargentL.T. Utopia and the Late Twentieth Century: A View from North America // Utopia: The Search for the Ideal Society in the Western World / Ed. R. Schaer, G. Claeys, L.T. Sargent. New York: Oxford University Press, 2000. P. 334.
12 См.: Зерзан Дж. Психология масс и страдание ⁄⁄ Зерзан Дж. Первобытный человек будущего ⁄ Сост., пер. с англ, и примеч. А. Шеховцова; общ. ред. Д. Каледина. М.: Гилея, 2007. С. 94. Психологическое Сообщество ещё называют Терапевтическим государством, см.: Szasz Т. The Therapeutic State: Psychiatry in the Mirror of Current Events. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1984; Polsky AJ. The Rise of the Therapeutic State. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991.
13 См.: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013).
14 См.: Allen F. Diagnosing the D.S.M. // New York Times (New York ed.). 2012. May 11, Ai9. Здесь у меня нет места для обсуждения этого вопроса или даже для цитирования обширной литературы, критикующей DSM-5 и его предшественников с научных позиций.
15 См.: DSM-5, 313.81 (F 91.3), images/pearsonclinical.com.
16 См.: Ломброзо Ч. Анархисты ⁄⁄ Ломброзо Ч. Преступный человек ⁄ Пер. с итал. С. Раппопорта, Н. Житковой и др. М.; СПб.: Эксмо; Мидгард, 2005. С. 245. На англ, это исследование доступно на сайтах www.theanarchistli-brary.org и www.marxists.org – на первом эта работа размещена с иронией, тогда как на втором вполне серьёзно. См. также: Shantz J. Lombroso’s Anarchy Problem (2014), jeffshantz.ca.
17 См.: Зерзан Дж. Психология масс и страдание. С. 95. Сам Зерзан тоже отнюдь не чурался медикализирования политического. Подзаголовок одной из его кн. – «патология цивилизации», см.: Zerzan J. Running on Emptiness: The Pathology of Civilization. Los Angeles, California: Feral House, 2002. Я не уверен, но кажется, это название – «бегство в пустоте» – он стащил у меня.
18 См.: Goodway D. Introduction ⁄⁄ Against Power and Death: The Anarchist Articles and Pamphlets of Alex Comfort // Ed. D. Goodway. London: Freedom Press, 1994. P. 8; Marshall P. Demanding the Impossible. P. 594–597; Ward C. Anarchism: A Very Short Introduction. P. 72–73.
19 См.: Comfort A. The Joy of Sex. New York: Crown Publications, 1962. В сиквеле “More Joy: A Lovemaking Companion to The Joy of Sex” (London: Quartet, 1973). Комфорт отчётливо увязывает «антисексуальность» и авторитаризм, как это задолго до него делал и Райх в своей кн. “Barbarism and Sexual Freedom” (London: Freedom Press, 1948).
20 См.: Reiwald P. Society and its Criminals / Trans. & ed. T.E. James. London: W. Heinemann, 1949.
21 См.: Sandys J.E., ed. A Companion to Latin Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 1929.
22 См.: Lancet. 1946. 10 August.
23 См.: Mumford L. The Culture of Cities. London: Seeker & Warburg, 1938.
24 В предвоенной Англии 70 % персонала тюрем набиралось из рядов Вооружённых сил (Rep. Н.М. Prison Commiss., 1939-41.) Предположительно большинство из них были бывшими военнослужащими регулярных частей.
25 См.: East N. Society and the Criminal. London: H.M.S.O., 1949.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 См.: Henderson D.K., Gillespie R.D. Textbook of Psychiatry. Sixth ed. London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 1944.
II. Работа
Критика работы – работы как таковой – обычно не была яркой у классических анархистов. В основном они заимствовали социалистическую и марксистскую критику «наёмного труда». В этом заключалась некоторая ирония, поскольку Маркс взял многое в этой части своей экономической теории, касающейся прибавочной стоимости и технологии, от анархиста Пьера-Жозефа Прудона, не признаваясь в этом1. Впервые, в довольно причудливых терминах, критика работы была сформулирована так называемым утопическим социалистом Шарлем Фурье2, а позднее, более реалистично, марксистом Уильямом Моррисом. Работа – тот её объём, который нам требуется, – должна была быть превращена в набор повторяющихся, приятных досугов, который я назвал продуктивной игрой3. Похожая идея есть и у Прудона4. Камилло Бернери поддержал эту идею, используя язык в духе Уильяма Морриса в 1938 году5.
Но эта идея не вошла в анархистский канон. Генри Дэвид Торо, американский анархо-индивидуалист, продолжил развивать некоторые аспекты критики работы в 1855 году6. Для Луиджи Галлеани работа была «неизбежной необходимостью»7. Для Исаака Пуэнте при либертарном коммунизме «…также и экономическая необходимость будет побуждать каждого кооперироваться в производстве, но это будет такая экономическая необходимость, которую будут ощущать все дееспособные граждане»8. По выражению Николаса Уолтера: «У анархистов есть две характерные идеи насчёт работы: первая заключается в том, что большинство работ являются неприятными, но [они] могут быть организованы так, чтобы стать более сносными или даже приятными; а вторая – что вся работа должна быть организована людьми, действительно её делающими»9. Для князя Петра Кропоткина в работе единственно неправильным является только переработка и плохая организация работы10.
Порой анархисты превосходили марксистов в своём прославлении труда. Бакунин, как всегда помпезно, провозглашал в 1866 году: «Труд — основа достоинства человека и его права, ибо лишь свободным разумным трудом творит человек цивилизованный мир, сам, как творец, отвоёвывая у внешнего мира и у собственной животной природы своё человеческое естество и своё право»11. По словам Эррико Малатесты, он и его старый друг Кропоткин «превозносили с вескими основаниями поучительное воздействие работы»12. Они были коммунистами. Синдикалисты были хуже. Впрочем, они всегда хуже. До и во время Испанской революции (1936–1939) «восславляя труд как освобождение, доминирующие направления анархизма, а потом анархо-синдикализма привели не только к признанию индустриализации, но и к её продвижению»13. При министре юстиции Гарсиа Оливере – знаменитом анархистском повстанце – республиканское правительство организовало принудительные трудовые лагеря, охрана которых набиралась из членов CNT[5], это было «экстремальное, но логичное выражение испанского анархо-синдикализма»14. В 1950-х годах некоторые итальянские операисты выражали негодование из-за того, что анархисты «провозглашают свободу всякого человека работать когда угодно, как угодно и чем угодно, как и свободу не работать вовсе»15. Анархисты не предлагали рабочим чего-то существенно большего, чем марксисты.
В 1985 году я написал статью «Упразднение работы». Этот текст был напечатан в Сан-Франциско как памфлет. В следующем году он вышел уже как заглавное эссе моей первой книги16. Он не был ярко анархическим, но анархисты и прочие начали переиздавать его. Он был переведён как минимум на пятнадцать языков. На меня повлияли такие анархисты, как Джон Зерзан и Фреди Перлман. А также – и даже в большей степени – Шарль Фурье, Уильям Моррис, Иван Иллич и другие. Возможно, я даже могу припомнить что-то из старых работ Мюррея Букчина: «У меня есть подозрение, что рабочие, когда в их среде начинается революционное брожение, станут требовать даже большего, чем контроля над заводами. Я полагаю, что они будут требовать уничтожения тяжёлой работы, или, что то же самое, свободы от работы»17. Спустя десять лет Букчин отказался от всех своих радикальных идей, включая и эту. Но она живёт своей жизнью.
Анархисты – сторонники классовой борьбы (редко принадлежащие к рабочему классу) оказались застигнуты врасплох. Мои идеи пользовались большей популярностью, чем те, что предлагали они. Недовольство рабочих работой оказалось глубже, чем зацикленность операистов на «эксплуатации», и левые знали бы это, будь они сами рабочими или знай хоть каких-нибудь рабочих. Большинство из них обитают в общежитиях колледжей или где-то неподалёку от них. В своих публикациях они или игнорировали меня, или же обрушивались с грубой невежественной критикой. Но я крутой, а они – отстой. Всё очень просто: большинство рабочих считают, что работа – дерьмо. Анархо-левые слишком поздно принялись заимствовать мой тезис, разумеется, в этом не признаваясь18. Чёрная кошка выпрыгнула из мешка. Лишь совсем недавно один ультралевый марксист (прочитавший мою книгу) объявил, что коммунизм повлечёт за собой ликвидацию работы19.
Чаз Буфе, вероятно, самый тупой из всех нынешних анархо-левачков, заявил, что выступать против работы означает выступать против рабочих!20 Получается, что быть противником рабства значит быть противником рабов? Анархисты ранее уже отвечали на эту клевету21.
Даже Эмма Бэльдман, анархо-коммунистка с некоторыми симпатиями к синдикализму, признавала, что «в настоящее время синдикализм – это досуг очень многих американцев, так называемых интеллектуалов. Не сказать чтобы они хоть что-то о нём знали – разве только, что его поддерживают выдающиеся авторитеты – [Жорж] Сорель, [Анри] Бергсон и другие: ведь американцу необходимо одобрение авторитета, иначе он не примет идею, какой бы правдивой и ценной она ни была»22. Ничего не изменилось, кроме того, что сейчас больше нет «очень многих американцев» – синдикалистов.
Я ничего не знаю о С.Л. Лаундисе, за исключением того, о чём сам он рассказывает в первом тексте этого раздела; да ещё того факта, что он написал роман «Последний бой Большого Эдди», доступный в виде электронной книги для читалки “Kindle”. Я не уверен, является ли он анархистом, но он оказался достаточно анархическим, чтобы его переиздало ортодоксальное анархистское издательство “Freedom Press”. Иначе я не включил бы ничего написанного от первого лица из жанра «истории тяжкого труда». Такие рассказы, как правило, занудны и депрессивны23. Кроме того, я стараюсь ограничить эту антологию авторами-анархистами. Одним из классических сочинений в этом жанре является «Корабль смерти» Б. Травена24, вероятно, это был немецкий анархист Рет Марут (оба этих имени – псевдонимы)25. Даже если не брать в расчёт эту неопределённость с авторством, из этого романа будет непросто выбрать отрывки, что не укладывается в мой лимит времени.
Я не собираюсь перепечатывать «Упразднение работы», потому что этот текст слишком длинный и он и так уже доступен повсюду. Вместо этого я включу более позднее, сжатое повторное изложение моего аргумента: «У рабочей зоны нет будущего».
«Кто будет делать грязную работу?» – статья Тони Гибсона, активно участвовавшего в деятельности группы “Freedom Press” в Лондоне. Это всегда первый вопрос, задаваемый критику идеи работы. И на него есть ответ26.
Лен Брэкен, мой близкий друг, вырос в американском посольстве в Москве. Он говорит по-русски. Его отца послали туда как «атташе по культуре» – шпионом, другими словами. Этим прошлым объясняется его пристальный интерес к теориям заговора, интерес, который я не разделяю. Он написал трэшовый порнографический роман «Шлюха Стейси», оказавшийся антикоммунистической сатирой. Чего, вероятно, не заметили его читатели, теребящие молнии своих ширинок.
Возможно, это сразу не бросается в глаза, но его эссе «Солярная экономика» посвящено труду – и взгляды Брэкена на работу совпадают с моими. Но там, где перспективы, представляющиеся Лаундису, Гибсону и мне, выглядят земными, подлунными – перспективы, открывшиеся Брэкену, оказываются буквально не от мира сего. Наш мир работы, наш перетрудившийся мир под холодными лучами рассвета кажется унылым местом. Если он иногда бывает ярким и роскошным, то это только подчёркивает его обычные тьму и бедность. Но Брэкен рассказывает нам, что мир избыточно богат, ибо он получает бесконечную энергию от благословенного Солнца. Все формы жизни предполагают сверхизобилие и чрезмерные траты. Брэкен позаимствовал эту идею у Жоржа Батая27. «Солнечная энергия» – это не какая-то мелкая новая технология. Это старейшая технология. Вся энергия – это энергия Солнца. Нехватка чего-либо – это ложь, лежащая в основании идеологии экономики и самого института работы. Биологические процессы расточают энергию. Во всех человеческих обществах роскошь, расточительство богатства не поддерживает в нас жизнь, но делает жизнь стоящей того, чтобы жить. Это настолько же истинно как для «первобытного изобилия» собирателей и земледельцев, так и для упадочной аристократии по рождению и состоянию28. Война – традиционный досуг аристократов, куда более эффективна в уничтожении богатств, чем в их созидании или присваивании. Бедняки же всегда тратили часть своего скудного состояния на праздники, дарение, показуху, и такие пороки, как чревоугодие, наркотики, алкоголь, табак, азартные игры и собственные дети. Потому что неважно, насколько ты беден, жизнь – это нечто большее, чем выживание. Общество потребления потребляет само себя, вместо того чтобы все мы потребляли потенциальное изобилие мира постработы. Солнечная экономика – это не программа. Это видение.
Я мало что знаю о Федерико Кампанье, итальянском экспате, проживающем в Англии. Надеюсь, что моих выборок из его текстов будет достаточно, чтобы передать то, как ему удалось связать антиработу, атеизм и приключения на основе их освободительной сущности.
Эрнест Манн (= earnest man, «искренний человек») – это псевдоним американца Ларри Джонсона (1927–1996). Двадцать лет он проработал в мире бизнеса, включая десять лет в сфере продаж. В 1969 году, когда ему было 42, он решил оставить эти «крысиные бега». Он ушёл с работы и продал большую часть своего имущества. Потом много путешествовал и много размышлял. Насколько я знаю, а я переписывался с ним несколько лет, Эрнест Манн никогда не читал ничего политического из написанного анархистами, марксистами или ещё кем-то. Однако он самостоятельно изобрёл анархо-коммунизм и «нульработу», не называя их так. Он выступал за Свободную Систему, за экономику без цен. Если все мы будем работать бесплатно тогда, когда хотим, и в тех областях, где хотим, если будем безвозмездно отдавать свои продукты и услуги, тогда все мы тоже будем свободными. С 1969 по 1996 год он распространял эту простую, но глубокую мысль в своей самодельной газете “Little Free Press” (всего вышло 138 её номеров). Он предугадал революцию зинов, и когда она проявилась, сам влился в неё. Именно так я и открыл его для себя. Мы стали переписываться. Он из тех, о ком я больше всего жалею, что нам не удалось встретиться лично.
Легко было бы отмахнуться от Эрнеста Манна как от юродивого дурачка (хотя он был атеистом): этакого праведного идиота из романа Достоевского. Насколько я знаю, исходя из его личных взаимоотношений, он был праведным, но отнюдь не идиотом. Без всякого сомнения, он был анархистом29 и куда лучшим, чем многие из теперешних позёров, хоть и не принимал этого ярлыка. Может быть, сейчас утопия действительно возможна, если мы освободим себя от достаточного числа предубеждений. Анархия же, по моему мнению, возможна лишь в том случае, если она проста. Бульварный писатель Г. Ф. Лавкрафт как-то заметил: «Мир не может не становиться скучнее, всё более усложняясь»30. Я бы связал эту мысль с анархистским требованием децентрализации: «Анархизм настаивает на всемирной децентрализации власти и на всемирном упрощении жизни»31. Дело не только в том, что децентрализованное общество более понятное и более дружелюбное. Оно действительно более интересное, чем общество специалистов32. Мне предпочтительнее общество с простыми институтами, но сложными людьми. Сейчас же всё наоборот.
У Эрнеста Манна был внук, оказавшийся проблемным ребёнком. Когда его отвергли все остальные, дедушка взял его к себе. В 1996 году внук убил своего деда, а затем покончил жизнь самоубийством33.
Содержание раздела «Работа»
С. Л. Лаундис. Зачем работать? (пер. с англ. С. Михайленко по: Lowndes S.L. Why Work? ⁄⁄ London Sunday Times. 1982. Aug. 8).
Боб Блэк. У рабочей зоны нет будущего (пер. с англ. В. Садовского по: Black В. No Future for the Workplace // Black В. Friendly Fire. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1992. P. 13–18).
Тони Гибсон. Кто будет делать грязную работу? (пер. с англ. В. Садовского по: Gibson Т. Who Will Do the Dirty Work? // Why Work? Arguments for the Leisure Society / Ed. V. Richards. London: Freedom Press, 1983. P. 108–114; впервые опубл, в 1952 г.).
Лен Брэкен. Солярная экономика (пер. с англ. В. Садовского по: Bracken L. Solar Economics ⁄⁄ Bracken L. The Arch-Conspirator. Kempton, Illinois: Adventures Unlimited Press, 1999. P. 192–199).
Федерико Кампанья. Последняя ночь (пер. с англ. В. Садовского по: Campagna F. The East Night: Anti-Work, Atheism, Adventure. Winchester, England: Zero Books, 2013.P. 8-17, 28–31,35-37).
Эрнест Мани. Бесценная экономика (пер. с англ. В. Садовского по: Mann Е. The Priceless Economy ⁄⁄ Mann Е. I Was Robot (Utopia Now Possible). Cushing, Minnesota: Little Free Press, 1990. P. 72–83).
Зачем работать?
С. Л. Лаундис
Я разделаюсь со всей грязью прежде, чем ею начнут кидаться в меня. Я – бездельник. Паразит. Я не патриотичен. Понятно? Теперь, когда все мои секреты раскрыты, давайте начнём. Я не попал под сокращение штатов, я отказался от работы добровольно. Для меня и таких людей как я протестантской трудовой этики никогда не существовало. Проблема заключается в том, что против этого кажущегося простым выбора «не работать» действует всё промышленно развитое общество на Западе, а возможно, и на Востоке.
«Такой-то очень хорошо устроился». Это предложение всегда звучит для меня угрожающе. По нему я сразу могу точно определить, что мне сейчас презентуют список достижений какого-то олигофрена. Обычно родители (в данном случае – мои родители) получают садистское удовольствие, торжественно излагая успехи потомства миссис Как-её-там. Выглядит так, как будто им кажется, что я в итоге буду вдохновлён на достижение вершин мира бизнеса. Без шансов, мам.
Я нахожусь в крайне запутанной ситуации. С одной стороны, мне хочется кое-каких материальных богатств, которые может принести стабильная работа. С другой стороны, у меня уже есть моё собственное сокровище. У меня есть пустые теннисные корты, долгие прогулки, библиотека, послеобеденный сон, покой и свобода. Долгое время я думал, что одинок в таком своём отношении к работе, успеху и т. д. Однако пообщавшись с друзьями, я осознал, что это может стать полноценным новым общественным движением. Набирает силу мнение, что работа только для лохов и трусов. Лишь дураки работают добровольно, остальных втягивают в это посредством подкупа или шантажа. В принципе, можно сказать, что холостых подкупают, а женатых – шантажируют.
Давайте взглянем на того, кто вписывается в этот мир ожидаемым от него образом. Боб – помощник менеджера по работе с клиентами. В течение шести лет он верой и правдой трудился на своего работодателя – и во имя чего? Дорога в офис и домой крайне утомительна, а кредитный лимит на его банковской карте всегда превышен. Чтобы соответствовать тому образу, который должен представлять собой молодой работающий мужчина, ему нужно жить не по средствам. Так почему же он делает это? Он – не дурак, он – всего лишь такой же, как и все остальные в утренней электричке; он – трус. Его страшат последствия того, что он станет безработным.
Я могу лишь посочувствовать всем этим молодым выпускникам, прочёсывающим доски объявлений в центре трудоустройства. Они думают, что работа будет решением всех их проблем. Кто-то ввёл их в заблуждение. Ах, какие у них мечты! Деньги, друзья, одежда, машина, квартира! Я бы хотел обратить их внимание на монотонность работы в конторе, муки физического труда и бесконечную скуку однообразного повторения. Работа – это не решение проблем, даже финансовых.
Можно сказать, что «зелен виноград», ведь я безработный. Не существует работы, достаточно хорошей для меня. Не существует работы, достаточно хорошей для кого бы то ни было. Меня никогда не перестаёт удивлять тот факт, что в этом мире, где столь многое возможно, и где от столь многого может захватить дух, столь многие готовы довольствоваться настолько малым.
Это поднимает мне настроение, когда я иду по улице в жаркий полдень. Вот я, в шортах и футболке, а вот – вьючные животные. Мужчины, пропотевшие в своих мятых костюмах, и девушки, нелепо разодетые по последнему писку моды. Вперёд, купи эту новую машину, обзаведись «миленьким» жилищем. Желаю удачи, но это не для меня.
У рабочей зоны нет будущего
Боб Блэк
Лучше будущее для рабочей зоны (как и для поля битвы) – это полное отсутствие будущего. Запоздало заметив кризис в организации рабочей зоны, консультанты ринулись вперёд с предложениями недолговечных реформ, общий знаменатель которых состоит в том, что они мало касаются самой рабочей зоны. Эти реформы были предложены рабочим, а не завоёваны рабочими, – они, как обычно, в сущности являются бизнесом ради бизнеса. Эти реформы могут временно поднять производительность, пока их новизна не выветрится, но размышления над тем, кто, что, когда и где будет заниматься работой, не затрагивают саму суть этой болезни: а зачем вообще работать?
Сменить рабочую зону на надомную работу – всё равно что эмигрировать из Румынии в Эфиопию в поисках лучшей жизни. Скользящий график – это для тех профессионалов, кто, как в офисном анекдоте, может работать любые 60 часов в неделю по своему выбору. Он не для сектора услуг, где занято больше всего людей; он не поможет ни поварам защитить свои прерогативы в часы обеда, ни водителям автобусов в часы пик. Обогащение работы[6] – это отчасти собрание ради укрепления корпоративного духа, отчасти болеутоляющее средство – духовный подъём и аспирин. Даже рабочий контроль, немыслимый для большинства американских менеджеров, это лишь самоуправляемое служение, всё равно что дозволение заключённым самим выбирать себе тюремщиков.
Для западных работодателей, равно как и для уходящих восточноевропейских диктаторов, гласность и перестройка оказались слишком незначительными и слишком запоздалыми. Оценки, которые высказывались социалистами и анархистами XIX века (да, вот у кого их списали консультанты), сейчас в лучшем случае встречают с угрюмым безразличием, а в худшем воспринимают как признаки слабости. Особенно в случае американских боссов, относительно отсталых в плане стиля менеджмента (как и в остальном), такие уступки только породят ожидания, которые они не могут выполнить и всё же при этом останутся на своих постах. Движения за демократию по всему миру смели мелкую сошку. Единственный враг – это общий враг. Рабочая зона – это последний бастион авторитарного принуждения. Разочарование в работе заходит здесь так же глубоко, как и разочарование в коммунизме на Востоке. Для начала отметим, что многие и не были очарованы. Почему же они подчинились? Почему подчиняемся мы? У нас нет выбора.
Есть куда больше свидетельств восстания против работы, чем было свидетельств восстания против коммунизма. В противном случае не существовало бы рынка таких транквилизаторов, как «реорганизация работы» или «обогащение работы». Рабочий на работе, как и, к великому сожалению, вне работы, пассивно-агрессивен. Героический эпос о коллективной солидарности пролетарского прошлого не для него. Но систематические прогулы, частая смена мест работы, воровство товаров и услуг, самоуспокоение алкоголем или наркотиками и работа настолько небрежная, что её можно посчитать саботажем, – всё это действия мелкой рыбёшки, пытающейся прикинуться крупной рыбой, которая спекулирует бросовыми облигациями и грабит ссудо-сберегательные ассоциации. А что если бы произошла всеобщая забастовка – и стала бы перманентной, потому что не выдвигалось бы никаких требований, ведь она сама по себе уже была бы удовлетворением всех требований? Были времена, когда профсоюзы могли расстроить любой из этих планов, но теперь они больше не в счёт.
Будущее принадлежит движению нульработы при условии, что оно будет развиваться, а его цель не окажется недостижимой, поскольку работа неизбежна. Разве не считали даже консультанты и техно-футурологи в своих самых фантастических текстах работу чем-то само собой разумеющимся? Именно считали, и этого нам достаточно, чтобы быть скептиками. Они никогда не предрекали будущее, которое уже наступило. Они предсказывали движущиеся тротуары и семейные аэромобили, а не компьютеры и рекомбинируемую ДНК. Их американский век стал японским, ещё не дойдя до своей середины. Футурологи всегда ошибаются, так как они всего лишь экстраполяторы, предел их видения примерно одинаков – хотя история (запись предыдущих будущих) насыщена разрывами, преподнося такие сюрпризы, как Восточная Европа. Лучше обратиться к самим утопистам. Поскольку они верят, что жизнь может быть другой, то что они говорят, как раз и может оказаться правдой.
«Работу», если рассматривать её как то, чем занимаются рабочие, не следует путать с усилиями; ведь и игра может требовать больших усилий, чем работа. Работа – это принудительное производство, нечто, делающееся не из удовлетворения от самой деятельности, а по другим причинам. Этими другими причинами могут быть насилие (рабство), нужда (наёмный труд) или усвоенное принуждение (кальвинистский «зов», буддистская «праведная жизнь», синдикалистский «долг служения Народу»). В отличие от побуждения к игре, ни один из этих мотивов не увеличивает наш производительный потенциал; работа не очень продуктивна, хотя произведённый продукт – её единственное оправдание. Вступайте в ряды консультантов с их игрушками.
И хотя так не должно быть, игра может оказаться продуктивной, а значит принудительный труд не является необходимостью. Когда мы работаем, мы производим без удовольствия, так же как и потребляем без творчества – ящики опустошаются и наполняются, опустошаются и наполняются, словно шлюзы канала. Обогащение работы? Это выражение подразумевает, что предшествующее состояние – это обнищание работы, и следовательно, опровергает миф о работе как источнике благосостояния. Работа обесценивает жизнь, присваивая нечто настолько бесценное, что оно не может быть возвращено вне зависимости от того, насколько высок ВНП.
Напротив, обогащение жизни заключается в подавлении многих профессиональных деятельностей и воссоздании, во всех смыслах слова, других занятий как приносящих удовольствие по своей сути – если и не каждому в любой момент времени, то хотя бы некоторым, иногда и при определённых обстоятельствах. Работа, как и продукция, стандартизирует людей, но поскольку те по своей природе стремятся воспроизводить самих себя, работа впустую растрачивает свои усилия на конфликты и стрессы. Игра же плюралистична, в игру приносится всё великолепие талантов и страстей, подавлявшихся работой и анестезированных досугом. Мир работы не одобряет частую перемену мест работы, а ориентированная на игру, или людическая, жизнь поощряет перепрыгивание с одного хобби на другое. И по мере ослабевания рабочего состояния всё больше и больше людей будут чувствовать всё сильнее, как их склонности и желания расправляют свои крылья, яркие, словно у только что появившейся бабочки, а игровой вид производства будет становиться всё сильнее.
Говоришь, ты любишь свою работу? Отлично. Продолжай. Люди твоего сорта помогут нам продержаться в переходный период. Нам жаль тебя, но мы уважаем твой выбор и в то же время подозреваем, что он коренится в твоём отказе признать, что от твоих непомерных стараний жизнь (в особенности твоя) не стала лучше, они только усилили впечатление, что жизнь проходит ещё быстрее. Ты боролся по-своему: старался разделаться с этим.
С упразднением работы, в свою очередь, исчезнет и экономика. Дополняемая игра как способ производства – это дарение как система распределения. Вместо нынешних грузоперевозчиков, развозящих товары, будут Гостеприимные Вагончики, навещающие друзей и несущие подарки. К чему сложности с покупкой и продажей? Слишком много бумажной работы. Слишком много работы.
Хотя консультанты и непригодны как реформисты, из них могут выйти отличные революционеры. Они переосмысляют работу, в то время как рабочие хотят думать о чём угодно, кроме этого. Но прежде им нужно переосмыслить свои собственные профессии. Вероятно, им будет не слишком сложно стать теперь лояльными рабочими – вполне целесообразно встать на сторону победителя, – но им будет сложнее признать, что в конечном счёте экспертами по работе являются рабочие, на ней занятые. В особенности те из них, кто отказывается работать.
Кто будет делать грязную работу?
Тони Гибсон
Каждый, кто говорит об анархизме, неизменно сталкивается с вопросом: «Но кто же при анархическом устройстве общества будет чистить коллекторы?» У этого вопроса есть вариации: порой интересуются теми, кто будет заниматься самой тяжёлой работой или самой грязной, но особенно часто упоминается канализация. Может показаться, что всякий желает быть уверенным, что в свободном обществе ему не придётся работать ассенизатором. Возможно, капиталистическое и авторитарное статус-кво держится на апатичной поддержке, обусловленной тем, что лишь небольшая часть рабочего класса экономически принуждена работать на чистке коллекторов. Сам я с работниками канализации не контактировал; может быть, поскольку их никогда не пугали этой страшилкой про грязную работу, они и не опасаются грядущей социальной революции, в конце концов, они и так работают в коллекторах.
Множество лет я избегал этого навязчивого вопроса, общаясь с аудиториями, так как убеждён, что истинным мотивом, его вызывающим, должны заниматься психоаналитики, способные рассказать нам довольно многое о коренящемся в подсознании страхе перед канализацией. Я, как и все, чувствую смущение, когда мне грозит опасность обнаружить чей-то излюбленный невроз. Однако теперь я готов заняться этим вопросом, тут, в печати, словно бы он был вполне разумным.
Прежде чем рассмотреть, кто же в свободном обществе действительно будет чистить коллекторы и делать другую работу, традиционно считающуюся «грязной», давайте сначала посмотрим, кто занимается ей сейчас. Также давайте исследуем природу «грязной работы». К людям, которые занимаются «грязной работой», относят ассенизаторов, мусорщиков, хирургов, домохозяек, работников боен, больничных медсестёр, юристов, солдат, фермеров, политиков, кожевников, бульварных журналистов и т. д. и т. п. Первое принципиальное разделение нам следует провести между теми, кто может смыть грязь, оставшуюся от их работы, в конце своего рабочего дня, и теми, кто не может. Не все придерживаются одного и того же мнения о том, какую работу считать грязной. Запахи канализации или кожевенной фабрики вызовут отвращение у одних, в то время как других оттолкнут вещи, которыми занимается хирург, медсестра или забойщик скота; иные же предпочтут заниматься чем-то из перечисленного, лишь бы не соприкасаться с мерзостью из сферы деятельности юриста, политика или «жёлтого» журналиста. Наши вкусы разнятся.
Примечательно, что одни из столь разных занятий оплачиваются высоко, а другие – низко. В нашем озабоченном деньгами обществе это образует важное различие, однако, вероятно, социальный престиж, связываемый с работой, для многих людей значит даже больше. Очень многие мужчины, скорее, будут горбатиться на малооплачиваемой работе клерка без всякой надежды роста, чем займутся более здоровым и вышеоплачиваемым трудом докера. Многие девушки будут работать по десять часов в день, таская судна и перевязывая раны, но не станут официантками в баре. Вопросы оплаты и «загрязнённости» работы не всегда перевешивают соображения общественного престижа (часто называемого снобизмом).
Недолгое время я зарабатывал на жизнь уборкой улиц Кардиффа; однажды на каком-то интеллектуальном собрании одна леди спросила меня, кем я работаю. Я ответил. Возможно, она была права, подумав, что я был намеренно груб, поведав ей правду. Если бы я хотел показать себя в выгодном свете и не травмировать её, я бы туманно намекнул, что работаю на важной должности на благо муниципалитета.
С интересом я прочитал о сдвиге социального престижа, касающегося работы, в недавно организованном государстве Израиль. Там, благодаря специфической природе иммигрантов, существует большой переизбыток профессионалов. Юристы, доктора, профессора, архитекторы и т. п. слишком многочисленны и большинство из них не могут прожить благодаря своим навыкам, однако существует большой спрос на каменщиков, землекопов, сельскохозяйственных рабочих и т. п. Поэтому ручной труд ценится высоко и невостребованные профессионалы берутся за него, но серьёзный сдвиг в значимости состоит в том, что теперь профессии, пачкающие ваши руки, оказываются одобряемыми обществом в Израиле, по контрасту с общественным презрением, которому подвергаются эти работы в других капиталистических странах. Несомненно, если капитализм в Израиле сохранится, эта ситуация ухудшится, приблизившись к положению в большинстве других стран, но пока она продолжается – это интересная демонстрация того, как быстро может поменяться отношение общества к «грязной работе».
То и дело отмечалось, что в разумно организованном обществе не будет проблемы с реально грязной, отталкивающей и унижающей обычного человека работой. Такие действия, как сбор мусора, удаление нечистот, сортировка лохмотьев, работа кочегаром и т. п., являются неприятными операциями в современном обществе только потому, что у людей, занятых ими, нет полномочий изменить условия своего труда. Если бы они не были бессильными и эксплуатируемыми созданиями, должными соглашаться с отвратительными и неприятными условиями работы, как это происходит сегодня, эти операции стали бы приоритетом для наилучших научных исследований и технических навыков, применяющихся к ним для того, чтобы сделать их не просто приемлемыми в качестве занятий, но и приятными. Ведь ключ к социальной гармонии лежит в отношении людей к их работе. Я бы определил свободное общество (то есть общество здоровое) как то, в котором нет социального принуждения, заставляющего индивида работать.
Такое определение анархии может вызвать существенные протесты некоторых анархистов, но я высказываю его в самом буквальном смысле. На первый взгляд такая идея выглядит совершенно нереалистичной, кажется, что тем, у кого есть некоторый жизненный опыт, её следует отбросить как глупый идеализм. Позвольте мне отделить себя от всех форм идеализма. У меня был практический опыт отношений с идеалистами, так сильно верившими и любившими «Человека», что они бы предпочли быть эксплуатируемыми со стороны ленивых тунеядцев, чем признать факт своей бессмысленной поддержки паразитов. Но я также хотел бы прояснить, что ни в одном сообществе людей, большом или малом, где социально необходимые работы осуществляются только из чувства долга перед обществом, возложенного на индивида, нет ни свободы, ни стабильности, ни здоровья. Единственным оправданием работы может быть лишь факт получения удовольствия от неё. Любое общество, полагающееся на политическое, экономическое или моральное принуждение в качестве движущей силы для своих производственных процессов, обречено быть нездоровым и в той или иной форме рабским.
Работу можно определить как расходование энергии в ходе производственного процесса, в отличие от игры, при которой энергия тратится без продуктивного результата. Работа характерна для здорового взрослого человека, а игра – для здорового ребёнка, чья энергия употребляется на развитие собственных способностей. Весьма существенно, что игра у человеческих детёнышей, как и у других млекопитающих, как правило, представляет собой повторение рабочих занятий взрослых.
Обычно всеми признаётся, что работа является необходимостью для каждого совершеннолетнего. Те люди, у которых в силу их благосостояния нет экономических причин работать, должны в целях сохранения своего физического и ментального здоровья искать замену работы. Они могут так и остаться вечными детьми, играя в рыбалку, охоту, походы на лодках, садоводство и огородничество, и часто находят удовлетворение в довольно активной работе-игре. Низшие млекопитающие не отличаются от людей, им тоже, став взрослыми, нужно работать. Будучи не столь озабоченными интеллектуальными сомнениями, они придерживаются своих занятий с искренним удовольствием. При изучении существ более простых, чем мы, не может возникнуть сомнений касательно того, от чего они получают удовольствие: выдра любит ловить рыбу, бобр – строить плотины, белка – собирать орехи, кролик – рыть норы. Некоторые могут указать на своих домашних Мурок, «испорченных тысячью лет неестественной жизни», предпочитающих не ловить мышей в погребе, а лакать молоко у камина, и проводят аналогию с современным человеком, утверждая, что тот стал неестественным животным, которому нужен пинок, чтобы он начал работать. В этой распространённой аналогии содержится биологическая ошибка. Ни Мурке, ни вам, ни мне нет тысячи лет: в плане инстинктов мы не обусловлены опытом наших предков. Мы одарены определёнными инстинктами, в сущности, оставшимися такими же, как и при возникновении наших видов, а наше поведение обусловлено окружающей средой, с которой мы сталкиваемся на протяжении нашей собственной жизни. Верните избалованную Мурку в лес, и она возвратится к естественному для кошачьих образу жизни; уберите от себя и меня давление невротической цивилизации XX века, и у нас появится шанс вернуться к естественному человеческому образу жизни, который, я утверждаю, спонтанно включает в себя желание работать и удовольствие от работы как образа жизни, свойственное любым другим видам животных. В настоящее время многие из цивилизованных представителей нашего вида оказываются уникальными в животном царстве в силу того, что в их производственном процессе не выражена радость жизни. Положение даже ещё хуже: мы воспринимаем как должное, что все животные получают удовольствие от процесса размножения, но среди многих в нашем виде даже эта функция утратила свою прелесть.
Должны ли мы заглянуть ещё глубже в поисках корней всей социальной дисгармонии и личных несчастий нашего времени? В нашем случае работа обычно считается печальной необходимостью, деятельностью, которую следует терпеть лишь ради производимых материальных товаров или, скорее, ради заработной платы, которая не очевидно связана с выполненной работой. Самое лучшее, что могут предложить реформисты, социальные планировщики и даже социальные революционеры, это всё новое сокращение рабочего дня, так, чтобы в нашей жизни было меньше страдания (работы) и больше удовольствия (праздности). Мне даже приходилось слышать, как на анархистском собрании обсуждался вопрос: должно ли у нас в великом и славном будущем быть три рабочих часа в день или же в неделю. Это определённо похоже на нижеследующий отрывок из американского пособия по сексу:
«Вопрос: Как долго пенис должен оставаться в вагине? Ответ: Лишь несколько минут». Ещё одна печальная необходимость!
Меня не волнует, если в анархическом обществе мы будем работать гораздо дольше, чем сейчас, при капитализме. Меня беспокоит, будет ли работа приносить истинное удовлетворение. По моему мнению, достичь этого нельзя иначе, как отказавшись от принуждения как движущей силы в производстве.
Очевидно, что если зарплатная система, являющаяся главной принуждающей силой, заставляющей сейчас людей трудиться на их текущих работах, была бы разрушена, на её месте возникло бы следующее. Освободилось бы большое количество людей, но они оказались бы дезориентированы и немедленно пришли к выводу: «Теперь надо жульничать и жить ради себя – работают только глупцы!» Вот чего следует ожидать. Одомашненная Мурка, впервые потерявшись в лесу, оглядывается по сторонам в поисках другого дома, чтобы притереться к нему; она далеко не сразу начинает действовать в природной кошачьей манере. Именно такой ситуации опасаются больше всего революционеры, они стремятся установить авторитарный механизм, чтобы заменить политическое принуждение экономическим принуждением капитализма. Политическое принуждение не всегда легко применить в производственных процессах; при диктатуре Ленина от него в целом отказались в пользу экономического принуждения нэпа. Однако если ради того, чтобы люди продолжали работать, после краха капитализма всё ещё приходится прибегать к принуждению, то отношение «жульничай и живи» сохранится как постоянная социальная установка.
Проблема кроется не в «вере» в природу человека, проблема в понимании. Можно либо осознавать, что люди – это социальные животные со здоровыми в основе своей животными инстинктами самосохранения, либо нет. Те, кто не осознаёт потенциальную животную жизнеспособность своего вида, – как правило, идеалисты, имеющие весьма идеализированные представления о Человеке и считающие аксиомой, что Тома, Дика и Гарри нужно дубиной заставлять работать, есть, спать, заниматься любовью с жёнами и чистить зубы должным образом, а то иначе они умрут от незнания того, каким Человеку следует быть. Том, Дик и Гарри – не всегда прелестные создания, однако они куда более лучшие представители общества, чем «благодетели», опасные дураки, готовые взять на себя ответственность за устройство жизней других.
Я стремлюсь обратить особое внимание на антиобщественную природу добросовестных администраторов. Все мы в курсе пагубной природы сознательных эксплуататоров и рэкетиров при так называемом свободнорыночном капитализме, однако именно проповедники плановой экономики и сверхправительства являются предвестниками голода, войны и разорения в будущем.
Если в результате революционного слома капиталистического общества исчезнет принуждение ходить на привычное место зарплатного рабства, тогда у этих дезориентированных людей появится шанс заняться производством для удовлетворения своих собственных потребностей в работе. Сложность проблемы заключается в том, чтобы определить, к каким скрытым стимулам или способам принуждения к работе следует прибегать, чтобы удовлетворить требования потребителей. Но мы склонны забывать, что для человека производить столь же естественно, как и потреблять. В любом обществе, где производители материальных ценностей не подвергаются принуждению, требования потребителей должны соответствовать тому, что естественно производить этому обществу, при этом каждый взрослый является как производителем, так и потребителем. Я понимаю, вот это-то и нелегко осознать многим, поскольку мы привыкли думать, что в обществе существует класс «рабочих», чья функция заключается в том, чтобы делать то, что велено. Если «потребители» желают телевизоры, военные корабли, кока-колу и уголь, то «рабочие» не должны перечить, они должны их производить. Настала пора попытаться представить себе общество без принуждения рабочего потребителем, ибо пока в наших умах не будет отпечатана эта картина, невозможно и думать в рамках практической анархии.
Анархистские авторы досконально проанализировали тот факт, что лишь небольшой процент населения в этой стране занят в производстве чего-то действительно полезного или осуществляет хоть какую-то общественно-полезную функцию, несмотря на широкое распространение вокруг нас отрицательной активности. Для нас, следовательно, очевидная дезорганизация нашей промышленности отнюдь не станет бедствием. Нам нужен слом существующей индустриальной системы; нам нужна революция и настоящая анархия, при которой мы сможем переустроить наши производственные процессы, когда рабочие будут управлять своим трудом, будучи мотивированы своей собственной потребностью в работе, а вовсе не необходимостью получать конверты с зарплатой.
Наихудшим бедствием, которое может нас постигнуть после слома капитализма, будет замена экономического принуждения политическим. Мы уже чувствуем, что это только первая ласточка. Те рабочие, которые больше не находятся на грани нищеты, иногда предпочитают не работать. И поскольку экономическая дубинка не может их запугать, Государство прибегает к политической дубинке, возбуждая уголовные дела. Как ещё вы заставите людей работать? Либо у индивида должно быть право работать или не работать, а Общество способно вынести такое, либо Общество должно сохранять свою машину принуждения – Государство. Анархизм основан на признании того факта, что обретя свободу, люди предпочтут работать.
«Но конечно, некоторые рабочие, занятые в отраслях жизнеобеспечения – чистке канализаций, к примеру – их-то придётся заставлять делать свою работу, даже при анархии!»
А вы готовы спуститься и прочистить эти коллекторы ради блага Общества, мадам? Нет? Тогда, мадам, вам придётся ходить на двор. Или, быть может, вы обнаружите, что есть множество людей, не столь брезгливых как вы, способных получать удовольствие, да, удовольствие, занимаясь трудными заданиями, и они будут больше вас заинтересованы в эффективном, гигиеничном и полезном избавлении от нечистот. Они, возможно, даже вернут их вам в форме заботливо выращенных овощей.
Солярная экономика
Лен Брэкен
1
«Всё, что блестит, золото» – это клише, из которого следует, что экономика – один из самых долговечных обманов в истории; этот обман продолжается и сегодня, не встречая противоречий. В солярной экономике богатством становится энергия, а Солнце управляет Землёй, ниспосылая дары тепла и света, вызывая случайности и сюрпризы. Действительное богатство мира на световые годы превосходит всё то, что слывёт экономикой. Из множества солнц возьмём два: одно выглядит небольшим и близким, а другое во много раз больше Земли и гораздо более далёкое. Экономика приходит к абстрактному выводу, что всё равнозначно.
Но все объекты уникальны в их отношении к безвозвратно утекающему времени и месту под солнцем. В то время как деньги всегда могут быть возмещены, невозможно, по словам Кратила, войти в одну и ту же реку даже единожды. Подобно Солнцу, которое мы определяем по тому, как оно с непрерывной щедростью посылает энергию, общества и индивиды демонстрируют себя по тому, как они тратят, – по энергии, растраченной ими на праздники, танцы и смех. Настоящее проявление богатства требует занять человеческие страсти искусством, эротикой, революцией, войной – теми моментами, когда идея будущего пропадает, словно дым. В солярной экономике такие дорогостоящие действия, не имеющие экономической ценности, действия, не укладывающиеся в расчёты мейнстримной экономики, занимают центральное место. Бесконечно большая, чем ограниченная экономика, входящая в её состав, солярная экономика включает в себя всю человеческую деятельность и всю жизнь под Солнцем.
2
Земной шар вращается с интенсивностью, бросающей вызов воображению, подобно турбине под солнечным ветром. Жизнь растёт безумными темпами, сейчас такой переизбыток жизни, что мы не можем принять экономический аргумент о том, что скудость – это единственное препятствие для роста. Безмерный океан солнечного света захлёстывает нашу голубую планету. Этот свет омывает нас энергией большей, чем нам требуется для роста с этой безумной скоростью. Энергия Солнца проходит сквозь массы живой материи и затем теряется. Прохождению этих лучей мешают организмы, способные аккумулировать их, а затем использовать эту излишнюю энергию для роста.
В экономике жизни мы понимаем, что рост требует энергии больше, чем необходимо для выживания. Также мы обнаруживаем, что живые организмы всегда захватывают энергии больше, чем им требуется для выживания и роста, – о чём свидетельствует растраченная впустую энергия каждого организма. Эта растрата принимает бесчисленное множество форм, но две основные из них – тепло и экскременты. В рамках же обратной перспективы этого феномена видно, что сумма энергии, выработанной живым организмом, всегда превышает количество энергии, необходимой для его производства. Это основной принцип жизни.
3
Жизнь весьма паразитически желает максимизировать использование энергии, данной ей Солнцем. Растения и животные осваивают все пространства, какие могут, и получают всю энергию, какую только найдут. Но каждый организм может использовать и вкладывать лишь определённое количество энергии. Излишняя энергия, полученная организмом, растрачивается впустую. Некоторые организмы имеют больше возможностей тратить энергию, чем другие. Хищники убивают свою жертву и оставляют излишки стервятникам. Предел такой потери энергии определяет проблемы получения энергии и возможностей организма к разрушению. Организм не может потратить энергию, которую не способен захватить; когда же ему удаётся получить излишек, он растёт и множится – но только до некоего предела. Естественная история демонстрирует нам, что пик роста порождает массовые потери. Стадо достигает пределов своего роста и в силу своего размера становится жертвой смертельных вирусов, паразитов и хищников.
Солярная экономика основывается на принципе потери, или, выражаясь точнее, на дисаккумуляции излишков жизненной энергии. Слияние сплетённых магнетических пучков горящих газов, которое мы называем Солнцем, постоянно расточает энергию. Потерянная Солнцем энергия бомбардирует Землю, в свою очередь, энергия, которую Земля не может поглотить, также оказывается потерянной. То же самое справедливо и для растений и животных – организмы теряют излишки полученной энергии. Некоторые калории идут на поддержание жизни, но остальное – избыток. Этот избыток сгорает в действиях, которые демонстрируют суть организма; иначе он превращается в жир, пропадающий в момент смерти, если не ранее. Расход достигает своей самой роскошной формы в смерти, ибо она представляет собой всё когда-либо полученное организмом богатство и энергию, которую он более уже не сможет получать и тратить из-за этого фатального события.
4
Анатомы, давшие название солнечному сплетению, должно быть знали, что такое бесконечное присвоение солнечной энергии даёт людям жизнь. Свет и тепло Солнца – это сияющие безвозмездные дары, которые порождают всю жизнь на планете. Люди представляют собой многочисленные формы избыточной солнечной энергии; они присваивают и используют внушительное количество планетарной энергии. Некоторые из этих энергетических затрат обеспечивают рост человечества; остальное оказывается излишком. При рассмотрении любой бесполезной человеческой деятельности, которую мы любим и ненавидим, можно лишь поразиться способности человека высвобождать громадные объёмы лишней энергии.
При таком количестве избыточной энергии в мире аргумент о бедности земли теряет всякий смысл. Если энергия – это богатство, то богатство – это величайшая проблема, с которой столкнулась голубая планета. Люди существуют, чтобы расходовать энергию, аккумулирующуюся на Земле. Некоторые из людей полностью осознают, как они теряют этот излишек энергии, что они и делают с радостью и торжеством. Если где-то в одном месте преобладает нехватка, то нам следует признать, что это демонстрирует локальный предел роста, и не принимать ошибочно эту часть за всё целое. Рост жизни продолжается, пока оргии энергии порождают изобилие и нехватку. Учитывая эти принципы солярной экономики, мы осознаём, что вольны распределять все ресурсы, до которых только можем дотянуться в буйстве жизненной энергии.
5
Энергия, аккумулируемая капиталистическими рациональностью, бережливостью и умеренностью, характерными для первой стадии капитализма, была инвестирована в ещё большее накопление. Такая аккумуляция порывает с роскошными тратами феодализма. Бросив взгляд в прошлое, мы обнаруживаем, что капиталистические инвестиции ускоряют расход энергии, но эти траты весьма редко можно назвать пышными, роскошными, величественными… Величие человека – это проявление земного великолепия в человечестве. Капиталисты не могут даже попытаться сравнить свои скудные траты с тратами вождя племени, сжигающего дотла свою деревню так, словно он природная сила, лишь для того, чтобы унизить враждебного вождя. В отличие от промахов капиталистов в искусстве потребления, египетские пирамиды, исламские священные войны, испанские корриды, римские цирки, костры тщеславия и даже американские гангстерские войны соответствуют этой величественной, славной растрате энергии, порождающей сильные эмоции. В наш век ничто так не соответствует грандиозности молнии, лесных пожаров, волн приливов, вулканов и землетрясений, как величественность революции.
Капиталисты поражены серьёзной болезнью – манией реинвестировать и преумножать прибавочную стоимость несмотря на уменьшающуюся прибыль, промышленное перепроизводство и т. д. Даже постбуржуазному капитализму Джорджа Гилдера (любимого автора Рональда Рейгана) не удаётся потреблять лишь малую часть излишков. В мире слишком много богатств, чтобы мы страдали от скаредного потребления капиталистических экономик. Вопреки добродетелям умеренности, бережливости и труда Бена Франклина, мы уже больше века обладаем моральной лицензией, нужной для участия в псевдодикарском, индивидуальном потреблении. Но мы даже и близко не подошли к тому, чтобы потреблять то, что мы, как люди, производим. Жертвоприношение, которое мы совершаем ради этого ничтожного потребления, – медленное отмирание работы.
Шоппинг – это тоже работа, в том смысле, что он обслуживает экономику. И работа, и шоппинг стали не такими уж полезными для удовлетворения человеческих нужд – они всё больше означают служение экономике. Мы воспринимаем полезность как нечто само собой разумеющееся, и многие полагают, что экономия полезна. Но оглянитесь вокруг. Того, что нам полезно и требуется для поддержания наших жизней, куда больше, чем достаточно. Мы же озабочены роскошным. Мы соглашаемся с Фурье, сказавшим, что Солнце – это тело бога, и ставившим роскошь на первое место среди страстей. Эротическая интерлюдия, чрезвычайно непродуктивная растрата энергии, безусловно, является роскошью, но ничто так не роскошно, как смерть человека, этот сильнейший фетиш. Работа притягивает нас так же, как смерть, но только с меньшей силой.
Экологическое разрушение и зарплатное рабство доказывают – экономика ограничений ведёт войну против человечества. Однако, по-видимому, каждый участвует в заговоре в пользу этой смертоносной экономики. Саморазрушение и самопожертвование переросли во что-то, чем они не являются, – в выгоду. Фурье удивлялся, что Смит и Рикардо изучали богатство, не рассматривая мораль. Их псевдонаучные теории упускали тот факт, что за всей экономической деятельностью таится невидимая рука религии.
До тех пор пока сомнительные рыцари индустрии XIX века не запятнали историю своей извращённой идеей постоянного реинвестирования доходов, все участвовали в жертвенном растрачивании. Такой разрыв с непродуктивными тратами лучше всего иллюстрирует потлач у квакиутлей, разорительные празднества дарения, объявленные вне закона в капиталистически-протестантской Канаде. Потлач доказывает, что пока он главенствует над уровнем коммерции и приобретает разрушительный масштаб, дарение совершает преступление против экономики ограничений. Духовный престиж доставался тому из квакиутлей, кто больше всего жертвовал своим соперникам. Хорошо это описывает Пикабиа: «Голод или всё-таки изобилие возбуждают желание разрушать – или, возможно, и то, и другое».
Колоссальные запасы энергии, как выясняется, затрачиваются на улучшение внешнего вида потребительских товаров. Как любит говорить поэт: «Американское яблоко – это не яблоко», но спектакль яблока на продажу. Такое яблоко едва ли пойдёт для вечного праздника – оно остаётся в рыночной экологии лишь пока сохраняет свой фальшивый блеск. Товары – это не дары, достающиеся нам путём символического обмена, они – загрязнение, получающееся в ходе эквивалентного обмена, использующего гомогенную субстанцию денег. Пользуясь иррациональностью как защитой, рейгановский апологет капитализма Джордж Гилдер определяет празднование и потлачество как черты предпринимателей, собирающих и распределяющих богатство. По крайней мере, Гилдер признаёт дары самым насущным вопросом в капиталистическом обществе, но даже пустяковое дарение, оказывающееся жизненным импульсом и моральным центром капитализма, отдаёт меньше, чем получает, иначе его ждёт банкротство. Иными словами, доход противоречит идее дара.
Выясняется, что капиталистические общества потребляют больше, чем докапиталистические, но их модели потребления отличает качественная разница. Даже кажущиеся непроизводительными формы потребления алкоголя и табака порождают доходные отрасли промышленности. Не нужно быть Мандевиллями[7], чтобы понять экономические плюсы от саморазрушения в этих ограниченных формах. По шкале квакиутлей саморазрушение даёт большие преимущества – оно распределяет богатство и выравнивает игровое поле. Капиталисты практикуют обманчивое саморазрушение, вытекающее из их глобальной монополии. Потери в Нью-Йорке оборачиваются прибылями в Токио, и наоборот. Система ничем не рискует, а потому ничего роскошного не ставится на карту. Игроки играют в игру без содержания.
6
Существуют активные и пассивные способы получения и траты энергии, говоря иначе, активные и пассивные способы жить. Пассивные способы могут быть приятными или болезненными для тех, кто к ним прибегает, – травоядное или рабочий – в зависимости от ситуации. Более интересны активные способы. Как знает каждый бизнесмен, траты настолько же важны и сложны, как и получение прибыли. Как знает каждый пират, грабёж связан с риском. Свобода находится на вершине храма Солнца. Чтобы поклоняться Солнцу, нам просто нужно участвовать в антиэкономической деятельности по своему выбору. Активные способы дорогостоящих трат большинством людей оцениваются негативно. Большие потери солнечной энергии совершаются немногими людьми, невзирая на всеобщую нищету. Именно поэтому Батай называл такие излишние траты долей обвиняемого или виновного. Излишнее оказывается необходимо в такой степени, что опрокидывает все фантазии, однако каким бы смешным это ни казалось, сохраняется нелепый миф о том, что земля бедна, а люди должны трудиться. Работа знакомит нас с очевидным первым шагом навстречу революции, потому что мы можем отказаться её выполнять. Парадоксально, что самой очевидной формой изобилия является изобилие лишений. Наш повседневный изнурительный труд лишает нас наших жизней.
Солнечная энергия течёт по жизни как электрический ток с притоками и оттоками, перемещениями тепла и света от одного существа к другому Эти импульсы энергии всегда являются коммуникацией. Энергия лежит в основе всего производства, но она также и передача эмоций в любви, искусстве и праздниках. Как убедительно демонстрируют романы Достоевского, мы радостно подпеваем звукам Солнца даже в моменты эмоциональных страданий и потерянности. Большинство людей не осознают, что делают со своими жизнями, и скрывают свои несчастья. Они набирают вес или идут работать – а в Америке занимаются и тем, и другим.
Вплоть до XIX века никто не считался богатым, если ему приходилось проституировать себя работой за деньги. Накопление ещё может быть далеко от своих пределов, но перепроизводство дешёвых товаров потребления и недостаточное использование творческих способностей бьют по нам, будучи пассивными способами. В наше время потери происходят в форме человеческой смелости и жизни. Иллюзии спектакля заставляют людей предавать свою сущность насмешников, плясунов и устроителей вечеринок. Человеку свойственно высвобождать громадные объёмы солнечной энергии. Человеку свойственно гореть. Революция влечёт за собой принятие всех рисков, необходимых для сотворения экспериментальной цивилизации вечных празднеств, празднеств, приносящих с собой обновление величия в повседневной жизни.
7
Человеческая популяция достигнет своего предела. И в то время как человечество приближается к нему, оно оказывается в ситуации индивида, не способного больше расти. Излишняя энергия такого индивида находит способ высвободиться и показать, что он (она или оно) с этой энергией делает, предъявляя желания. Взрывное высвобождение сексуальной энергии – с точки зрения жизни – обеспечивает продолжительность и продление жизни. Для индивида же такой взрыв сексуальной энергии является чистой потерей. Секс – это высочайшее выражение Солнца на земле. Мужчина приносит дар женщине, а та отвечает его принятием.
Вся избыточная энергия, находящаяся в распоряжении человечества, не может быть освоена людьми; пределы роста влекут за собой большие потери. Теряя жизни от чумы, войн и революций, человечество разрушается в масштабах, достаточных, чтобы соответствовать излишкам солнечной энергии. И как это уже было много раз на протяжении истории, ярость Солнца, выраженная трусливым подчинением человечества войне, берёт своё начало в работе и в её повсеместном контексте национализма. И даже если где-то работа и была свободна от своего отвратительного национализма, она, тем не менее, всё ещё представляет собой классовую войну. Имперские завоевания часто представляют укладывающимися в логику великого экономического плана, в то время как на самом деле их обычно побуждают движимые Солнцем вспышки чувств и интересов.
К счастью, истина летит на солнечных лучах. Нам напоминают, как Гитлер надругался над солярным символом – свастикой, и был испепелён до смерти, словно змея. Мы должны выбрать между тем, что Батай называл «моралью насмешника над непристойностями жизни», и моралью войны, между экономикой вспышки и экономикой подчинения. Мы можем остаться послушными детьми и вернуться к работе и войне или же действовать, как взрослые, и настаивать на сломе экономики ограничений. Судите эту тираническую экономику на её собственных условиях, а именно по тому воздействию, которое она оказывает на торговлю. Судите солярную экономику по чудесам Солнца.
Революция влечёт за собой дисаккумуляцию излишков капитализма. Эта трата энергии должна быть абсолютно бесполезной, потому что независимо о того, насколько нечто может быть славным, оно не станет великим, пока за ним не стоит никакого замысла. Человечество растратит аккумулированное за века богатство на неоспоримые страсти, которые мы все ощущаем как горячую пульсацию жизни, бегущую по нашим венам. Если мы увидим себя огненными веретёнами, охваченными пламенем желаний, мы начнём понимать, что можем сделать с нашими страстями, потребляя самих себя и других. Мы можем позволить этому маниакальному накопительству продолжаться ещё какое-то время, но скоро уже достигнем пределов роста, как это случилось в Лос-Анджелесе в 1965 году, а потом ещё раз в 1992-м.
По мере приближения капитализма к этому пределу он столкнётся со значительными потерями. Революция представляет собой высший и крайний потлач пролетарских масс, отдающих самих себя классам на уничтожение в смертельной борьбе. Способны ли классы ответить на этот дар? На распутье дураки выбирают умеренность, а умные сбиваются с пути. Если мы согласимся на этот риск, мы сумеем превратить мир в площадку для игр революции. Всё в конечном счёте оборачивается на пользу экстранациональной империи детей Солнца, признающих его тайную логику. Остальное же человечество погрязает в бедствиях.
Последняя ночь
Федерико Кампанья
В начале XXI века жители Запада, похоже, достигли той стадии, когда их надежды на автономию и свободу наконец-то могут воплотиться в реальности.
После столетий секуляризма казалось, что традиционные религии потеряли свою гипнотическую силу. Наряду с опустением церквей культ «истинных богов» сжался до объекта чисто академического исследования, или до опоры, за которую отчаянно цепляются наиболее обнищавшие массы. В то же время кровавые бойни тотальных войн XX века, преданные революции и политические кошмары сумели преодолеть заклятие даже самых коварных светских религий. Фашизм потерял право занимать хоть какое-то место в рамках политического дискурса. Коммунизм превратился в излюбленную идейку интеллектуально ориентированных арт-институтов, стал земным лимбом провалившихся утопий. Претензия капитализма на статус единственно возможной рациональной глобальной системы вдребезги разбилась об его же собственные противоречия. В то время когда всё балансировало на краю эпохальной перемены, само понятие времени открылось для трансформации. Линейная последовательность прошлого, настоящего и будущего уже не пастух человеческих популяций, она больше не подталкивает их к эпическим бойням, всегда сопутствовавшим идеалистическим иллюзиям. Казалось, что историческое время исчезло, очистив небо над повседневной жизнью. А вместе с концом Истории также наконец-то окончился и ряд обещаний Прогресса.
Перед людьми Запада будущее открылось словно ненанесённая на карту бескрайность океана, возникшая из расселин земли. Для них не назначено никаких путей, чтобы покорно по ним следовать. Адмиралы и попы отказались от своих постов, заявляя, что всегда были просто частью команды. С мачт были спущены и сожжены флаги. Путы, удерживавшие абстрактную общественную мораль на головах жителей Запада, словно раскалённые шлемы в средневековой пытке, были ослаблены. Наконец-то они могли сменить злосчастное требование свободы вероисповедания на освободительный призыв к свободе от любого вероисповедания. Наконец-то они могли построить для себя сообщества, не просвещаемые ни одним центральным тотемом. Им больше не придётся искать автономии капитала, знания или законов над ними, они сами могут утвердить свою автономию над любыми абстракциями.
Но ничего из этого не произошло. Когда религиозный туман над их головами рассеялся и они увидели, что звёзды – это всего лишь холодные огни, равнодушные к их судьбе, их охватила паника. Граница между свободой и отчаянием внезапно оказалась очень тонкой. Незаслонённый религией или идеологией горизонт показался им слишком широким, а ветер – сильным. Как понять – как себя нужно вести, если никакой бог не говорит, что делать? Нервные системы жителей Запада раскололись, оставив их тонуть в саморазрушительном безумии. Им нужна была новая, низкая крыша над головой. Им нужна была новая форма утешения.
Подталкиваемый паникой, их план построения своего собственного нового подчинения почти достиг извращённого логического совершенства. Они понимали, что если воздвигнут другого идола для правления над собой, что-то вроде другого бога или другой идеологии, то будут обречены проводить ночи в страхе нового крушения своей веры. Боги возникают и пропадают, идеологии разрушаются на поле боя и на бирже. Даже золотых тельцов можно переплавить на серьги. Ещё они осознавали, что молитвы не были средствами привлечь к своим делам высшие силы, так как их молитвы никогда не были способны поддерживать царства их усопших богов.
Им же был нужен новый, самоисполняющийся тип молитвы, не обращённый ни к кому из богов, которые могли бы предать их.
Фактически им нужна была не молитва, а мантра: призыв, обращённый к себе самому, заклинание, бесконечно воспроизводящее себя, вера в веру.
Однако в своей традиционной форме мантра слишком непрактична, чтобы приносить пользу кому-то кроме монахов и отшельников. Если жители Запада хотели хоть как-то использовать её в своей повседневной жизни, они должны были найти способ адаптировать эту мистическую практику к структурам современного капитализма. Как бы могла выглядеть мантра в сердце глобального мегаполиса XXI века? Что ещё нужно сделать, чтобы суметь принять её одержимый дух, действующий как круглый магический щит, закрывающий устрашённых верующих от их страха свободы?
Имелся только один возможный, практически безупречный кандидат. Повторяющаяся деятельность par excellence Работа. Бесконечная цепь действий и движений, построившая пирамиды и вырывшая массовые могилы прошлого. Печать нового союза со всеми божественными силами, который окажется способен вновь связать воедино всё человечество в новом и вечном подчинении. Акт подчинения самому подчинению.
Работа.
Новая, истинная вера будущего.
Парадокс Работы
О чём мы говорим, когда мы говорим о Работе?
Очевидно, мы говорим о том виде действий, который производит все те предметы, которые мы видим вокруг нас. Работа создаёт курительную трубку и стену, молоко и хлеб, любезное обслуживание клиентов, полицию, сантехника и стиральную машину. Но мы впадём в заблуждение, если предположим, что эти продукты и услуги являются на сегодняшний день основным raison d'etre[8] Работы. Продукты и услуги – это только её самые зримые результаты, но более не её основная цель. Это отличие будет проще понять, если мы обратимся к традиционным призывным армиям. На первый взгляд может показаться разумным суждение, что милитаризация была основной, если не единственной целью их создания. Предположительно армии были только средством ведения войны. Однако едва ли это так. Война была самым впечатляющим результатом создания традиционных армий, но не основной целью этого. Прежде всего армии вырабатывали дисциплину как в мирное, так и в военное время.
Подобным же образом продукты и услуги составляют самый впечатляющий результат Работы, но на сегодняшний день едва ли их возможно считать её основной продукцией.
Этот разрыв между Работой и экономическим производством становится особенно явным, если мы рассмотрим экономический парадокс, характеризующий современную Работу.
С одной стороны, есть глобальная экономика, циклически разоряемая регулярно повторяющимися кризисами перепроизводства. Бесконечные поставки товаров, обрушивающиеся из заводов и офисов, которые руководствуются догмой о безграничном экономическом росте, но не находят соответствующего уровня спроса, как должно было бы быть в случае капиталистической экономики. Всякий раз по прошествии многих лет требуется кризис или война, чтобы уничтожить излишнее предложение. Мы слишком много производим, мы слишком много работаем, и делая это, мы регулярно разрушаем нашу экономику. Ещё более драматична ситуация со взаимоотношениями производства и окружающей среды. С целью подпитки текущих уровней перепроизводства – а также и перепотребления, хотя лишь промышленного, а не индивидуального потребления, – мы постепенно и упрямо опустошаем собрание естественных ресурсов, известное как окружающая среда. Перепроизводство разрушает не только глобальную экономику, но и глобальную биосферу. Наша избыточная Работа ведёт не только к экономическому кризису, но и к экологической катастрофе. Наконец, сейчас в нашем распоряжении есть набор технологий, которые были бы способны сделать большую часть человеческого труда излишним. Вместо получения выгоды от облегчения в результате передачи производства машинам, люди стали соперниками технологий и тем самым оказались вынуждены снизить свои требования и ожидания до уровня машины. Мы стараемся работать также много и также неутомимо, как машины, но делая это, мы превращаем себя во второсортные производственные машины, неспособные даже сравняться в эффективности с настоящими.
С другой стороны, дискурс, связанный с Работой, стал сейчас навязчивым как никогда. Для огромного большинства людей во всём мире наёмный труд всё ещё остаётся единственным возможным путём получения ресурсов, необходимых для выживания. В особенности на Западе, где армия катастрофически перерабатывающих – напичканных психоактивными наркотиками и средствами самолечения – сталкивается лицом к лицу с армией столь же катастрофически безработных. Работа не просто оказывается единственным входом на рынок ресурсов, но и основной платформой для обмена общественным признанием и сокровенным театром счастья. Не только в глазах равных себе, но и в своих собственных, то, чего человек стоит, определяется его профессией и уровнем производительности. Каждое мгновение дня, ускользнувшее от вселенной Работы – это потерянное мгновение, время отчаяния и одиночества. Без работы, вне Работы, мы ничто – это правда настолько, что даже потребление должно было превратиться в связанную с Работой деятельность. Офис стал тем местом, где, как предполагается, мы должны будем найти своё счастье и самоуважение – или, выражаясь языком офисной культуры, – «найти себя» – как и любовь к тому, что ты делаешь: где ещё мы можем чувствовать себя безопаснее, как не на своём рабочем месте, уютно устроившись в тёплых объятиях своей офисной семьи?
Я считаю это экономическим парадоксом, так как сигналы, исходящие от экономического и экологического коллапса, вкупе с доступностью сокращающих трудозатраты технологий, логически подталкивают к кардинальному уменьшению человеческих вложений в Работу. Однако, как мы видим, культурный дискурс вокруг Работы ускоренно движется в противоположном направлении, заявляя о как никогда важном значении Работы в нашей жизни и в построении экономической, социальной, даже эмоциональной среды.
Как же это возможно? Если результаты современной Работы оказываются ненужными и вредоносными, то почему же мы продолжаем в неё вкладывать всё? Зачем Работа вообще?
Традиционные призывные армии вырабатывали дисциплину – самый ценный ресурс для традиционных обществ ancien régime[9]. Офисы и заводы наших дней вырабатывают повиновение – цемент, необходимый для общества, отчаянно старающегося удержать абстрактную, бессмертную крышу над своей головой. Если мы хотим понять взаимоотношение между подчинением и религией, нам следует начать с пристального взгляда на само подчинение.
Нередко обнаруживается серьёзное непонимание взаимосвязи могущества и повиновения. Принято считать, что повиновение подчиняется могуществу, правящему над ним как в логическом, так и в производительном плане. Принято считать, что приказание господина столь же производительно, как и деятельность тех, кто ему подчиняется. Мы глубочайше ошибаемся. Без повиновения раба приказы господина стоили бы немногим больше лая на ветру. Даже продемонстрированное самым властным образом и поддержанное самой грубой силой, могущество ничего не может сделать без повиновения. Именно повиновение рабочего пополняет запасы господина, начищает его столовое серебро и защищает его дом. Соотношение между могуществом и повиновением такое же, как между капиталом и трудом: ведь если капитал это не что иное, как застывший труд, – обваливающийся на головы самих рабочих как неизбежная реальность, – тогда и могущество есть не что иное, как застывшее повиновение, лавиной обрушивающееся на головы тех, кто подчиняется. Могущество бессильно, повиновение всемогуще.
После таких рассуждений практически спонтанно возникает вопрос: если могущество настолько слабо, что не способно существовать без активного повиновения тех, кто ему подчиняется, то тогда почему люди повинуются? Почему повинуемся мы? Понятно, что никто никогда не стал бы ничего делать, не считая, что это может принести ему некую пользу Никто не стал бы повиноваться лишь ради самого повиновения, но всегда пользуясь им как средством для некоей цели. Однако эти цели нам следует искать не в перечне непосредственных материальных благ, а в том, что мы ранее определили как сферу Религии.
Взгляд на историю повиновения может помочь нам прояснить такое утилитарное прочтение взаимоотношений повиновения и Религии.
Когда мы говорим об истории повиновения, мы с тем же успехом могли бы переменить порядок слов и поговорить о повиновении Истории. История и повиновение всегда, и по необходимости, шли вместе, ибо у них общее происхождение – в изобретении письменности. Согласно традиционной историографии, историю можно определить как период времени, начавшийся с первого появления письменных записей 3 200 лет до н. э. Подобные записи, как, например, те, что были найдены археологами в местности, известной в древности как Месопотамия, представляли собой глиняные таблички, создававшиеся храмами для ведения дел с окрестным крестьянским населением. В то время месопотамские храмы уже давно функционировали и как места богослужений, и в качестве мест хранения семян и инструментов, использовавшихся в сельском хозяйстве. Храмы обычно одалживали семена и инвентарь крестьянам, и записывали их долги на табличках. Если крестьянин не мог расплатиться по своим долгам, то и он, и его семья должны были заплатить своей свободой. Существовал обычай, согласно которому каждый новый царь должен был уничтожить все таблички в начале своего царствования или после успешной военной кампании. Но лукавые счетоводы храмов вскоре нашли выход, как избежать неудобств от этой монаршей милости. Вместе с первой формой письма и записи долгов, была изобретена и первая оговорка: храмовые писцы принялись вставлять оговорки о нерасторжении во все свои новые долговые таблички. Теперь долг оказывался вечным, вне зависимости от распоряжений царя.
Изобретение этой оговорки повлекло за собой гигантские изменения, далеко выходящие за рамки серого мирка простого учёта. Можно сказать, что с увековечиванием долгов крестьян посредством письма изменилась и сама структура мира. До этого момента все, кто существовал, были живыми организмами, плавающими над тонким слоем смертности и безжизненной неорганической материи. Даже бессмертие богов было довольно относительным и куда больше походило на смертную хрупкость людей, чем на небесную безмятежность, типичную для богов монотеистических религий. С введением нерасторжимых условий договора впервые появилось абстрактное бессмертие. Нечто, осмысленно сотворённое людьми, внезапно вознеслось над их головами и зажило своей собственной жизнью: жизнью, которая могла потенциально превзойти и пережить жизни своих создателей. Сначала долги, потом законы, а затем и сама История: плоть стала словом, и его абстрактная, бессмертная форма снова пала на живых, сокрушая их, связывая их по рукам и ногам. Это созданное человеком пространство бессмертия – которому мы можем дать определение пространства «нормативной абстракции» – окутало людские жизни словно их вторая природа. Наряду с природой биологической, ограничивавшей и определявшей сферу человеческого действия и возможностей, эта вторая природа нормативных абстракций установила даже ещё более жёсткую, узкую границу. Люди сотворили её, но не смогли отменить. И пока они умирали, написанное слово было бессмертным, а его приказания должны были оставаться неизменно производительными. Родилась цивилизация. С осознанием собственного бессилия человечество впервые охватила паника, затем страх и наконец зависть. Люди принялись желать себе бессмертия.
Они хотели заполучить его, или, вернее, хотели быть допущенными на эти бессмертные поля.
Как стать бессмертным? Как получить место в сонме абстракций? Это фундаментальный вопрос в самом сердце большинства религий и та точка, в которой религиозные стратегии теологов и «простых» верующих расходятся в наибольшей степени. В то время как теологи нередко предлагают философское созерцание чистых форм или божественной сущности в качестве ответа на вопрос бессмертия, огромное большинство верующих традиционно склоняются к двум различным наборам ответов.
С одной стороны, у нас есть типично христианская работа над телом, воплощённая в ритуале причастия. С целью быть допущенными в пространство бессмертия, верующие должны были начать с преображения своих тел. Вкушать «тело Христово» оказалось недостаточно, ибо плоть должна быть истязаема, унижаема и лишена наслаждения, так, чтобы она могла стать столь же бескровной материей абстракции.
С другой стороны, существует метод Ислама (само это слово в переводе с арабского и значит «покорность»). Мера чьей-то способности к проявлению покорности становится той монетой, которая в конце концов купит верующему билет на абстрактные поля бессмертия. Покорность бессмертной, нормативной абстракции должна быть полной, выраженной в делах и осуществляемой в повседневной практике жизни человека. Здесь Ислам соприкасается с протестантской этикой, молитвенные ритуалы сближаются с рутиной фабричной и офисной работы, а фанатизм традиционной религии – с фанатизмами современных не-религий. Только отдав нашу волю абстракции, мы – ничтожная, смертная плоть, сможем однажды получить дозволение стать такими же бессмертными, как те абстракции, которые мы воздвигли над своими головами. Только работая упорнее, превращая себя в машины, мы сможем превратить свою плоть в сталь, из которой выкованы наши цепи. Желание стать такой цепью приходит на смену желанию вырваться из них.
Религию слишком долго сравнивали с опиумом. Опиум замедляет физические и когнитивные процессы, побуждает того, кто его курит или принимает, закрыть глаза, отдохнуть. Опиум окутывает жизнь словно сетка от комаров, отгораживая от всего мирского шума, замораживая жизнь в вечном рассвете. Иначе работают религии: как традиционная вера в Святую Церковь, так и светские, современные версии. Религия попадает в кровоток и заставляет сердце ускоряться до невозможного ритма. Она поджигает все нервные пути, потом сталкивает мысли с мускульными тканями, пока кровоток не окажется достаточно сильным, чтобы напитать навязчивую гиперактивность, ускользающую от человеческого разума и возможностей. Она больше напоминает амфетамин, чем опиум, даже кристаллический метамфетамин больше, чем амфетамин. Главным образом она действует как яд. Субстанция, не покрывающая жизнь, словно лёгкое одеяло, но входящая в неё как насильник, искажающая её, овладевающая ею, сжигающая её дотла: она – перенапряжение, самопожертвование, крестовые походы, мегаломания самоубийств во имя той или иной нормативной абстракции.
Если религия – это яд, то неужели от него нет противоядия? Некоторые могут поддаться искушению и обратиться к греческому слову pharmakos («яд»), имеющему и второе значение – «лекарство», тем самым понимая яд и противоядие как два аспекта одной и той же природы. Продолжая рассуждать в этом направлении, они могут склониться к позиции, что прививка пациента умеренным количеством агрессивного средства в качестве метода вакцинации может стать эффективным лечением. Они будут убеждать, что лучшее, более мудрое, более тактичное использование Религии может стать подходящей прививкой от её чрезмерного употребления: умеренный патриотизм для борьбы с национализмом, светский ислам для борьбы с исламским фундаментализмом, жёсткое регулирование условий труда ради избегания чрезмерной эксплуатации и так далее. И хотя некоторые из этих предложений могли бы иметь какие-то положительные эффекты в краткосрочном времени, едва ли они преуспеют в нейтрализации мощи и амбиций Религии. Вакцинация хорошо срабатывает против вирусов, тоже живых существ, которые паразитируют на человеческих хозяевах изнутри. Но религия, как яд, живёт только лишь в качестве метафоры, она не живёт в той же плоскости существования, что и сосуды, в которые она проникает и которые разъедает. Нам не нужна вакцинация от Религии, нам нужно противоядие: вещество, действующее противоположно яду, но с той же силой.
Такое негативное, лобовое противопоставление яда и его противоядия позволяет нам сузить поле нашего исследования. Если религиозные дискурсы происходят из бессмертной сферы нормативных абстракций, то антидот, который мы ищем, должен существовать где-то вне этой сферы. Он может быть обнаружен и будет действовать только в пределах смертной жизни плоти. Если яд Религии навязывается нам словно обобщённый вид на горизонт, вечно не досягаемый и вечно в иллюзорных пределах видимости, то тогда его антидот, как и рабочий инструмент, должен иметь рукоятку, чтобы мы могли им пользоваться. Это будет не ещё одна нормативная абстракция, а метод действия.
Встречали ли люди когда-либо столь чудодейственный инструмент, или же он всего лишь ещё одно мифическое изобретение? Очень долго мы жили с ним рядом, быть может столь долго, сколь мы живём в полумраке религиозного мышления. Мы даже придумали для него слово. Неудивительно, что это слово с сильной негативной коннотацией. Его версия на латыни, dilapidation семантически происходит от акта разбрасывания камней – вероятно, как в смысле его разрушительных эффектов, так и из-за предположительно заслуженного наказания для тех, кто занимался этим. В более близкую к нам эпоху его современное название часто можно обнаружить в укорах озабоченных родителей или же в слезливом негодовании профессиональных политиков во времена кризиса. «Расточение» – вот то слово, под которым наше противоядие скрывалось веками, и это же название мы и сейчас можем использовать для его определения.
Расточение, какое опасное слово! Опасное до такой степени, что нас давно уже научили пришпиливать его к стенке, помещая под бдительный надзор более основательных практик. Многие взяли себе на вооружение практику потлача в качестве надёжнейшей охраны, надеясь, что его смягчающие эффекты способны будут ослабить силу этого пленённого расточения. В ходе потлача члены сообщества уничтожают или свободно распределяют значительную часть своего богатства с целью продемонстрировать свой социальный статус и вновь укрепить свои связи в сообществе. Несмотря на внешние проявления, потлач всё ещё остаётся весьма религиозным жестом. Жертвование богатства, проводимое во имя него, не обязательно должно быть посвящено тотему любого из традиционных богов, но, безусловно, направлено на завоевание благосклонности общественного божества. Направленность потлача линейна: изнутри индивида к идеалу совершенного единства Сообщества и признанию своего статуса в его рамках. Напротив, расточение проходит по траектории бумеранга. Расточители транжирят свои собственные состояния, но делают это лишь в своих собственных интересах и ради собственного удовольствия. В акте расточения нет места ни для абстракции «Сообщества», ни для закрытого, металлического единства общественного тела, столь явно похожего на тело «Нюрнбергской девы»[10].
По другую сторону от расточения века западной традиции воздвигли гигантского стального стража отречения. Чертами лица он очень похож на гладколицего юного святого Франциска Ассизского, который некогда одним апрельским днём сорвал с себя все свои дорогие одежды на виду у всего города и отказался от всех своих материальных владений и социального статуса. Хотя на первый взгляд такой акт может выглядеть схожим с расточением, на самом деле он был проникнут религиозной сутью. Его отказ от семейного богатства был колоссальным и стремительным обменом материальных товаров на нематериальный запас религиозных обещаний. Его уход от местного сообщества города Ассизы был процессом, с помощью которого он мог получить доступ в настоящее, совершенное, бессмертное сообщество сонма собравшихся вкруг престола Господня.
Снова ловушка Работы – а именно понимаемой как наёмный труд – может послужить прекрасным примером.
Чему в плане Работы может научить нас наше монетарное рабство?
Прежде всего наша неволя напоминает нам о происхождении и метаморфозах Работы как концепта. Долгий процесс религиозного самообмана был необходим, чтобы пройти от мифа о рождении Работы как господнего наказания за первородный грех до печально известного девиза, увенчивающего вход в нацистские концентрационные лагеря, «Труд делает свободным». Процесс, который охватывает расстояние между источником французского слова «работа» – travail, от латинского tripalium, орудия пытки, к которому привязывали заключённых и заживо их сжигали, – и нынешними рассуждениями о «счастье на работе» в том виде, как они были разработаны многочисленными глобальными корпорациями. Об этом расстоянии напоминает нам скудость наших зарплат. Она представляет нам вселенную Работы такой, какой она и является на самом деле: унизительным, изнуряющим процессом, который в наше время кажется единственным вариантом для человека из небогатой семьи получить необходимые для жизни средства. Насилие трудящейся бедности и полубедности, хотя и чрезвычайно парализующее, будучи доведено до крайности, помогает нам разорвать покровы, часто скрывающие мученичество рабочей жизни. Оно разрушает надежды, преподносимые Работой, её наманикюренные пейзажи и небесные обещания. В современных западных обществах Работа – это ненужное, но кажущееся неизбежным суровое испытание, и те кто желает освободиться от своего tripalium’a, должны понимать её и относиться к ней именно так.
Как расточителям попасть в мир Работы? В отличие от панков они не входят туда со значком бунта, приколотым к губам. Панки чувствуют себя обязанными продемонстрировать своё отвращение и несогласие ценой потери возможности втихомолку красть со склада и из кассы. Расточители одеваются как сотрудники, и как сотрудники улыбаются клиентам и начальству. Они делают столько, сколько от них требуется, или, если есть возможность, фальсифицируют отчётности. Вечно улыбающиеся, вечно пронырливые. Затем, когда погасли огни магазина, когда закрыта дверь в офис менеджера, они присваивают всё, что могут. Они смешивают виски с водой, подделывают банковские транзакции, продают и обмениваются базами данных, изымают деньги из касс и ставят их на лошадиных бегах. Они позволяют себе вздремнуть, когда никто не видит, работают формально, для видимости, играют в аркады на своих компьютерах, крадут расходные материалы или раздают их своим друзьям. Совершенные преступники – это не те, кто посреди бела дня, не пряча лиц, грабит банки, а потом успешно скрывается. Совершенные преступники – те, кто может скрыть факт своего воровства и остаться навсегда неразоблачённым. По сути едва ли их можно считать преступниками. Совершенные преступники – это паразиты, прячущиеся в сердце своего хозяина, медленно прогрызающиеся наружу, ночь за ночью, пока им уже будет нечем поживиться – и тогда они переходят к новому хозяину. Современные расточители – это паразиты, использующие работу как инструмент для обеспечения себя всем необходимым – или всем, что они могут взять. Расточители могут быть любимчиками учительницы, если такое поведение окажется им выгодно, однако же они первые, кто будет воровать из её кошелька, как только она отвернётся.
Самое важное, что расточители – неверующие: их голод простирается так далеко, докуда достают руки, их мечты поддерживают их форму так же долго, как их тёплое дыхание поддерживает в целости облачко пара на морозном воздухе. Они не верят в разумность или святость Работы, они не верят в искупление безукоризненной карьерой, они отшатываются от удушающих объятий офисной семьи. Они лжецы, атеисты, шпионы, мародёры. Они верят в благоприятные возможности и всегда проверяют свою веру жёсткой трезвостью своего разума и языка.
Бесценная экономика
Эрнест Манн
Унция на профилактику всё-таки лучше фунта на лечение?
Что может сделать один человек?
В прошлом обращения к правительствам с призывами разоружаться не привели ни к чему положительному Такая постановка вопроса рассматривает лишь симптом болезни. А чтобы излечить недуг – должна быть устранена его ПРИЧИНА.
Мне пришлось признать тот факт, что причина ВОЙНЫ – это ПРИБЫЛЬ! После того, как я понял это, я был готов помочь создать экономическую систему, в которой нет никакой Прибыли.
Я помогаю изменить вышесказанное «никто не помогает» на «помогают все», разъясняя, что ВЫЗЫВАЕТ Войну и кого она порождает.
Я пытаюсь рассказать людям, как мы можем обустроить экономическую систему, которая могла бы стать практически Раем для всех и где не было бы причин развязывать войны.
Я пытаюсь использовать эту Утопическую Систему в малом масштабе в моей собственной жизни. Сегодня я делаю свою жизнь чуть богаче и лучше. И это сделает моё завтра лучше, когда есть что-то, к чему можно стремиться. Это что-то называют «Надеждой». Для меня счастье и удовлетворённость начались несколько лет назад, когда я решил, что буду заниматься самой важной и насущной проблемой в мире – помогать освобождению всех нас от тягот и несчастий ВОЙНЫ!
Эту почти что Утопическую или же Райскую систему можно назвать Системой Бесценной Экономики. Она создаст истинную Свободу для Личности! «Власть – народу» – это бессмысленно. Бесценная Экономика возвращает «Власть» над собственной жизнью самой личности. Это то, в чём на самом деле заключается СВОБОДА!
Тогда у каждой личности будет Власть над тем, какие продукты и услуги и в каком количестве они будут потреблять. У продуктов и услуг, следовательно, не будет перепродажной стоимости, и они не смогут быть статусными символами, поскольку станут бесплатными для каждого. Не нужно будет брать больше, чем необходимо, – это станет лишь обузой.
Создание искусственных нехваток больше не будет приносить Доход, куда большая прибыль будет от создания изобилий. А с наступлением изобилия эгоизм и жадность уйдут в прошлое. «Никто не ворует у своего соседа песок в пустыне».
С наступлением Бесценной Экономики каждый будет контролировать, когда, где, почему и от кого он получает продукты и услуги и кому он сам их предоставляет. Таким образом, к Добровольцам будут достойно относиться, либо они всегда смогут оставить работу и, тем не менее, бесплатно получать всё, что хотят.
Чем больше Добровольцев работают на том или ином месте, тем меньше каждому работающему потребуется рабочих часов, чтобы внести свой вклад в производство изобилия, а значит каждому будет выгодно поощрять и поддерживать новичков и давать им бесплатное обучение на производстве.
Нам не нужно убеждать все 4 с половиной миллиарда человек населения Земли. Маленькие дети, скорее всего, будут делать то, что делают их родители. От большинства очень пожилых нет ни помощи, ни препятствий. Большинство из них просто пытаются продержаться. Молчаливое большинство в основном лишь соглашается с тем, что масс-медиа выдают им за «Общественное мнение», то есть они делают то, что им говорят.
В реальности у нас есть лишь кучка «мыслителей, по-трясателей и движителей», чтобы достичь эти логически продвинутые идеи, а затем молодёжь, взрослые и молчаливое большинство так быстро переметнутся к победившей стороне, что у вас закружится голова. А потом они скажут: «Я всегда был за это. Просто не думал, что все остальные тоже были за». (Сейчас почти все мне так и говорят!)
Если вас не оставляют равнодушными эти идеи, то вы сами для себя можете решить, что способны сделать для их распространения.
Система Оплаты
Система Оплаты – это система, при которой люди работают ради дохода или платы. В результате продукты и услуги стоят денег.
РАБОТА: Люди владеют промышленностью, собственностью и природными ресурсами, если они приносят доход. Остальные из нас работают на них. Мы работаем по их воле, где бы то ни было и когда бы то ни было. Мы боимся, что другие рабочие могут занять наши места. Производство мусора, перекладывание бумажек и прочие бесполезные занятия процветают, если кто-то получает от них доход. Бесполезные продукты и запланированное устаревание порождают миллионы профессий и требуют тонн природных ресурсов и энергии. Работа скучна, нездорова и не приносит удовлетворения.
НУЖДЫ: Всё, чего мы хотим, стоит денег, поэтому есть причина воровать и голодать.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Мы получаем негатив от своей работы и от того, что не получаем всех тех вещей, что нам нужны. Мы несчастливы. Будучи зависимыми в своих потребностях от кого-то, мы часто неразумно выстраиваем наши взаимоотношения.
КОНТРОЛЬ: Воровство, войны и загрязнения приносят доход; поэтому у нас есть необходимость в полиции, солдатах, правительстве и налогах. Большинство людей несчастливы при Системе Оплаты.
ПЕРЕХОД: Мы можем сохранить эту великую всемирную Систему Оплаты и не допустить никаких переходов, если продолжим работать за оплату и останемся ненасытными потребителями.
Система Бесценной Экономики
СБЭ – это система, в рамках которой все люди работают бесплатно. И бесплатными становятся и все продукты и услуги.
РАБОТА: Никому не придёт в голову владеть промышленностью, собственностью или природными ресурсами, когда из них будет невозможно извлекать доход, поэтому каждый из нас будет сам себе начальником. Мы будем работать где пожелаем. Другие рабочие будут нам рады и станут нас обучать, поскольку чем больше помощников у них будет, тем меньше времени каждый из них должен будет работать. Тогда мы прекратим заниматься производством ненужного мусора, перекладыванием бумаг и всеми прочими бесполезными делами. Тем самым высвободятся миллионы рабочих и ресурсы, необходимые для жизненно важных производств. Мы сделаем так, чтобы наша работа была в радость, не вредила здоровью и приносила удовлетворение.
НУЖДЫ: Всё, чего мы хотим, будет бесплатным, поэтому не будет необходимости воровать или голодать.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: Мы будем получать позитивные эмоции от своей работы и от того, что получаем все те вещи, в которых нуждаемся. Мы станем счастливее. Будучи в своих потребностях независимыми ни от кого, мы станем более разумно выстраивать свои взаимоотношения.
КОНТРОЛЬ: Воровство, лживость, войны или нечестность не будут приносить выгоду, поэтому у нас не будет необходимости в правительстве, налогах или границах. При СБЭ все люди станут счастливее.
ПЕРЕХОД: Как только каждый из нас поймёт и захочет появления СБЭ, мы перейдём к ней все вместе.
Теперь утопия возможна
Будущий революционный прорыв в мотивации сотрудников, возможно, близок, что сделает профессии настолько привлекательными, интересными и приятными, что люди будут работать без оплаты. Эти добровольцы слетятся на хорошие условия труда, самые современные инструменты, машины и технологии, такие как: роботы, компьютеры, системы спутниковой коммуникации и т. д. Добровольчество ликвидирует «денежную стоимость» производства, что, в свою очередь, позволит распределять всю продукцию и услуги безвозмездно, давая возможность людям работать без оплаты и обеспечивать промышленность великолепными технологиями и средствами. Работа в таком случае станет привилегией, а не обязанностью.
Система Бесценной Экономики сделает ненужными следующие отделы:
1. Фонд заработной платы
2. Отдел продаж и налоговый отделы
3. Отдел рекламы
4. Отдел кредитования
5. Отдел банковских услуг
6. Отдел страхования
7. Юридический
8. Большинство функций отдела учёта
9. Большинство функций администрации
10. Службу безопасности
Тем самым будут сэкономлены колоссальные суммы материальных ресурсов и энергии, и более чем 16 миллионов человек высвободятся для полезной работы.
Люди, уходящие с этих ненужных рабочих мест, смогут добровольно заняться любой профессией, какой хотят, получить бесплатное обучение на работе и сразу же начать учиться и производить.
Добровольцы более добросовестны при работе, берут на себя большую ответственность за лучшее качество работы и сами для себя создают более качественные условия на рабочих местах. Вместо того чтобы работать «потому что должны» и ненавидеть это, люди будут работать, потому что хотят этим заниматься. Тогда сотрудники станут проявлять больший интерес и задумываться о возможностях улучшений, тем самым получая удовлетворение от своей творческой работы, когда нет задачи генерировать прибыль.
Люди, которые сейчас претендуют на владение сырьевыми материалами, перестанут нуждаться в деньгах, поскольку всё вокруг будет бесплатным для всех. Невзирая на их претензии на «владение», их сотрудники будут распределять сырьё бесплатно, как и все работники на всех производствах и фермах.
Акционерам не нужны будут деньги, также не нужно будет и опасаться инфляции, кризиса или язв фондовых рынков. Свои ценные бумаги они смогут использовать как обои.
Поскольку всё будет бесплатным, не будет и причины воровать. 94 % заключённых в тюрьмах и лагерях34 сидят за кражи. Бесценная экономика освободит эти 94 % от:
1. 4052 тюрем и лагерей;
2. 630000 юристов и судей;
3. 1 267000 охранников и полицейских;
4. 412000 заключённых.
Что тем самым даёт нам ещё 2 170460 человек в помощь жизненно необходимым производствам.
Больше не будет причин голодать или восставать, когда всё бесплатно. Недоедание уйдёт в прошлое, когда земля станет использоваться для того, чтобы прокормить людей, а не выращивать «товарные культуры», закладывать в банки ради доходов или спекулирования.
Поскольку развязывание войн больше не будет «прибыльным», отпадёт необходимость в силах обороны или вооружённых силах, и тем самым высвободятся:
1. Ресурсы на 223,3 миллиарда долларов каждый год.
2. 4,1 миллиона человек собственно военнослужащих, гражданского наёмного персонала, работающего на оборонные структуры, и связанных с ВПК рабочих.
Когда эти ненужные подразделения будут распущены, мы сможем прекратить производство тех товаров, которые они потребляли, тем самым снизив спрос на:
1. офисные здания
2. офисную технику
3. продукты питания
4. мебель
5. арматуру
6. электричество
7. фабрики
8. топливо и т. д.
Это сэкономит миллионы рабочих часов и миллиарды тонн сырьевых материалов.
Экономия на одних только контролёрах, кассирах и кассовых аппаратах будет фантастической.
Когда труд, материалы, аренда, энергия и машины не будут иметь денежной стоимости, будет возможно утилизировать и перерабатывать все отходы заводского производства и использовать их как пополнение сырья для другой продукции – вместо того, чтобы загрязнять окружающую среду.
Когда труд станет бесплатным, все фермеры начнут использовать методы органической агрокультуры, выращивая больше питательных продуктов и прекратив загрязнять природу.
Не будет никаких стимулов торопить приход новых продуктов на рынок. Их можно будет всесторонне проверить, чтобы устранить недочёты и быть уверенным, что они безопасны, а отходы от них могут быть утилизированы.
С наступлением бесценной экономики не будет никаких причин специфическим группам лоббистов препятствовать источникам более дешёвой энергии, более эффективным методам и механизмам производства и распределения, использующим меньшее количество или более дешёвые виды топлива.
С наступлением бесценной экономики уже не будет доходным проектировать запланированные устаревания и порчу изделий. Вместо этого продукция будет проектироваться с упором на её полезность, долговечность, эффективность, красоту, безопасность, надёжность и лёгкость в ремонте при помощи универсальных деталей.
Работа приобретёт новый смысл. Она станет искусством, а все сотрудники – художниками, творчески подходящими к тому, чтобы сделать свои продукты или услуги лучше, а процесс производства – более приятным.
Люди прекратят отвергать автоматику и роботов, потому что эти машины будут заняты на опасных и утомительных работах. Это послужит ещё большему сокращению рабочих часов людей.
Возможно, мы обнаружим тот факт, что у нас почти нет или совсем нет необходимости иметь структуры управления, и тем самым мы можем сэкономить большую часть из их бюджета в почти триллион долларов и высвободить ещё 15,8 миллионов людей для насущных работ. Немногие полезные службы в ведении правительства это:
1. почта
2. ведомство пожарной охраны
3. служба вод и стоков
4. дорожная служба
5. управление лесов
6. управление парков
7. и прочие
Эти ведомства могут стать более эффективными в своей деятельности без вмешательства бюрократов и политиков, а также без бюджетных ограничений.
Люди больше не столкнутся с:
1. денежными проблемами
2. проблемами с кредитами
3. арендой и её оплатой
4. безработицей
5. налогами
6. рецессиями
7. инфляцией
Станут не нужны телевизионная реклама и нагнетание страхов войны. Это уменьшит стресс и возродит надежду и уверенность. Нас ждёт изобилие качественной еды35 для каждого и значительно большее количество свободного времени, чтобы наслаждаться общением с семьями и друзьями. Счастливые люди лучше ладят друг с другом. Они могли бы сотрудничать вместо того, чтобы конкурировать, и достигать синергии, что принесёт ещё больше здоровья, творчества, эффективности и счастья.
Больше не будет смысла организовывать искусственные работы ради создания рабочих мест. Будет и без того много важной работы, требующей выполнения.
Освободившись от стрессов Системы Прибыли, люди смогут наслаждаться работой с точными фантастическими инструментами, машинами и компьютерами, которыми их обеспечит промышленность. Вслед за этим и работа станет тем местом, куда люди смогут приходить, чтобы получить удовольствие и удовлетворение от создания прекрасных изделий и оказания услуг, они будут наслаждаться духом товарищества, деля его с другими. Работа может стать нашим самым драгоценным отдыхом.
У нас есть то, что требуется для создания изобилия:
1. ресурсы36
2. труд
3. умения
4. машины
5. заводы
6. земля
При изобилии бесплатной продукции высшего качества не будет никакого смысла брать себе слишком много. «Слишком много» – это обуза, а бесплатные вещи не являются статусными символами.
Конкурирующие компании смогут сотрудничать, чтобы создавать наилучшие продукты, которые они будут совместно разрабатывать – совместные действия эффективнее конкурирования.
«Закон спроса и предложения» заработает более эффективно, когда мы трудимся ради удовлетворения спроса, а не пытаемся создать его.
Такая Революция Мотивации наилучшим образом будет работать во всемирном масштабе, поскольку при этой новой системе гораздо лучше будет ВСЕМ людям Земли. Слаборазвитые нации смогут развиваться так быстро, как они хотят, получая, если сами того пожелают, безвозмездные наставления от развитых наций.
Если мы в состоянии увеличить срок службы товаров длительного пользования (к примеру, автомобилей) так, чтобы они служили в два раза дольше по сравнению с нынешним, то уже одно это уменьшит потребление ресурсов, необходимых для этих товаров, на 50 %, а также вполовину снизит требующееся для их выпуска рабочее время.
И теперь, когда 38 миллионов человек, занятых в вышеперечисленных нежизненно важных профессиях, окажутся занятыми на насущных работах, они значительно уменьшат рабочее время для каждого – или же они сильно расширят определённые области, такие как: исследования и разработка, переработка отходов промышленного производства, очистка окружающей среды, работа на органических фермах, космическая программа, и/или они могут предпочесть замедлить темп всех работ, чтобы иметь больше свободного времени для наслаждения жизнью.
Бесценная экономика создаст практически атмосферу Утопии, ликвидировав семь величайших проблем мира.
«Дарение» порождает чувства лучшие, чем «продажа». Получая нечто «бесплатно», человек порождает чувства лучшие, чем когда расстаётся с деньгами. (Кто может противиться Дающему?)
Станет Честью быть частью той рабочей силы, которая создаёт эту почти что Утопию. Тем самым вместо войн, загрязнения и голода, которые нам оставили наши отцы и деды, мы передадим нашим детям и внукам то, за что будущие поколения будут помнить нас и будут нам благодарны.
Некоторые говорят, что люди не заслуживают Утопии, но если они её построят – они её заслужат!
Покончите с войнами, загрязнением и начните создавать утопию
Первое: Моя работа, которую я сейчас избрал, состоит в том, чтобы подобрать нужное слово и подтолкнуть людей говорить и спорить о Системе Бесценной Экономики.
Второе: После того как все поймут Бесценную Экономику, можно назначить дату, когда все дружно прекратят принимать оплату и начнут отдавать всё произведённое и оказывать все услуги безвозмездно.
Примечания к разделу «Работа»
1 См.: Truscello М., Gordon U. Whose Streets? Anarchism, Technology and the Petromodern State // Anarchist Studies. 20 (1). 2013. P. 12–15. Маркс особенно много позаимствовал из кн. Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (впервые опубл, в 1846 г.), см.: Tucker B.R. Karl Marx as Friend and Foe // Tucker B.R. Instead of a Book, By a Man too Busy to Write One. 2d ed. New York: B.R. Tucker, 1897. P. 477.
2 Он получил краткое благожелательное, покровительственное обращение от Фридриха Энгельса в его работе «Развитие социализма от утопии к науке», см.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 19. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1961. С. 196–197. Ранее Маркс писал: «Труд не может стать игрой, как того хочет Фурье», – но почему же? См.: Маркс К., Энгельс Ф. Экономические рукописи 1857–1859 годов ⁄⁄ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 46. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1969. С. 131. Маркс и Энгельс на удивление уважительно относились к Фурье (см.: Rants and Incendiary Tracts: Voices of Desperate Illumination 1558— Present / Ed. B. Black & A. Parfrey. New York: Amok Press & Port Townsend, Washington: Loompanics Unlimited, 1989. P. 38, коммент. Боба Блэка), см., наир.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология ⁄⁄ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1955. С. 514–523.
3 См.: Фурье Ш. Новый промышленный и общественный мир ⁄⁄ Фурье Ш. Избранные сочинения в 3 т. Т. 2. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 134–147; Political Writings of William Morris // Ed. A.L. Morton. New York: International Publishers, 1973.
4 В 1858 г. он писал: «Таким образом, если бы работа, развиваемая и поддерживаемая в соответствии с принципами индустриального производства, удовлетворяла всем требованиям разнообразия, гигиены, интеллекта, искусства, достоинства, страсти, законной выгоды (которые содержатся в её сущности), не стала бы она, даже с точки зрения удовольствия, предпочтительнее всех игр, танцев, фехтования, спортзалов, увеселений и прочей подобной чепухи, которое несчастное Человечество изобрело, дабы восстановиться посредством лёгкого упражнения для тела и души от усталости и глупости, порождаемых бременем тяжкого труда? Разве не преодолели бы мы тогда фатальность в труде, как мы её ранее преодолели в политике и в экономике?» (см.: Proudhon Р-J. De la justice dans la révolution et dans l’Eglise. T. 2. Paris: Librairie de Garnier frères, 1858. P. 236; nep. с фр. языка выполнен специально для наст. изд. Степаном Михайленко). Да, так мы бы преодолели фатальность в труде, но это не единственный повод играть. Дети играют не по этой причине. И не потому играют взрослые, неподвластные фатальности в труде.
5 См.: Berneri С. The Problem of Work // Why Work? Arguments for the Leisure Society / Ed. V. Richards. London: Freedom Press, 1983. P. 67–77. Впервые это эссе было опубл, в Швейцарии в 1938 г. на итал. языке. Вернон Ричардс, на протяжении 60 лет бывший главной фигурой в изд-ве “Freedom Press”, был итальянцем. Он перевёл этот текст на англ, и опубл, его, но это случилось спустя 45 лет после итал. публ. (Ричардс был вдовцом дочери Бернери – Марии Луизы Бернери. Камилло Бернери был убит коммунистами в Испании в 1937 г.). В 1983 г. до выхода моего «Упразднения работы» оставалось два года. Идея «нульработы» тогда висела в воздухе. В том же году вышла кн.: GorzA. Paths to Paradise: On the Liberation from Work / Trans. M. Imrie. London: Pluto Press, 1985. У Горца всегда было безошибочное чутьё на интеллектуальные прихоти, которые он вульгаризировал, см.: Bookchin М. Andre Gorz Rides Again – or Politics as Environmentalism // Bookchin M. Toward an Ecological Society. Montréal, Québec, Canada: Black Rose Books, 1980. P. 289–313 (это была последняя из не целиком провальных кн. Букчина).
6 См.: Thoreau H.D. Life without Principle // Political Writings / Ed. N.L. Rosenblum. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 103–121.
7 См.: GalleaniL. The End of Anarchism? / Trans. M. Sartin, R. DAttilio. Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1982. P. 38 (впервые опубл, в 1925 г.).
8 См.: Puente I. Libertarian Communism. Sydney, Australia: Monty Miller Press, 1985. P. 12 (впервые опубл, в 1932 г.).
9 См.: Walter N. About Anarchism. P. 70.
10 См.: Kropotkin Р. Anarchist Communism: Its Basis and Principles // Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets / Ed. R.N. Baldwin. New York: Dover Publications, 1970. P. 71.
11 См.: Бакунин M.A. Принципы и организация интернационального революционного общества ⁄⁄ Анархия и порядок ⁄ Вступ. ст. М.А. Тимофеева. М.: Эксмо-Пресс, 2000. С. 134.
12 См.: Malatesta Е. Peter Kropotkin: Recollections and Criticisms by One of His Old Friends // The Method of Freedom: An Errico Malatesta Reader / Ed. D. Turcato. Oakland, California & Baltimore, Maryland: AK Press, 2014. P. 518 (впервые опубл, в 1931 г.).
13 См.: Seidman М. Workers Against Work: Labor in Paris and Barcelona During the Popular Fronts. Berkeley, California: University of California Press, 1991. P 42.
14 Ibid. P. 99. «Большинство из отправленных в тюрьмы или трудовые лагеря составляли обвинённые по политическим мотивам – которые включали нарушение общественного порядка, владение оружием, участие в фашистской деятельности» (p. 1O1).
15 См.: EImpulso. Resistance of Revolution (1950) // Documentary History, 2. P. 225. Эти товарищи даже защищали наёмный труд!
16 См.: Black В. The Abolition of Work // Black В. The Abolition of Work and Other Essays. Port Townsend, Washington: Loompanics Unlimited, 1986. P. 17–33; перепечатано в: Black В. Instead of Work. Berkeley, California: LBC Books, 2015. P. 1–31; рус. пер.: БлэкБ. Упразднение работы ⁄⁄ Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии. С. 31–55.
17 См.: Bookchin М. A Discussion on “Listen, Anarchist!” // Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism. P. 228 (впервые опубл, в 1970 г.). К 1987 г. Букчин «не видит недостатков в фундаментальном аспекте современного существования, а именно в наёмном труде и товарной системе» – не говоря уже о работе, см.: Зерзан Дж. Либертарный муниципализм Мюррея Букчина ⁄⁄ Зерзан Дж. Первобытный человек будущего. С. 212.
18 См.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 655–657; Гребер Д. Бредовая работа: Трактат о распространении бессмысленного труда. М.: Ad Marginem, 2020; Bowen J. The Curse of the Drinking Classes // Twenty-First Century Anarchism: Unorthodox Ideas for a New Millennium / Ed. J. Purkis, J. Bowen. London & Herndon, Virginia: Cassell, 1997. P. 151–167. Однако Сьюзен Браун в своей статье “Does Work Really Work?” (Kick It Over. No. 35) действительно признаёт моё первенство. Именно моя кн. (хотя она отсутствует в её 34-страничной библиографии) заставила Маршалла включить раздел о «взглядах на работу». Он-то точно её прочитал, поскольку она включена в кн. “Reinventing Anarchy, Again”, которую он цитирует.
19 См.: Dauvé G. Getting Rid of Work (2017), www.theanarchistlibrary.org.
20 См.: Bufe Ch. Listen Anarchist!
21 См.: ArmandE. The Workers, the Unions, and the Anarchists // Disruptive Elements: The Extremes of French Anarchism. Berkeley, California: Ardent Press, 2014. P. 149.
22 См.: Goldman E. Syndicalism: Its Theory and Practice // Red Emma Speaks: Selected Writings and Speeches by Emma Goldman / Ed. A.K. Shulman. New York: Vintage Books, 1972. P. 65.
23 Для людей, которым нравятся подобные вещи, есть кн.: Terkel S. Working. New York: Pantheon Books, 1974); а если хотите мазохистского рассказа – см.: Weil S. Factory Journal ⁄ ⁄ Formative Writings ⁄ Ed. & trans. D.T McFarland & W. van Ness. Amherst, Massachusetts: University of Massachusetts Press, 1987. P. 149–226.
24 См.: Traven B. Death Ship. Chicago, Illinois: Chicago Review Press, 1994 (впервые опубл, в 1934 г.).
25 См.: GoldwasserJ. Marut, Ret: The Early B. Traven, libcom.org/history/retmarut-early-b-traven-james-goldwasser. Фильм «Сокровища Сьерра-Мадре» основан на одноимённом романе Травена. Его тема – разрушительность жадности – проходит через все его кн.
26 «Кто при социализме будет делать нежелательную работу? Кто будет убирать мусор? Этот вопрос – мой старый знакомец, и я уже начал питать к нему нежную привязанность», см.: Blatchford R. Merrie England. New York & London: Monthly Review Press, 1966. P. 237 (впервые опубл, в 1894 г.).
27 См.: Батай Ж. Проклятая часть: Опыт общей экономики ⁄ Пер. с фр. А.В. Соловьёва ⁄⁄ Батай Ж. Проклятая часть ⁄ Сост., общ. ред., вступ. ст. С.Н. Зенкина, коммент. Е.Д. Гальцовой. М.: Ладомир, 2006. С. 107–233; см. также: Cafard М. Apocalypse and/or Metamorphosis: A Surre(region) al View // Cafard М. The Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. P. 136–137.
28 Экономист Торстейн Веблен – бывший в большей степени социологом, чем экономистом – ввёл понятие «демонстративное потребление» в своей работе «Теория праздного класса» (впервые опубл, в 1899 г.), см.: Веблен Т. Теория праздного класса ⁄ Пер. с англ. С.Г. Сорокина, общ. ред. В.В. Мотылёва. М.: Прогресс, 1984. «Мир, который мы населяем, изобилен сверх самого безумного нашего воображения» (см.: FeyerabendР. Introduction ⁄⁄ The Conquest of Abundance / Ed. В. Terpstra. Chicago, Illinois & London: University of Chicago Press, 1999. P. 3).
29 См.: Mann Е. I Was Robot (Utopia Now Possible). Cushing, Minnesota: Little Free Press, 1990. P. 62–63.
30 См.: A Means to Freedom: The Letters of H.P. Lovecraft and Robert E. Howard, 1930–1932 // Ed. S.T. Yoshi, D.E. Schultz & R. Burke. New York: Hippocampus Press, 2009. Vol. 1. P. 233.
31 См.: Read H. The Paradox of Anarchism // Anarchy and Order: Essays in Politics. Boston, Massachusetts: Beacon Press, 1971. P. 134 (впервые опубл, в 1941 г.).
32 См.: Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека ⁄ Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. С. 362.
33 См.: www.morrisoncounty.org (две заметки).
34 См.: Statistical Abstract of the U.S. Washington, DC: U.S. Government printing office, 1985; American Prisons & Jails. Vol. 5. Washington, DC: U.S. Government printing office, 1980.
35 В мире на каждого человека приходится 7,28 акра земли, пригодной для выращивания пищи. См.: FAO Production Yearbook. Vol. 35. Rome: FAO, 1981 (издание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).
36 См. выводы Ричарда Бакминстера, сделанные им в кн. «Мировая игра». Др. статистические данные взяты из: Handbook of Labor Statistics. Washington, DC: U.S. Government printing office, 1983.
III. Организация
Недруги анархистов, в особенности левые, часто упрекают их в «индивидуализме». Марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, говорят об этом с того момента, как стали марксистами. В Соединённых Штатах это никоим образом не помогло получить анархистам одобрение масс – хотя американцы и гордятся своим индивидуализмом, однако, как отмечает Джеймс Скотт: «Вопреки созданному ими самими образу нации несгибаемых индивидуалистов, американцы являются одними из самых унифицированных и управляемых людей в мире»1. В действительности практически забытая традиция (в основном американского) анархо-индивидуализма, берущая своё начало в 1820-е годы2, всё же существует. Она породила несколько выдающихся личностей и несколько запоминающихся текстов. Но на сегодняшний день она не имеет ничего общего ни с анархизмом (как утверждают марксисты), ни с постлевым анархизмом (как утверждают левые анархисты)3. Подобно Максу Штирнеру, в конечном счёте повлиявшему на некоторых из них, ранние американские анархо-индивидуалисты не были либералами, поборниками свободного рынка4. Бенджамин Такер, самый выдающийся из этих индивидуалистов, называл себя социалистом5.
Напротив, если они и не были настоящими коммунистами, то весьма часто были коммунитаристами. Американские утописты основали множество идейных общин, в основном в 1820-1860-е годы6. Некоторые носили ярко выраженный индивидуалистический характер или считали себя такими. В 1840-е годы до 100 000 «ассоцианистов», как они себя называли, жили в коммунах, основанных на идеях Фурье7. Вскоре большинство из этих коммун потерпело крах. Самыми упорными обычно были религиозные объединения8. В 1949 году Джордж Вудкок посетил колонию духоборов в Канаде. Это были русские сектанты, которых Толстой и Кропоткин считали «достойными восхищения крестьянскими радикалами – природными анархистами». Кропоткин действительно организовал их эмиграцию в Канаду9. Помимо этого они были пацифистами и нудистами, беспрекословно подчинявшимися человеку, называвшему себя «Архангелом Михаилом». Десять лет спустя, после визита Вудкока они исчезли10.
Всякий анархизм, с презрением относящийся к индивиду, – ни в коей мере анархизмом не является. Индивидуальность, заложенная в каждом человеке, – это единственная возможная точка отсчёта для социальных революционеров11. Французский анархист Пьер Шардон, общепризнанный индивидуалист, писал «Мы без устали будем повторять: то, что отделяет анархизм от всех интеллектуальных обобщений, от всех социальных систем, и составляет его собственную суть – это индивидуализм»12. Современный израильский анархист Ури Гордон обращается к «индивидуалистским аспектам анархизма, существующим во всех его формах»13. Даже крайний сторонник анархо-лефтистской организации, Александр Скирда, пишет, что анархизм всегда «рассматривал особенности личности как точку старта и финиша своего революционного проекта»14.
Но если анархизм по своей природе индивидуалистический, то он же и самый общественный из всех вариантов политической философии. Отсюда бакунинское высказывание: человек – «самое индивидуальное и самое социальное из всех существ»15. Анархизм выступает за общество, в котором индивиды преуспевают сообща. Они не будут преуспевать, по отдельности или вместе, в условиях неравенства, иерархии, бюрократии и институционального насилия. Анархисты предпочитают сотрудничество, а не соперничество. Им нравятся такие социальные практики, как свободные ассоциации, солидарность, взаимопомощь и прямое действие. Они призывают к радикальной децентрализации16. Индивиды обнаруживают в других индивидах, членах общества, высшую стадию выражения своих собственных индивидуальностей17. Даже такой крайний анархо-индивидуалист, как Бенджамин Такер, мог написать: «Анархисты не отрицают, что общество есть реально существующий организм; напротив, они на этом настаивают. Следовательно, у них нет намерения или желания уничтожить его»18.
Что есть классовая политика, если не политика собственных интересов? Жертвенность контрреволюционна19. Люди могут разделять между собой интересы только тогда, когда у каждого из них есть собственные интересы и желание их продвигать. Для анархистов обращение к интересу значит обращение к принципу: «Давно пришло время радикалам избавиться от своего страха перед индивидуальностью и эгоизмом и понять, что только у личностей, желающих отбросить свои малодушные колебания и готовых добиваться того, чего они хотят, есть шанс побороть социальный порядок»20. Даже Бакунин в период, когда он считал себя социалистом, писал, что социалист «от чистого республиканца… отличается своим искренним и человечным эгоизмом, живя открыто и без громких фраз для самого себя»21.
Анархисты, таким образом, не против «организации» – поскольку, как правило, они не против общества, – на самом деле они нередко рассматривают себя как защитников общества от государства. Они лишь против огосударствленного общества, не потому что оно общество, а потому, что оно находится внутри государства. У каждого общества есть свой образ жизни, свои традиционные жизненные уклады, порождающие закономерные ожидания, и определённая степень взаимного доверия. Это не является предметом спора среди анархистов об «организации», хотя именно так утверждают левые. Споры идут не об общественной организации утопии будущего, но о желательности анархических организаций сейчас: нужны ли мелкие группки с напыщенными названиями, с членскими взносами и официальными платформами, обычно с нечитабельными публикациями и своим бюрократическим аппаратом, пусть и небольшим22. Высока и текучесть их членов. Североамериканские анархо-левые с большим пафосом основали несколько таких организаций в конце XX века. Все они развалились в силу идеологических противоречий, личных конфликтов, расколов и исключений из состава, а также незначительного и всё время сокращающегося членства. Они исчезли в течение нескольких лет. Все эти организации подтверждают аргумент Роберта Михельса о том, что даже синдикалисты и анархисты, будучи организованными, в той же мере, что и любая марксистская партия, подвержены действию железного закона олигархии23.
Вопреки мнению Александра Скирды, не все классические анархисты были сторонниками организаций. В конце концов, многие из них не становились членами организаций анархистов, даже если такие организации были для них доступны. Сложно найти более ортодоксального анархиста, чем Луиджи Галлеани. И тем не менее в 1925 году он писал: «Сдержанно, но твёрдо мы оппонируем тем анархистам, кто называет себя организационистами, хотят ли они политически организовать анархистскую партию, желают ли они усилить такую партию, основывая её на базе уже существующих рабочих организаций или тех, которые они сами хотят организовать как более соответствующие их целям»24.
Спорны также и аргументы об исторической роли анархистских организаций. Поистине безумным среди них остаётся утверждение, что вся история анархизма – это история организаций анархистов25. Если бы это было так, то стало бы объяснением провала анархистов. На более рациональном уровне анархисты с жаром дискутировали о роли испанских анархистских организаций – CNT (федерации профсоюзов) и FAI (чисто анархистских активистов)[11] – в Испанской революции 1936 года. Лидеры CNT/FAI действительно входили в состав правительств республиканской Испании и Каталонии. Гарсиа Оливер, известный активист CNT и бывший террорист, был министром юстиции. Он возглавил национальную полицию и концентрационные лагеря для политических заключённых26. Не только некоторые позднейшие анархисты, такие как Вернон Ричардс и Стюарт Кристи27, но также и несколько академических учёных-историков28 отстаивали мысль о том, что поддерживаемые Советским Союзом коммунисты задушили социальную революцию в Испании во имя победы в войне – которую они проиграли – а аппаратчики CNT/FAI им в этом не противодействовали. Члены правительственного кабинета из CNT/FAI, оказавшиеся в эмиграции после того, как республиканское правительство проиграло войну, продолжали приносить извинения за своё крайне неанархическое поведение будучи уже в пожилом возрасте, даже в 1980 году29.
Организационный вопрос впервые обратил на себя внимание более современных североамериканских анархистов (ранее никогда не объединённых в общенациональную организацию), когда Фреди Перлман перевёл и издал книгу «Об организации» Жака Каматта и Джанни Коллу30. Каматт происходит из бордигистской, лево-марксистской среды. Он является ветераном крайне левых организаций: французы называли их «групускулы». Это слово может напомнить читателю о «пустулах». Тогда же Каматт и Коллу разоблачали эти организации как «банды» и «сборища» по своей сути. Я не включаю сюда это эссе, так как оно слишком длинное; в основном оно посвящено узким темам и вопросам своего времени, а его авторы никогда не были анархистами. Вместо этого я начну с «Тезисов о разрастании эгократов» Фреди Перлмана, проникающих в суть Каматта с анархистской точки зрения. Перлман был одним из важнейших источников вдохновения для постклассических анархистов вплоть до своей безвременной кончины в 1985 году31.
Место Мюррея Букчина в современном анархизме по меньшей мере неоднозначное. Он последовательно успел побывать сталинистом, троцкистом, леворадикальным марксистом, а с 1960-х годов – открыто признавал себя анархистом, хотя в этот период таких открыто признанных анархистов было немного. Он не сумел оказать влияния на «новых левых». Позднее он участвовал в экологическом движении, однако его «Социальная экология» не привлекла к себе внимания. После 1980 года он отошёл от анархистского движения – как раз тогда, когда оно начинает становиться интересным. Затем он пропагандировал «либертарный муниципализм» (позднее переименованный в «коммунализм») – странную идею о том, что античные Афины – империалистический рабовладельческий город-государство – были образцом для современного городского анархизма. Никто не уделял ему никакого внимания. Букчин всегда его выклянчивал32.
Ненадолго ему удалось заявить о себе книгой «Социальный анархизм или анархизм образа жизни?»33, вышедшей в 1995 году. К этому моменту ему было 74 года. Он игнорировал анархистов уже 15 лет, и большинство из них отвечало ему тем же. Теперь, со своим обычным апломбом, он выносил на обсуждение тезис о «непреодолимой пропасти» между «социальным анархизмом» и «анархизмом образа жизни». Определений ни того, ни другого он не давал. Под «социальным анархизмом» он, видимо, подразумевал левую политику: а именно марксизм с партией-авангардом, разоблачая который, он некогда стал известен34. Но что же он имел в виду под «анархизмом образа жизни»? Каждого анархиста, пишущего о любом предмете более интересно, чем пишет он сам! Букчин собственной персоной открыто призывал к революции образа жизни в 1960-х годах, когда пытался стать гуру контркультуры35. Даже у хиппи хватило ума игнорировать его. Игнорировали его и «новые левые». Букчину не приходило в голову, что он заново переигрывает прошедшие исторические эпизоды, к примеру, полемику вокруг платформистов в 1920-х годах и операистскую критику того, что они называли «рензистенциалистским» анархизмом («который как петух в курятнике задаёт тон в англо-саксонских странах») после Второй мировой войны36.
Хотя у Букчина не хватило смелости упомянуть меня в своей критике, моё отсутствие бросалось в глаза. Я был столь же виновен и заметен, как и упомянутые. Букчин и я никогда напрямую не общались. Но каждый из нас был в списках рассылки писем другого в 1970-х годах. Все мои друзья были в ярости от критики Букчина. Наконец, я заполучил его книгу. Она оказалась такой же скверной, как и слухи о ней. Она была поверхностной, лицемерной и лживой. Букчин продвигал – в качестве единственно возможного анархистского правоверия – свою собственную странную мешанину из марксизма, ленинизма, морализма и культурного консерватизма, в дополнение к той безумной чуши про анархические греческие города-государства (а ведь все они были олигархиями, основанными на рабовладении). Даже многие анархо-левые отказались от «либертарного муниципализма», не посчитав его анархическим37. В 1999 году Букчин приватно уведомил свою подругу жизни Джанет Биэль, «что он порывает с анархизмом как со своей идеологической обителью»38. Они держали это в секрете до 2002 года.
«Вникните в Боба Блэка»39. Я написал свою книгу «Анархия после левизны» – более или менее пунктуальное опровержение Букчина. Наряду с другими её достоинствами эта книга продемонстрировала очевидное: Мюррей Букчин – не анархист40. За это анархо-левачки обзывали меня «сектантом» и «пуристом». А в 2002 году, после того как в течение сорока лет он прикидывался анархистом, Букчин объявил, что «анархизм – не социальная теория», и развенчал анархистские «миф» и «иллюзию» о том, что «власть действительно может перестать существовать»41.
Такое клеветническое обвинение в духе Сталина типично для Букчина. В действительности же иллюзией или, в данном случае, ложью является заявление, что анархисты верят, дескать «власть» может перестать существовать. Анархисты верят, что может перестать существовать власть государства и другие формы институционализированной, иерархической власти, такие как патриархат или наёмный труд. Некоторые неравенства сохранятся. Какие-то люди будут умнее, симпатичнее, честнее и полезнее других (например, таких как Мюррей Букчин). Одарённые не будут господствовать, но будут получать уважение как дар42. Букчин же выпрашивал и то, и другое. И не получил ничего.
У меня не было и нет намерения выделять Букчина, как это часто может показаться, в качестве воплощения всего худшего в левом анархизме. Но то в одной, то в другой теме, куда бы я ни обратился, предо мной возникала эта самодовольная ухмыляющаяся жирная морда Мюррея Букчина: лучшего врага, которого только можно пожелать. У него даже были какие-то приспешники, верившие в его манию величия. Для одного из них, Джона Кларка, в 1990 году Мюррей Букчин был «главным современным теоретиком-анархистом»43. Кларк, академический учёный, был первейшим лакеем Букчина, пока его не уволили из букчинского Института социальной экологии при спорных обстоятельствах, о чём я упомяну позже. Вот тогда Кларк показал себя большим мужчиной, чем когда был подручным у Букчина. Кларк пролил свет на постыдную микрополитику культа личности Букчина, на его мегаломанию, на его нетерпимость даже к малейшим разногласиям, на его публичный пуризм и приватный оппортунизм44. В более ранних изданиях своей истории анархизма, книге «Требуя невозможного», Питер Маршалл чересчур много внимания удалял Мюррею Букчину, словно тот действительно был столь же важен, как полагал Джон Кларк в 1990 году К переизданию 2010 года Маршалл, никогда не бывший человеком большого ума, хотя и оставил целую главу, посвящённую исключительно Букчину45, но всё же одумался: «Я сам в ранней версии этой книги позитивно осветил попытку Букчина соединить озарения анархистской традиции и экологии, но с тех пор [я] всё сильнее раздражался из-за его оскорбительного тона и отрицания всех иных течений анархизма, не подходящих для его всё более узкого видения социальной экологии. Его заявление, что существует непреодолимая пропасть между так называемым “анархизмом образа жизни” и социальным анархизмом, выглядит одновременно сумбурным и абсурдным»46.
После выхода моей книги, а также потока отрицательных отзывов, признаний Джона Кларка и Чака Морзе и отступничества Букчина от анархизма, безусловно, ни у одного анархиста не было доводов воспринимать Букчина всерьёз. Думаю, у Маршалла ещё остаются проблемы с признанием этого. Однако даже в 2013 году нашёлся ещё один заслуженно безвестный учёный, писавший так, словно дихотомия социальный анархизм/анархизм образа жизни что-то значила и не была подвергнута критике47.
Так почему же я включаю сюда что-то, написанное таким невежей, как Мюррей Букчин? Отчасти из соображений ироничной справедливости. Ведь его работа «Спонтанность и организация» (1971), пусть плохо написанная и слишком длинная, является мощной критикой левизны организаторского типа. Тем удивительнее выглядит одобрение Букчиным левого организационизма в 1995 году. Став анархистом, он всегда разоблачал левое организаторство. Он осуждал партии-авангарды, анархо-синдикализм, «советы» и рабочие советы48. А теперь он требовал авангардную организацию, то есть именно то, что он так поносил в 1969 году49. Между 196g и 1995 годами он, правда, не вступил ни в одну из недолговечных, жалких анархистских организаций того периода. В те годы он был деканом в колледже. Букчин был эгоистом, осуждавшим эгоизм. Прочтём же то лучшее, что он написал, и забудем об остальном.
Содержание раздела «Организация»
Фреди Перлман. Десять тезисов о разрастании эгократов (пер. с англ. В. Садовского по: Perlman Е Ten Theses on the Proliferation ofEgocrats // Perlman E Anything Can Happen. London: Phoenix Press, 1992. P. 68–72).
Мюррей Букчин. Спонтанность и организация (пер. с англ. В. Садовского по: Bookchin М. Spontaneity and Organisation ⁄⁄ Bookchin М. Toward an Ecological Society. Montréal, Québec, Canada: Black Rose Books, 1980. P. 251–274).
Десять тезисов о разрастании эгократов
Фреди Перлман
I
Эгократ – Мао, Сталин, Гитлер, Ким Ир Сен – это не случайность, не отклонение и не вторжение иррациональности; он – персонификация отношений существующего общественного порядка.
II
Изначально Эгократ – такая же личность, как и все остальные: безгласный и бессильный человек в этом обществе без общности и общения, ставший жертвой спектакля. «Спектакль – это непрерывная речь, которую современный строй ведёт о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет власти в эпоху её тоталитарного управления условиями существования» (Дебор)50. Подавленный спектаклем, эгократ страстно желает «освобождения человека, существа, которое является заодно социальным и Gemeinwesen[12]» (Каматт)51. Будь его жажда выражена практически: на рабочем месте, на улице, везде, где спектакль лишает его своей человечности, он бы стал бунтарём.
Ill
Эгократ не выражает своей жажды общности и общения на практике; он превращает её в Мышление. Вооружённый этим Мышлением, он всё ещё безгласен и бессилен, но уже более не такой, как все остальные: он Сознательный, он обладает Идеей. Чтобы подтвердить это отличие, чтобы быть уверенным, что он не обманывается, ему нужно, чтобы другие видели в нём иного, – те другие, которые подтвердят, что он действительно владеет Мышлением.
IV
Эгократ находит «общность» и «общение», не разрушая элементы спектакля в пределах своей досягаемости, но окружая себя единомышленниками, другими Эго, воспроизводящими Золотое Мышление друг для друга и подтверждающими друг другу свою обоснованность обладания этим сокровищем. Они – Избранные. В этой ситуации Мышление, чтобы оставаться Золотым, должно навеки остаться всё тем же: незапятнанным и бескомпромиссным; критика и пересмотр – это синонимы предательства, «Поскольку оно является продуктом прошлого, любое текущее событие отрицает его. Так оно может существовать только в качестве полемики с реальностью. Оно отрицает всё. Оно может выжить, только замораживаясь, становясь всё более тоталитарным» (Каматт)52. Тем самым, чтобы продолжить рефлексировать и подтверждать Мышление, человек должен прекратить мыслить.
V
Изначальная цель, «освобождённый человек», теряется на практике, когда низводится до сознания Эгократа, поскольку «сознание становится самоцелью и рафинируется в организации, которая воплощает эту цель» (Каматт)53. У группы обожающих друг друга людей появляется расписание и место для собраний; она становится институтом. Организация, приобретающая форму большевистской или нацистской ячейки, социалистического читального клуба или анархистской группировки, в зависимости от местных обстоятельств и индивидуальных предпочтений, создаёт «в своей среде благоприятные условия для неформального господства над всей анархистской организацией пропагандистов и защитников их собственной идеологии – специалистов более чем посредственных, ибо вся их интеллектуальная активность в принципе сводилась к повторению нескольких окончательных истин» (как писал Дебор об анархистских организациях)54. Отрицая правящий спектакль идеологически, организация знатоков свободы воспроизводит отношения спектакля в своей внутренней практике.
VI
Организация, воплощающая Мышление, обращается к миру, поскольку «Проект этого сознания подразумевает подгонку реальности под свою концепцию» (Каматт)55. Группа становится воинственной. Она намеревается распространить на общество в целом свои внутренние организационные отношения, один из вариантов которых можно суммировать так: «В рамках партии никто не должен отставать, когда руководство даёт приказ “марш вперёд!”, никто не поворачивается направо, когда приказ “налево”» (некий революционный вождь, процитированный М. Велли56). В этот момент специфическое содержание Мышления настолько не соответствует практике, как и география христианского рая, поскольку цель уменьшается до дубинки: она служит и оправданием репрессивных практик группы, и инструментом шантажа. (Примеры: «Всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной» – Ленин57; «Когда “либертарии” клеветнически очерняют других, я ставлю под вопрос их зрелость и приверженность революционным переменам в обществе» – некий «анархист» в письме коллективу издания “The Fifth Estate”[13].)
VII
Воинственная организация расширяется при помощи обращений в свою веру и манипуляций. Обращение было любимой техникой ранних большевиков и миссионерского анархизма: явной задачей активиста было внедрить сознательность в среду рабочего класса (Ленин), «достичь своими идеями рабочих людей» (некий «анархист» в торонтском издании “The Red Menace”). Однако подразумеваемой задачей и практическим результатом его деятельности будет влияние на практики рабочих, а не на их мышление. Обращение будет успешным, когда рабочие, какими бы ни были их идеи, платят взносы организации и подчиняются её призывам к действию (к забастовкам, демонстрациям и т. п.). Подразумеваемая задача Эгократа – установить свою (и своей организации) гегемонию над большим числом индивидов, стать вождём массы сторонников. Эта подразумеваемая цель становится цинично явной в случае, когда эти активисты – нацисты или сталинисты (или помесь этих двух, как в случае с Лейбористской партией США). Обращение открывает путь для манипуляции, для неприкрытой лжи. В этой модели рекрутирование сторонников – это явная цель, и Идея прекращает быть неподвижной звездой, совершенной и неизменной; Идея становится всего лишь средством достижения этой явной цели; любым способом навербовать большинство последователей – вот хорошая Идея; Идея становится цинично сконструированным коллажем, основанным на страхах и ненависти потенциальных сторонников; её главным обещанием становится уничтожение козлов отпущения: «контрреволюционеров», «анархистов», «агентов ЦРУ», «евреев» и т. д. Разница между манипуляторами и миссионерами – теоретическая; на практике же они оказываются современниками, конкурирующими на одном социальном поле, они заимствуют техники друг у друга.
VIII
С целью транслировать Идею, трансформировать её и манипулировать ею Эгократу необходимы инструменты, медиа, и именно такие медиа общество спектакля предоставляет в избытке. Одно из оправданий обращения к этим медиа выглядит так: «В настоящий момент медиа – монополия правящих классов, которые направляют их на собственное благо. Однако их структура остаётся “фундаментально эгалитарной”, и задачей революционных практик будет выявление этой структуры, потенциально в них содержащейся, но извращённой капиталистическим порядком. Одним словом, освободить их…» (позиция, изложенная Бодрийяром58). Изначальное отрицание спектакля, стремление к общности и общению оказываются заменены стремлением воспользоваться теми самыми инструментами, которые уничтожают общность и общение. Колебания или внезапная вспышка критики исключаются организационным шантажированием: «Ленинисты победят, если только мы сами не возьмём на себя ответственность сражаться до победы..! (“The Red Menace”. Сталинист бы сказал «Троцкисты победят, если только…» и т. д.). Исходя из этого тезиса, всё и идёт дальше; все средства хороши, если они приводят к цели; и на крайнем абсурдном уровне даже продвижение продаж и реклама, эта активность и язык самого Капитала, оказываются оправданными революционными средствами: «Мы в основном концентрируемся на дистрибуции и продвижении… Наша работа по продвижению широкомасштабная и дорогая. Она включает широкое использование рекламы, рекламные рассылки, каталоги, демонстрационные столы по всей стране и т. д. Всё это стоит громадного количества денег и энергии, что покрывается деньгами, поступающими от продажи книг» («бизнесмен-анархист» в письме к “The Fifth Estate”). Представляет ли собой этот анархистский бизнесмен курьёзный пример, будучи столь нелепо преувеличен, или же он прочно находится внутри ортодоксальной традиции организованной воинственности? «Крупные банки есть тот “государственный аппарат”, который нам нужен для осуществления социализма и который мы берём готовым у капитализма, причём нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его ещё крупнее, ещё демократичнее, ещё всеобъемлющее…» (Ленин59).
IX
Медиа для Эгократа являются лишь средствами; целью же – гегемония, власть, могущество тайной полиции. «Невидимые штурманы посреди народной бури, мы должны руководить ею, но не конкретной видимой властью, а через коллективную диктатуру всех ее союзников. Диктатуру без титулов, без знаков отличий, без официальных прав, диктатуру тем более мощную, что она будет лишена внешней видимости власти» (Бакунин, процитированный Дебором)60. Коллективная диктатура всех быстро превращается в правление единственного Эгократа, поскольку «…если всё решают все вместе взятые бюрократы, то сплоченность их собственного класса может обеспечиваться лишь через сосредоточение их террористической власти на одной личности» (Дебор)61. При успехе этой затеи Эгократа, при установлении «диктатуры без официальных прав», не только общение исчезает в масштабах всего общества; любая активность на местах намеренно пресекается полицией. Такая ситуация – это не «деформация» изначальных «чистых целей» организации, она уже была предопределена в её целях, в «фундаментально эгалитарных» инструментах, использовавшихся для победы. «Главной характеристикой масс-медиа является то, что они представляются неким “антимедиатором”, что они не транзитивны, что они производят не-коммуникацию… телевидение в силу самого своего присутствия оказывается социальным контролем. Нет необходимости изображать его в качестве следящего перископа правящего режима, проникающего в частную жизнь каждого человека, потому что та форма, в которой оно существует сейчас, даже лучше: оно является гарантией того, что люди не разговаривают друг с другом, и что, столкнувшись с безответным словом, они оказались предельно изолированы друг от друга»62.
X
Проект Эгократа избыточен. Капиталистические средства производства и коммуникации уже низводят людей до безгласных и бессильных зрителей, пассивных жертв, беспрерывно подвластных «хвалебному монологу» существующего порядка. Антитоталитарной революции нужен не ещё один медиум, а ликвидация всех медиа, «…всей современной функциональной и технической структуры медиа», ликвидация, «если угодно, их операциональной формы, которая всегда отражает их социальную форму Конечно, в предельном случае исчезает или должно исчезнуть само понятие “медиум”: обмениваемое слово, взаимный символический обмен отрицает понятие и функцию медиа, его опосредующую роль… Взаимность осуществляется через разрушение медиума как такового»63.
1977
Спонтанность и организация
Мюррей Букчин
Эта статья – финальный вариант работы, прочитанной мною на конференции по организации альманаха “Telos” в Буффало, штат Нью-Йорк, 21 ноября 1971 года. Ограничения по объёму не позволяют мне конкретно рассмотреть свою точку зрения, согласно которой у нас уже есть технологическая основа для общества постнужды, или более подробно описать тот тип организации, который я считаю подходящим для нашего времени. Для более всестороннего обсуждения этих вопросов я отсылаю читателя к своей книге «Анархизм пост-нужды»64, в особенности к эссе «К либертарной технологии» и «Дискуссия о статье “Слушай, Марксист”».
1
Какая ирония в том, что социалистическое движение не только не стоит в «авангарде» современного общественного и культурного развития, но тащится за ним в хвосте почти во всех отношениях. Весьма ограниченное понимание этим движением контркультуры, его вялая интерпретация борьбы за освобождение женщин, его безразличие к экологии и игнорирование даже новых течений на заводах (в особенности среди молодых рабочих) выглядят ещё более гротескными рядом с его упрощенческим «классовым анализом», склонностью к иерархической организации и ритуальными призывами к «стратегии» и «тактике», ставшими неадекватными ещё поколение назад.
Современный социализм продемонстрировал лишь самую незначительную осведомлённость о том, что миллионы людей медленно переопределяют сам смысл свободы. Они существенно расширяют свою картину освобождения человека до тех измерений, которые в предыдущие эпохи выглядели бы безнадёжно утопическими. Всё большее число людей осознаёт, что общество разработало технологию, которая способна совершенно ликвидировать материальную нужду и уменьшить тяжкий труд до практически исчезающих значений. Столкнувшись с возможностями бесклассового общества постнужды и с бесцельностью иерархических отношений, они интуитивно пытаются решать проблемы коммунизма, а не социализма65. Они интуитивно пытаются ликвидировать доминирование во всех его формах, а не только материальную эксплуатацию. Отсюда и распространившаяся эрозия власти как таковая — в семье, в школах, в профессиональных и трудовых областях, в Церкви, в армии, практически в каждом институте, поддерживающем иерархическое господство, и в любых нуклеарных отношениях, отмеченных доминированием. Также отсюда проистекает и чрезвычайно личная природа восстания, пронизывающего общество, его крайне субъективные, экзистенциальные и культурные качества. Восстание влияет на повседневную жизнь даже до того, как оно видимо влияет на более широкие аспекты общественной жизни, оно подрывает конкретную преданность индивида системе, прежде чем привести в негодность абстрактные политические и моральные истины этой системы.
Этим глубоко укоренившимся освободительным тенденциям, столь богатым своим экзистенциальным содержимым, социалистическое движение продолжает противопоставлять ограничивающие формулы партикуляристского интереса «рабочего класса», архаичное представление о «диктатуре пролетариата» и зловещий концепт централизованной иерархической партии. Если на сегодняшний день социалистическое движение безжизненно, то это потому, что оно утратило всякий контакт с жизнью.
2
Мы проходим полный цикл развития истории. Мы снова берёмся за проблемы нового органического общества на новом уровне истории и технического развития – органического общества, в котором расколы внутри общества, между обществом и природой и внутри человеческой психики, вызванные тысячелетиями иерархического развития, могут быть излечены и преодолены. Иерархическое общество сотворило пагубное «чудо» превращения людей во всего лишь инструменты производства, в объекты, наряду с орудиями и машинами, тем самым определяя само человечество по его узуфрукту во всемирной системе нужды, доминирования и – при капитализме – товарного обмена. Даже и ранее, до начала доминирования человека над человеком, иерархическое общество обрекло женщину на полное подчинение мужчине, открыв сферу доминирования ради доминирования, доминирования в своей самой конкретной форме. Доминирование, привнесённое в глубины личности, превратило нас в носителей архаичного, тысячелетнего наследства, формирующего язык, жесты, даже сами позы, которые мы используем в повседневной жизни. Все прошедшие революции были слишком «олимпийскими», чтобы оказать воздействие на эти частные и якобы приземлённые аспекты жизни, отсюда и идеологическая природа заявленных ими целей свободы и узость их взгляда на освобождение.
Напротив, целью нового движения к коммунизму является построение общества, основанного на самоуправлении, где каждый индивид в полном объёме, напрямую и на равных участвует в непосредственном управлении коллективом. Такой коллектив, если рассматривать его с позиции человека, может быть не чем иным, как осуществлением самоосвобождения, выражением свободного субъекта, снявшего все свои «вещефикации», самости, которая способна конкретизировать управление коллективом как аутентичным видом само-управления. Невероятный прогресс, достигнутый контркультурным движением в отличие от социалистического движения, обусловлен именно персонализмом, видящим в обезличенных целях, даже в сферах языка, жестов, поведения и одежды увековечивание доминирования в его самых коварно бессознательных формах. Однако окажись оно связанным всеобщей несвободой, окружающей его, контркультурное движение тем самым конкретно переопределило бы ныне безвредное слово «революция» в истинно революционной манере, как практику, которая ниспровергает апокрифические абстракции и теории.
Отождествлять требования возникающей самости с «буржуазным индивидуализмом» – значит гротескно искажать самые фундаментальные экзистенциальные цели освобождения. Капитализм не порождает личности; он порождает атомизированных эгоистов. Искажать требования общества, основанного на самоуправлении, выдвигающиеся этой проявляющейся самостью, и сводить требования революционного субъекта к экономистскому представлению о «свободе» – значит искать тот «грубый коммунизм», который юный Маркс так верно высмеял в своих рукописях 1844 года. Требование либертарных коммунистов построить общество, основанное на самоуправлении, отстаивает право каждого индивида получить контроль над своей повседневной жизнью, право делать каждый свой день как можно более радостным и изумительным. Отказ социалистического движения от этого требования в пользу абстрактных интересов «общества», «истории», «пролетариата» и, что более типично, «партии», растворяет и питает буржуазное противопоставление личности и коллектива в интересах бюрократической манипуляции, отречения от стремлений и подчинения личности и коллектива интересам Государства.
3
Общество, основанное на самоуправлении, не может существовать без самостоятельной деятельности. В самом деле, революция и есть самостоятельная деятельность в своей самой продвинутой форме: то есть в форме прямого действия, доведённого до той точки, когда улицы, земля и заводы присваиваются самоуправляющимся народом. Пока такой уровень сознательности не достигнут, сознательность, по крайней мере на уровне социума, остаётся массовой сознательностью, объектом манипуляции элит. Хотя бы по одной только этой причине истинные революционеры должны согласиться, что наиболее продвинутой формой классовой сознательности является самосознание: индивидуация – превращение «масс» в сознательные существа, способные взять прямой, непосредственный контроль над обществом и своими собственными жизнями. Также в силу одной лишь этой причины истинные революционеры должны согласиться, что единственным настоящим «взятием власти» «массами» является аннулирование власти: власти человека над человеком, города над селом, государства над сообществом и разума над чувствами.
4
Именно в свете таких требований общества, основанного на самоуправлении, достижимых посредством самостоятельной деятельности и питаемых самосознанием, мы должны рассматривать взаимоотношение спонтанности и организации. Убеждения, что революция есть скорее вопрос «стратегии» и «тактики», а не общественных процессов66; что «массы» не способны создать свои собственные освободительные институты и должны полагаться на силу государства – «диктатуру пролетариата» – чтобы организовать общество и искоренить контрреволюцию, стоят за каждым заявлением о том, что «массам» требуется «руководство» «авангарда». Каждое из этих утверждений разоблачено историей, даже партикуляристскими революциями, замещавшими правление одного класса другим. Если мы обратимся к Великой французской революции двухвековой давности, к восстаниям 1848 года, к Парижской Коммуне, к двум русским революциям 1905 года и марта 1917 года, к германской революции 1918 года, к Испанской революции 1934 и 1936 годов или же к Венгерской революции 1956 года, мы обнаружим социальный процесс, порой весьма растянутый, достигающий кульминации в свержении установленных институтов без руководства партий-«авангарда» (действительно, там, где такие партии существовали, они обычно отставали от развития событий). Мы видим, что «массы» формировали свои собственные освободительные институты, будь это парижские секции 1793–1794 годов, клубы и ополчения 1848 и 1871 годов, или же заводские комитеты, рабочие советы, народные сходы или комитеты действия в ходе позднейших восстаний.
Было бы грубым упрощением этих событий считать, что контрреволюция поднимала свою голову и торжествовала там, где она действовала только потому, что «массы» были не способны к самокоординированию, и им недоставало «руководства» хорошо дисциплинированной централизованной партии. Тут мы подходим к одной из самых досадных проблем в революционном процессе, к проблеме, которая так никогда адекватно не была понята в социалистическом движении. То, что координирование либо отсутствовало, либо проваливалось – а по сути, то, что вообще становилась возможной контрреволюция, – поднимает вопрос более фундаментальный, чем лишь проблема «технического администрирования». Там, где первые, чаще всего несозревшие революции терпели крах, это случалось прежде всего потому, что они не имели материального базиса для консолидации всеобщего интереса общества, на что исторически претендовали наиболее радикальные элементы. Будь девизом такого всеобщего интереса «Свобода, Равенство и Братство» или же «Жизнь, Свобода и Стремление к Счастью», никуда не исчезает тот неприятный факт, что не существовало технологических предпосылок для консолидации этого всеобщего интереса в форме гармоничного общества. То, что всеобщий интерес снова оказался разделён в ходе революционного процесса на антагонистические частные интересы – что он прошёл от эйфории «примирения» (о чём свидетельствуют масштабные национальные празднества, последовавшие за взятием Бастилии) к кошмару классовой войны, террора и контрреволюции – должно быть объяснено в первую очередь материальными пределами общественного развития, а не техническими проблемами политического координирования.
Великие буржуазные революции преуспели социально даже там, где они, как кажется, потерпели неудачу «технически» (то есть проиграли власть радикальным «мечтателям-террористам»), именно потому, что они были полностью адекватны своему времени. Ни армия, ни институты абсолютистского общества не могли выдержать их удары. По крайней мере, в своих ранних стадиях эти революции возникали как выражения «общей воли», объединяя практически все социальные классы против аристократов и монархий тех дней и даже раскалывая саму аристократию. Напротив, все «пролетарские революции» потерпели поражение, потому что технологические предпосылки не соответствовали материальной консолидации «общей воли», единственного базиса, на котором доминируемый может окончательно уничтожить доминирование. Таким образом, Октябрьская революция провалилась социально, пусть даже и выглядела преуспевшей «технически» – несмотря на все доказывающие обратное ленинистские, троцкистские и сталинистские мифы – то же самое справедливо и в отношении «социалистических революций» Азии и Латинской Америки. Когда «пролетарская революция» и её время соответствуют друг другу – а точнее, потому что они соответствуют друг другу – революция уже более не будет «пролетарской», не будет работой разобщённых порождений буржуазного общества, его трудовой этики, его заводской дисциплины, его индустриальной иерархии и его ценностей. Эта революция будет революцией народам самом истинном смысле этого слова67.
5
Революции прошлого, вершившиеся радикальными элементами, в конечном счёте провалились не из-за потребности в организации, но скорее потому, что все предыдущие общества были организованными системами потребностей. В наше время, в эру финальной, генеральной революции всеобщий интерес общества может отчётливо и непосредственно быть преобразован технологиями общества постнужды в материальное изобилие для всех, даже посредством исчезновения тяжкого труда как основополагающей черты, характеризующей положение человека. Пользуясь рычагом беспрецедентного материального изобилия, революция может устранить самые фундаментальные предпосылки контрреволюции – нужду, подпитывающую привилегии и причины для доминирования. Ни у одной части общества больше нет причины «трепетать» от перспективы коммунистической революции, это должно стать очевидным для всех, кто хотя бы готов слушать68.
Со временем конструкция, открытая этими качественно новыми возможностями, приведёт к значительному упрощению исторического «социального вопроса». Как отмечал Йозеф Вебер в своей работе «Великая утопия», эта революция – самая всеохватывающая и тотальная из всех, что будут, – возникнет как «следующий практический шаг», как непосредственная практика в рамках социальной реконструкции. И действительно, шаг за шагом контркультура поглощала, не только субъективно, но и в своих самых конкретных и практических формах, необъятное вместилище задач, прямо касающихся утопического будущего человечества, задач, которые всего лишь поколение назад могли представляться (если вообще представлялись) лишь самыми эзотерическими проблемами в теории. Обозреть эти задачи и осмыслить сумасшедшую скорость, с какой они возникли менее чем за десятилетие – это просто ошеломляюще, поистине беспрецедентно в истории. Нужно упомянуть только важнейшие из них: это автономия самости и право на самореализацию; эволюция любви, чувственности и раскрепощённого выражения тела; спонтанное выражение чувств; отказ от отчуждения во взаимоотношениях между людьми; формирование сообществ и коммун; свободный доступ ко всем средствам, необходимым для жизни; отказ от пластикового товарного мира и предлагаемых им карьер; практика взаимопомощи; овладение навыками и контртехнологиями; возобновление уважения к жизни и балансу в природе; замена рабочей этики содержательной работой и требованиями наслаждения; и, разумеется, практическое переопределение свободы, к которому всякие Фурье, Марксы или Бакунины редко приближались в области мысли.
Следует подчеркнуть, что мы являемся свидетелями нового Просвещения (более всеохватывающего, чем даже те полвека просвещения, предшествовавшие Великой французской революции), которое постепенно бросает вызов не только власти установленных институтов и ценностей, но и самой власти как таковой. Просачиваясь вниз от интеллигенции, средних классов и молодёжи в целом ко всем стратам общества, это просвещение медленно расшатывает патриархальную семью, школу как организованную систему репрессивной социализации, институты государства и заводскую иерархию. Оно разъедает трудовую этику, священность собственности и ту фабрику вины и отречения, которая внутренне лишает каждую личность права на полную реализацию своих потенциальных возможностей и удовольствий. Да, теперь не только один лишь капитализм стоит в тупике истории, но и всё совокупное наследие господства, тысячи лет надзиравшего за индивидом изнутри, «архетипы» доминирования, по сути, согласовывавшие Государство с нашей подсознательной жизнью.
Неимоверные сложности, возникающие при осмыслении этого Просвещения, заключаются в его недоступности общепринятому анализу. Это новое Просвещение – не просто смена сознания, смена, нередко весьма поверхностная при отсутствии других изменений. Обычные смены сознания, характерные для более ранних периодов радикализации, переносятся довольно легко, будучи всего лишь теориями, мнениями или высоколобым умствованием, часто успешно отбрасывавшимся из потока повседневной жизни. Значение же нового Просвещения в том, что оно видоизменяет систему подсознания индивида даже ещё до того, как это просвещение будет осознанно сформулировано как общественная теория или приверженность каким-либо политическим взглядам.
Рассмотренное с позиции типично социалистического анализа – анализа, фокусирующегося почти целиком на «сознании» и при почти полном отсутствии глубоких психологических озарений, – новое Просвещение кажется способным приносить лишь самые жалкие «политические» результаты. Разумеется, контркультура не могла породить никакие «массовые» радикальные партии и никакие заметные «политические» изменения. Однако если рассмотреть его с точки зрения коммунистического анализа – анализа, занимающегося подсознательным наследием доминирования, – то оказывается, что это новое Просвещение медленно размывает смирение индивида перед институтами, властями и ценностями, сводившими на нет любую борьбу за свободу. Эти глубокие изменения происходят почти неосознанно, как, к примеру, среди рабочих, которые в конкретной сфере повседневной жизни занимаются саботажем, работают с равнодушием, почти систематически прогуливают, сопротивляются властям практически в любой форме, употребляют наркотики, приобретают разные причудливые черты характера, – и тем не менее в абстрактной сфере политики и социальной философии рукоплещут самым тривиальным проповедям системы. Взрывной характер революции, её внезапность и абсолютная непредсказуемость могут быть объяснены только проникновением этих подсознательных изменений в сознание, снятием напряжения между подсознательными желаниями и сознательно принятыми взглядами в форме открытой конфронтации с существующим порядком. Разрушение подсознательных запретов на эти желания и полное выражение тех желаний, которые пребывают в личном бессознательном, – вот предварительное условие для основания общества освобождения. В определённом смысле мы можем сказать, что попытка поменять сознание является борьбой за бессознательное, как в смысле оков, сдерживающих желание, так и в смысле скованных желаний.
6
Сегодня не ставится вопрос, спонтанность – это «хорошо» или «плохо», «желательно» или «нежелательно». Спонтанность – неотъемлемая часть самой диалектики самосознания и само-де-отчуждения, устраняющего субъективные путы, наложенные существующим порядком. Отрицать действенность спонтанности значит отрицать наиболее освободительную диалектику из тех, что имеют место сегодня; как таковая для нас она должна быть данностью, существующей самой по себе.
Этому термину следует дать точное определение, иначе его смысл растворится в семантических спорах. Спонтанность – это не просто порыв, особенно в своей самой продвинутой и истинно человеческой форме, а это единственная форма, достойная обсуждения. Не подразумевает спонтанность и непреднамеренного поведения и ощущения. Спонтанность – это поведение, ощущение и мышление, свободные от внешнего принуждения, от наложенных ограничений. Это самоконтролируемые, внутренне контролируемые поведение, ощущение и мышление, а не бесконтрольный миазм страсти и действия. С точки зрения либертарного коммунизма, спонтанность подразумевает способность индивида подчиняться самодисциплине и разработать надёжные алгоритмы для общественного действия. В той мере, в какой индивид избавляется от оков доминирования, подавлявших её или его самопроизвольную деятельность, он или она оказывается действующим, чувствующим и мыслящим спонтанно. Мы с тем же успехом могли бы отбросить корень «само-» из таких слов, как «самосознание», «самостоятельная деятельность» и «самоуправление», как и убрать понятие спонтанности из нашего понимания нового Просвещения, революции и коммунизма. Если сегодня есть категорическая необходимость в коммунистическом сознании внутри революционного движения, то без спонтанности мы никогда не сможем даже надеяться его обрести.
Спонтанность не означает отсутствие организации и структуры. Напротив, спонтанность обыкновенно принимает неиерархические формы организации, формы, по-настоящему органичные, самостоятельно созданные и основанные на принципе добровольности. Единственный серьёзный вопрос, возникающий в связи со спонтанностью: где она оказывается осведомлённой, а где – нет? Как я уже утверждал раньше, спонтанность ребёнка в обществе освобождения не будет походить на спонтанность молодого человека, а его спонтанность – на спонтанность взрослого; каждый более старший будет попросту более осведомлённым, более знающим и более опытным в сравнении с тем, кто младше69. Революционеры сегодня могут браться за распространение этого информативного процесса, но если они попытаются сдерживать его, или уничтожить его, формируя иерархические движения, то они ликвидируют сам процесс самореализации, который бы принёс плоды в виде самостоятельной деятельности и общества, построенного на самоуправлении.
Не менее важен для любого революционного движения и тот факт, что только при спонтанности революции мы можем быть обоснованно уверены, что «необходимые условия» для революции дозрели, так сказать, до «достаточных условий». Восстание, спланированное элитой, сегодня практически точно привело бы к катастрофе. Слишком грозна мощь государства, с которой мы сталкиваемся, его арсенал слишком разрушителен, и если его структура не повреждена, его эффективность слишком сильна, чтобы от неё можно было избавиться в состязании, где определяющим фактором является вооружение. Система должна пасть, а не бороться; а падёт она только когда её институты окажутся выхолощены новым Просвещением, а мощь так подорвана физически и морально, что противостояние в ходе восстания будет скорее символическим, чем реальным. Невозможно точно предсказать, когда или как наступит этот «волшебный момент», столь характерный для революции, но, к примеру, когда локальная забастовка, обычно игнорируемая при «нормальных» обстоятельствах, сможет зажечь всеобщую революционную забастовку, тогда мы узнаем, что условия созрели, – а это может случиться только тогда, когда революционному процессу будет дана возможность найти свой собственный уровень революционного противостояния70.
7
Если правда то, что на сегодняшний день революция действительно представляет собой сознательный акт в самом широком смысле и влечёт за собой демистификацию реальности, устраняющую все её идеологические ловушки, то недостаточно говорить, что «сознание следует за бытием». Рассматривать развитие сознания лишь как отражение субъективности в развитии материального производства значит повторять вслед за поздним Марксом, что мораль, религия и философия являются «идеологическими отражениями и эхом» действительности и «не имеют своей собственной истории и развития»71, это означает поддерживать формирование идеологии и тем самым отказывать этому сознанию в любом подлинном основании для выхода за пределы мира, каким он дан72. Здесь само коммунистическое сознание становится «эхом» действительности. Вопрос «почему?» в этом объяснении сужается до «как?» в типичной инструменталистской манере; субъективные элементы, вовлечённые в трансформации сознания, оказываются полностью объективированными. Субъективность перестаёт быть областью для самой себя, отсюда и провал марксизма в формулировании новой самостоятельной революционной психологии, а также неспособность марксистов понять новое Просвещение, преобразовывающее субъективность во всех её измерениях.
Классическая западная философия в её широком, хотя и нередко затуманенном понятии «духа» признавала, что разум всё больше «включает в себя» материальный мир – или, говоря в более «материалистическом» смысле, что материя становится рациональной, а разум формирует свою собственную «кору», так сказать, над естественной и социальной историей. Разум – это в конечном счёте природа и общество, наделённые сознанием. В этом смысле недостаточно сказать, что «сознание следует за бытием», но скорее получается, что бытие развивается до сознания; что у сознания есть своя собственная история внутри материального мира, приобретающая всё больше влияния на ход материальной реальности. Человечество способно преодолеть область слепой необходимости; оно способно дать природе и обществу рациональное направление и цель.
Такое более пространное определение взаимоотношения между сознанием и бытием не является отдалённой философской абстракцией. Наоборот, оно в высшей степени практично. Доведённая до своего логического заключения, такая интерпретация требует фундаментального пересмотра традиционного представления о революционном сознании как сознании классовом. К примеру, если пролетариат рассматривается всего лишь как продукт его реального бытия – как объект эксплуатации буржуазией и порождение системы фабрик, – он в самой своей сути низводится до категории политической экономии. Маркс не оставляет нам сомнений насчёт этой концепции. Как наиболее полно дегуманизируемый класс, пролетариат переходит через своё дегуманизованное состояние и начинает воплощать человеческую тотальность «велением неотвратимой, не поддающейся уже никакому приукрашиванию, абсолютно властной нужды…»73 Соответственно: «Дело не в том, в чём в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом делен что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет делать»74. (Этот упор на протяжении текста сделан Марксом и убедительно говорит о де-субъектификации пролетариата.) Я оставлю в стороне рассуждение, согласно которому эта формула обусловливает элитистскую организацию. Сейчас важно отметить, что Маркс, следуя традиции классической буржуазной политической экономии, тотально объективирует пролетариат и не считает его истинным субъектом. Восстание пролетариата, даже его гуманизация, прекращает быть человеческим феноменом, но становится функцией неумолимых экономических законов и «властной нужды». Суть пролетариата кик пролетариата в его не-человечности, в природе его сотворения как продукта «абсолютно властной нужды». Его субъективность попадает в категорию жёсткой необходимости, объясняемой в терминах закона экономики. Психология пролетариата, в сущности, есть политическая экономия.
Настоящий же пролетариат сопротивляется такому низведению своей субъективности до продукта нужды и всё более живёт внутри сферы желания, сферы возможности. По существу он становится всё более рациональным в классическом, а не инструменталистском смысле этого слова. Конкретно, рабочий сопротивляется рабочей этике, потому что она стала иррациональной в свете возможностей, открывающихся для неиерархического общества. В этом смысле рабочий переступает через свою сотворённую природу и в большей мере становится субъектом, а не объектом; не-пролетарием, а не пролетарием. Желание, а не только нужда, возможность, а не только необходимость, входят в его или её самосоздание и самостоятельную деятельность. Рабочий начинает терять свою рабочесть, избавляться от своего существования лишь как классового бытия, как объекта сил экономики, как всего лишь «существа», и становится всё более восприимчив к новому Просвещению.
И когда человеческая сущность пролетариата начинает заменять фабричную сущность, достучаться до рабочего становится так же легко, как на заводе, так и вне его. Конкретно, аспект рабочего как женщины или мужчины, как родителя, как городского жителя, как принадлежащего к молодёжи, как жертвы деградации окружающей среды, как мечтателя (этот список практически бесконечен) всё больше выходит на передний план. Стены завода становятся проницаемыми для контркультуры до той степени, когда она начинает соперничать с «пролетарскими» заботами и ценностями рабочего.
Никакая группа «рабочих» не может стать истинно революционной, пока не обратится к человеческим устремлениям каждого отдельного рабочего, пока не станет помогать де-отчуждению персональной среды рабочего и не начнёт преступать пределы его фабричной среды. Рабочий класс становится революционным не вопреки себе, но вследствие себя, буквально как результат своей пробуждённой индивидуальности75.
8
На революционерах лежит ответственность не «делать» революции, а помогать другим стать революционерами. А такая деятельность начинается, только когда конкретный индивидуальный революционер берётся за переделку себя самого. Разумеется, за такую задачу невозможно взяться в персональном вакууме; она предполагает существование отношений с другими людьми похожего склада, любящими и взаимно поддерживающими друг друга. Такая концепция революционной организации закладывает основу анархистской группы единомышленников. Члены такой группы считают себя сёстрами и братьями, чья деятельность и структуры, по словам Иозефа Вебера, «ясны для всех». Такие группы действуют как катализаторы при возникающих в обществе ситуациях, а не как элиты; они стараются развить сознательность и борьбу более крупных сообществ, в которых они действуют, а не занять командные позиции.
Революционная деятельность традиционно была проникнута мотивами «страдания», «отрицания» и «жертвенности», мотивами, во многом отражающими чувство вины интеллектуальных кадров революционного движения. По иронии, в той степени, в какой эти мотивы до сих пор бытуют, они являются отражением самых человеконенавистнических аспектов того самого существующего порядка, который «массы» стремятся уничтожить. Революционное движение (если сегодня так его можно назвать), таким образом, имеет тенденцию, даже в большей степени, чем идеология, «вторить эхом» превалирующей действительности – и что ещё хуже, приучать «массы» по собственной воле и вследствие революции страдать, жертвовать и отказываться. Как противодействие такой новейшей версии «республиканской добродетели», анархистские группы единомышленников поддерживают не только рациональную, но и радостную, чувственную и эстетическую сторону революции. Они утверждают тот факт, что революция будет не только наступлением на установленный порядок, но также и уличным фестивалем. Революция – это желание, перенесённое в область общественного и обобщённое. Она не лишена смертельных рисков, трагедий и боли, но это риски, трагедия и боль рождения и новой жизни, а не раскаяния и смерти. Группы единомышленников утверждают, что только революционное движение, придерживающееся подобного взгляда, может создать так называемую «революционную пропаганду», на которую может ответить новая народная восприимчивость – «пропаганду», являющуюся искусством в понимании Домье, Джона Мильтона и Джона Леннона. Воистину, в наше время правда может существовать только как искусство, а искусство – только как правда76.
Развитие революционного движения включает в себя засеивание Америки такими группами единомышленников, коммунами и коллективами – в городах, в сельской местности, в школах и на заводах. Эти группы стали бы глубинными, децентрализованными органами, занимающимися всеми аспектами жизни и жизненных ситуаций. Каждая из групп будет крайне экспериментальной, инновационной и ориентированной на изменения как в образе жизни, так и в сознании; каждая будет настолько хорошо устроенной, что сможет с готовностью раствориться в революционных институтах, созданных самим народом, и прекратить своё существование в качестве отдельного участника в обществе. Наконец, каждая из этих групп будет пытаться как можно лучше отражать освобождённые формы будущего, а не существующего мира, которые отражаются традиционными «левыми». По сути, каждая группа будет учреждать себя в качестве энергетического центра для преобразования общества и колонизации настоящего будущим.
Подобные группы могли бы взаимодействовать, вступать в федерации и устанавливать общение на региональном и национальном уровне по мере необходимости, не отказываясь от своей автономии и уникальности. Это будут органичные группы, порождённые существующими проблемами и стремлениями, а не искусственные, навязываемые элитами при ситуациях в обществе. Не будут они терпеть и такую организацию кадров, чья сплочённость основана лишь на «программном соглашении» и подчинённости функционерам и вышестоящим органам.
Мы вправе спросить, может ли «массовая организация» быть революционной в то время, когда условия для коммунистической революции ещё не созрели? Это противоречие становится самоочевидным, как только мы соединяем слово «массы» с «коммунистической революцией»77. Можно с уверенностью сказать, что в нереволюционные периоды массовые движения создавались во имя социализма и коммунизма, но достигали своей массовости, только денатурируя концепции социализма, коммунизма и революции. И что хуже, они не только предают исповедовавшиеся ими идеалы, денатурируя их, но и сами становятся препятствиями на пути революции. Далёкие от того, чтобы формировать судьбу общества, они становятся порождениями того самого общества, которому, по их утверждениям, они должны были противостоять.
Искушение перебросить мост через этот разрыв между имеющимся обществом и будущим, коварно по своей природе. Революция – это разрыв не только с существующим социальным устройством, но и с порождаемыми им психикой и ментальностью. Рабочие, студенты, фермеры, интеллектуалы, все потенциально революционные слои общества буквально порывают сами с собой, а не только с абстрактной идеологией общества, когда вступают на революционный путь. И до тех пор, пока они не совершили такой разрыв, они не революционеры. Самопровозглашённое «революционное» движение, которое пытается поглотить эти слои своими «переходными программами» и тому подобным, получит их поддержку и участие по ложным мотивам. В свою очередь, движение будет определяться именно людьми, которых оно тщетно пыталось поглотить, а не люди – движением. Очевидно, что на сегодняшний день число революционеров крайне мало, как очевидно и то, что подавляющее большинство людей сегодня занято проблемами выживания, а не жизни. Однако именно эта озабоченность проблемами выживания и ценностями, так же как и стимулирующими их нуждами, предотвращает их обращение к проблемам жизни – а затем и к революционному действию. Разрыв с существующим порядком будет сделан только тогда, когда проблемы жизни инфильтрируются и поглотят проблемы выживания – когда жизнь будет пониматься как условие для существования сегодня – а не отрицанием проблемы жизни с целью заняться проблемами выживания, то есть достижения «массовой» организации, созданной только лишь из «масс».
Революция – это волшебное мгновение не только потому, что её невозможно предсказать; но и потому, что она также может осаждаться в сознании в течение недель, даже дней, как нелояльность, глубоко скрытая в подсознании. Но революция должна рассматриваться как нечто большее, чем просто «мгновение»; это сложная диалектика даже в рамках своего собственного каркаса. Революция большинства не означает, что подавляющее большинство населения должно непременно участвовать в революционных выступлениях в одно и то же время. Изначально движущая группа людей может представлять собой меньшинство населения —
существенное, популярное, спонтанное меньшинство, конечно же, а не малочисленную, «хорошо дисциплинированную», централизованную и мобилизованную элиту. Согласие большинства будет видно хотя бы уже по тому факту, что оно больше не будет защищать существующий порядок. Оно может «действовать», отказываясь поддерживать правящие институты, – подход «смотреть и выжидать» с целью удостовериться, окажется ли правящий класс бессильным, если лишить его своей лояльности. Только проверив ситуацию своей пассивностью, это большинство может переходить к открытой активности – тогда уже с быстротой и масштабом, в короткий срок ликвидируя институты, отношения, подходы и ценности, которые устанавливались на протяжении столетий.
9
Наличие в Америке любого организованного «революционного» движения, имеющего искажённые цели, было бы неизмеримо хуже, чем вообще отсутствие какого-либо движения. И так уже «левые» нанесли ужасающий урон контркультуре, движению за освобождение женщин и студенческому движению. Своими раздутыми претензиями, обезличивающим поведением и манипуляциями «левые» сильно поспособствовали той деморализации, что существует сегодня. И вполне возможно, что при наступлении будущей революционной ситуации «левые» (особенно в своих авторитарных формах) вызовут проблемы более угрожающие, чем это могла бы сделать буржуазия, – в том случае, если революционный процесс не сможет преобразовать этих «революционеров».
А в преобразовании нуждается многое – не только социальные взгляды и личные отношения, но сам способ того, как «революционеры» (в особенности мужчины) интерпретируют опыт. «Революционер» не меньше, чем «массы», воплощает подходы, которые отражают по сути деспотический взгляд на внешний мир. Западный образ восприятия традиционно определяет индивидуальность в антагонистических терминах, в матрице противопоставления объектов и субъектов, лежащих за пределами «Я». Собственная личность – это не только эго, отличаемое от внешних «других», это эго, стремящееся повелевать этими другими и подчинять их. Отношение субъект/объект субъективно определяется как функция доминирования, доминирования над объектами и редукции других субъектов до объектов. Западная индивидуальность, разумеется, в её мужских формах это индивидуальность присвоения и манипулирования по самому своему самоопределению и определению отношений. Такое само- (и через отношения) определение может активно проявляться в некоторых индивидах, быть пассивным в других, или же открываться именно во взаимном распределении ролей, основанном на желании доминировать и быть доминируемым, однако доминирование практически повсеместно пронизывает превалирующий способ переживания реальности.
Практически любое течение в Западной культуре укрепляет такой способ переживания – не только её буржуазное и иудео-христианское течения, но и марксистское тоже. Согласно марксовому определению, которое он позаимствовал у Гегеля, трудовой процесс как способ самоопределения является неприкрыто присваивающим и латентно эксплуататорским. Человек формирует себя, изменяя мир; он присваивает его, трансформирует в соответствии со своими «нуждами» и тем самым проектирует, материализует и проверяет себя самого в объектах своего собственного труда. Такая концепция самоопределения человека образует точку отсчёта для всей теории исторического материализма Маркса. «Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии – вообще по чему угодно», – замечает Маркс в своём знаменитом пассаже из «Немецкой идеологии». «Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им жизненные средства… Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством – совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Что представляют собой индивиды – это зависит, следовательно, от материальных условий их производства»78.
В гегелевской «Феноменологии духа» тема труда рассматривается в контексте отношений господин/раб. Здесь субъект становится объектом в двояком смысле, поскольку другой (раб) оказывается объективирован и, соответственно, низведён до уровня инструмента производства. Труд раба, однако, становится основой для автономного сознания и индивидуальности. Посредством работы и труда «сознание раба приходит к себе», отмечает Гегель. «Труд, напротив того, есть заторможенное вожделение, задержанное (aufgehaltenes) исчезновение, другими словами, он образует». «Формирующее действование» это «чистое для-себя-бытие сознания [раба], которое теперь в труде, направленном вовне, вступает в стихию постоянства; работающее сознание приходит, следовательно, этим путём к созерцанию самостоятельного бытия как себя самого»79.
Гегель превращает ограничение свободы труда в отношения господина и раба – то есть в структуру доминирования – с диалектикой, следующей за этим «моментом». В конечном итоге разрыв между субъектом и объектом преодолевается как антагонизм, но оказывается воплощён как причина в полноте истины, в Абсолютной Идее. Маркс не смог продвинуться за пределы момента отношения господин/раб. Этот момент накрепко связан и вогнан внутрь теории классовой борьбы Маркса (по моему мнению, это серьёзнейший недостаток, лишающий осознанности историю нарождающейся диалектики) – и разрыв между субъектом и объектом так никогда полностью не был преодолён. Вопреки всем интерпретациям «Фейербаховского натурализма» у раннего Маркса, человечество, по его мнению, двойственно выходит за пределы доминирования за счёт своего доминирования над природой. Природа низводится до «раба», так сказать, гармонизированного общества, а личность не ликвидирует своё прометеистское содержимое80. Поэтому тема доминирования всё ещё скрытно присутствует в интерпретации коммунизма у Маркса; природа всё ещё является объектом доминирования. Понимаемая так, марксистская концепция природы – весьма далеко отошедшая от более противоречивых представлений юного Маркса – вредит примирению субъекта и объекта, которое должно быть достигнуто в гармонизованном обществе.
Существование этих «объектов» и необходимость в «манипулировании» ими – это очевидные условия для выживания человека, через которые не может преступить ни одно общество, каким бы гармонизированным оно ни было. Но существуют ли «объекты» лишь как объекты или остаётся ли их «манипулирование» лишь манипулированием – или же, образует ли труд, отделяемый от искусства и игры, основной вид самоопределения – это совсем другой вопрос. Ключевым аспектом, вокруг которого вращаются эти различия, является доминирование – отношение присвоения, определяющееся эгоистическим понятием нужды81. В той мере, в какой собственные нужды существуют только для самих себя, независимо от целостности (или от того, что Гегель также называл «субъективностью») другого, этот другой остаётся для личности лишь объектом, и обращение с этим объектом становится лишь присвоением. Но в той мере, в какой другой рассматривается как самоцель, а нужда определяется в терминах взаимной поддержки, личность и другой вступают в отношения взаимодополнения. Такие взаимодополняющие отношения достигают наибольшей гармонизации в аутентичной игре82. Взаимодополняемость в отличие от доминирования – даже от более мягких форм договорных отношений и взаимопомощи, называемых «взаимодействием», – предполагала новый анимизм, уважающий другого за его собственные дела и активно отвечающий в форме креативного, любящего и поддерживающего симбиоза.
Зависимость существует всегда. Однако как она существует и почему – остаётся определяющим для понимания любых различий между доминированием и взаимодополняемостью. Младенцы всегда будут зависимы от родителей в удовлетворении своих самых элементарных физиологических нужд, а молодёжи всегда будет требоваться поддержка старших для получения знаний и опыта. Похожим образом и старшие поколения будут зависеть от молодых в воспроизводстве общества и в стимуляции, получаемой от расспросов, а также свежих взглядов на опыт. В иерархическом обществе зависимость обычно связана с подчинением и отрицанием индивидуальности другого. Разница в возрасте, половой принадлежности, режимах работы, уровнях знаний, в интеллектуальных, художественных и эмоциональных наклонностях, в физическом облике – всё это колоссальное разнообразие, которое могло бы привести к продуктивной последовательности взаимоотношений и взаимозависимостей, – фактически пересобирается с позиций приказания и подчинения, превосходства и неполноценности, прав и обязанностей, привилегий и запретов. Такая иерархическая организация явлений встречается не только в общественном мире; её параллель можно найти в том, как феномены – как социальные, так и естественные и личные, – познаются изнутри. Личность в иерархическом обществе не только живёт, действует и общается иерархически, она и мыслит и чувствует иерархически, путём организации огромного объёма разнообразных данных чувств, памяти, ценностей, страстей и мыслей иерархическим путём. Различия между вещами, людьми и отношениями не существуют как самоцели; они организованы иерархически в самом разуме и натравлены друг на друга антагонистически в соответствии с различными степенями доминирования и подчинения даже тогда, когда могли бы быть взаимодополняющими в преобладающей реальности.
Взгляды раннего органического человеческого сообщества, по крайней мере, в его наиболее гармонизированной форме, оставались по существу свободными от иерархических моделей восприятия; действительно, кажется сомнительным, могло ли человечество произойти из мира животных без системы общественного взаимодействия, компенсировавшей физические ограничения слабого примата, обитателя саванн. Во многом такой ранний неиерархический взгляд приобретал религиозный характер; не только растения и животные, но также ветер и камни считались живыми. Каждый, однако, рассматривался как одушевлённый элемент целого, где люди участвовали как одни из многих, не выше и не ниже остальных. В идеале такой взгляд был фундаментально эгалитарным и отражал эгалитарную природу сообщества. Если верить материалам анализа синтаксиса индейцев винту, сделанному Дороти Ли, доминирование в любой своей форме отсутствовало даже в языке; так, мать из племени винту не «забирала» своего младенца в тень, она со своим ребёнком «шла» в тень. Миру природы не были присущи никакие иерархии, по крайней мере до тех пор, пока человеческое сообщество не начало становиться иерархическим. Соответственно сам опыт становился всё более иерархичным, отражая расколы, подорвавшие единство раннего органичного человеческого сообщества. Возникновение патриархата, социальных классов, городов и последующего антагонизма между городом и деревней, государства, и, наконец, различий между умственным и физическим трудом, разделивших индивида, изнутри полностью уничтожили этот взгляд.
Сводя все социальные связи к потребительским отношениям и низводя всю производственную активность к «производству ради производства», буржуазное общество довело иерархический подход до абсолютного антагонизма с миром природы. Хотя вполне корректно говорить, что такой подход и различные модели труда, его породившие, также породили и невероятные достижения в технологиях, никуда не исчезает тот факт, что эти достижения были получены доведением конфликта между человечеством и природой до той точки, где природное основание жизни повисает, опасно балансируя, над пропастью. Кроме того, институты, появившиеся при иерархическом обществе, теперь достигли своих исторических пределов. Некогда бывшие социальными факторами, способствовавшими технологическим достижениям, теперь они стали самыми мощными силами, нарушающими экологический баланс. Патриархальная семья, классовая система, город и государство разваливаются в силу своих же собственных условий; мало того, они становятся источниками колоссальной социальной дезинтеграции и конфликтов. Как я уже неоднократно указывал, средства производства стали слишком пугающими, чтобы их можно было использовать как средства доминирования. Уйти должно само доминирование, а с доминированием и историческое наследие, сохраняющее иерархический подход к опыту.
10
Возникновение экологии как социальной темы напоминает нам о том пределе, к которому мы вновь возвращаемся, рассматривая проблемы органического общества, в котором преодолены расколы внутри себя, а также между обществом и природой. Совершенно неслучайно, что в поисках вдохновения контркультура обращается к индийскому и азиатскому взглядам на опыт. Архаические мифы, философии и религии более единообразного, органического мира вновь оживают только потому, что снова живы проблемы, с которыми они сталкиваются. Две конечные цели человеческого развития объединены словом «коммунизм»: первая – технологически сложно устроенная утопия, способная существовать по законам природы и ставить её сознание на службу жизни. Кроме того, эта первая цель осмыслялась в рамках социальной сети строго регулируемого взаимного обмена, основанного на обычаях и беспросветной нужде; вторая цель могла осмысляться в свободном объединении взаимодополняющих отношений, основанных на разуме и желании. Обе эти цели разделены гигантским технологическим развитием, развитием, открывающим возможность преодоления пространства и необходимости.
То, что социалистическое движение совершенно не смогло увидеть смысл возникающих сейчас коммунистических запросов, подтверждается его позицией по отношению к экологии: позицией в том случае, если она не отмечена снисходительной иронией, которая редко возвышается над уровнем мелких разоблачений. В данном случае я говорю об экологии, а не об энвайронментализме. Энвайронментализм занимается удобством обслуживания человеческого ареала, пассивной территории, которую люди используют, говоря кратко, для сбора вещей, называемых «природными ресурсами» и «городскими ресурсами». Сами по себе темы энвайроментализма (защиты окружающей среды) не требуют ума большего, чем нужно для практических видов мышления и методов, используемых городскими планировщиками, инженерами, физиками, юристами – и социалистами. Напротив, экология – это искусная наука или научное искусство, а в наилучшем случае – форма поэзии, совмещающая науку и искусство в уникальном синтезе83. Самое главное, такой взгляд рассматривает все взаимозависимости (как социальные и психологические, так и природные) не иерархически. Экология отвергает рассмотрение природы с позиции иерархии. Более того, она утверждает, что разнообразие и спонтанное развитие являются самодостаточными целями, которые сами по себе заслуживают уважения. Сформулированный в рамках экологии «экосистемный подход» означает, что каждая форма жизни занимает своё уникальное место в природном балансе и её изъятие из экосистемы может подвергнуть опасности стабильность всей системы. Мир природы, предоставленный в основном самому себе, развивается, колонизируя планету, ещё более разнообразными формами жизни и всё более усложнёнными взаимоотношениями между видами в качестве пищевых цепочек и пищевых сетей. В экологии нет «царя зверей»; все формы жизни имеют своё место в биосфере, становящейся всё более и более разнообразной в ходе биологической эволюции. Каждая экосистема должна рассматриваться как уникальная сама по себе целостность разнородных форм жизни. К общему целому принадлежат и люди, но только как одна из частей целого. Они могут вмешиваться в эту целостность, даже попытаться намеренно управлять ею, убеждённые, что делают это ради себя и общества; но если они попробуют «доминировать» над ней, то есть грабить её, они рискуют разрушить её и природные основы общественной жизни.
Диалектическая природа экологического подхода, – подхода, делающего упор на различение, внутреннее развитие и единство в многообразии, – должна быть очевидной для каждого, кто знаком с трудами Гегеля. Даже языки экологии и диалектической философии в значительной степени совпадают. По иронии, сегодня экология ближе к представлению Маркса о науке как диалектике, чем все другие науки (не исключая и его любимую сферу политэкономии). Можно сказать, что экология обладает таким высоким статусом, поскольку предоставляет основу, и социально, и биологически, для уничтожающей критики иерархического общества как целого, в то же время предоставляя и планы для построения жизнеспособной, гармоничной утопии будущего. Ведь именно экология утверждает на научном основании необходимость социальной децентрализации, основанной на новых формах технологии и новых моделях сообщества, мастерски приспособленных к той экосистеме, в которой они располагаются. По сути, вполне справедливо будет сказать, что форму группы единомышленников и даже традиционный идеал всесторонне развитого человека можно рассматривать как экологические концепции. В какой бы области экологический подход ни применялся, он рассматривает единство в многообразии не как совокупность нейтрально сосуществующих элементов, но как комплексную динамическую целостность, стремящуюся гармонично интегрировать свои разнородные части.
Не только глупость мешает социалистическому движению понять экологический подход. Говоря прямо, марксизм больше не способен понять не проявляющее себя коммунистическое ви́дение. В свою очередь, социалистическое движение приобрело и преувеличило наиболее ограничивающие черты работ Маркса, не понимая богатых озарений, в них содержащихся. Modus operandi этого движения составляют не видение Марксом человечества, интегрированного внутренне и с природой, но частные соображения и неопределённости, повредившие его воззрениям, а также латентный инструментализм, исказивший их.
11
История сыграла с нами в свою коварную игру. Вчерашние истины она обратила в сегодняшнюю ложь, не порождая новые опровержения, но создавая новый уровень социальной возможности. Мы начинаем понимать, что существует сфера доминирования, более обширная, чем сфера материальной эксплуатации. Трагедия социалистического движения в том, что завязнув в прошлом, оно прибегает к методам доминирования, стараясь «освободить» нас от материальной эксплуатации.
Мы начинаем понимать, что наиболее развитой формой классового сознания является самосознание. Трагедия социалистического движения в том, что оно противопоставляет классовое сознание самосознанию и отвергает как «индивидуализм» проявление собственной самости – самости, которая может привести к наиболее развитой форме коллективизма, к коллективизму, основанному на самоуправлении.
Мы начинаем понимать, что спонтанность приносит свои собственные освобождённые формы социальной организации. Трагедия социалистического движения в том, что оно противопоставляет организацию спонтанности и пытается свести социальный процесс к политическому и организационному инструментализму.
Мы начинаем понимать, что всеобщий интерес теперь можно будет поддержать после революции, используя технологии постнужды. Трагедия социалистического движения в том, что оно поддерживает узкие интересы пролетариата в противовес возникающему всеобщему интересу доминируемых как целостности – всех доминируемых страт, полов, возрастов и этнических групп.
Мы должны порвать с данностью, с социальным конгломератом, предстающим непосредственно сейчас у нас перед глазами, и попытаться увидеть, что мы стоим где-то посередине процесса, имеющего длительную историю за собой и долгое будущее перед собой. За время, чуть большее, чем полдесятилетия, мы увидели, как масштабно и со скоростью, невообразимой для людей ещё десять лет назад, распадались устоявшиеся истины и ценности. И всё же, вероятно, мы находимся ещё только в начале процесса дезинтеграции, чьи самые значимые эффекты ещё впереди. Это революционная эпоха, колоссальный исторический поток, нарастающий, часто незаметно, в глубочайших впадинах подсознания, чьи цели продолжают расти по мере его развития. Больше чем когда-либо, сейчас мы знаем из жизненного опыта то, что не способны установить тома теории: сознание может поменяться быстро, с такой скоростью, что ослепляет очевидца. В революционную эпоху год или даже несколько месяцев могут принести такие перемены в народном сознании и нравах, для достижения которых в нормальное время потребовались бы десятилетия.
И мы должны знать, чего хотим, чтобы не обращаться к средствам, полностью искажающим наши цели. На повестке общества сегодня стоит коммунизм, а не социалистическая мешанина «стадий» и «переходных периодов», всего-навсего затягивающих нас в мир, который мы стараемся преодолеть. Сегодня на повестке дня стоит неиерархическое общество, самоуправляемое и свободное от всех форм доминирования, а не иерархическая система, обёрнутая в красный флаг. Диалектика, которую мы ищем, – не прометеевская воля, настаивающая на антагонизме «другого», и не пассивность, в покое постигающая феномены. Она не счастье и не умиротворение вечного статус-кво. Жизнь, когда мы готовы принять все запретные опыты, не мешающие выживанию. Желание, как ощущение возможностей человека, возникающих с жизнью, и удовольствие от исполнения таких возможностей. Таким образом, та диалектика, которую мы ищем – это непрестанная, но спокойная трансцендентность, находящая своё самое человечное выражение в искусстве и игре. Наше самоопределение придёт от очеловеченного «другого» из искусства и игры, а не от оскотиненного «другого» из каторжного труда и доминирования.
Мы всегда должны быть в поисках нового, в поисках потенциальных возможностей, созревающих вместе с развитием мира, и новых ви́дений, раскрывающихся с ними. Взгляд на мир, который перестаёт искать новое и перспективное ради «реализма», уже утратил связь с настоящим, поскольку настоящее всегда обусловлено будущим. Истинное развитие кумулятивно, а не последовательно; это рост, а не наследование. Новое всегда воплощает настоящее и прошлое, но делает оно это по-новому и более адекватно, будучи частью большего целого.
Примечания к разделу «Организация»
1 См.: Scott J.C. Two Cheers for Anarchism. P. 127.
2 Cm.: Martin J.J. Men Against the State: The Expositors of Individualist Anarchism in America, 1827–1908. Colorado Springs, Colorado: Ralph Miles Publisher, 1970 (впервые опубл, в 1953 г.); SchusterЕ.М. Native American Anarchism: A Study of Left-Wing American Individualism. New York: AMS Press, 1970 (впервые опубл, в 1932 г.); Reichert W. О. Partisans of American Freedom: A Study of American Anarchism. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Press, 1976.
3 Анархо-капитализм находится «целиком вне мейнстрима анархистских теоретических сочинений или общественных движений», см.: Wieck D. Anarchist Justice // Nomos XIX: Anarchism. P. 215.
4 См.: Ward C. Anarchism. P. 2–3. «Его [Штирнера] образ мышления был, по существу, в высшей степени социалистическим», см.: Nettlau M. A Short History of Anarchism. P. 54.
5 См.: Tucker B.R. Instead of a Book, By a Man Too Busy to Write One: A Fragmentary Exposition of Philosophical Anarchism. 2d ed. New York: B.R. Tucker, 1897. P. 16–18, 361–363.
6 См.: Rexroth K. Communism: From Its Origins to the Twentieth Century. New York: Seabury Press, 1974. P. 171–287.
7 См.: Guarneri C. The Utopian Alternative: Fourierism in Nineteenth Century America. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1991.
8 См.: Nordhoff. C. The Communistic Societies in the United States. New York: Schocken Books, 1971. (впервые опубл, в 1874 г.).
9 См.: Aurich Р. Anarchist Portraits. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1988. P. 55, 76, 83.
10 См.: Woodcock G. Michael Archangel: Encounter with a Doukhobor // Anarchism and Anarchists. P. 252–263 (впервые опубл, в 1963 г.); см. также: Adams M.S. & Kelly L. George Woodcock and the Doukhobors: Peasant Radicalism, Anarchism, and the Canadian State // Intellectual History Review. 28 (3). 2018. P. 399–423.
11 См.: For Ourselves. The Right to Be Greedy: Theses on the Practical Necessity of Demanding Everything. Port Townsend, Washington: Loompanics Unlimited, 1983 (впервые опубл, в 1974 г.). Я не участвовал в группе “For Ourselves”, однако написал предисловие для этого манифеста, впоследствии перепечатанного в кн.: Black В. The Abolition of Work and Other Essays. P. 129–131.
12 См.: Disruptive Elements: The Extremes of French Anarchism. P. 168. Это большая антология фр. анархо-индивидуалистов. Практически ничего из этих текстов не было доступно на англ, языке. Тезис об анархо-индивидуализме как исключительно амер, явлении оказался поставлен под вопрос.
13 См.: Gordon U. Anarchy Alive! Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory. London & Ann Arbor, Michigan: Pluto Press, 2008. P. 39.
14 См.: Skirda A. Facing the Enemy. P. 2–3. «Анархизм ставит индивида превыше всего», см.: Guérin D. Anarchism Reconsidered (1966) ⁄⁄ Documentary History, 2. P. 282.
15 Полностью цитата звучит так: «Мы сказали, что человек это самое индивидуальное из земных существ, – но он является и самым социальным из всех существ» (примеч. перев.), см.: Бакунин М.А. Федерализм, Социализм и Антитеологизм ⁄⁄ Бакунин М.А. Избр. соч. В 5 т. Т. 3. Пг.; М.: Кн-во Союза анархо-синдикалистов «Голос труда», 1920. С. 184 (впервые опубл, в 1867 г.). «Бакунин также, в свою очередь, одновременно и индивидуалист, и сторонник общества», см.: Герен Д. Анархизм: От теории к практике. С. 48. Букчин, как обычно, понял это неправильно: «Бакунин подчёркивал приоритет общества над личностью», см.: Букчин М. Социальный анархизм или анархизм образа жизни? С. 19.
16 См., напр.: Proudhon P.-J. The Principle of Federation / Trans. R. Vernon. Toronto, Canada: University of Toronto Press, 1979 (впервые опубл, в 1863 г.); Berneri С. Kropotkin: His Federalist Ideas. Honley, Yorkshire, England: Simian, 1976 (впервые опубл, в 1922 г.); Goodman P. Notes on Decentralization // Drawing the Line. P. 185–202 (впервые опубл, в 1964 г.); Hunt R. The Natural Society. Oxford, England: E.O.A. Books, 1991.
17 См.: Ванейгем P. Революция повседневной жизни: Трактат об умении жить для молодых поколений ⁄ Пер. с фр. Э. Саттарова. М.: Гилея, 2005 (впервые опубл, в 1967 г.).
18 См.: Tucker В. Instead of a Book. P. 35.
19 Ibid. P. 90–99.
20 См.: McQuinn J. A Moral Sermon on Debt // Modem Slavery. N0. 3. Spring/ Summer 2014. P. 185.
21 См.: Бакунин М.А. Федерализм, Социализм и Антитеологизм. С. 140.
22 Старейшей из таких, не являющихся официально анархистскими, является организация Индустриальные рабочие мира (IWW) или «Уоббли». На своём пике это была «влиятельнейшая из радикальных организаций и радикальнейшая из влиятельных в Соединённых Штатах в начале двадцатого века», см.: Black В. Beautiful Losers: The Historiography of the IWW // Modern Slavery. No. 1. Spring-Summer 2012. P. 105. Но сейчас есть только осколки IWW «…всё ещё пытающиеся, но обычно терпящие неудачу в достижении даже мельчайших перемен. Эти группы обычно представляют собой лишь кучки бредящих надеждами студентов колледжей, идеализирующих миф о «едином большом Профсоюзе», см.: Morefus A. Beyond Utopian Visions // Uncivilized. P. 124.
23 См.: Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy / Trans. E. & C. Paul. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1999. P. 317–329. «Данный феномен верен как в отношении революционных организаций, так и государственных и полугосударственных институтов, официальных партий и профсоюзов», см.: Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism. P. 47.
24 См.: Galleani L. The End of Anarchism? P. 44–45.
25 См.: Skirda A. Facing the Enemy; см. рецензию: McQuinn J. // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 54. Winter 2002–2003. P. 12–13, 51.
26 См.: Broué P. & Témime E. The Revolution and the Civil War in Spain. / Trans. T. White. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1972. P. 207; Seidman M. Workers Against Work. P. 101.
27 См.: Richards V. Lessons of the Spanish Revolution. London: Freedom Press, 1983 (впервые опубл, в 1953 г.); Christie S. We, the Anarchists! A Study of the Iberian Anarchist Federation (FAI), 1957–1957. Hastings, East Sussex, England: The Meltzer Press, 2000. P. 96–118; Seidman M. Workers Against Work. P. 99.
28 См.: Bolloten B. The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution. Chapel Hill, North Carolina: University of North Carolina Press, 1991. P. 1–171; Broué P. & Témime E. The Revolution and the Civil War in Spain. P. 265–315; Seidman M. Workers Against Work. P. 3–171.
29 См.: Federica Montseny Sets the Record Straight // No Gods, No Masters. P. 671–675. Монтсени, член FAI, считалась анархо-«индивидуалисткой»! (см.: Букчин М. Социальный анархизм или анархизм образа жизни? С. 23).
30 См.: Camatte J., Cola G. On Organization // Camatte J. This World We Must Leave and Other Essays / Ed. Alex Trotter. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1995; см. также: McQuinn J. Against Organizationalism: Anarchism as both Theory and Critique of Organization // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 54. Winter 2002–2003. P. 2.
31 См.: Watson D. Homage to Fredy Perlman // Against the Megamachine: Essays on Empire & Its Enemies. Brooklyn, New York: Autonomedia & Detroit, Michigan: Fifth Estate, 1998. P. 244–251 (впервые опубл, в 1990 г.); Cafard М. The Dragon of Brno // Cafard М. The Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. P. 122–131; Black В. An American in Paris, приложение к “Nightmares of Reason” (2010), www.theanarchistlibrary.org.
32 См.: McQuinn J. Preface // Black B. Anarchy after Leftism. P. 7–8.
33 См.: Bookchin M. Social Anarchism or Lifestyle Anarchism.
34 См.: Bookchin M. Listen, Marxist! // Bookchin M. Post-Scarcity Anarchism. P. 171–222 (впервые опубл, в 1969 г.).
35 «Ясно, что целью революции сегодня должно стать освобождение повседневной жизни… революционное движение глубоко озабочено образом жизни», см.: Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism ⁄⁄ Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism. P. 44–45 (впервые опубл, в 1968 г.); см. также: BookchinМ. Hip Culture: Six Essays on Its Revolutionary Potential. New York: Times Change Press, 1970.
36 См.: EImpulso. Resistance or Revolution (1950) // Documentary History, 2. P. 218–223. Слова «резистенциалистский» нет ни в одном языке. Сами авторы согласны с тем, что это слово бессмысленно, и вину за это возлагают на резистенциалистов, ibid. Р. 218.
37 См.: Biehlf. Ecology or Catastrophe: The Life of Murray Bookchin. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 300–301.
38 Ibid., 302.
39 См.: McQuinn J. Preface // Black B. Anarchy after Leftism. P. 8. Значительно позднее, после смерти Букчина в 2006 г., его бывший ученик Джон Кларк в кн. «Преодолевая непреодолимую пропасть: критика Букчиным анархистской традиции» продемонстрировал систематическую фальсификацию Буниным анархистской истории; эта работа доступна на сайте www. theanarchistlibrary.org. Из 55 цитат у Кларка одна относится к моей кн.
40 См.: Black В. Anarchy after Leftism. P. 76–87.
41 См.: Bookchin M. The Communalist Project // Communalism. No. 2. Nov. 2002. Букчин часто злословил в адрес Мишеля Фуко. Но он забыл упомянуть, что именно Фуко, а не он, выдвинул идею о том, что неинституционализированная власть пронизывает все общественные отношения. См., напр.: Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум-Касталь, 1996.
42 См.: Read, Н. Poetry and Anarchism. P. 108.
43 См.: Clark J.D. Bookchin, Murray (b. 1921) // Encyclopedia of the American Left / Ed. M.J. Buhle, P. Buhle & D. Georgakas. New York & London: Garland Publisher, 1990. P. 102.
44 См.: Cafard M. The Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. P. 139–168; см. также: Clark J. Bridging the Unbridgeable Chasm: On Bookchin’s Critique of the Anarchist Tradition (2008), www.theanarchistlibrary.org. Другое описание от бывшего участника культа принадлежит Чаку Морзе, см.: Morse Ch. Being a Bookchinite (2007), www.theanarchistlibrary.org.
45 См.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 602–622.
46 Ibid. P. 694. Хотя Маршалл и упоминает мою «диатрибу» – кн. «Анархия после левизны» (на с. 680), он не смог признать, что повторяет её тезисы. Несмотря на такое отречение, суждения Маршалла остаются слабыми. Он посвящает три страницы (с. 673–676) Ноаму Хомскому, хотя очевидно, что Хомский – не анархист (см.: Black В. Chomsky on the Nod // Defacing the Currency: Selected Writings, 1992–2012. Berkeley: LBC Books, 2012. P. 61–172; Zerzan J. Who Is Chomsky? // Zerzan J. Running on Emptiness. P. 140–143).
47 См.: White S. Social Anarchism, Lifestyle Anarchism, and the Anarchism of Colin Ward // Colin Ward: Life, Times, and Thought / Ed. J. Levy. London: Lawrence & Wishart, 2013. P. 116–133. Изд-во “Lawrence & Wishart” печатало кн. Коммунистической партии Великобритании. Оно предусмотрительно перешло на позиции анархизма и теперь выпускает “Anarchist Studies”, якобы научное изучение анархизма, под редакцией профессора Рут Кинны. Я отказал им в издании моей кн. «Анархизм и права человека».
48 См.: Bookchin М. The Forms of Freedom // Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism. P. 143–155 (впервые опубл, в 1968 г.).
49 См.: Bookchin М. Listen, Marxist! ⁄⁄ Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism. P. 171–220 (впервые опубл, в 1969 г.).
50 См.: Дебор Г. Общество спектакля ⁄ Пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. М.: Логос, 2000. С. 28.
51 См.: Каматт Ж. Странствия человечества. Ч. 1. Пер. Э. Саттарова, https: // avtonom.org/.
52 См.: Там же.
53 См.: Там же.
54 См.: Дебор Г. Общество спектакля. С. 58.
55 См.: Каматт Ж. Странствия человечества. 4.1.
56 См.: Velli М. Manual for Revolutionary Leaders. 2d ed. Detroit, Black & Red, 1972, P. 34 (впервые опубл, в 1972 г.).
57 См.: Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения //Ленин В.И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 6. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1963. С. 40.
58 См.: Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака ⁄ Науч. ред. В. Кузнецов; пер. с фр. Д. Кралечкина. М.: Академический проект, 2007. с. 233.
59 См.: Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? ⁄⁄ Ленин В.И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 34. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1969. С. 307.
60 См.: Дебор Г. Общество спектакля. С. 57.
61 См.: Там же. С. 66.
62 См.: БодрийярЖ. К критике политической экономии знака. С. 238, 241.
63 См.: Там же. С. 249.
64 См.: Bookchin М. Post-Scarcity Anarchism.
65 «Коммунизм» стал означать бесклассовое общество, основанное на максиме «от каждого по его способности и каждому по его потребностям». Отношениями в обществе управляют напрямую «снизу», а средства производства находятся в общественной «собственности». И марксисты, и анархисты (или, по крайней мере, анархо-коммунисты) считают такую форму устройства общества своей общей целью. Разногласия, существующие у них, прежде всего касаются характера и роли организованного революционного движения в революционном процессе и промежуточных «стадий» (большинство марксистов указывают на необходимость централизованной «диктатуры пролетариата», сменяющейся «социалистическим» государством – анархисты такой взгляд категорически отвергают), требующихся для достижения коммунистического общества. В свете этих различий станет очевидно, что я придерживаюсь анархистской позиции.
66 Использование милитаристского, или квазимилитаристского языка – «авангард», «стратегия», «тактика» – означает полное предательство всего этого концепта. Разоблачая студентов как «мелких буржуа» и «дерьмо», «профессиональный революционер» всегда нехотя восхищался и уважал самый негуманный из всех иерархических институтов – вооружённые силы. Сравните это с прирождённой антипатией контркультуры к «солдатским доблестям» и солдафонству.
67 Слово «народ» (le people Великой французской революции) больше не будет якобинской (или, в последнее время – сталинистской и маоистской) фантазией, маскирующей антагонистические классовые интересы внутри народного движения. Это слово будет отражать общие интересы подлинно человеческого движения, всеобщий интерес, выражающий материальные возможности достижения бесклассового общества.
68 Едва ли окажется слишком суровой критика крайнего идиотизма амер, «левых» конца 60-х за их проекты бездумной «политики поляризации», а значит и недальновидного унижения очень многих представителей среднего класса – и да, таки назовём их буржуазными — элементов, готовых внимать и учиться. Не уловив уникальную череду возможностей, открывшихся у них под носом, «левые», попросту растравляя свою вину и неуверенность в себе, пошли по пути политики систематического отдаления от всех реально радикализующихся сил в амер, обществе. Эта безумная политика вкупе с бездумной мимикрией под «третий мир», дегуманизирующим пустословием (полицейские – «свиньи», оппоненты – «фашисты») и тотально дегуманизирующим набором ценностей, лишает их всех претензий на статус «освободительного движения». Студенческая забастовка, последовавшая за убийствами в Кенте, показала и «левым», и студентам не только то, что они слишком хорошо преуспели в поляризации амер, общества, но также и то, что именно они, а не правители страны, оказались в меньшинстве. Красноречивое свидетельство внутренних ресурсов контркультуры состоит в том, что фиаско организации «Студенты за демократическое общество» привело не к образованию значительной марксистско-ленинистской партии, но к заслуженной дезинтеграции их «Движения» и скорбному отступлению назад к более гуманистическим культурным предпосылкам, появившимся в начале 60-х, – к тем гуманистическим предпосылкам, которые «левые» столь жестоко вытаптывали в последние годы того десятилетия.
69 Разумеется, я не верю, что взрослые сегодня «более осведомлённые, более знающие и более опытные», чем молодёжь, в любом смысле, придающем их большему опыту любую революционную значимость. Напротив, большинство взрослых в существующем обществе ментально завалены нелепой ложью, и если они собираются по-настоящему чему-то научиться, им придётся как следует серьёзно разучиться.
70 Это жизненно важный пункт, который следует проиллюстрировать примером. Случись лишь неделей раньше та знаменитая забастовка, произошедшая на заводе “Sud-Aviation” в Нанте 13 мая 1968 г., и возбудившая массовую всеобщую забастовку во Франции в мае-июне, то она бы имела лишь локальное значение и почти наверняка была бы проигнорирована страной в целом. Но она произошла тогда, когда произошла, – и после студенческого бунта забастовка “Sud-Aviation” спровоцировала масштабное социальное движение. Разумеется, трут для этого движения возникал медленно и незаметно. Забастовка “Sud-Aviation” не «создала» это движение; она раскрыла его, и именно этот момент невозможно переоценить. Я хочу сказать, что вооружённое выступление, совершённое, предположительно, меньшинством, – это действие, неосознанно радикальное даже по отношению к себе самому, – демонстрирует тот факт, что оно было действием большинства, которое только таким образом могло проявить себя. Социальный материал для всеобщей забастовки лежит под рукой, и любая забастовка, обыденная при нормальном (и, по всей видимости, неизбежном) развитии событий, способна вызвать забастовку всеобщую. Вследствие неосознанной природы вовлечённых процессов, нет возможности предсказать, когда появится движение такого рода – а оно появится, только когда его оставят развиваться самотёком. Это не значит, что воля не играет активной роли в социальных процессах, но означает только то, что воля одного индивидуального революционера должна стать социальной волей, волей подавляющего большинства в обществе, если ей предназначено достичь кульминации в революции.
71 Вероятно, речь идёт об этих словах: «Мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития», см.: Маркс К. Энгельс Ф. Немецкая идеология ⁄⁄ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1955. С. 25 (примеч. перевё).
72 Молодой Карл Маркс в своей работе «К критике гегелевской философии права» придерживался совсем иного мнения: «Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли» (см.: Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. T. i. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1955. С. 423).
73 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство ⁄⁄ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 2. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1955. С. 40.
74 См.: Там же.
75 Такой факт уже был, бесспорно, засвидетельствован в ходе событий мая-июня во Франции на Марсовом поле, когда 12 мая там собрались студенты и рабочие. Там рабочий за рабочим выходили к микрофону и рассказывали о своей жизни, о своих ценностях и человеческих мечтах, а не только об интересах своего класса. В самом деле, ещё предстоит адекватно исследовать тот предел, до которого расширились вопросы человеческой жизни, проявившиеся во время майско-июньских событий. С другой стороны, именно сталинисты обращались к рабочим как к «пролетариям», озлобленно подчёркивая их «социальные отличия» от «буржуазных студентов».
76 Что подтверждается упадком художественной литературы. Жизнь куда интереснее литературного стиля, не только в общественном плане, но и в качестве личного опыта и автобиографии.
77 Я готов поспорить, что мы пребываем ни в «революционном периоде», ни даже в «предреволюционном периоде», если пользоваться терминологией ленинистов, а, скорее, в революционной эпохе. Под этим термином я подразумеваю продолжительный период социальной дезинтеграции, период, отмеченный именно Просвещением, которое обсуждалось в соответствующих разделах.
78 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология ⁄⁄ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1955. С. 19.
79 См.: Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа ⁄ Пер. с нем. Г.Г. Шпета. М.: Наука, 20ОО. С.103.
80 Можно увидеть это в вызывающей беспокойство концепции Маркса о практике, а именно, о материальной «нужде», расширяющейся практически безгранично. Также это ясно видно в толкованиях марксистских теоретиков, чьи представления о бесконечной, сознательной, властной практике достигают почти что дионисийских пропорций.
81 «Нужда» здесь употребляется в значении как физического, так и материального проявления эготизма. Действительно, доминированию не обязательно быть эксплуататорским лишь в материальном смысле, только в смысле присвоения прибавочного труда. Физическая эксплуатация, в особенности детей и женщин, весьма вероятно, предшествовала материальной эксплуатации и даже установила свою структуру в культуре и отношениях. И пока эксплуатация такого рода не выкорчевана полностью, человечество не сможет стать более человечным.
82 Музыка является самым поразительным примером, когда искусство может существовать само для себя и даже сочетаться с игрой для себя самой. Состязательные виды спорта, с другой стороны, представляют собой деградировавшие до рыночных отношений формы игры, в особенности в своём безумном стремлении обойти по очкам соперников и в эгоцентричных антагонизмах, столь часто вызываемых играми. Читатель должен отметить, что внутри искусства и игры существует диалектика, поэтому я использую слова «истинное искусство» и «аутентичная игра», т. е. искусство и игра, замыкающиеся на самих себе.
83 «Искусство» здесь употребляется в том смысле, что экология требует непрерывной импровизации. Это требование проистекает из вариативности предмета её рассмотрения – экосистемы: живого сообщества и окружающей его среды, образующих базовый элемент экологического исследования. Ни одна экосистема полностью не копирует другую, и экологам приходится в своих исследованиях постоянно принимать в расчёт уникальность каждой экосистемы. Хотя и делается регрессивная попытка низвести экологию до уровня чуть большего, чем системный анализ, сам предмет рассмотрения постоянно встаёт им на пути, и нередко случается так, что самые прозаичные авторы вынуждены прибегать к самым поэтичным метафорам, чтобы работать со своим материалом.
IV. Левизна
В анархистской среде отношение к левой идеологии было двояким. Один подход, одобрявшийся Кропоткиным и даже Бенджамином Такером, состоит в том, что анархизм рассматривается как левое крыло социализма1. Второй же утверждает, что анархизм отличен от социализма2. Данный взгляд – что анархизм не является социализмом, а левая политика не революционна – я сам разделяю с тех пор, как стал анархистом3. Это не какая-то новая ересь декадентствующих анархистов. Этот подход появился ещё 1840-х годах во Франции4. В 1966 году два академических учёных – составителей антологии анархизма – услужливо написали, что «нам сослужит хорошую услугу, если мы поскорее откажемся от мнения, будто анархизм – это только аванпосты на передовых рубежах социализма»5. Нет особой необходимости давать здесь определение левой идеологии. Левизна – это не столько болезнь, сколько совокупность симптомов. К левым относят в основном по самоопределению6. Они разделяют, в той или иной степени и сочетаниях, такие черты, как стремление к организации, возвеличивание рабочего класса, феминизм, технофилия, морализм, авторитаризм и фанатизм. Двадцать лет назад я полагал, что анархо-левизна находится в упадке, по крайней мере, в Соединённых Штатах. Однако теперь мне приходится согласиться с высказыванием: «То, что выглядит как анархистская политическая сцена в США, остаётся под властью левой идеологии, старающейся свести бунтарскую неуправляемость и разнообразие анархических идей и практик до всего лишь придатка к поклонению демократии, политике идентичности и другим формам социального группового мышления»7. Тем не менее здесь прав Джон Зерзан: «Сегодня оппозиция или анархистская, или несуществующая. Таково самое минимальное обоснование в борьбе против всепоглощающей тотальности»8.
Одной из тем, где анархо-левизна предаёт свои анархистские обещания, является вопрос насилия. Насилие – это не определение и не характерная черта анархизма. Оно никогда не было превалирующей формой анархистского действия. В некоторые эпохи и в некоторых регионах не было или почти не было насильственных действий со стороны анархистов. Но отрицать историю смысла ещё меньше, чем превозносить её. Иногда она бывала славной. Это признаёт большинство левых. Но чем дальше от них это насилие отстоит в пространстве и во времени, тем для них лучше. Если же оно оказывается слишком близко к ним, то они, присоединяясь к политикам и журналистам, называют его «терроризмом»9. Левые доходят до того, что даже обвиняют анархистский «Чёрный блок» в полицейском насилии против левых митингов и маршей10. Они боятся за своё право белого среднего класса на вежливое несогласие11. Левый – это социал-реформист или социал-революци-онер, сознательно или несознательно желающий получить работу в органах власти. Также: «Марксизм – это профессор, желающий управлять; тем самым он является законнорождённым отпрыском Карла Маркса»12.
Многие другие тексты, вошедшие в эту книгу, критикуют различные аспекты левизны. В этом же разделе помещены те, которые обращаются к левым напрямую.
Содержание раздела «Левизна»
Лоуренс Джэрак. Левизна: Вводный курс (пер. с англ. В. Садовского 110: Jarach L. Leftism 101 ⁄⁄ Uncivilized: The Best of Green Anarchy. [Eugene, Oregon]: Green Anarchy Press, 2012. P 92–9913).
Вольфи Ландштрайхер. От политики к жизни: Освобождая анархию от левацкого бремени (пер. с англ. В. Садовского по: Landstreicher W. From Politics to Life: Ridding Anarchy of the Leftist Millstone // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 54. Winter 2002–2003. P. 47–51).
Джон Зерзан. Левые? Спасибо, но нет! (пер. с англ. В. Садовского по: Zerzan J. The Left? No Thanks! // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 67. Spring – Summer 2009. P. 65–66).
Левизна: Вводный курс
Лоуренс Джэрак
Что такое левизна?
Для большинства это означает некую форму социализма, несмотря на тот факт, что есть множество левых, вовсе не оппонирующих капитализму (так же как и не все социалисты – противники капитализма, что ясно видно из реальной истории социализма). На этот счёт можно привести ещё множество аргументов, но давайте постараемся не усложнять, и допустим, что эти два термина являются синонимами. Однако, как это бывает с большинством самых туманных терминов, проще дать список их характеристик, чем определение. Левизна заключает в себе множество разнородных идей, стратегий и тактик; существуют ли в таком случае общие тенденции, объединяющие всех левых, несмотря некоторые очевидные различия? Чтобы приступить к поискам ответа на этот вопрос, необходимо исследовать философские корни того, что в широком смысле можно назвать социализмом.
Либерализм, Гуманизм и Республиканизм – это политические и философские учения, происходящие из европейской традиции Нового времени (появившейся примерно в период Возрождения). Не удаляясь в детали, следует отметить, что приверженцы этих трёх учений (в особенности либерализма) предполагают существование идеального индивида, мужчины, владеющего собственностью, целиком рационального (или, по крайней мере, потенциально рационального) в своих поступках. Этот идеализированный индивид противостоит властному произволу экономической и политической систем монархизма и феодализма, а равно и духовной власти Католической Церкви. Все три эти учения (ЛГР) предполагают способность каждого человека (мужчины) посредством образования и упорного труда преуспеть на свободном рынке (товаров и идей). Конкуренция превалирует в этосе всех трёх учений.
Сторонники ЛГР настаивают, что эти философии нового времени – в сравнении с монархизмом, элитизмом и феодализмом – являются достижениями на пути к свободе человека. Они верят, что достижению того, что они называют «Высшим благом», скорее поспособствует следование и распространение философии, которая по крайней мере предлагает каждому возможность хоть как-то управлять свей жизнью в таких областях, как образование, экономическое процветание или политические взаимодействия. Конечными целями ЛГР является устранение экономической нужды и интеллектуальной ⁄духовной нищеты посредством распространения идеи более демократического правления. Всё это они продвигают под вывеской Справедливости, а Государство рассматривают как её абсолютного гаранта.
Эти три философии оказали существенное влияние на социализм как современное движение. Подобно приверженцам ЛГР, левые озабочены экономической и социальной несправедливостью и противостоят ей. Все они предлагают смягчение социальных зол посредством активного вмешательства или благотворительности, будь они под покровительством государства, НГО или иных официальных организаций. Совсем немногие из предлагаемых решений или временных мер предлагают (или даже допускают) самоорганизацию тех, кто напрямую страдает от этих зол. Повышение благосостояния, программы позитивной дискриминации, психиатрические лечебницы, услуги по реабилитации наркоманов и т. д. – всё это примеры всевозможных попыток что-то сделать с социальными проблемами. Учитывая предпосылки этих накладывающихся друг на друга философий и их практические системы взглядов, эти меры создают видимость, что являются результатами разума и знаний, соединёнными с эмпатией и желанием помочь людям. Сотрудничество ради Высшего блага выглядит более благотворным для человечества, нежели индивидуальное соперничество. Однако социализм также принимает существование конкуренции как должное. И либералы, и социалисты верят, что люди по природе не могут ладить друг с другом, и поэтому им необходимо дать образование и побуждать к сотрудничеству. Когда же все такие попытки терпят крах, Государство всегда может навязать это силой.
Умеренные, радикальные и крайне левые взгляды
Тактики и стратегии
Несмотря на то что существует множество наложений и смешений, препятствующих появлению настоящих дискретных границ, я надеюсь, что описание этих различных проявлений левой идеологии будет способом выявить её определённые характерные черты.
В вопросах стратегии и тактики умеренные левые полагают, что положение может быть улучшено работой внутри существующих структур и институтов. Будучи явными реформистами, умеренные левые способствуют легальным, ненасильственным и осторожным поверхностным переменам статус-кво, в конечном счёте, надеясь на установление социализма законодательным путём. Та демократия, которую они так отстаивают, является буржуазной: один человек, один голос, правление большинства.
Радикальные левые ратуют за смешение легальных и нелегальных тактик, в зависимости от того, что в текущий момент имеет большие шансы на успех, но, в конечном счёте, они хотят официального утверждения некоторых должным образом оформленных правовых институтов (в особенности когда им нужно придать большинству правил законную силу). Они прагматичны, надеются на мирные перемены, но готовы сражаться, если считают это необходимым. Отстаиваемая ими демократия более пролетарская: их не заботят процессы любых выборов, лишь бы в выигрыше не оказывались боссы и мейнстримные политики.
Крайние левые – это аморальные прагматики, их стратегическая ориентация может быть также названа оппортунистической. Они категорически грубы, откровенно желают разрушения существующих институтов (часто включая в их число и Государство) и хотят переделать их так, чтобы самим писать законы и принуждать к их выполнению. Куда больше чем остальные они готовы прибегать к силе для осуществления своих целей. Демократия, которую они отстаивают, как правило, основана на принципе Партии.
Отношение к капиталистам
Все левые признают за рабочим привилегированный статус как за рабочим-производителем, то есть в рамках категории, существующей лишь в сфере экономики. Умеренные левые выступают за права рабочих (на забастовки, на охрану и безопасность своего труда, на честные и справедливые контракты), пытаясь смягчить наиболее явные злоупотребления начальства при помощи реформ и внедрения прогрессивного законодательства. Они хотят, чтобы капитализм был организован по принципу «люди превыше доходов» (как гласит этот затасканный лозунг), игнорируя внутреннюю логику и историю капитализма. Умеренные левые агитируют за социально ответственное инвестирование и желают более справедливого распределения богатств; общественного благосостояния в форме столь настойчиво навязываемой «страховочной сетки»[14] и личного благосостояния в форме более высоких зарплат и повышенного налогообложения корпораций и богачей. Они хотят уравновесить права собственности и труда.
Радикальные левые поддерживают рабочих за счёт их боссов. По мнению леворадикала, рабочие всегда правы. Они стремятся поменять правовые структуры так, чтобы они отражали этот фаворитизм, что, как предполагается, способно компенсировать предыдущую историю эксплуатации. Перераспределение состояний в представлении радикальных левых основано на более высоких зарплатах и увеличении налогообложения корпораций и богачей, которое должно будет включать в себя и избирательную экспроприацию/национализацию (с компенсацией или без неё) различных ресурсов (к примеру, банков и полезных ископаемых).
Крайние левые предлагают тотальную экспроприацию – без компенсаций – класса капиталистов, не только ради исправления зол экономической эксплуатации, но также с целью отстранить капиталистов как класс от политической власти. В какой-то момент рабочие будут как минимум номинально руководить принятием экономических и политических решений (хотя обычно при посредничестве вождей Партии).
Роль Государства
Во взглядах левых государство предстаёт как непрерывная неопределённость. Большинству ясно, что роль государства состоит в содействии целям любого класса, который правит в тот или иной период; более того, все они признают, что правящий класс всегда оставляет за собой право на монополию на законное использование силы и насилия для упрочнения своего правления. В политических фантазиях всех умеренных и некоторых радикальных левых Государство (даже при абсолютно капиталистическом правящем классе) может быть использовано для исправления многих социальных проблем, начиная от произвола транснациональных корпораций до злоупотреблений тех, кто традиционно подвергался дискриминации (иммигранты, женщины, меньшинства, бездомные и т. д.). По мнению же крайних левых, только их собственное Государство способно решить эти проблемы, поскольку в интересах нынешнего правящего класса поддерживать разделение между теми, кто к нему не принадлежит. Несмотря на такую неопределённость, у них остаётся привязанность к функциям власти, исполняемым Государством. Это и есть главнейшее место конфликта между всеми левыми и всеми анархистами, несмотря на то, что исторически анархизм помещают внутри левого спектра – о чём ещё будет сказано ниже.
Роль индивидуума
Во всех этих разновидностях левой идеологии недостаёт дискуссии о индивидууме. И хотя ЛГР вкратце его упоминает, эти философии не принимают во внимание не обладающих собственностью мужчин, женщин и детей – они, по сути, сами считаются собственностью нормативного индивидуума: взрослого мужчины-собственника. Следствием этого стало полное отсутствие интереса к крестьянам и рабочим (а также к их эксплуатации), – игнорирование, которое предположительно должен был бы исправить социализм. К сожалению, практически все социалисты лишь постулируют категорию Рабочего и Крестьянина как коллективных классов – массы, которая должна быть сформирована и направляема, – никогда не учитывая желания и интересы отдельного рабочего или крестьянина (мужчины или женщины) распоряжаться своей собственной жизнью. Согласно идеологическим императивам левого мышления, самостоятельная деятельность этих масс воспринимается с подозрением в силу своего зашоренного идеологического подхода к конкурентному духу капитализма (поскольку массы ещё недостаточно сознательны, чтобы быть социалистами); возможно, рабочие и смогут организоваться в защитные профсоюзы с целью сохранить свои зарплаты, а вот крестьяне захотят лишь владеть своими собственными наделами земли и их возделывать. Получается, что для этих масс опять же необходимы образование и внедрение кооперации, чтобы они стали сознательными политическими радикалами.
Общая левая идеология?
Итак, все левые разделяют задачи исправления несправедливости путём постановлений, откуда бы эти постановления ни исходили, – от лучших или более ответственных представителей и вождей, из более демократичного политического процесса, из уничтожения всякой политической значимости сил вне рабочего класса. Все они хотят организовать, мобилизовать и направить народные массы, с конечной целью заполучить более или менее сплочённое большинство, чтобы стимулировать прогрессивные и демократические изменения общественных институтов. Вербовка, образование и насаждение левых ценностей – вот некоторые из самых рутинных стратегий, которые левые используют для повышения своего влияния на более широком политическом ландшафте.
Все левые разделяют общее недоверие к обычным (не-политическим/неполитизированным) людям, способным самостоятельно выбирать способы разрешения проблем, с которыми они сталкиваются. Все левые свято верят в руководство. Это не просто вера в конкретных вождей, представляющихся обладателями неких более высоких моральных или этических добродетелей, чем обычные люди, но в сам принцип руководства. Такая уверенность в руководстве никогда не ставит под сомнение политику представительства. Аксиомой является существование избранных или назначенных руководителей, говорящих и действующих от имени (или вместо) отдельных личностей и групп, посредничество в политической сфере воспринимается как необходимость, что означает удаление людей и групп от принятия большинства решений. Левые разделяют такую приверженность руководству и представительству – они полагают себя способными честно представлять тех, кто традиционно исключался из участия в политике: лишённых привилегий, безголосых, слабых.
Левый активист, будучи представителем тех, кто страдает, – это человек, верящий, что она/он необходим для улучшения жизней других. Это проистекает из двойного тезиса, общего для всех левых:
1. Далёкие от политики люди, предоставленные своим собственным мыслям, никогда не смогут радикально или революционно изменить своё положение (здесь приходит на ум игнорирование Лениным рабочих как не способных перешагнуть через «профсоюзную ментальность» без некоторой помощи от профессионалов извне);
2. Люди, обладающие более высоким интеллектом или способностью анализировать, являются достаточно умудрёнными и нравственными для того, чтобы возглавлять (как своим собственным примером, так и посредством приказов) и организовывать других ради их же блага и, что, вероятно, ещё важнее, ради всеобщего блага.
Открыто не высказываемой, но подразумеваемой темой, пронизывающей это краткое определение левой философии, является доверие к авторитарным связям, как взятым на себя, так и к навязанным, жёстко напористым или мягко рациональным. Существование экономики (обмена товарами на рынке) предполагает наличие одного или нескольких институтов для посредничества между теми, кто производит, теми, кто владеет, и теми, кто потребляет; существование представительского политического процесса подразумевает наличие одного или нескольких институтов для посредничества в спорах между различными партиями, основанными на общих интересах (часто с конфликтующими целями); существование руководства предполагает наличие существенных различий в эмоциональных и интеллектуальных способностях тех, кто направляет, и тех, кто следует за ними. Есть множество эффективных и целесообразных усовершенствований, способствующих поддержанию таких институтов социального контроля (школы, тюрьмы, вооружённые силы, рабочее место), но, в конечном счёте, все эти институты полагаются на легитимное (санкционированное Государством) использование власти принуждать к выполнению решений. Левые разделяют веру в способность мудрых и высоконравственных вождей примирять, работая в рамках политически нейтральных социально-прогрессивных и гуманных институтов. Но совершенно иерархическая и авторитарная природа левых должна быть очевидна даже при беглом взгляде.
Все ли формы анархизма – левые?
Общим для всех анархистов является стремление ликвидировать власть; таково само определение анархизма. Начиная с Бакунина, анархизм носил ярко выраженный антигосударственный, антикапиталистический и антиавторитарный характер; ни один серьёзный анархист не ставит это под сомнение. Левые же последовательно поддерживали и распространяли функции Государства, у них неоднозначное отношение к капиталистическому развитию и все они заинтересованы в поддержании иерархических отношений. Вдобавок, исторически они либо молчаливо игнорировали, либо активно подавляли стремления личностей и групп к автономии и самоорганизации, ещё больше разрушая любую доверительную солидарность между собой и анархистами. В таком случае, на уровне определения должно проводиться автоматическое различие между левыми и анархистами, вне зависимости от того, как их отношения складывались в истории.
Несмотря на эти различия, многие анархисты рассматривали себя как левых экстремистов – и продолжают так считать – поскольку во многом разделяют одну и ту же аналитику и интересы (к примеру, неприязнь к капитализму и требование революции), что и левые; многие революционные левые также считали анархистов своими (наивными) товарищами – за исключением моментов, когда левые добивались какой-либо власти – тогда анархистов либо кооптировали, либо сажали в тюрьмы или казнили. Вероятность того, что левый экстремист будет и антигосударственником, может быть высокой, но это совсем не гарантировано, что показывает любой анализ исторических событий.
Левые анархисты сохранили некоторую привязанность к ЛГР- и социалистическим философам XIX века, предпочитая широкое, обобщённое (а следовательно, и крайне смутное) понимание категории социализм/антикапитализм, и придерживались стратегии массовой политической борьбы, основанной на коалициях с другими левыми, всё это время практически не интересуясь (если интересуясь вообще) поддержкой индивидуальной и групповой автономии. С такими предпосылками они довольно легко подпадают под влияние централистских тенденций и действий руководства, доминирующих в тактике левых. Они быстро находят цитаты из Бакунина (а также из Кропоткина) и защищают те организационные формы, которые считались подходящими в эру Первого Интернационала, явно не заметив стремительных изменений, произошедших в мире за последние сто с лишним лет, – при этом они ещё имеют наглость высмеивать марксистов за их преданность устаревшим теориям Маркса, как будто умалчивая о своих собственных пристрастиях в отношении других покойников, они оказываются гарантированы от подобных ошибок.
Однако недостатки и проблемы марксизма, – например, то, что он поддерживает идею линейной прогрессии в истории: порядка, появляющегося из хаоса, свободы, развивающейся из угнетения, материального изобилия – из недостатка, социализма – из капитализма плюс абсолютная вера в Науку как идеологически нейтральное занятие чистого Разума и сходная с ней вера в освободительную функцию всех технологий – это те же недостатки и проблемы, что и у анархизма Бакунина и Кропоткина. Похоже, что ничего из этого левые анархисты так и не поняли. Они не задумываясь продолжают продвигать анархизм вековой давности, явно не зная или игнорируя то, что провалы левой политики в философии и на практике – в том, как она рассматривает личность, природный мир, подходящие способы сопротивления продолжающемуся господству гибкого, адаптирующегося и расширяющегося капитализма – свойственны и этой архаичной форме анархизма.
Тем из нас, кто заинтересован в наращивании радикальных социальных перемен в целом и анархии в частности, нужно копировать и развивать успешные (хотя и временные) революционные проекты освобождения, вместо того чтобы гордиться своим статусом наследников Бакунина (и прочих). Лучше всего это у нас получится, если мы освободимся от исторического багажа, а также от идеологического и стратегического давления всех разновидностей левизны.
От политики к жизни. Освобождая анархию от левацкого бремени
Вольфи Ландштрайхер
С того момента, как анархизм оформился в отдельное радикальное движение, его ассоциировали с левыми, но такое отождествление всегда было натянутым. Левые, находившиеся во власти (включая и тех, кто называл себя анархистами, как, например, лидеры CNT и FAI в Испании в 1936–1937 годах), считали, что стремление анархистов к тотальной трансформации жизни и исходящий отсюда принцип заложенности целей в средствах борьбы являются помехой для их политических программ. Настоящее восстание всегда выходит далеко за пределы любой политической программы, и самые последовательные анархисты ожидали реализации своих мечтаний именно в этой грядущей неизвестности. Однако раз за разом, когда пожары восстаний остывали (а иногда даже, как в Испании 1936–1937 годов, когда они всё ещё ярко пылали), ведущие анархисты снова занимали свои места в качестве «совести левых». Но если несдержанность анархистских мечтаний и тех принципов, на которых они настаивали, были помехами для политических схем левых, то сами эти схемы были куда большим бременем на шее анархистского движения, пригибая его своим весом «реализма», не способного мечтать.
Для левых социальная борьба против эксплуатации и угнетения по своей сути – политическая программа, которую следует реализовать любыми наиболее целесообразными средствами. Эта концепция, разумеется, требует политической методологии борьбы, а такая методология обречена на противостояние некоторым основным принципам анархизма. Прежде всего, политика, как отдельная категория общественного бытия, есть отделение решений, определяющих наши жизни, от исполнения этих решений. Такое разделение заложено в институтах, принимающих и навязывающих эти решения. Не столь важно, насколько демократичны или согласованы эти институты; разделение и институционализация, присущие политике, всегда прибегают к жульничеству лишь потому, что им требуется, чтобы решения были приняты ещё до того, как возникнут обстоятельства, их порождающие. Поэтому необходимо, чтобы решения приняли форму всеобщих правил, которым всегда нужно следовать в определённых ситуациях, невзирая на специфические обстоятельства. Здесь-то и кроются семена идеологического мышления – когда идеи повелевают деятельностью людей, вместо того чтобы служить им в разработке их собственных проектов – но к этому я перейду позже. С анархистской перспективы столь же важен и тот факт, что власть заключается в этом принятии решений и навязывании институтов. А левая концепция социальной борьбы именно навязывает, завоёвывает или творит альтернативные версии таких институтов. Другими словами, это борьба за перемену, а не за уничтожение институционализированных отношений власти.
Этой концепции борьбы с её программным основанием требуется организация как средство осуществления самой борьбы. Организация представляет борьбу, поскольку является конкретным выражением своей программы. И если занятые в ней люди считают эту программу революционной и анархистской, то организация для них представляет собой революцию и анархию, а сила организации приравнивается к силе революционной и анархистской борьбы. Очевидный пример такого подхода можно найти в Испанской революции, где верхушка CNT, вдохновив рабочих и крестьян Каталонии экспроприировать средства производства (а также оружие, с которым они создали свои свободные ополчения), не распустила свою организацию и не позволила рабочим на своих собственных условиях пересоздавать общественную жизнь, но вместо этого взяла на себя управление производством. Эта подмена рабочего самоуправления профсоюзным управлением дала результаты, которые теперь может изучать любой человек, желающий взглянуть на те события критически. Отделённая от людей, её осуществляющих, и переданная в руки организации, борьба против правящего порядка перестаёт быть самостоятельным проектом этих людей и вместо этого становится внешним делом, к которому они примкнули. Поскольку само дело приравнивается к организации, то основной деятельностью приверженцев этого дела становится поддержание и расширение организации.
В реальности левая организация – это средство, с помощью которого левые намерены трансформировать институционализированные отношения власти. Неважно, делается это путём обращения к текущим правителям и использованием демократических прав, путём завоевания государственной власти на выборах или насилием, путём организованной экспроприации средств производства или же сочетанием всех этих методов. Чтобы это осуществить, организация пытается превратить себя в альтернативную власть или контрвласть. Вот почему она должна принять текущую идеологию власти, например, демократию. Демократия – это такая система отделённого и институционализированного принятия решений, которой требуется создание общественного консенсуса для предложенных программ. Хотя власть всегда зиждется на применении силы, в демократических рамках такое применение оправдывается согласием, которого можно достичь. Вот почему левым необходимо завоевать как можно большее число сторонников, как можно больше засчитанных голосов в поддержку своих программ. Таким образом, будучи приверженцами демократии, левые должны принять иллюзию количества.
Попытка завоевать сторонников требует обращения к самому минимальному общему знаменателю. И вместо жизненно необходимых теоретических исследований левые разрабатывают набор упрощённых доктрин, сквозь призму которых нужно смотреть на мир, и литанию о моральных прегрешениях нынешних правителей, которая, как надеются левые, найдёт отклик в массах. Любые вопросы или изыскания за пределами этой идеологической схемы горячо осуждаются или рассматриваются с недоумением. Неспособность к серьёзному теоретическому исследованию – вот цена принятия иллюзии количества, согласно которой число приверженцев, независимо от их пассивности и невежественности, а не качество и соответствие идей и практики, считается отражением силы движения.
Политическая необходимость обращения к «массам» также заставляет левых прибегать к методу лишь постепенных и частичных требований к существующим властям. Этот метод, разумеется, вполне согласуется с проектом трансформирования отношений власти именно потому, что он не бросает вызов самим основаниям этих отношений. По сути, выдвигая требования к власть имущим, он подразумевает, что простой (хотя возможна и экстремальная) корректировки существующих взаимоотношений достаточно для реализации левой программы. При этом методе не ставится под вопрос сам правящий порядок, потому что это будет угрожать политической схеме левых.
В этом постепенном пошаговом подходе к переменам и состоит доктрина прогрессивизма (действительно, именно «прогрессивный» – это один из наиболее популярных ярлыков среди сегодняшних левых и либералов, которые предпочли бы забыть другие запятнанные слова»). Прогрессивизм – идея о том, что существующий порядок вещей является результатом текущего (хотя, возможно, и «диалектического») процесса совершенствования, и если мы приложим усилия (путём голосования, петиции, судебного процесса, гражданского неповиновения, политического насилия или даже захвата власти – всего, кроме её разрушения), то сможем продвинуть этот процесс ещё дальше. Понятия прогресса и постепенного частичного подхода, являющегося его практическим применением, указывают на ещё один количественный аспект левой концепции общественной трансформации. Такая трансформация – это всего лишь вопрос степени, чьей-то позиции на текущей траектории. Верная степень корректировки приведёт нас «туда» (где бы оно ни было). Реформа и революция – это просто различные уровни одной и той же активности. Таковы абсурдности левачества, которое по-прежнему не видит очевидного свидетельства того, что единственная траектория, на которой мы находимся, по меньшей мере, с подъёма капитализма и индустриализации, – это всё увеличивающееся обнищание существования, которое не может быть устранено реформами.
Постепенный подход и политическая необходимость в категоризации также приводят левых к оценке людей с позиции их членства в различных угнетаемых и эксплуатируемых группах, таких как «рабочие», «женщины», «цветные», «геи и лесбиянки» и т. д. Такая категоризация лежит в основе политики идентичностей. Политика идентичностей – это определённая форма ложного противопоставления, при которой угнетённые предпочитают отождествлять себя с конкретной социальной категорией, вследствие чего их угнетение возрастает, как и предполагаемые акты сопротивления угнетению. На деле же продолжающееся отождествление с такой социальной ролью лишь ограничивает возможность тех, кто практикует политику идентичностей, глубоко анализировать своё положение в этом обществе и индивидуально противостоять угнетению. Что тем самым гарантирует продолжение тех социальных отношений, которые и вызывают их угнетение. Но только в качестве членов категорий эти люди подобно пешкам могут быть полезны левым в их политических манёврах, так как их социальные категории принимают на себя роли групп лоббирования и центров силы в рамках демократического устройства.
Политическая логика левых с её организационными требованиями, принятием демократии, иллюзией количества и оцениванием людей лишь как членов социальных категорий – по существу коллективистская, подавляющая человека как такового. Это выражается в призыве к людям пожертвовать собой во имя различных целей, программ и организаций левых. За этими призывами обнаруживаются манипулятивные идеологии коллективной идентичности, коллективной ответственности и коллективной вины. Те, кто определяются как принадлежащие к «привилегированной» группе, – «натуралы», «белые», «мужчины», «жители страны первого мира», «средний класс» – оказываются ответственными за всё угнетение, приписываемое данной группе. Тогда манипуляциями они принуждаются к искуплению этих «преступлений», к безоговорочной поддержке движений тех, кто более угнетён, чем они. Определённые же как члены угнетённой группы манипуляциями принуждаются к принятию коллективной идентичности этой группы во имя обязательной «солидарности» – сестринства, чёрного национализма, квир-идентичности и т. д. Если же они отвергают или даже лишь глубоко и радикально критикуют такую групповую идентичность, то это приравнивается к одобрению ими своего угнетения. По сути, человек, действующий сам по себе (или лишь вместе с теми, к кому он чувствует настоящую привязанность) против своего угнетения и эксплуатации, с которыми он сталкивается в жизни, оказывается обвинённым в «буржуазном индивидуализме», несмотря на тот факт, что он (или она) борется именно против отчуждения, разделения и атомизации – непременного результата коллективно отчуждённой социальной активности, которой государство и капитал – так называемое «буржуазное общество» – нас облагают.
Поскольку левизна представляет собой активное восприятие социальной борьбы как политической программы, она идеологична сверху донизу Борьба левых не вырастает из желаний, потребностей и мечтаний живых – эксплуатируемых, подавляемых, угнетённых и обездоленных этим обществом личностей. Это не деятельность людей, старающихся вернуть себе свои собственные жизни и ищущих пригодные для этого средства. Скорее, это программа, сформулированная в головах левых лидеров или на организационных собраниях, ставящаяся превыше индивидуальной борьбы людей, которые обязаны подчинить себя ей. Каким бы ни был лозунг этой программы – социализм, коммунизм, анархизм, сестринство, народ Африки, права животных, освобождение Земли, примитивизм, самоуправление рабочих и т. д. и т. п. – он не даёт людям средства, которое они могли бы использовать в своих индивидуальных сопротивлениях господству, а только требует от личности поменять господство правящего порядка на господство левой программы. Другими словами, он требует, чтобы люди продолжали отказываться от возможности самим определять собственное бытие.
В лучшем случае анархистское стремление всегда заключалось в тотальной трансформации бытия, основанной на возвращении жизни всем и каждому, действующим в свободных союзах вместе с другими, добровольно это выбравшими. Такое ви́дение можно найти в самых поэтичных сочинениях практически каждого знаменитого анархиста, и именно это сделало анархизм «совестью левых». Но какой смысл быть совестью движения, которое не разделяет и не может разделять просторы и глубины чьих-то мечтаний, если кто-то пожелает воплотить их в жизнь? В историческом плане чем ближе к левым были в своих перспективах и практиках анархистские движения, такие как анархо-синдикализм и платформизм, тем меньше в них было мечты и больше программы. Теперь, когда левые перестали быть значимой силой, хоть сколько-нибудь отличающейся от остального политического спектра, по крайней мере, в западной части мира, определённо нет никакой причины продолжать тащить это бремя на наших шеях. Осуществление мечтаний анархистов, мечтаний каждого человека, всё ещё способного независимо мечтать и желающего быть автономным творцом своего собственного бытия, требует сознательного и неукоснительного разрыва с левыми. Как минимум, этот разрыв будет означать:
1. Отказ от политического восприятия социальной борьбы; признание того факта, что революционная борьба – это не программа, а борьба за индивидуальное и социальное возвращение всей полноты жизни. Как таковая эта борьба изначально антиполитическая. Другими словами, она противостоит любым формам социальной организации – и любому методу борьбы – при которых решения о том, как жить и бороться, отделены от исполнения этих решений, неважно, каким бы демократическим и с каким бы широким участием ни был этот отделённый процесс принятия решений.
2. Отказ от принципа организации, означающий отказ от идеи, согласно которой любая организация может представлять эксплуатируемых индивидов или группы, социальную борьбу, революцию или анархию. Отсюда также и отказ от всех формальных организаций – партий, профсоюзов, федераций и тому подобного, – которые в силу своей программной природы берут на себя представительскую роль. Это означает не отказ от возможности организовывать конкретные действия, необходимые для революционной борьбы, но, скорее, отказ от подчинения организации задач и проектов формализму организационной программы. Единственной задачей, которая когда-либо требовала формальной организации, является разработка и поддержание формальной организации.
3. Отказ от демократии и иллюзии количества. Отказ от той точки зрения, согласно которой силу борьбы определяет количество приверженцев некоего дела, идеи или программы, а не качественная ценность практики борьбы, такой как атаки на институты доминирования и как возвращение себе права распоряжаться собственной жизнью. Отказ от любой институционализации или формализации принятия решений, даже от самого понятия принятия решений как момента, отделённого от жизни и практики. Также отказ и от методов евангельского проповедничества, нацеленного на завоевание масс. Этот метод предполагает, что теоретические изыскания закончены, что уже есть решение, которое мы все обязаны поддержать, а значит, для распространения послания допустим любой метод, даже если таковой противоречит тому, что мы говорим. Он призывает искать последователей, принимающих некую позицию, а не товарищей и соратников, с которыми можно было бы участвовать в совместных изысканиях. Вместо стремления осуществлять чьи-то проекты как можно лучше – практическая работа в соответствии со своими идеями, мечтами и желаниями, привлекающая потенциальных сторонников для развития отношений товарищества и расширения повстанческой практики.
4. Отказ от предъявления требований к власть имущим, вместо этого практика прямого действия и атаки. Отказ от идеи, что мы можем реализовать свои стремления к свободному волеизъявлению посредством постепенных частичных требований, которые как максимум принесли бы лишь временное ослабление ущерба от социального порядка капитала. Признание необходимости атаки на такое общество во всей его целостности, необходимости добиваться практической и теоретической осведомлённости в каждой части борьбы этой целостности, которая должна быть уничтожена. Отсюда и способность видеть потенциально революционное – то, что вышло за пределы логики требований и постепенных частичных перемен – в частной общественной борьбе, поскольку, в конце концов, каждый радикальный повстанческий прорыв вызывался борьбой, начинавшейся как попытка удовлетворить частные требования, но на практике перешедшей от требования желаемого к захвату и его, и чего-то большего.
5. Отказ от идеи прогресса, от представления о том, что существующий порядок вещей является результатом текущих процессов улучшения, которое мы, если приложим усилия, сможем продвинуть и дальше, возможно, даже до его апофеоза. Признание того факта, что существующая траектория – которую правители и их верная реформистская и «революционная» оппозиция называют «прогрессом» – изначально вредна для личной свободы, свободных ассоциаций, здоровых человеческих отношений, полноты жизни и самой планеты. Признание того факта, что этой траектории должен быть положен конец и должны быть разработаны новые образы жизни и отношений, если мы хотим достигнуть полной автономии и свободы. (Это не обязательно приведёт к абсолютному отказу от технологии и цивилизации, и такой отказ не будет означать окончательного разрыва с левыми, но отказ от прогресса самым ясным образом означает готовность серьёзно и критически изучать и ставить под сомнения цивилизацию и технологии, в особенности в аспекте индустриализации. Те же, кто не желает поднимать такие вопросы, скорее всего, останутся приверженцами мифа о прогрессе.)
6. Отказ от политики идентичностей. Признание того факта, что хотя различные угнетённые группы и сталкиваются со специфическими лишениями, присущими конкретно их угнетению, и анализ такой специфики необходим для полного понимания механизмов доминирования, тем не менее лишение в своей основе есть кража у каждого из нас как личности возможности творить свои собственные жизни на наших собственных условиях в свободных ассоциациях с другими. Возвращение себе жизни на социальном уровне, а равно и полное её возвращение на уровне индивидуальном может произойти, только когда мы действительно прекратим отождествлять себя в терминах наших социальных идентичностей.
7. Отказ от коллективизма, от подчинения личности группе. Отказ от идеологии коллективной ответственности (что не означает отказа от социального или классового анализа, но устраняет моральные суждения из такого анализа и прекращает опасную практику обвинения отдельных индивидов в преступлениях, которые совершались или приписывались какой-либо социальной группе, членами которой они считаются, но не имеют относительно неё возможности выбора, – например, «еврей», «цыган», «мужчина», «белый» и т. д.). Отказ от идеи, что каждый, исходя из своих «привилегий» или из предполагаемого членства в какой-либо конкретной угнетаемой группе, обязан некритически солидаризоваться с любой борьбой или движением; признание, что такая концепция является важным препятствием для любого серьёзного революционного процесса. Создание коллективных проектов и действий, служащих нуждам и желаниям участвующих индивидов, но не наоборот. Признание того факта, что фундаментальное отчуждение, навязанное капиталом, не основано ни на какой гипериндивидуалистической идеологии, которую он может распространять, но проистекает из навязываемого им коллективного проекта производства, отнимающего нашу индивидуальную творческую способность добиваться своих целей. Признание представления о том, что освобождение всех и каждого, кто способен определить условия своего бытия в свободной ассоциации с другими по своему выбору – т. е. личное и социальное возвращение жизни, – является важнейшей целью революции.
8. Отказ от идеологии, то есть отказ от любой программы, идеи, абстракции, идеала или теории, которые ставятся превыше жизни и личности, и которым необходимо служить. Отсюда отказ от бога, государства, нации, расы и т. д., но также и от анархизма, примитивизма, коммунизма, свободы, разума, личности и т. п., в том случае, когда эти понятия становятся идеалами, ради которых нужно пожертвовать собой, своими желаниями, стремлениями и мечтами. Использование идей, теоретического анализа и способности рассуждать и мыслить абстрактно и критически как инструментов для реализации своих целей, возвращая себе жизнь и действуя против всего, что стоит на пути такого возвращения. Отказ от простых ответов, которые способны сделать слепыми чьи-то попытки исследовать окружающую реальность; вместо этого появление всё новых вопросов и продолжение теоретического изучения.
Это то, что я рассматриваю как реальный разрыв с левыми. Там, где не хватает хотя бы одного из этих отказов – в теории или практике – остаются рудименты левизны, а это будет помехой для нашего проекта освобождения. Поскольку такой разрыв с левыми основан на необходимости освободить практику анархии от ограничений политики, он определённо не является переходом в правый или любой другой лагерь политического спектра. Скорее, это признание того факта, что борьба за трансформацию всей полноты жизни, борьба за отвоевание каждой нашей жизни как собственной в коллективном движении за личную реализацию может быть затруднена лишь политическими программами, «революционными» организациями и идеологическими конструктами, требующими нашего служения, потому что и они, подобно государству и капиталу, требуют, чтобы мы сдали им свои жизни, а не взяли их себе как свои собственные. Наши мечты слишком велики для тесных ограничений политических схем. Давно пора оставить левых позади и идти своим радостным путём навстречу неизвестности восстания, навстречу сотворению полноценных и самостоятельных жизней.
Левые? Спасибо, но нет!
Джон Зерзан
Не сказать, чтобы в мире не осталось действующей энергии. Каждый день на каждом континенте можно видеть антиправительственные восстания; прямые действия в поддержку освобождения животных или в защиту Земли; совместные попытки противостоять строительству дамб, магистралей, промышленных комплексов; бунты в тюрьмах; спонтанные проявления направленного вандализма сытых по горло и раздражённых; «дикие» забастовки; энергию множества радикальных книжных лавок, зинов, лагерей, школ и собраний, обучающих примитивным навыкам; радикальные группы чтения; акцию «Еда вместо бомб» и так далее. Список оппозиционных акций и альтернативных проектов очень существенен.
Но чего нет – так это левых. Исторически они потерпели грандиозный крах. Какую войну, экономическую депрессию или экоцид им когда-либо удалось предотвратить? Сейчас левые в основном существуют как затихающий разносчик протеста в клоунаде предвыборных цирков, в которые и так верят всё меньше и меньше. Уже много десятилетий они никого не вдохновляли. Они вымирают.
Они стоят на нашем пути и должны уйти.
Сила теперь за анархией. Уже десять лет как становится всё яснее, что энергичные и смышлёные парни – это анархисты. Прогрессисты, социалисты, коммунисты все уже седовласые и не заводят молодёжь. В некоторых недавних работах левых (например, в «Беспредельно требуя» Саймона Критчли) выражается надежда, что анархия возродит левых, столь в этом нуждающихся. Мне это кажется маловероятным.
Что такое анархия сегодня? Я считаю, это наиболее важный вопрос. На протяжении некоторого времени её основы менялись, и об этом сдвиге слишком мало сообщалось в силу весьма очевидных причин.
Традиционный, или классический анархизм устарел так же, как и всё остальное на левом фланге. Он уже совсем не имеет отношения к часто отмечаемой сейчас волне интереса к анархии. Заметьте: вперёд движется не анархизм, а анархия. Не закрытая, европоцентричная идеология, но открытая, без барьеров, постановка вопросов и сопротивление.
Господствующий порядок проявил себя на удивление гибким, способным кооптировать или рекуперировать множество радикальных поступков и альтернативных подходов. В силу этого требуется нечто более глубокое, нечто не способное быть включённым в рамки системы. Это важнейшая причина провала левых: если на глубинном уровне основам не брошен вызов, кооптирование гарантировано. До сегодняшнего дня анархизм не сходил с орбиты капитала и технологии. Анархизм признал такие институты, как разделение труда и одомашнивание движущими силами массового общества – того общества, которое он тоже признал.
Погрузитесь в новое мировоззрение. Нечто предреальное наступает под многими именами: среди них анархо-примитивизм, неопримитивизм, зелёная анархия, критика цивилизации. Если кратко – то просто скажем, что мы сторонники примитивизма. Признаки его присутствия можно найти во многих местах; например, в Бразилии, где я встречался с сотнями преимущественно молодых людей на Революционном Карнавале в феврале 2008 года. Многие говорили мне, что примитивистское направление было основной темой обсуждения, а старый анархизм на глазах исчезал. В Евpone имеется антицивилизационная сеть, включая информационные связи и весьма частые собрания, проходящие от Швеции до Испании и Турции.
Я помню, каким было моё возбуждение, когда я открыл для себя идеи ситуационистов: акцент на игру и дарение, земные удовольствия, а не жертвенное самоотрицание. Моя любимая строчка из них на этот момент: «под мостовыми – пляж». Но их сдерживала ориентация на рабочие советы и производство, что явно вступало в противоречие с игровой частью. Теперь же настало время отбросить эту первую часть и осуществить вторую, куда более радикальную.
Одна молодая женщина в Хорватии пошла ещё дальше, сделав вывод, что примитивизм в своей основе – это духовное движение. Но разве могут искания полноты, открытости, возобновления связи с Землёй не быть духовными? В ноябре 2008 года я был в Индии (в Дели и Джайпуре) и мог наблюдать, что знакомство с антииндустриальным подходом дало отклик среди людей с самым разным духовным багажом, включая и ориентированных на учение Ганди.
Разрозненные примитивистские голоса и акции теперь есть в России, Китае, Филиппинах и, без сомнений, вообще повсюду. Это ещё не образует движения, бурлящего под поверхностью, но реальность держит курс в этом направлении, как мне видится. Такое развитие не только логично, но и направлено в самое сердце царящего отрицания, оно давно запоздало.
Возникающее движение примитивистов не должно удивлять, учитывая кризис во всех сферах жизни, который мы сейчас наблюдаем. Оно нацелено против индустриализации и обещаний высоких технологий, лишь усугубивших этот кризис. Война, ведущаяся против мира природы, и как никогда сухая, бесплодная и бессмысленная технокультура – вот вопиющие факты. Продолжающийся марш Машины – это не ответ, а бездна проблемы. Традиционно левый анархизм хочет, чтобы заводами управляли сами рабочие. Мы же хотим мира без заводов. Разве не ясно, к примеру, что глобальное потепление обусловлено индустриализацией? Оба этих процесса начались 300 лет назад, и каждый шаг в направлении всё большей индустриализации был и шагом навстречу всё большему глобальному потеплению.
Примитивистская перспектива обращается к коренной, ещё не окультуренной мудрости, пытается учиться у миллиона лет существования человека до⁄вне цивилизации. Жизнь охотников и собирателей, также известная как общество кочевых групп, была подлинной и единственной анархией: сообществом личных связей лицом к лицу, в котором люди несли ответственность за самих себя и каждого другого. Мы хотим некоей версии этого, радикально децентрализованного мира жизни, а не глобализующейся, стандартизирующейся реальности массового общества, в котором все блестящие технологии покоятся на монотонной работе миллионов и систематическом убийстве Земли.
Некоторых ужасают такие новые представления. Ноам Хомский, умудряющийся до сих пор верить всей лжи «прогресса», называет нас «геноцидистами». Как будто продолжающееся разрастание современного техномира – это уже не геноцид!
Я вижу, как растёт стремление бросить вызов этому маршу смерти, в котором мы идём. В конце концов, когда это Просвещение или современность сдержали свои обещания исправиться? Реальность во всех отношениях неуклонно становится всё хуже. Творящиеся теперь почти каждый день бойни в школах/моллах/местах работы вопиют столь же громко, как и экологические катастрофы, также происходящие по всему земному шару. Левые пытались прекратить мучительно необходимое углубление общественного обсуждения, чтобы поставить под сомнение реальную степень ужасающих «достижений», с которыми мы столкнулись. Левым нужно уйти, чтобы радикальные, вдохновляющие образы смогли прийти и распространиться.
Всё более технологичный мир, в котором всё подвергнуто риску, будет неизбежен, только если мы продолжим принимать его как данность. Динамика всего этого процесса зависит от основных институтов, которым должен быть брошен вызов. Мы видим, как этот вызов начинают бросать, несмотря на лживые притязания технологий, капитала и культуры постмодернистского цинизма – также несмотря на труп левизны и её столь ограниченных горизонтов.
Примечания к разделу «Левизна»
1 См.: Kropotkin Р. Anarchism ⁄⁄ Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets. P. 285; см. также: Кропоткин П. Коммунизм и Анархия ⁄ Кропоткин П. Анархия: Сб. ⁄ Сост. и предисл. К. Баландина. М.: Айрис-пресс, 2002. С. 244–245; Tucker В. Instead of a Book. P. 5.
2 См., напр.: Goldman Е. Socialism: Caught in the Political Trap // Red Emma Speaks. P. 78–85.
3 Cm.: Black B. Left Rites // Abolition of Work and Other Essays. P. 79–81 (впервые опубл, в 1982 г.); Black В. Anarchy after Leftism, в особенности части io и 11.
4 См.: Le Voyeur. Bonjour // Disruptive Elements. P. iii. Прудон популяризовал слово «анархист», но даже в 1840-х гг. его анархизм был сомнительным, ibid. P. iii-iv. Он недвусмысленно отказался от него в кн. «О федеративном принципе» (1863), см.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 252–255.
5 См.: Krimerman L.L., Perry L. Foreword ⁄ ⁄ Patterns of Anarchy. P. xviii.
6 См.: Black В. Notes on “Post-Left” Anarchism, www.theanarchistlibrary.org и www.academia.edu.
7 См.: Dumont R. Dousing a Flame // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 76 (n. d.). P. 12; см. также: Le Voyeur. Bonjour. P. ii – iii; Jarach L. Anarchists, Don’t Let the Left(overs) Ruin Your Appetite // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 48. Fall-Winter 1999–2000; Specter T. Hope Against Hope: Why Progressivism is as Useless as Leftism // Green Anarchy. No. 25. Spring/ Summer 2008. P. 12–13, 15.
8 См.: Zerzan J. He Means It: Do You? // Zerzan J. Running on Emptiness. P. 161.
9 См., напр.: You Can’t Blow Up a Social Relationship: The [sic] Anarchist Case Against Terrorism. San Francisco, California: See Sharp Press, 1990 (впервые опубл, австрал. анархистами в 1979 г.); см. Также: Black В. “You Can’t Blow Up a Social Relationship”… But You Can Have Fun Trying! // Black B. Beneath the Underground. Portland, Oregon: Feral House, 1994. P. 50–55. Нередко анархо-левые переписывают историю, чтобы возложить всю вину за анархистское насилие на «индивидуалистов».
10 См.: Gelderloos Р. How Nonviolence Protects the State. Cambridge, Massachusetts: South End Press, 2007.
11 См.: Ashen Ruins. Against the Corpse Machine: Defining a Post-Left Anarchist Critique of Violence (2002), www.theanarchistlibrary.org.
12 См.: Landauer G. For Socialism / Trans. D.J. Parent. St. Louis, Missouri: Telos Press, 1978. P. 48.
13 C. 89-152 этой антологии посвящены критике левизны.
V. Демократия
Отношение анархизма к демократии представляет собой практически ту же ситуацию, что и его отношение к левизне. Согласно одному взгляду, анархизм – это усовершенствованная форма демократии. Согласно другому (разделяемому мной), анархизм влечёт за собой отрицание демократии по той простой причине, что он отрицает правление. Демократия же есть форма правления. Мои аргументы уже доступны на русском языке1. Фактически, на русском они даже более доступны, чем на английском. Уже самые ранние видные анархисты: Уильям Годвин, Макс Штирнер и Пьер-Жозеф Прудон отвергали демократию. В 1848 году, в разгар революции, Прудон осудил всеобщее избирательное право как «мистификацию»2. Почти все анархисты всегда отвергали представительную демократию в теории, хотя анархо-синдикализм и предлагал систему, равнозначную представительной индустриальной демократии3. Всё, что не так с политической демократией, не так и с демократией индустриальной, и, возможно, даже в большей степени4. Однако анархистам следует отринуть и прямую демократию, поскольку «демократия есть по сути – логическое противоречие, физическая невозможность. Настоящая демократия возможна только в небольшом сообществе, где каждый может участвовать в принятии каждого решения; а будучи согласованным, оно не будет обязательным»5.
Я нигде не наблюдаю энтузиазма по отношению к демократии, кроме как у левых, но скептически оцениваю их искренность. Не все они были настроены прокоммунистически, но всех их шокировал коллапс европейского коммунизма. Они воспринимали кончину Советского Союза как потерю, даже антисталинисты: троцкисты, левые коммунисты, социал-демократы Холодной войны – и анархо-левые. Леваков и так уже презирали. Теперь же над ними ещё и смеялись как над лузерами. Академические учёные-пропагандисты из истеблишмента – не сумевшие предвидеть крах коммунистов – восславляли конец истории6. Их неправота была тут же доказана, например, войнами на Балканах и ростом радикального ислама. Но даже большинство левых, чья политическая проницательность весьма слаба, не бросились в объятья этих новых врагов Запада. Вероятно, они смутно ощущали, что, в конечном счёте, левые – даже марксисты и анархисты – настолько же часть Запада, как и христианство, промышленный капитализм, виски, гильотина и атомная бомба.
Поэтому, я считаю, левые и бросились в объятья демократии и провозглашают себя самыми демократичными из демократов. Это было оппортунизмом. Это было сделано с целью отмести давнишние подозрения общества в нелояльности. Это было сделано, чтобы отождествить себя с популярным делом. Но демократия – непопулярное дело в демократиях. В старых демократиях это в основном всего лишь дурная привычка. В молодых демократиях – это причуда, нередко недолговечная, – люди понимают, что им больше по нраву национализм или религиозный фанатизм.
Анархистское возражение против любой демократии всегда заключается в том, что анархисты отвергают тиранию большинства, так же как и тиранию меньшинства, ведь нам всё равно, сколько там тиранов, нам не нужно никаких. Так или иначе, все демократии прошлого и настоящего были олигархиями, хоть «прямыми», хоть «представительными»7. Это столь же справедливо в отношении средневекового Новгорода, как и в отношении кальвинистской Женевы или республиканской Венеции. Всегда это была власть меньшинства: часто, как в случае с Венецией, власть крайне малочисленного меньшинства. А чистых прямых демократий не было никогда. Согласно Жан-Жаку Руссо: «Афины не были в действительности демократией, но весьма тиранической аристократией, управляемой учёными и ораторами»8. И в античных Афинах, и в средневековой Швейцарии или в пуританском Массачусетсе народные собрания делегировали большую часть своих полномочий выбранным представителям9. Мюррей Букчин полагал, что афинская Агора и городские собрания в колониальной Новой Англии были образцовыми прямыми демократиями10. Он ошибался, как обычно. Городские собрания в Новой Англии фактически были местными олигархиями; собирались они нечасто, их посещаемость была низкой, и они «не соответствовали ни одному настоящему демократическому стандарту»11. Народные собрания в греческих полисах проводились редко, если не считать пример Афин, но даже там на них ходили неактивно. В Афинской державе в апогей её могущества было 20–40 тысяч полноправных граждан (из 250–300 тысяч жителей). Однако открытое место для собраний, Пникс, вмещало лишь 6 тысяч12. Даже тысяча граждан, соберись столько однажды, были бы по большей части незнакомы друг с другом и не смогли бы осуществлять непосредственную демократию, если бы того захотели. Но этого-то они как раз не хотели! Афинским идеалом не было, как для Букчина, правление большинства: им был консенсус13.
Демократия народных собраний прибегает к эмоциональной демагогии, фракционности, политиканству «партийной машины», запугиванию несогласных и изменениям политического курса14. Хорошо мотивированные, организованные активисты подавляют простых людей, как об этом писал Френсис Бэкон: «Часто бывает, что небольшое число непреклонных берёт верх над многочисленным, но более умеренным противником»15. Шарлотта Уилсон писала, что «…побеждает человек с самым зычным голосом, с самым ярким красноречием, с самым острым умом и с наибольшей напористостью»16. Или, другими словами: «Ассамблея отбивает охоту участвовать в ней у человека, не желающего находиться в одной комнате, например, с Мюрреем Букчиным»17. Бенджамин Такер же утверждал в 1891 году: «Анархизм столь же враждебен голосованию, как мир враждебен пороху»18.
Принятие решений на основе консенсуса не является единственной либертарной альтернативой правлению голосующего большинства, как это иногда полагают19. Когда оно осуществимо, это лучшая система20. А наиболее осуществимо это в гомогенных сообществах, таких как племя, при наличии там собраний, или в небольших группах, объединённых общими религиозными или политическими целями. К примеру, на собрании квакеров, где можно ожидать возникновения «общего мнения собрания». Анархистские группы единомышленников – вот другой пример, которой был знаком и Букчину21. Некоторые объединения активистов – феминисток или энвайроменталистов, к примеру, – практиковали консенсусное принятие решений. Такое наиболее реально в группах, объединённых одной целью. Мюррей Букчин, участвовавший в энвайроменталистской организации “Clamshell Alliance”, с яростью отвергал принятие решений путём консенсуса, поскольку считал, что они подвержены манипуляциям со стороны лидеров и фракций22. Конечно же, это, как я только что говорил, также противоречит и тому, что защищает сам Букчин, – противоречит прямой демократии с правлением большинства. На самом же деле недовольство Букчина было вызвано тем, что он не смог навязать свою волю Альянсу, так же как он не смог навязать свою волю хиппи и «новым левым», как не смог навязать свою волю анархистам «образа жизни». Такую ситуацию в разговорном английском называют «зелен виноград».
Не существует наилучшего метода анархистского принятия решений для всех ситуаций. Поскольку анархисты превыше всего ценят личную свободу, они конечно же предпочли бы, чтобы отдельные люди решали свои проблемы своими средствами, прибегая лишь к небольшой помощи друзей. Но в других случаях, особенно при конфликте, способном оказать воздействие на других людей, возможно добровольное посредничество медиатора, выбранного обеими сторонами. Это широко практикуется в сообществах анархо-примитивистов23. Одна из важных причин, почему анархисты содействуют радикальной децентрализации, состоит в том, что по своей сути коллективные решения следует принимать мельчайшими из возможных групп, людьми, лично знающими друг друга. Среди тех, кто относится друг к другу с уважением и заботой, разногласия могут возникать не только по определённым темам. Они также могут касаться и ценности существующих отношений. Невозможно написать точнее, чем это сделал Эррико Малатеста после того, как он безоговорочно отверг власть как большинства, так и меньшинства: «По нашему мнению, следовательно, необходимо, чтобы большинство и меньшинство преуспели в жизни вместе, мирно и взаимовыгодно через взаимное согласие и компромисс, через разумное понимание практической необходимости общественной жизни и полезные уступки, которые обстоятельства делают необходимыми»24.
Руссо полагал, что «чем важнее и серьёзнее решения, тем более мнение, берущее верх, должно приближаться к единогласию»25. Если так, то чем более мелким и функционально специализированным является совещательный орган, тем более вероятно, что он придёт к решению, устраивающему всех. Если это считать анархией или одной из её принципиальных составляющих, тогда анархия в букчинской Коммуне со всеобъемлющими полномочиями почти столь же невозможна, как во всемогущем «Левиафане» Томаса Гоббса.
Есть и ещё кое-что. Анархисты выступают за самоорганизацию обычных людей. Но они также полагают, что живя в условиях анархии, люди станут менее обычными. Анархистское равенство – не гомогенность, единообразие или посредственность. Люди всегда будут разными, и это хорошо. Демократия склонна способствовать схожести. Анархия же сохраняет, защищает и даже содействует различиям. Лучше всего анархии подходит этика совершенства, а не мораль долга. Демократия понижает, анархия возвышает. Будут поощряться ум и творческое мышление. Гениальность, талант, умения, сила, разум, эмпатия получат возможность развиться до своих естественных пределов. Результатом будет не общество «равных» (если под «равными» подразумевать идентичных: клонов). Это будет многообразное общество терпимых и превосходных. Все различия будут уважаться, но ни одно из них не будет давать власти. Это будет не демократия, а всеобщая аристократия. Как писал Джордж Вудкок: «На самом деле идеал анархизма далёк от демократии, доведённой до своего глобального предела, он куда ближе к очищенной и распространённой на всех аристократии»26. Говоря же словами бразильского анархиста Жозе Ойтисики, «Я не стремлюсь к демократизации аристократов. Я стремлюсь аристократизировать демократов»27. Анархия будет сообществом – или сообществом сообществ28 – тех, кого ситуационист Рауль Ванейгем называл «хозяевами без рабов»29.
Crimethlnc. – это сеть североамериканских анархистов, размещающая популяризаторские работы по анархизму в различных медиа. Я пристрастно характеризовал этот проект как «облегчённый Боб Блэк». Первый текст в разделе «Демократия» – это их сжатая анархистская критика демократического правления.
Мсье Дюпон – псевдоним двух британских работников почты на пенсии. Они пришли к анархизму от левого радикализма, принеся с собой его пуризм. Их идея, которую я критиковал, заключается в том, что никто – ни «дореволюционные» активисты, ни даже рабочий класс – не могут ничего сделать, чтобы разжечь революцию. У рабочих нет классового сознания. По сути, у них вообще нет никакого сознания! (авторы так и пишут). Революция произойдёт, если произойдёт, в силу неспособности капитализма преодолеть очередной из своих неизбежных экономических кризисов. И тогда, но не до того, анархисты должны выйти на авансцену со своими спасительными предложениями. Такой жёсткий экономический детерминизм уже давно оставили марксисты, за исключением нескольких ультралевых. Поскольку эта теория осуждает анархистскую деятельность любого рода как бесполезную – включая и их собственную – она непопулярна среди анархистских активистов30. Представленная здесь критика демократии не связана с политическими и экономическими предсказаниями авторов.
Брайан Мартин – родившийся в Америке австралийский учёный на пенсии, определяющий себя как анархиста. В качестве альтернативы демократии он предлагает «демархию». В своём эссе он критикует выборы, а также более известные альтернативы им. Его «альтернативная альтернатива» – это демархия, при которой на основе случайной выборки из числа добровольцев набираются участники «функциональных групп»31, в которых путём непосредственного общения и принимаются решения. Это может быть альтернативой демократии, но альтернатива ли это управлению? Добровольцы должны стать экспертами в своих областях деятельности или уже быть заранее компетентными. Тут можно вспомнить тезис Алекса Комфорта о том, что властные должности привлекают тех, кого он называл «правонарушителями». Бакунин предупреждал об опасности тирании и коррупции при господстве экспертов32. Пример древних Афин демонстрирует, что правление непрофессионалов – это всё-таки тоже правление.
Содержание раздела «Демократия»
CrimethInc. Проблема – правительство (пер. с англ. Н. Охотинапо: CrimethInc. The Problem is Government //To Change Everything: An Anarchist Appeal, https: //crimethlnc.com/tce).
Мсье Дюпон. Демократия (пер. с англ. Н. Охотина по: Monsieur Dupont. Democracy ⁄⁄ Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 60. Fall – Winter 2005–2006. P. 39–41).
Брайан Мартин. Демократия без выборов (пер. с англ. В. Садовского по: Martin В. Democracy Without Elections ⁄⁄ Reinventing Anarchy, Again. P. 123–136).
Проблема – правительство
CrimethInc
Правительства обещают права, но могут только отнимать свободы. Идея прав подразумевает центральную власть, которая будет даровать их и защищать. Но всё, что достаточно сильное государство может гарантировать, оно же может и отобрать; наделение правительства силой на решение одной проблемы открывает ворота для новых проблем, которые оно создаст. И правительства не генерируют силу из ничего – они пользуются нашей силой, которую мы можем употребить куда эффективнее, не задействуя громоздкую машину представительства.
Самая либеральная демократия действует по тому же принципу, что и самая деспотичная автократия: централизация силы и легитимности в структуре, призванной монополизировать насилие. Уже не имеет значения, перед кем отвечают бюрократы, управляющие этой структурой: перед королём, президентом или электоратом. Законы, бюрократия и полиция – старше демократии, и они действуют одинаково, что в демократиях, что в диктатурах. Единственное отличие в том, что поскольку мы выбираем управленцев, мы считаем эти инструменты своими – даже когда они используются против нас.
Диктатуры по своей сути нестабильны: целые поколения можно убивать, кидать за решётку и промывать мозги, а их дети всё равно заново выйдут на борьбу за свободу. Но стоит пообещать каждому шанс навязать волю большинства всему населению, и все единогласно выступят за систему, которая стравливает их друг с другом. Чем больше влияния, как людям представляется, они имеют над государственными институтами принуждения, тем более популярными эти институты становятся. Возможно, этим объясняется то, что глобальная экспансия демократии совпадает с невероятным неравенством в распределении ресурсов и власти: ни одна другая система правления не смогла бы сдерживать такую шаткую ситуацию.
Когда власть централизована, людям нужно получить верховенство над другими, чтобы как-то повлиять на собственную судьбу. Борьба за автономию канализируется в состязание за политическую власть: посмотрите на гражданские войны в постколониальных странах между народами, которые прежде вполне мирно сосуществовали. Те, у кого власть в руках, могут сохранить её, только ведя постоянные войны против собственного или иностранного населения: так Национальная гвардия была возвращена из Ирака, чтобы быть развёрнутой в Окленде.
Там, где имеются иерархии, они благоволят тем, кто наверху, с целью централизовать власть. Добавление сдержек и противовесов к системе означает только одно: что мы полагаемся на защиту со стороны как раз того, в защите от чего нуждаемся. Единственный способ оказать воздействие на власти, не втягиваясь в их игры, – это создание горизонтальных сетей, которые могут действовать автономно. Но когда мы будем достаточно сильными, чтобы власти нас восприняли всерьёз, мы уже будем достаточно сильными, чтобы самостоятельно решить свои проблемы.
Нельзя прийти к свободе иначе как через свободу. Нам нужно не одно бутылочное горлышко на всех, а широкий диапазон площадок, где мы могли бы осуществлять власть. Не единая легитимная реальность, а пространство для многообразных нарративов. Вместо принуждения, присущего правительству, нам нужны структуры принятия решений, продвигающие автономию, и практики самозащиты, которые могут держать рвущихся к власти на безопасном расстоянии.
Демократия
Мсье Дюпон
Всякий раз, когда анархист говорит:
«Я верю в демократию»,
где-то умирает маленькая фея.
Дж. М. Барри («Питер Пэн», 1928)
Принципы демократии, обременённые чувством вины и снабжённые дополнительными системами контроля, воздействуют на все элементы радикального мышления подобно рою мошкары в конце лета, но анархистская среда, по-видимому, особенно склонна допускать и даже приветствовать эту с ума сводящую кару небесную…
Постоянное возвращение внутри этой среды к демократическим догмам осуществляется как раз теми, кто в остальном неплохо осознаёт полное отсутствие своей связи с этими догмами – как с греческими идеалами, так и с народовластием. Они понимают, что в действительности это не более чем стадная бессмысленность подгоняемого скота, скорее Арни Лос-Анджелесский[15], чем Сократ Афинский. Эти революционеры в моменты прозрения вполне отчётливо декларируют прочную связь между капиталом и его политическим менеджментом, но кажется, что даже этого недостаточно, соблазну возвращения к идеалам демократических форм невозможно сопротивляться.
1
Демократия – это специализированная форма политического господства, преподносимая в качестве объективной универсальной ценности; её устанавливает в качестве политической цели общества (или его идеала) элита, чья реальная власть в обществе отнюдь не политической природы, а основана на всепроникающей экономической эксплуатации.
Если рассмотреть более детально управление, политику, законы, то демократическая практика государства предстаёт как нечто объективное и окончательное благодаря тому чрезмерно сложному процессу, который ей предшествует; в действительности, однако, сама основа этого процесса, от исходной идеи до её воплощения, не выходит за рамки экономически навязанного дефицита. А ограничивает распределение партия капитала, поскольку она преследует собственные интересы.
Возьмём для примера создание Национальной службы здравоохранения (NHS), она стала примером par excellence и светочем славы социал-демократии, пусть даже одиноким и потускневшим. Если мы возьмём NHS, отметим все пункты её реальной эффективности в улучшении здоровья пролетариата и отметим также неуклонное превращение идеи общественного сервиса в товар, если, учтя все это, мы сохраним критический взгляд, то останутся такие вопросы: а) если NHS стала уступкой со стороны правящего класса, пределом его готовности уступать, то ради чего была эта уступка? б) в чём состоит функция здоровых работников для буржуазии? в) какие ещё политические, стратифицирующие, организационные функции возлагает на службу господствующая в обществе буржуазия? Если мы критически поместим функции NHS в контекст более широких намерений правящего класса, то увидим, что наши завоевания на деле никогда не были нашими. А то, что относится к NHS, в равной мере приложимо и к образованию, к правам наёмного работника, к социальным расходам, к вовлечению в политическую жизнь и ко всем прочим достижениям демократии.
Демократия заботится о степени рефлексивного управления социального тела, но социальное тело не определяет само себя, оно определено формой товарного потребления. Это значит, что институты управления имеют власть только вмешиваться в то, что уже так или иначе существует.
Демократия и её производные, таким образом, обслуживают партию капитала сразу на многих уровнях, но всегда скрывают его эксплуататорский социальный механизм.
Единственные голоса и единственные идеи, которые когда-либо возникали в демократическом диапазоне, единственные голоса, которые слышно в рамках демократической схемы, это – по сути – буржуазия. Таким образом, функцией демократии оказывается ограничение образа допустимого высказывания, и подача этого ограничения как полного спектра возможных высказываний, а одним из производных последствий этого ограничения оказывается огораживание и дальнейшая девальвация многих политических ориентиров. Так, например, тирания, диктатура и тоталитаризм теряют свои практические привязки к нашей жизненной реальности, когда состоявшаяся демократия содействует смерти двадцати тысяч человек в день от голода, провоцирует случайную гибель десятков тысяч гражданских лиц в войне против Ирака, разрешённой торговлей ручным огнестрельным оружием убивает одного человека каждую минуту, и сверх всего этого систематически привязывает миллиарды человеческих существ к капиталистическому производству. Демократический идеал не постулирует, что жизнь должна сводиться к рабочей функции, не гласил он и того, что большинство людей будут обречены на существование без всякой надежды владеть результатами собственного труда.
Демократия сама по себе – это эвфемизм для капитализма, как в выражении «Британия является демократией», а из этой исходной мистификации проистекают и другие. Демократия сама себе дарует право завладеть концепцией «свободы» и диктовать нам её значение – так она становится свободой слова, или свободой голоса, а «равенство» становится равенством возможностей или равенством перед законом. В этих и многих других случаях универсальное устремление отшлифовывается до такой степени, что оно начинает беспрекословно служить узким интересам правящего класса и содействует закреплению общества в той жёсткой форме собственности, которую определяет этот класс, и которая всегда тщательно скрывается за демократическим горизонтом.
Другими словами, наиболее существенное для происходящего – кто есть хозяин, кто предопределяет действие – всегда отсутствует во всех узаконенных взаимодействиях с ним и в допустимых рассуждениях о происходящем.
2
Самые радикально настроенные демократы стремятся к установлению так называемой настоящей, или прямой, демократии, которая, по их словам, вместит все социально значимые явления внутри предлагаемого народного собрания. Находясь в характерном для левых хроническом колебательном движении, они одним махом забывают о том объективном влиянии, которое большие деньги оказывают на все выдвигаемые решения, забывая о собственных усилиях по выявлению таких случаев среди текущих проблем.
Левые с энтузиазмом расследуют те взаимосвязи, которые обнаруживаются между политической партией у власти и её коррумпированностью капиталом; радуются раскрытию участия Республиканской партии в контрактах по восстановлению Ирака (чего ещё они ожидали?), но не делают никаких дальнейших выводов. Левые не учатся и, похоже, патологически не способны вывести общее из частного. Они не размышляют о тех вероятных манипуляциях, на которые капитал может пойти в отношении их собраний, и не учитывают то текущее влияние, которое капитал имеет на свою собственную продемократическую линию. А она, посмотрим правде в глаза, уж больно похожа на путь наименьшего сопротивления. Этот отталкивающий трёп в стиле Майкла Мура[16], эти американские флаги на мирных демонстрациях – «мы – подлинные стражи демократии», «мы – настоящие патриоты» – как будто вся эта пыль в глаза не является частью настоящей, реальной проблемы.
Радикальные и «прямые» демократы, по-видимому, вечно обречены не помнить, что форма, которую принимает общество, определяется не общественным мнением, а владением собственностью. Поверхность, состоящая из мнений и субъективных ценностей, даже если превращается в массовое движение, не может выступать никаким противовесом силе обладания собственностью. Подобные движения открывают клапан с надписью «Высказаться», но не более того, это «телефон доверия, где вас услышат», но линия обрезана, они встают «за всё хорошее», но ноги вязнут в зыбучем песке. Все эти петиции, лоббирование, протесты и давление – множество открытых дверей, ведущих в никуда.
Лабиринт соучастия оборачивается фетишем отчуждённого сознания, «вовлечение» предназначено специально для того, чтобы убедить излишне доверчивых в том, что их дело особое, что на этот раз они действительно осуществляют прорыв вопреки всему, что ранее исходило от оплота бюрократии, «министерства околичностей», и что подлинные изменения уже совсем, совсем близко… Но, увы, нет прорыва и нет изменений – и если, как сами радикалы и диагностировали, наша демократия это признак фундаментального экономического отчуждения, то было бы странно лечить его, в самом деле, простым применением его же собственного симптома.
Демократия выглядит сублимированной политикой в ситуации, когда запрещён передел собственности. Её продвигают как форму политической компенсации за ту цену, которую общество платит за исходный запрет. Она гласит, что всё остальное, всё, что не относится к собственности, может обсуждаться, и всё равно мы видим, что даже эта ограниченная сфера должна подвергаться постоянному пересмотру – собственность уязвима и изменчива, она требует постоянной заботы и защиты. Так что если исходить из того, что демократия по своей сути – это трюк для отвлечения внимания от экономического господства одного класса над другими, то маловероятно, чтобы какая-то народная ассамблея хоть в каких-то обстоятельствах смогла бы противостоять неявным манипуляциям со стороны скрытых сил, группировок, расколов и т. д. (напротив, чем более собрание открыто и честно по отношению к гражданам, тем более оно подвержено скрытым воздействиям). Я также не вижу, каким образом любой имеющийся демократический институт мог бы противостоять возникновению хоть одной ступени отчуждения между ним самим и общественным организмом. А кто знает, что скрывается в этом невысказанном пространстве?
Демократия не может демонтировать капитализм.
Если у вас есть искушение поднять руку, чтобы спросить, что же нас ждёт, я бы ответил просто: сперва должен произойти радикальный переворот во владении собственностью, а лишь затем выстраивание любых политических институтов – сначала нужно наглядно продемонстрировать свою силу, и тогда, соответственно, человеческие существа смогут организоваться.
3
В последнее время анархисты попадают в ловушку, пытаясь формализовать совокупность дискуссии, согласия, несогласия, легитимации, делегирования и т. д. по демократическому принципу; для этого есть множество причин. Для начала, это неотрефлексированное применение систематически обедняющегося словаря – какие ещё у нас есть слова для самоучреждающихся людей, для кого самоорганизация и является конечной целью деятельности? Кроме того, анархистская среда хочет успокоить более широкое антикапиталистическое протестное движение, которое, как можно предположить, было сбито с толку или даже напугано ею.
Мсье Дюпон много и пафосно писал о самообмане антикапиталистического протеста, так что здесь будет достаточно просто сказать, что я не считаю это, в сущности, реформистское движение заслуживающим столько внимания со стороны нашей среды. Антикапитализм – это бесконечная цепочка мнений, скрывающихся одно за другим, но по сути это протест буржуазии против самой себя, движение за социальные реформы, которое, однако, стремится сохранить привилегию своего класса (экономически подкреплённую) обращаться к правительству и быть им услышанным.
Антикапиталисты легитимизируют себя, критикуя революционеровмечтателей, и заявляют, что именно они говорят от имени самых бедных. Обвинения в незначительности и оторванности от реальности попадают в цель, и анархистская среда прячет своё лицо от стыда, делая вывод, что у неё нет права открывать бедным глаза на иллюзии самоопределения, антиимпериализма и демократических политических реформ, этот предопределённый багаж их грядущего освобождения. В ответ на травлю со стороны реформистов анархисты молча строятся в шеренгу, в свои цели и принципы добавляют к классовому анализу другие политически значимые угнетения и заглатывают целиком всю левую повестку. В этом ошибка анархистской среды. Она не только может, но просто обязана распространить свою критику за пределы лёгкой цели – Америки и «большого бизнеса». Её анализ должен учитывать ту восстановительную роль, которую играют ложные и в основном консервативные решения, предлагаемые Америке левыми и легко сдерживаемые системой товарного потребления. Декларируемые чаяния антикапиталистического движения не совпадают с интересами мировой бедноты: то, что преподносится нам как желания бедных, в действительности формулируется за них в качестве альтернативы настоящему, а приверженность альтернативному плану куда более расплывчата, нежели яростное отрицание текущего состояния. Несмотря на всё это их демократические представители не устают настаивать на свободном рынке и демократии, и этим, в общем, всё сказано.
Не будет чудесным предсказанием предположение о том, что многие, если не все, вовлечённые в текущее протестное движение, окажутся в будущем предпринимателями и политиками, частью истеблишмента. Такова история политического протеста. Французская, американская и русская революции, и даже протесты 60-х – все скрывали эгоистичные, экономически обусловленные амбиции за Бирнамским лесом[17] призывов к всеобщему освобождению.
4
Многие энергичные и независимые люди шли в демократическую политику со словами, что они намерены привести демократическую практику в соответствие с заявленными идеалами. Все они закончили тем, что адаптировались к порядку, существовавшему до них. Английская бунтарка, депутат парламента Дайан Эбботт, известная лишь тем, что клеймила своих коллег, «новых лейбористов», за то, что те отдавали детей в частные школы, в итоге сама устроила ребёнка в частную школу. Я не критикую её, это неизбежно, политические классы не смешиваются, её ребёнок определённо стал бы мишенью для остальных, а природа привилегий состоит в том, что ты можешь уклониться от того, от чего не могут уклониться остальные. Те, кто пытается реформировать привилегии изнутри, оказываются в итоге их бенефициарами. Так что нет ничего удивительного, когда в анархистской среде по тем или иным причинам провозглашаются демократические амбиции, а самопровозглашённые анархисты, «мы имеем в виду совсем не то, что они», венчают свои бесславные карьеры предложением анархистам участвовать в избирательном процессе (как бывший редактор “Green Anarchist” в выпуске “Freedom” от од.08.2003). Когда анархисты объявляют себя демократами ради респектабельности, чтобы ловчее делать академические карьеры, чтобы подключиться к общепринятой и уважаемой левой традиции, чтобы участвовать в глобальных форумах, когда они увенчивают своё разложение словами «мы тоже демократы, мы подлинные демократы, партиципаторные демократы», они не должны удивляться тому энтузиазму, с которым демократия отвечает на их комплименты, и, разумеется, извлекает свою пользу. Те, кто поставил свои подписи, вскоре обнаружат себя молчащими по большому спектру вопросов, которые демократия и стоящие за ней силы втайне считают себе враждебными, и в этом невидимом букете – особенно большое и яркое место занимает классовый вопрос.
Демократия без выборов
Брайан Мартин
Для многих пресытившихся радикалов зелёные представляются самым восхитительным результатом политического развития на протяжении столетий. Зелёные движения претендуют на объединение членов самых динамичных социальных движений, включая движение за мир, феминистское и экологические движения, сочетая их понимание проблем и численность. Это именно то, что так давно искали многие активисты.
Кроме того, быстро достигнутый электоральный успех зелёных партий действительно захватывает воображение. Немецкие зелёные уже на протяжении десяти лет находятся в центре внимания именно в силу своего избрания в парламент. Некоторые другие зелёные партии также добились успехов на выборах.
Однако подождите. Прежде чем безоглядно увлекаться, разве не стоит поинтересоваться – а подходят ли выборы для того, чтобы двигаться вперёд? В конце концов, электоральная политика – это стандартный, традиционный подход, приводивший к тем самым традиционным партиям, которые так разочаровали многих радикалов. Разве нет опасности, что участие в выборных процессах остаётся ловушкой, бездонной ямой для политической энергии, которая одинаково усмирит и активистов, и массы?
Моей целью здесь будет изложить критический взгляд на выборы и их альтернативы. Я начну с суммирования доводов против выборов, после чего кратко расскажу о некоторых альтернативных методах, подразумевающих участие людей. В конце я представлю идею демархии, системы участия, основанной на случайной выборке.
Дело против выборов
Идея выборов как основного демократического инструмента глубоко укоренена на Западе. Её трудно избежать. Детям во всех подробностях рассказывают про выборы в школах, и многие из них голосуют на выборах в советы учащихся или руководство клуба. Повсюду вокруг нас, в особенности при помощи масс-медиа, привлекается внимание к политикам, и периодически к выборам, возносящим этих политиков к власти. Действительно, главной связью большинства людей со своими правителями является избирательная урна. Неудивительно, что электоральная политика оказывается освящённой33.
На практике же выборы успешно служили для поддержания господствующих структур власти, таких как частная собственность, вооружённые силы, мужское доминирование и экономическое неравенство. Ни для чего из этого голосование не представляло серьёзной угрозы. Вся ограниченность выборов открывается именно с позиции радикальной критики.
Голосование не работает. На самом простейшем уровне голосование попросту не слишком хорошо работает, чтобы представлять серьёзную угрозу превалирующим структурам власти. Содержание этой основной проблемы достаточно просто. Избранный представитель не связан никаким существенным образом с проведением конкретной политики, каковы бы ни были предпочтения электората. Наибольшее влияние на политика оказывается в ходе выборов. Но будучи избранным, представитель оказывается освобождён из-под народного контроля, однако продолжает быть уязвимым для давления со стороны группировок во власти, в особенности корпораций, государственных бюрократов и влиятельных фигур в политических партиях.
В принципе выборы должны превосходно работать для сравнительно небольших электоратов и политических систем, в которых подотчётность может поддерживаться посредством регулярных контактов. Выборы могут быть куда более оправданными в случае городских собраний Новой Англии, чем в национальных парламентах, принимающих решения, касающиеся миллионов людей. В таких крупных системах был разработан целый новый ряд усиливающих механизмов: партийные машины, массовая реклама, манипулирование новостями правительством, «казённая кормушка» (финансирование правительством проектов на местах) и двухпартийная политика. В сущности, избиратели оказываются поставленными перед выбором между едва различимыми Труляля и Траляля, а затем подвергаются атакам с использованием множества техник с целью перетянуть их к тому или иному кандидату.
Печальная картина, но на кончике ручки у голосующего всегда зиждется надежда. Одни поддерживают веру в то, что основная партия может быть реформирована или радикализирована. Другие присматриваются к новым партиям. Когда новая партия, например «зелёные», демонстрирует принципы и рост, нелегко быть абсолютно циничным.
Тем не менее все исторические свидетельства говорят о том, что партии – это скорее помеха, нежели толчок для радикальных перемен. Очевидная проблема заключается в том, что любую партию могут провалить на выборах. И все политические перемены, принесённые ею, позже могут быть попросту пересмотрены.
Однако более существенно умиротворяющее воздействие самой радикальной партии. В некоторых случаях радикальные партии оказывались избранными во власть в результате народных восстаний. Такие «радикальные» партии раз за разом становились оковами, удерживающими ход радикальных изменений. Ральф Милибенд приводит ряд примеров, когда рабочие или социалистические партии, избранные в органы власти в периоды социальных волнений, оказывались подстраховкой для господствующего капиталистического класса и подавляли народную активность34. Народный Фронт, пришедший к власти во Франции на выборах в 1936 году, своей первой задачей поставил прекращение забастовок и оккупаций заводов и общее смягчение воинственных настроений в обществе. По тем же лекалам шли опыты и евросоциалистических партий, приходивших к власти в результате выборов во Франции, Греции и Испании в 1980-е годы. Во всех крупных сферах – в экономике, структурах государственной власти и внешней политике евросоциалистические правительства отступали от своих изначальных целей и становились куда более похожими на традиционные правящие партии35.
Голосование лишает массы инициативы. Если голосование просто не способно приблизить осуществление перемен, то это нельзя считать окончательным аргументом. В конце концов, перемены в обществе наступают не только путём проведения законов и политических курсов. Существует масса возможностей действия вне рамок системы выборов.
Вот чем голосование наносит значительно более серьёзный вред радикальным социальным действиям – оно означает отход от инициативных действий снизу. Цель электоральной политики – избрать кого-то, кто бы затем начал действовать. Это означает, что вместо того чтобы прибегнуть к прямому действию против несправедливости, действие становится непрямым: заставить политиков что-то сделать.
Мне не раз приходилось видеть, как серьёзные низовые кампании подрывались выборами. Одним из примеров служат австралийские федеральные выборы 1977 года, проводившиеся в разгар мощной кампании против добычи урана. Другой пример – австралийские федеральные выборы 1983 года в решающий момент кампании против строительства плотины на реке Франклин на острове Тасмания36.
Следует считать общим местом тот факт, что выборы усиливают политиков, а не избирателей. Однако многие социальные движения постоянно втягиваются в электоральную политику. Этому есть несколько причин. Одна из них – участие членов партии в социальных движениях. Другая – стремление лидеров движений к власти и влиянию. Когда к твоему мнению прислушиваются в правительстве, это может многим вскружить голову; самому быть избранным в парламент ещё больше возвеличивает собственное эго. Но во всей этой «политике влияния» забывается эффект, оказываемый на простых активистов.
Обессиливающий эффект выборов срабатывает не только на активистах, но и на других тоже. Методы, по которым выборы служат интересам государственной власти, были прекрасно раскрыты Бенджамином Гинзбергом37. Основной тезис Гинзберга состоит в том, что исторически выборы увеличивали число людей, участвующих в «политике», но делали это посредством низведения этой вовлечённости до рутинной активности (голосования), так выборы уменьшили риск более радикального прямого действия.
Распространение избирательного права обычно представляют триумфом угнетённых групп над привилегированными. Рабочие получили право голоса несмотря на оппозицию со стороны имущих классов; женщины получили его несмотря на оппозицию правительств и электоратов, в которых доминировали мужчины. Гинзберг подвергает сомнению эту картину. Он утверждает, что право голоса во многих странах расширялось в те периоды, когда в его поддержку было мало выступлений.
Почему так? В основном потому, что голосование служит легитимации правительства. Чтобы укрепить свою легитимность, когда это необходимо, можно расширить избирательные права. Это становится важным, когда ключевую роль приобретает поддержка масс, как например, во время войны. Подобные примеры можно также увидеть и в других сферах. Рабочие представители на заседаниях советов менеджмента корпораций способствуют кооптированию несогласных; ту же роль выполняют представители студентов в университетских советах.
Гинзберг демонстрирует, что выборы помогают направить массовую политическую активность в управляемую форму: форму предвыборных кампаний и голосования. Люди усваивают, что они могут участвовать: их не исключают совсем. Они также узнают о границах участия. Голосования проходят лишь время от времени, в периоды, зафиксированные властями. Голосование служит только для выбора руководства, а не для определения политики напрямую. Наконец, при голосованиях не берётся в расчёт увлечённость вопросом: голос безразличного или плохо информированного избирателя учитывается так же, как и голос озабоченного и осведомлённого. Тем самым голосование помогает уменьшить накал политического участия, превращая его в рутинный процесс, который исключает массовые восстания.
Голосование усиливает власть государства. Самый важный тезис Гинзберга заключается в том, что выборы создают у граждан впечатление, что правительство служит (или может служить) людям. Формирование современных государств несколько веков назад встретило большое сопротивление: люди отказывались платить налоги, быть призванными в армию и подчиняться законам, изданным национальными правительствами. Введение голосований и расширение избирательного права чрезвычайно способствовали усилению государственной власти. Вместо того чтобы считать эту систему системой правителя и подданных, люди видят, по крайней мере, возможность использования государственной власти для служения их интересам. По мере того как увеличивалось участие в выборах, существенно ослабевала степень сопротивления налогообложению, военной службе и неисчислимому множеству законов, регулирующих поведение.
Ирония всего этого, как указывает Гинзберг, состоит в том, что экспансия государственной власти, легитимированная голосованием, теперь переросла любой гражданский контроль, который и сделал её возможной. Государства теперь настолько крупные и сложно устроенные, что любые надежды на народный контроль выглядят маловероятными.
С точки зрения Гинзберга, начинающееся привнесение властями некоторой конкурентности в процесс выборов в Советском Союзе и Восточной Европе приобретает новый смысл. Если экономические преобразования, которые руководители Коммунистической партии сочли необходимыми, и имели какой-то шанс на успех, то только при большей поддержке правительства народом. Что же может быть лучше внесения некоторого выбора при голосованиях? Увеличение легитимности правительства, а следовательно, и увеличение реальной власти этого правительства – такова была цель.
Анализ Гинзберга подводит нас к третьему важному ограничению, накладываемому электоральной политикой: она полагается на государство и увеличивает его мощь. Если государство является частью проблемы – а именно ведущим фактором в войнах, геноциде, репрессиях, экономическом неравенстве, мужском доминировании и разрушении окружающей среды, – то тогда глупо ожидать, что эти проблемы можно будет преодолеть, избрав нескольких новых номинальных руководителей государства.
Основная анархистская идея состоит в том, что структура государства, будучи централизованным административным аппаратом, неизбежно деградирует, отходя от позиции свободы и равенства человека. И хотя даже иногда и государство может быть использовано для благих целей, оно порочно как средство и не способно к реформированию. Не подлежащие реформированию аспекты государства включают в себя, разумеется, его монополию на «легитимное» насилие и вытекающую отсюда его власть на принуждение в целях войны, внутреннего контроля, налогообложения, защиты собственности и бюрократических привилегий. Проблема голосования состоит в том, что основные сферы государства никогда не рассматриваются как допустимые для обсуждения, и тем более для оспаривания.
Голосование может привести к переменам в политике. Это превосходно. Но политика разрабатывается и осуществляется в рамках государственной системы, что оказывается основным ограничением. Голосование легитимирует рамки государства.
Альтернативы выборам
Какие же существуют альтернативы государству и электоральной политике? По этой теме написано множество работ, в особенности анархистами38. Поэтому я могу лишь осветить некоторые из наиболее значимых ответов и уроков.
Референдумы. Одно из альтернативных решений основано на прямом участии масс в осуществлении политики посредством голосований, используя такие механизмы, как петиции, отзыв представителей, различные собственные инициативы и референдумы. Если коротко, то вместо избрания политиков, которые затем принимают политические решения, эти решения принимаются напрямую гражданами.
На практике референдумы были лишь вспомогательной мерой для политических процессов, основанных на выборном представительстве. Но вполне можно представить себе существенное расширение использования референдумов, в особенности при использовании компьютерных технологий39. Некоторые сторонники предрекают будущее, в котором каждая домашняя телевизионная система будет оснащена оборудованием для прямого электронного голосования. Доводы за и против предложения на референдумах будут транслироваться по связи, а им в ответ будут пересылаться голоса. Что может быть демократичнее?
К сожалению, в подобных предложениях есть серьёзные недостатки. Они коренятся даже глубже, чем проблемы с манипуляцией в медиа, вовлеченностью финансового истеблишмента и опасениями экспертов и элит по поводу безответственности народа при прямом голосовании.
Важнейшая проблема заключается в определении вопросов, выносимых на референдум. Кто решает, какими они будут? Кто определяет, какой материал будет транслироваться в поддержку или против конкретного вопроса? Кто определяет, каким будет более широкий контекст голосования?
Фундаментальная проблема, касающаяся определения вопросов для референдума, не сводится лишь к возможной предвзятости. Это ещё и вопрос участия. Участие в принятии решений означает не только голосование по заранее определённым вопросам, но и участие в формулировании тех вопросов, которые выносятся на голосование. Это нелегко организовать, когда участвует миллион человек, даже если задействовать самую современную электронику. В этом основной недостаток референдумов.
Суть его заключается в предоставлении единственного варианта ответов большому числу голосующих. Даже когда некоторые граждане участвуют в разработке вопроса, как в случае референдумов, проводимых по гражданской инициативе, у большинства людей нет шансов поучаствовать в чём-то большем, выходящем за рамки варианта «да или нет». Не существует возможности переформулировать вопрос на основании дискуссии.
Другая проблема референдумов очень старая и касается сути самого голосования. Проще говоря, правление большинства означает угнетение меньшинства. Эта проблема более отчётливо видна в системах прямого голосования, но она также возникает и в представительных системах.
Консенсус. Консенсус – это метод принятия решений без голосования, нацеленный на активное участие членов группы, их сплочённость и открытость новым идеям. В соединении с другими умениями группы в области социального анализа, исследования групповой динамики, разработки стратегий и их оценки консенсус действительно становится мощной силой40.
Однако каждый, кто участвовал в принятии решений на основе консенсуса, должен понимать, что эта практика нередко оказывается далека от своей теории. Иногда в этом процессе доминируют сильные личности, а менее уверенные люди боятся выразить свои взгляды. Поскольку возражения обычно должны быть высказаны прямо в лицо, теряется защита анонимности при тайном голосовании. Собрания могут длиться бесконечно, и те, кто не может посвятить им требуемое время, по сути, теряют право своего участия. Но важнейшей проблемой консенсуса является непримиримый конфликт интересов. Наилучшее решение этой проблемы представлено в книге «За пределами оппонирующей демократии» Джейн Мэнсбридж41.
В качестве демократической альтернативы выборам у консенсуса есть серьёзные недостатки, если речь идёт о крупных коллективах42.
Малочисленные группы. Одним из решений этой дилеммы может быть сохранение небольших размеров группы43. Даже голосование не накладывает столько ограничений, когда число голосующих настолько мало, что, весьма вероятно, все они знакомы друг с другом. В этом случае консенсус можно использовать по максимуму.
Кроме того, небольшой размер обеспечивает множественность политических систем. Френсис Кендалл и Леон Лоув предлагают федерацию автономных политических образований, наподобие швейцарской, в которой каждая община может выбирать свою политическую и экономическую систему44. В этой системе Кендалла и Лоува сложности опробования новых методов и цена неудач значительно снижены.
Малый размер может облегчить управление, однако же, останутся масштабные проблемы, требующие решения. Глобальное загрязнение и локальные стихийные бедствия, к примеру, требуют принятия решений более широкого масштаба. Как же должны приниматься решения по таким вопросам?
По существу, сам по себе малый размер группы не снимает проблему принятия в ней решений. По-прежнему могут сохраняться глубинные конфликты интересов, исключающие возможность консенсуса, всё ещё могут оставаться проблемы доминирования, связанные с электоральными методиками.
Наконец, практически во всех группах, за исключением совсем крошечных, остаётся базовая проблема ограниченности участия. Не у всякого человека найдётся время, чтобы стать полностью осведомлённым по каждому вопросу. Консенсус допускает, что каждый человек может и должен принимать участие в выработке решений; если же некое достаточное число людей из него выпадает, то в группе начинают верховодить самые энергичные или те, кому больше нечем заняться. Напротив, представительная демократия ставит избранных представителей на роли принимающих ключевые решения; участие всех остальных ограничено деятельностью в предвыборных кампаниях, голосованиях и лоббировании. В обоих этих случаях участие оказывается крайне неравным не по причине выбора, а в силу структуры системы принятия решений.
Делегаты и федерации. Излюбленным анархистским решением проблем координирования и участия членов группы являются делегаты и федерации. Делегат отличается от представителя тем, что он более тесно связан с электоратом: делегата могут отозвать в любой момент, особенно в том случае, если он не следует наказам своих избирателей. Федерации – это способ объединения самоуправляющихся организаций. Организации, входящие в федерацию, оставляют за собой полномочия принимать решения по своим собственным делам. Члены федерации собираются вместе, чтобы решать вопросы, касающиеся их всех. В «слабой федерации» у центра остаются только совещательные функции; в «сильной» ему принадлежат достаточные исполнительные полномочия в определённых сферах. Имея несколько связующих звеньев в федерации, можно обеспечить полное членство на низовом уровне, а консультации и принятие некоторых решений происходят на более высоких уровнях.
Система делегатов и федераций выглядит альтернативой традиционным электоральным системам, однако между этими методами есть существенное сходство. Делегаты обычно избираются, а это ведёт к уже знакомым проблемам представительства. Начинают доминировать определённые личности. Участие в принятии решений оказывается неравным, когда одни делегаты существенно вовлечены в этот процесс, а другие – нет. В крайних случаях получается, что решения фактически принимаются на более высоких уровнях, где имеется большой потенциал для построения фракций, торговли голосами и манипуляций электоратом.
Вот в чём система делегирования, как предполагается, должна быть другой: если делегаты начинают обслуживать себя, а не тех, кого они представляют, их можно отозвать. Но на практике добиться этого непросто. Делегатам свойственно «бронзоветь», превращаясь в формальных представителей. Люди, избранные делегатами, вероятно, имеют значительно больше опыта и знаний, чем обыкновенный человек. Будучи однажды выбранными, делегаты получают ещё больше опыта и знаний, что избирателям преподносится в качестве их высокой значимости. Иными словами, ценой отзыва делегата будет потеря опытной и влиятельной личности.
Такие проблемы всплыли на поверхность в немецкой партии зелёных. Своих формально избранных представителей в парламент партия решила рассматривать как делегатов, установив жёсткие ограничения на срок их пребывания в парламенте. Этому воспротивились некоторые из избранных, кто смог, благодаря своей большой популярности, организовать собственные группы поддержки. Более того, с прагматической точки зрения те, кто проработал в парламенте, имеют опыт и хорошо знакомы электорату, что способствует лучшему продвижению «зелёного» дела. Таким образом, подход делегирования оказался под сильным давлением.
Фундаментальной проблемой системы делегирования является неравное участие. Не каждый может принимать участие в рассмотрении каждого дела. Эта проблема решается таким образом, что делегатов вовлекают в процесс принятия решений гораздо шире за счёт других. Затем такое неравное участие воспроизводится и защищает себя. Чем больше уровней оказывается у федерации, тем более серьёзной будет проблема. Федерации тоже не являются волшебным средством разрешения проблемы координирования в самоуправляемом обществе.
В этом кратком обзоре некоторых из наиболее известных альтернатив выборам, подразумевающих прямое участие, я сконцентрировался на их недостатках. Но у этого метода, как и у других, есть и немало сильных сторон, и их следует распространять как дополнения или альтернативы существующей системе. Система консенсуса существенно развилась за последние десятилетия в качестве практического метода принятия решений. Потенциал децентрализации бесспорно велик.
Моя цель – не отвергать эти возможности, а указать на некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются. Наиболее серьёзную сложность представляет то, как обеспечить участие членов группы в рассмотрении широкого спектра вопросов, затрагивающих каждого. Как можно координировать (самоуправляемую) деятельность большого числа людей, не наделяя непомерной властью небольшие группы?
Джон Зубе выступает за «панархию», мирное сосуществование разнообразных методов образования добровольных ассоциаций45. В таком же духе и демархия может рассматриваться как один из потенциальных вариантов организации общества с точки зрения всеобщего участия.
Демархия
Демархия основана на случайной выборке отдельных личностей для деятельности в группах, принимающих решения, затрагивающие конкретные функции и услуги, такие как дороги или образование. Забудьте о государстве, забудьте о бюрократиях. В полностью оформившейся демархии всё это будет заменено сетью групп, чьи члены выбираются случайно, и каждая из которых занимается конкретной функцией на конкретной территории. Наиболее яркое описание демархии приводится Джоном Бернхеймом в его книге «Возможна ли демократия?»46.
Например, при населении от 10 000 до 100 000 человек должны существовать группы, занимающиеся транспортом, здравоохранением, сельским хозяйством, промышленностью, образованием, отходами, жильём, искусством и т. д. или же отдельными аспектами этих сфер, такими как железнодорожный транспорт. Каждая группа будет формироваться на основе случайной выборки из всех, кто добровольно согласится в них участвовать. Численность таких групп будет примерно io или 20 человек, они будут достаточно большими, чтобы в них присутствовали разные мнения, но и достаточно компактными, чтобы были возможны обсуждения лицом к лицу. Сами группы могут прибегать в своей работе к консенсусу, модифицированному консенсусу, голосованиям или иным процедурам ради выработки решений. Они могут обращаться за предоставлением документов, свидетельских показаний, опросов и любой другой информации, которую они хотели бы получить.
Поскольку не проводятся выборы и нет представителей, проблемы неравной формальной власти, бессилия избирателей, регуляции участия и тому подобные к демархии не применимы – по крайней мере в своём обычном понимании. Формальное участие вместо этого достигается посредством случайного отбора в «функциональные группы», а именно группы, занятые вопросами в конкретных ограниченных сферах. Случайный отбор для каждой группы проводится только среди пожелавших участвовать добровольно, так же как и политики должны быть добровольцами. Разница заключается в методе выборки: тут это случайный отбор, а не выборы.
Немногие станут добровольцами для участия в любой потенциальной группе. У большинства, вероятно, есть свои особые интересы, например почтовые службы, искусство, производство строительных материалов и оказание помощи людям с ограниченными возможностями. Такие люди могут стать добровольцами для службы в соответствующих группах, а также оказывать им услуги, комментировать политические решения и иным образом организовываться для продвижения одобряемой ими политики.
Демархия искусно решает проблему участия. Признавая невозможность каждого человека осведомлённо участвовать в решении каждого вопроса, она избегает всего, что могло бы напоминать орган власти, принимающий решения с далеко идущими последствиями по широкому спектру вопросов. Вместо этого у функциональных групп весьма ограниченная компетенция. Люди, более всего озабоченные каким-то одним вопросом, могут получить возможность повлиять на политику в этой области. Они могут оставить остальные вопросы на усмотрение других групп и людей, наиболее ими озабоченных. По сути, это процесс децентрализации при принятии решений на основе тематики или функции, а не географии или демографии.
Конечно же, оставляя принятие решений тем, кто наиболее заинтересован в соответствующей области, мы рискуем столкнуться с опасностями: эгоистичные группировки могут захватить власть и отлучить от неё всех остальных. Это обычно и происходит во всех типах организаций, начиная с правительств и корпораций, и заканчивая общественными движениями. Демархия справляется с этой проблемой посредством требования случайного отбора. Роль человека, официально принимающего решения, не может быть гарантирована никому. Более того, сроки функционирования строго ограничены, поэтому несменяемый руководитель или группировка просто не могут возникнуть.
Вырисовывается и ещё одна проблема. Не возникнут ли предвзятости в отобранных группах из-за того, что добровольно участвовать вызовутся только определённые люди? Не будут ли в большинстве групп, к примеру, доминировать белые мужчины среднего возраста? В этом не будет проблемы при условии надлежащего применения случайного отбора. К примеру, представьте, что для участия в группе из 10 членов при равном представительстве полов добровольцами вызвались 80 мужчин и 20 женщин. Тогда метод будет просто заключаться в случайном отборе 5 мужчин из 80 и 5 женщин из 20. Тем самым половой баланс в группе будет соответствовать всему населению, пусть даже степени добровольного участия и будут разными.
Что если люди не станут добровольно участвовать? Что если некоторые группы не наберут достаточно добровольцев для заполнения своих квот? В некоторых случаях это будет признаком успеха. Если то, как идут дела, приемлемо для большинства людей, то тогда не будет и особой необходимости становиться членом группы, принимающей решения. Напротив, в спорных сферах участие вряд ли будет проблемой. Если такие темы, как аборты или генная инженерия, вызывают страстные дебаты, то тогда озабоченные ими отдельные личности и группы сочтут для себя полезным рассказать об этих вопросах как можно большему количеству людей и побудить их участвовать в случайных выборках. В самом деле, любое непопулярное решение может мобилизовать людей участвовать в выборках. Более того, эти мобилизовавшиеся люди должны будут включать в себя разные категории: мужчин и женщин, молодых и пожилых и т. д. Как результат, в наибольшей степени участие и осведомлённое обсуждение будут присутствовать в сферах наибольшей озабоченности. В других же случаях большинство людей с радостью предпочтут предоставить решение этих дел другим.
Особый интерес представляют люди, попытавшиеся применить случайную выборку на практике. Нед Кросби основал Джефферсоновский центр исследования новых демократических процессов, где проводились практические эксперименты со случайными выборками граждан, из которых формировались «коллегии политических присяжных» для рассмотрения сложных политических вопросов47. Похожие проекты предпринимались и в Западной Германии с начала 1970-х годов под руководством Петера Динеля в Университете Вупперталя48. Группы случайно выбранных граждан, собранных для этих проектов, назывались «ячейками планирования». Эти ячейки занимались такими вопросами, как энергетическая политика, городское планирование и информационные технологии.
Между несколькими экспериментами с политическими присяжными, а также ячейками планирования и концепцией демархии Бернхейма существует колоссальный разрыв. Какую же стратегию следует использовать для движения к демархии?
Бернхейм полагает, что поскольку возможны случаи дискредитации различных государственных органов, у них может возникнуть желание перейти к демархическому управлению с целью поддержать легитимность сообщества. Эти и другие сценарии могут выглядеть правдоподобными, однако в реальности они мало говорят о том, что нужно делать. В конце концов, в обществе есть масса непопулярных, дискредитированных и прогнивших институтов, но это редко приводило к существенным переменам в методах принятия социальных решений. Говоря конкретнее, как следует агитировать за демархию при таких ситуациях? Воздействуя на государственных управленцев? Продвигая идею среди простого населения? Ясно одно. Идея демархии должна стать значительно более знакомой людям, прежде чем у неё появится хоть малейший шанс на воплощение в жизнь.
Экспериментирование с коллегиями политических присяжных и ячейками планирования жизненно необходимо для получения опыта и распространения идеи участия посредством случайной выборки. Но эти подходы ограничены тем, что они не связаны с основными социальными группами, способными мобилизовать людей для работы ради этой альтернативы.
Среди этих «основных социальных групп» в обществе есть и немало тех, кто, вероятно, будет враждебен к демархии. Среди них группы, наделённые властью, такие как правительства, менеджменты корпораций, профсоюзные боссы, политические партии, военные, «белые воротнички» и т. д. Подлинно народное участие, в конечном счёте, угрожает прерогативам элит.
По моему мнению, наиболее перспективным источником поддержки являются социальные движения: активисты борьбы за мир, феминистки, защитники окружающей среды и другие. Группы, подобные им, заинтересованы в более широком участии, которое с большей вероятностью, чем сегодняшние властные элиты, будет помогать им продвигать свои взгляды. Группы социальных движений могут попытаться включить демархию в свою повестку дня, используя учебные группы, лоббирование, раздачу листовок и организацию на низовом уровне.
Демархию, однако, следует рассматривать не только как политический вопрос, но и как средство, которое должно быть внедрено в сообщество в результате давления снизу. Социальные движения могут использовать демархию в качестве метода. Другими словами, они могут использовать её для принятия собственных решений.
Это не должно представлять серьёзных трудностей. В конце концов, многие группы социальных активистов уже используют консенсус как официально, так и де факто. Часто встречается и система делегирования. Использование случайной выборки для принятия решений в тех масштабах, при которых достижение консенсуса напрямую обеспечить сложно, не покажется существенной инновацией.
К сожалению, во многих социальных движениях дела решаются иначе. Во многих случаях имеются официальные бюрократические системы, особенно в крупных общенациональных организациях, а властью наделяются опытные и иногда харизматичные персонажи. Маловероятно, чтобы такие люди, как и любые политики, поддерживали переход к иной системе принятия решений. (Сам этот факт – наилучшая из возможных рекомендаций для принятия методов случайной выборки. Ведь в любом предложении, угрожающем как альтернативным элитам, так и официальным организациям, должно быть что-то дельное.)
Тем не менее социальные движения должны стать одним из наиболее перспективных мест для распространения демархии. Если они смогут по-настоящему попытаться применять её методы, у них получится стать значительно более эффективными её адвокатами. Более того, полное воплощение демархии, без государства и бюрократии, имеет большие шансы внутри небюрократизированных общественных движений, а не посреди руин провалившихся правительственных предприятий.
Одно из самых многообещающих мест для пропаганды демархии – это промышленный сектор49. Со всех сторон рабочим противостоят иерархические системы: корпоративный менеджмент, правительство и профсоюзные боссы. На уровне цеха накоплен большой опыт в кооперативном принятии решений; трудности возникают на более высоких уровнях. Именно там случайная выборка представляется реальной альтернативой. «Советы по работе», составленные из рабочих и менеджеров, случайно отобранных туда на небольшие сроки, закладывают основу для взаимодействия и координирования. Этот подход преодолевает все недостатки иных форм представительства. Представители рабочих в советах правления использовались для кооптирования рабочих, а их представители, ставшие делегатами в профсоюзах, нередко теряли связь со своими цехами. Демархические группы позволяют поддерживать вовлечённость обычных рабочих на крупных предприятиях.
Ключевым моментом здесь является то, что демархию следует рассматривать не как альтернативный политический курс, который должен быть внедрён сверху, но как один из методов самого действия. Цели должны быть инкорпорированы в средства. Весьма уместно, что группы, предлагающие демархию, сами пользуются её техниками.
Нет нужды говорить, что будущее демархии невозможно спланировать. Она стимулирует рассуждения о решениях ожидаемых проблем; общие формулировки Бернхейма чрезвычайно ценны для составления всей картины. Но как и основанная на жребии демократия проверяется, продвигается, пробуется, наслаждается успехами и терпит поражения, так и демархия будет модифицироваться и совершенствоваться. Этого следует ожидать.
Посыл в том, что процесс разработки и проверки альтернатив жизненно необходим для всех, кто находится в поисках общества, построенного на большем участии граждан. Верно, что некоторые насущные реформы могут быть достигнуты посредством старых методов избирательной политики, но это не может быть оправданием для отказа от испытания новых структур. Демархия – одна из таких альтернатив, она заслуживает внимания.
Возможно, зелёные – самое любопытное политическое событие за последние десятилетия, но вступив в электоральную политику, они, скорее всего, снизили свой потенциал борьбы за радикальные изменения. По иронии, именно популярные, харизматичные политические деятели зелёных представляют наименьшую угрозу существующим структурам власти. Их успех на выборах будет гарантией сохранения прежней системы политики.
Благодарности
Ранняя версия этого текста появилась в: Social Alternatives. Vol. 8. No. 4. January 1990. P. 13–18. Ценные комментарии к проекту статьи были получены от Боба Джеймса и Ральфа Самми.
Примечания к разделу «Демократия»
1 См.: Блэк Б. Анархия и демократия.
2 См.: The Mystification of Universal Suffrage // Property Is Theft! A Pierre-Joseph Proudhon Anthology / Ed. I. McKay. Oakland, California & Edinburgh, Scotland: AK Press, 2011. P. 316–318. Также: «Всеобщие выборы, императивный мандат, ответственность представителей, ограничение поля судебного усмотрения – всё это, в конце концов, детские игрушки», цит. по: Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. М.: ООО «Высшее образование», 2005. С. 333 (примем. перев.).
3 Согласно Кропоткину, синдикализм не является анархизмом. В своём предисловии к кн. Э. Плато и Э. Пуже «Как мы совершим революцию» (впервые опубл, в 1913 г.) он пишет, что «он [синдикалистский “Конфедеральный Комитет”] слишком много заимствует у того самого правительства, которое он только что свергнул» (см.: Пато Э. Пуже Э. Как мы совершим революцию ⁄ Пер. с фр. А.Ю. Фёдорова; предисл. Т. Манна, П.А. Кропоткина. М.: Либроком, гои. С. 8). Как писал Николас Уолтер, «синдикализм не обязательно является анархистским или даже революционным; на практике анархо-синдикалисты склонны становиться авторитаристами или реформистами или и теми, и другими…» (см.: Walter N. About Anarchism. P. 62). Примером более, чем обычно, тупого анархо-синдикалиста, являющегося демократом, можно назвать Уэйна Прайса, см.: Price W. Are Anarchism and Democracy Opposed? A Response to Crimethinc. (2016), www.theanarchistlibrary.org.
4 См., наир.: Estey J. A. The Impossibilities of a Syndicalist Society // Patterns of Anarchy. P. 520–531.
5 См.: Walter N. About Anarchism. P. 32; см. также: Javal P. The Absurdity of Politics // Disruptive Elements. P. 209–225 (впервые опубл, в 1939 г.).
6 См., напр.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек ⁄ Пер. с англ. М.Б. Левина. М.: ACT, 2007 (впервые опубл, в 1992 г.).
7 См.: Black В. Anarchy after Leftism. P. 76–87.
8 См.: Руссо Ж.-Ж. О политической экономии ⁄ Пер. с фр. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова ⁄⁄ Руссо Ж.-Ж. Трактаты ⁄ Пер. с фр. М.: Наука, 1969. С. 114–115.
9 См.: Black В. Nightmares of Reason, ch. 13, “The Communalist Hallucination” & ch. 14, “The Judgment of Athena”, www.theanarchistlibrary.org.
10 См.: Bookchin M. The Forms of Freedom.
11 См.: Zuckerman M. The Social Context of Democracy in Massachusetts // William & Mary Quarterly. 3rd ser. 25 (4). Oct. 1968). P. 539.
12 См.: Sinclair R.K. Democracy and Participation in Athens. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1988. P. 114–118; Stockton D. Classical Athenian Democracy. Oxford and New York: at the Clarendon Press, 1972. P. 84.
13 См.: Held J. Models of Democracy. 2d ed. Stanford, California: Stanford University Press, 1996. P. 21.
14 См.: Блэк Б. Разоблачённая демократия // Анархия и демократия. М.: Гилея, 2014. С. 22–26, 28–31.
15 См.: Бэкон Ф. О партиях // Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. Т. II. М.: Мысль, 1972. С. 469. Одним из любимых примеров прямой демократии у Букчина выступают парижские «секции» 1793 г. Но они были всего лишь недолговечными придатками к Царству Террора. В «секции» – изначально они были лишь избирательными округами – входило от 11 775 до 24 977 жителей, см.: Soboul A. The Sans-Culottes: The Popular Movement and the Revolutionary Government, 1795–1794 / Trans. R.I. Hall. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980. P. 26). Разумеется, они не могли функционировать как собрания, где каждый общается с каждым, если только их не посещало минимальное количество людей. Это же относится и ко всем народным собраниям, когда-либо существовавшим. «Небольшое число непреклонных», из высказывания Бэкона, контролировало секции, выматывая терпение всех остальных. В Париже они были известны как «крепкозадые», см.: Slavik М. The Making of an Insurrection: Parisian Sections and the Gironde. Cambridge & London: Harvard University Press, 1986. P. 159). 15 или 20 активистов, которым нечем было заняться, держали под контролем каждое собрание. Ноам Хомский посещал подобные сходки, см.: Chomsky N. Interview with Barry Pateman (2004) // Chomsky on Anarchism / Ed. B. Pateman. Oakland, California & Edinburgh, Scotland: AK Press, 2005. P. 227–228.
16 См.: Wilson C. Three Essays on Anarchism / Ed. N. Walter. Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1979. P. 13, также см. отрывки в кн.: Documentary History, 1. P. 128–130. Уилсон была первым редактором “Freedom”. Она была «движущей силой» лондонского анархизма конца XIX в., см.: Woodcock G. Anarchism. P. 445.
17 См.: Блэк Б. Разоблачённая демократия. С. 39.
18 См.: Tucker В. Instead of a Book. P. 169.
19 См.: Ehrlich HJ. et al. Questions and Answers about Anarchism // Reinventing Anarchism, Again / Ed. HJ. Ehrlich. Rev. ed. Edinburgh, Scotland & San Francisco, California: AK Press, 1996. P. 5–6.
20 См.: Estes C. Consensus // Reinventing Anarchism, Again. P. 368–374; Goodman P. Unanimity // Goodman P. Drawing the Line. P. 36–41.
21 См.: Bookchin M. A Note on Affinity Groups // Post-Scarcity Anarchism. P. 221–222.
22 См.: Bookchin M. Communalism: The Democratic Dimension of Anarchism // Bookchin M. Anarchism, Marxism, and the Future of the Left: Interviews and Essays, 1993–1998. San Francisco, California & Edinburgh, Scotland: AK Press, 1999-p-147-150-
23 См.: Блэк Б. Правосудие: первобытное и современное ⁄⁄ Блэк Б. Анархия и демократия. С. 168–178. В этом тексте я критикую традиционные анархистские представления о преступлении и наказании. Также я критикую и антропологов-анархистов за то, что те не приводят данных, касающихся процессов разрешения споров, ни в научной, ни в анархистской литературе.
24 См.: Малатеста Э. Большинство и меньшинство, https://www.nihilist.li/.
25 См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре ⁄⁄ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 231.
26 См.: Woodcock G. Anarchism. P. 34.
27 Цит. no: DullesJ.W.F. Anarchists and Communists in Brazil, 1900–1935. Austin, Texas: University of Texas Press, 1973. P. 8.
28 См.: Landauer G. For Socialism. P. 125–126; Gustav Landauer: Destroying the State by Creating Socialism (1910/15) // Documentary History, 2. P. 164.
29 См.: Ванейгем P. Революция повседневной жизни: Трактат об умении жить для молодых поколений ⁄ Пер. с фр. Э. Саттарова. М.: Гилея, 2005. С. 62.
30 См.: Monsieur Dupont. Nihilist Communism. 2d ed. Berkeley, California: Ardent Press, 2002.
31 См.: Burnheim J. Is Democracy Possible? The Alternative to Electoral Politics. London: Polity Press, 1985.
32 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия ⁄⁄ Бакунин М.А. Избр. соч. В 5 т. Т. 1. Пг.; М.: Кн-во Союза анархо-синдикалистов «Голос труда», 1919. С. 238–239.
33 Это хорошо было рассмотрено Бенджамином Гинзбергом, см.: Ginsberg В. The Consequences of Consent: Elections, Citizen Control and Popular Acquiescence. Reading, MA: Addison-Wesley, 1982.
34 См.: Miliband R. The State in Capitalist Society. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969.
35 См.: Boggs C. Social Movements and Political Power: Emerging Forms of Radicalism in the West. Philadelphia: Temple University Press, 1986.
36 См.: Martin B. Environmentalism and electoralism // Ecologist. 1984. Vol. 14. No. 3. P. 110–118.
37 См.: Ginsberg B. The Consequences of Consent; см. также: Ginsberg В. The Captive Public: How Mass Opinion Promotes State Power. New York: Basic Books, 1986.
38 Общепринятая трактовка этого вопроса рассматривается в кн.: Barber B.R. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of California Press, 1984.
39 См.: Arterton F. C. Teledemocracy: Can Technology Protect Democracy? Newbury Park, CA: Sage, 1987; Slaton C.D. Televote: Expanding Citizen Participation in the Quantum Age. New York: Praeger, 1992.
40 См.: Avery M., Auvine B., Streibel B., Weiss L. Building United Judgment: A Handbook for Consensus Decision Making. Madison, WI: Center for Conflict Resolution, 1981; Coover V., Deacon E., Esser C., Moore C. Resource Manual for a Living Revolution. Philadelphia: New Society Publishers, 1981.
41 См.: Mansbridge J. Beyond Adversary Democracy. New York: Basic Books, 1980.
42 См., напр.: Bookchin M. What is communalism? The democratic dimension of anarchism // Green Perspectives. No. 31. October 1994. P. 1–6; Landry C., Morley D., SouthwoodR., Wright P. // What a Way to Run a Railroad: An Analysis of Radical Failure. London: Comedia, 1985; Ryan H., Blocking Progress: Consensus Decision Making in the Anti-nuclear Movement. Berkeley: Overthrow Cluster, Livermore Action Group, 1985.
43 Этот вопрос рассматривается в кн.: Kohr L., The Breakdown of Nations. London: Routledge and Kegan Paul, 1957 и Sale К., Human Scale. New York: Coward, McCann and Geoghegan, 1980.
44 См.: Kendall F, Louw L. After Apartheid: The Solution for South Africa. San Francisco: ICS Press, 1987.
45 Публикации доступны при обращении по адресу: John Zube, 7 Oxley Street, Berrima NSW 2577, Australia.
46 См.: Burnheim J. Is Democracy Possible? The Alternative to Electoral Politics. London: Polity Press, 1985. Краткое содержание см. в статье: Burnheim J. Democracy by statistical representation // Social Alternatives. Vol. 8. No. 4. January 1990. P. 25–28. Решения мирового масштаба рассматриваются в работе: Burnheim J. Democracy, nation states and the world system // Held D., Pollitt Ch. (eds.). New Forms of Democracy. London: Sage, 1986. P. 218–239.
47 См.: Crosby N, KellyJ.M., SchaeferP. // Citizen panels: a new approach to citizen participation. Public Administration Review. Vol. 46. March – April 1986. P. 170–178; Crosby N. The peace movement and new democratic processes // Social Alternatives. Vol. 8. No. 4. January 1990. P. 33–37.
48 См.: Dienel PC. Contributing to social decision methodology: citizen reports on technological projects // Vlek Ch., Cvetkovich G. (eds.). Social Decision Methodology for Technological Projects. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989. P. 133–151.
49 Важнейшие исследования в этой области проделаны Фредом Эмери, см.: Emery F.E. Toward Real Democracy and Toward Real Democracy: Further Problems. Toronto: Ontario Ministry of Labour, 1989; Emery M. (ed.). Participative Design for Participative Democracy. Canberra: Centre for Continuing Education, Australian National University, 1989.
VI. Антропология
Анархистское движение возникло в то же время, что и антропология. Кропоткин, будучи географом, наблюдал первобытные общества в Сибири, которые он считал анархическими1. Это была эпоха Чарльза Дарвина и Герберта Спенсера. Социологи и антропологи разрабатывали теории общественной эволюции, где первой стадией было анархическое «дикарство» (теперь дикарей называют «охотниками-собирателями» или «фуражирами», живущими в «первобытных общинах»)2. Но, по крайней мере, эти ранние исследователи общества признавали, в отличие от многих сегодняшних консерваторов, что анархические общества действительно существовали. Эти эволюционные теории вышли из моды, хотя их усложнённые версии вернулись в 1950-е годы3. Когда антропологи начали заниматься полевыми исследованиями в 1920-1930-х годах, они обычно изучали общества более сложные и нередко более стратифицированные, чем первобытные группы, но, тем не менее, и они были анархическими. Никто в них не подчинялся приказаниям. Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун, на протяжении поколения бывший самым влиятельным британским социальным антропологом, был знаком с Кропоткиным, а в период своего обучения в университете имел прозвище «Браун-Анархия»4. Однако Рэдклифф-Браун и его последователи не приходили к каким-либо ярко выраженным анархическим выводам из своих этнографических наблюдений. Себя они полагали учёными. А их современники-анархисты почти не интересовались антропологией.
В середине 1970-х годов некоторые американские анархисты получили кое-какое представление об антропологии. Детройтская газета “Fifth Estate”, бывшая анархистской по состоянию на 1975 год, опубликовала работу Маршалла Салинса. Своей статьёй «Изначальное общество изобилия», написанной в 1968 году, он опроверг общепринятые знания антропологов, марксистов, экономистов и многих анархистов о том, что первобытные люди перегружали себя работой, недоедали и жили недолго5. В своей второй книге я приводил доводы в пользу его выводов6. Салине существенно повлиял на последовавшую анархистскую критику работы, технологий и цивилизации. В той статье не было утверждений, что первобытные общества были анархическими, но они действительно ими были. В другой своей книге Салине писал, рассматривая племенные общества: «Одно слово [вождя] – и все делают, как ему угодно»7. Мюррей Букчин, конечно же, «…никогда не признавал нелепую теорию “изначального общества изобилия”»8, в отличие от антропологов. Но вот Бакунин её принимал19
Тезис о первобытном изобилии ныне является общепризнанным знанием среди антропологов10. Отрицание первобытного изобилия теперь не более интеллектуально респектабельно, чем отрицание изменения климата или отрицание Холокоста. Данные наблюдений за самым исследуемым обществом охотников и собирателей, бушменов пустыни Калахари – живущих отнюдь не в лёгких условиях – демонстрируют, что вплоть до последнего времени, пока их не стали низводить до цивилизованности, они были здоровыми и хорошо питающимися людьми. Трудились они куда меньше, чем современные цивилизованные рабочие. Их работа была более искусной и даже более похожей на игру, чем современный труд. Продолжительность жизни была примерно на уровне Соединённых Штатов около 1900 года. И – финальное оскорбление для современных левых – женщины работали меньше, чем мужчины11. У бушменов также существовали механизмы для поддержания экономического равенства, как и в других первобытных и племенных обществах12. Даже суровые условия окружающей среды, как показывает их пример, не делают жизнь в голоде и длительном тяжком труде неизбежной. В совсем иных, но также очень суровых условиях – канадской Субарктике – индейцы вели изобильную жизнь, легко удовлетворяя свои основные нужды13.
Несколько академических учёных-антропологов объявляют себя анархистами. Но их собственные исследования ничего не дают анархистской мысли14. Джеймс Скотт – не анархист, но сочувствующий, и кое-что знает об анархизме15. Он написал одну важную книгу, которую, по всей видимости, едва ли прочёл хоть один анархист: «Искусство не быть управляемым: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии»16. Жители холмов Юго-Восточной Азии до сегодняшнего дня были беглецами-анархистами от государственных обществ равнин. Они разработали осознанные жизненные стратегии по уходу от контроля государства. Я думаю, такой подход может иметь и более широкое применение (к Горной Шотландии, Черногории и Албании). Казаки не были жителями холмов, однако они были беглецами от крепостного права и государственных властей.
Левые высмеивают первобытный эгалитаризм, поскольку, как они самодовольно утверждают: «Мы не можем вернуться обратно» к нему. Но когда их обожаемая индустриальная цивилизация рухнет, у «нас» может и не оказаться выбора! Для левых жизнь без кафе «Старбакс» будет сплошным кошмаром. В некоторых аспектах движение назад будет движением вперёд17. Ещё в 1894 году географ-анархист Элизе Реклю писал, что «…если анархия столь же древняя, как и человечество, то те, кто представляет её, тем не менее, привносят в мир что-то новое. У них есть чёткое представление о намеченной цели, и они съезжаются со всех концов Земли, чтобы осуществить свой идеал уничтожения всех форм правления»18.
В США археологи работают в отделениях антропологии. Я знаю одного неакадемического полевого археолога, Терезу Кинц, являющуюся зелёной анархисткой19. Она приходила ко мне в гости. Но она не писала о возникновении цивилизации или государства. Можно было бы ожидать, что анархистов должно очень интересовать возникновение государства, однако они не знакомы с современными научными теориями. Некоторые анархисты, нередко сами того не зная, принимают теорию классов Фридриха Энгельса (1884) или теорию завоевания Франца Оппенгеймера (1913). Теоретизирования Гарольда Барклая и Мюррея Букчина20 – чистейшие глупости. Если быть совсем кратким: в антропологии существуют теории «волюнтаризма» и «принуждения». Волюнтаристская теория заключается в том, что государство развилось для осуществления экономического координирования в становящихся всё более сложными обществах21. Теория принуждения утверждает, что государство – результат насилия22. С этим связаны разногласия о том, возникало ли государство постепенно и количественно, будучи результатом роста населения, или же это была «сравнительно быстрая качественная трансформация»23. Волюнтаристская теория, или теория согласия, заявляющая, что государство возникло потому, что оно было признано необходимым или полезным – сегодня столь же умозрительна, как и теории Гоббса, Локка или Руссо в своё время. Я – сторонник теории принуждения. Как и Руссо, я не верю, что вольные люди когда-либо могут согласиться стать управляемыми. Наоборот, они бы обуздали амбиции своих лидеров (Кластр) или убежали бы (Скотт). Государства могут или не могут давать некоторые блага обществу, однако они всегда основаны на насильственном принуждении. Но даже если государство когда-то было необходимо – а это мнение Бакунин разделял с Марксом, – то это ещё не причина полагать, что оно необходимо сейчас.
Существует практическая причина, почему анархистам стоило бы знать о происхождении государства: чтобы в случае упразднения современного государства мы бы знали, как не дать ему возникнуть снова. Единственный текст, выбранный мной здесь для этого раздела – это изящное эссе ныне покойного Пьера Кластра, считавшего себя анархистом. У южноамериканских индейцев существовали практики, препятствовавшие получению реальной политической власти «вождями». Они также старались избегать контактов с государством. Кроме того, их образ жизни демонстрирует примеры первобытного изобилия.
Содержание раздела «Антропология»
Пьер Кластр. Общество против государства (пер. с фр. А. Арамяна и А. Новиковой по: Clastres P. La société contre l’Etat. Paris: Les Editions de Minuit, 2009. P. 161–186; впервые опубл, в 1974 г.; редакторы пер.: Д. Шалагинов, Е. Кучинов).
Общество против государства
Пьер Кластр
«Первобытные общества – это общества без государства». Это фактическое суждение, само по себе верное, на самом деле скрывает в себе суждение оценочное, мнение, которое исключает возможность построения политической антропологии по правилам строгой науки. В действительности же под этими словами подразумевается, что первобытные общества лишены чего-то такого (государства), что им, как и любому другому обществу (например, нашему), необходимо. Значит эти общества неполноценны, они не являются настоящими обществами (они не цивилизованы), они наверняка страдают от своей нехватки (нехватки государства), которую им хочется восполнить, но тщетно. В хрониках путешественников или в работах исследователей с большей или меньшей прямотой говорится, что невозможно представить общество без государства, что государство есть судьба каждого общества. В таком ходе мыслей обнаруживается этноцентричная предвзятость, тем более крепкая, что чаще всего она остается бессознательной. Самые близкие ассоциации связаны если не с наиболее известными, то с самыми знакомыми явлениями. Действительно, каждый из нас разделяет уверенность в том, что общество поддерживает государство – эта уверенность живёт в нас как вера в религиозном человеке. Как тогда понимать само существование первобытных обществ, если не в качестве чего-то, оставшегося на обочине универсального исторического процесса, анахронического пережитка стадии развития, давно уже всеми пройденной? Здесь можно узнать другое лицо этноцентризма – убеждение, что у истории есть единое направление, что каждое общество обречено присоединиться к нашей истории и в ней пройти те этапы, которые ведут от дикости к цивилизации. «Все цивилизованные народы были дикими», – пишет Рейналь[18]. Но констатация очевидной эволюции никоим образом не может быть основанием для доктрины, которая, произвольно связывая состояние цивилизации с цивилизацией государства[19], обозначает последнюю как обязательную цель, предписанную каждому обществу. Тогда стоит спросить, что же задержало на месте эти последние из первобытных народов.
За современными формулировками, по сути, скрывается неизменный старый эволюционизм. Изощрённо спрятанный в языке антропологии (но не в языке философии), он ставится на один уровень с категориями, которые претендуют на научную достоверность. Мы уже заметили, что почти всегда архаические общества определяются негативно, через отсутствие чего-либо: общества без государства, общества без письменности, общества без истории. Аналогичным образом возникает и определение этих обществ в экономическом плане: общества с «натуральным хозяйством»[20]. Если тем самым хотят обозначить, что первобытные общества не знакомы с рыночной экономикой, куда уходят произведённые излишки, то таким определением совершенно ничего не добавляют, а лишь довольствуются открытием ещё одной «нехватки» и продолжают использовать наше общество как точку отсчёта: общества без государства, без письменности, без истории – это также общества без рынка. Здравый смысл может возразить: зачем нужен рынок, если нет излишков? Так идея «натурального хозяйства» скрывает в себе имплицитное утверждение, что если первобытные общества не производят излишков, то это потому, что они не способны это делать, поскольку всецело заняты добыванием того минимума, который необходим для выживания. Это проверенное временем и по-прежнему эффективное изображение нищеты дикарей. Чтобы объяснить неспособность первобытных обществ вырваться из застойной необходимости перебиваться изо дня в день, из постоянного отчуждения в поисках пропитания, мы обращаемся к их технологической отсталости.
Что же происходит в действительности? Если под техникой подразумевается совокупность методов, которыми люди обзавелись не для того, чтобы обеспечить абсолютное подчинение природы (это представляет ценность только для нашего мира и для его безумного картезианского проекта, экологические последствия которого мы едва начали осознавать), а для того, чтобы научиться управлять естественной средой обитания, соответствующей их потребностям, тогда вовсе нельзя говорить о технической отсталости первобытных обществ. Они явно демонстрируют способность удовлетворения своих потребностей, по меньшей мере, на том уровне, которым так гордится наше технологическое и индустриальное общество. Это значит, что каждой группе людей с определёнными усилиями удаётся обеспечить минимальные условия, необходимые для господства над средой, которую эта группа населяет. На сегодняшний день неизвестно ни об одном обществе, которое не смогло бы совладать со средой, которую оно занимало (кроме случаев принуждения или внешнего насилия): общество либо исчезает, либо уходит с этой территории. В быте эскимосов или австралийцев поражает именно их богатство, воображение и изящество технической активности, торжество изобретательности и эффективности, которые являют используемые этими народами инструменты. Впрочем, достаточно прогуляться по этнографическим музеям: внимательность и методичность в изготовлении орудий для повседневной жизни делает почти из каждого скромного инструмента произведение искусства. То есть в техническом аспекте не существует иерархии, нет ни высших, ни низших технологий; измерить технологическое оснащение можно только через его способность удовлетворять потребности общества в конкретной среде. С этой точки зрения первобытные общества совсем не кажутся неспособными обеспечить себя инструментами для достижения своих целей. Конечно, скрытые возможности технического открытия в первобытных обществах проявляют себя со временем. Ничто не дано сразу, всегда приходится терпеливо наблюдать и исследовать, нужна долгая череда проб и ошибок, поражений и успехов. Историки первобытного общества учат нас, что людям эпохи палеолита потребовались тысячи лет на то, чтобы сменить первые грубо сделанные рубила на восхитительные солютрейские клинки. С другой стороны, известно также, что открытие сельского хозяйства в Америке и в Старом свете произошло почти одновременно. Нужно признать, американские индейцы здесь ни в чём не уступают европейцам: совсем наоборот – они выигрывают в способности ориентироваться в огромном разнообразии полезных растений.
Остановимся ненадолго на том роковом интересе, который пробудил в индейцах желание получить металлические инструменты. На самом деле это напрямую связано с вопросом об экономике первобытных обществ, но совершенно не очевидным образом. Считается, что эти общества якобы обречены на «экономику выживания» по причине их технологической отсталости. Этот довод не имеет ни логических оснований, ни фактических. Логических – потому что не существует абстрактной иерархии, с помощью которой можно было бы измерить уровни технологического развития: техническое оснащение одного общества нельзя прямо сравнивать с оснащением другого общества, и ни к чему сравнивать ружьё с аркой. Фактических — потому что археология, этнография, ботаника и другие науки легко доказывают «рентабельность» и эффективность древних технологий. Так, если первобытные общества основаны на натуральном хозяйстве, то это не из-за отсутствия технических умений. По-настоящему правильный вопрос должен быть поставлен так: экономика этих обществ – это действительно «экономика выживания»? Если попытаться прояснить это понятие, а не довольствоваться трактовкой «экономики выживания» как экономики без рынка и излишков (это было бы простым трюизмом, простой констатацией различия), тогда получится, что это такой тип экономики, который позволяет обществу исключительно поддерживать своё существование; то есть что такое общество постоянно мобилизует все свои продуктивные силы, чтобы обеспечить своих членов тем минимумом, который необходим для выживания.
Здесь заключено стойкое предубеждение, которое парадоксальным образом соразмерно противоречащей ему и не менее распространённой идее о том, что дикарь ленив. Если в просторечии говорят «работать как негр», то в Южной Америке наоборот – «ленивый как индеец». Тогда надо выбирать одно из двух: или человек из первобытного (американского или другого) общества живёт при господстве экономики выживания и проводит большую часть своего времени в поисках пищи; или же он живёт не в рамках такой экономики и поэтому может позволить себе долгие часы досуга, которые проводит, покуривая трубку в своём гамаке. Именно это чрезвычайно поразило первых европейских наблюдателей в индейцах Бразилии. Сколь же велико было их осуждение, когда они увидели, что полные сил здоровяки предпочитают наряжаться в перья, как женщины, и раскрашивать своё тело вместо того, чтобы истекать потом в своих садах! Дикари целенаправленно игнорировали саму необходимость в поте лица добывать свой хлеб! Это уже было чересчур, так продолжаться не могло: индейцев сразу же заставили работать, и они от этого погибли. В действительности с самой зари западной цивилизации ей указывают путь две аксиомы: согласно первой, жизнь настоящего общества разворачивается в оберегающей тени государства, исходя из второй, формулируется категорический императив – работать необходимо.
Индейцы действительно совсем мало времени посвящали тому, что называют работой. И однако они не умирали от голода. Хроники того времени единодушно описывают прекрасную внешность взрослых индейцев, крепкое здоровье детей, изобилие и разнообразие продуктов питания. Таким образом, натуральное хозяйство индейских племён никоим образом не предполагало отнимающего всё время мучительного поиска пищи. Значит, натуральное хозяйство совместимо со значительным сокращением времени, необходимого для продуктивных занятий. Возьмём южноамериканские племена земледельцев – например, тупи-гуарани, чья праздность так раздражала французов и португальцев. Экономическая жизнь этих индейцев была основана, главным образом, на сельском хозяйстве, кроме него – на охоте, рыболовстве и собирательстве. Один сад использовали от четырёх до шести лет подряд, после чего его покидали из-за истощения почвы или, что более вероятно, из-за труд-ноискоренимых сорняков. Основная часть работы мужской половины племени состояла в обработке нужных земель с помощью каменного топора и огня. Эта задача, выполняемая в конце сезона дождей, мобилизовала мужчин на один или два месяца. Почти вся оставшаяся часть сельскохозяйственной работы – сажать, пропалывать, собирать урожай – в соответствии с половым разделением труда входила в обязанности женщин. Из этого следует забавный вывод: мужчины, то есть половина населения, работали примерно два месяца раз в четыре года! Что касается оставшегося времени, они его посвящали занятиям, которые воспринимались не как обязанность, а как удовольствие: охота, рыбалка, праздники и попойки; или, наконец, удовлетворение своей страстной тяги к войне.
Итак, этот массив впечатляющих качественных данных подтверждают недавние исследования более наглядного характера, которые заключаются в измерении времени, посвященного работе в обществах, живущих за счёт натурального хозяйства. Идёт ли речь об охотниках-кочевниках пустыни Калахари или об оседлых индейцах-земледельцах, полученные цифры показывают, что среднее количество отведённого на работу времени не превышает четырёх часов в день. Лизо[21], проведший несколько лет в племени индейцев яномами из венесуэльской Амазонии, вычислил, что средняя продолжительность времени, которое взрослый человек ежедневно отводит на работу (на все её виды), едва превышает три часа. Мне не довелось провести аналогичные расчёты среди гуаяки – охотников-кочевников парагвайских лесов, – но можно с уверенностью сказать, что индейцы (мужчины и женщины) проводили по меньшей мере полдня в почти полной праздности, поскольку иногда (но не каждый день) они занимались охотой и собирательством примерно с б до il часов утра. Возможно, схожие исследования последних сохранившихся первобытных обществ, проведённые с учётом экологических различий, привели бы к аналогичным результатам.
Всё это довольно далеко от того жалкого образа, который ассоциируется с идеей натурального хозяйства. Человек в первобытном обществе не только никоим образом не принуждён к этому якобы животному существованию в постоянном поиске средств выживания; результат – и даже более того – достигается ценой непродолжительной активности. Это означает, что членам первобытного общества хватает времени на то, чтобы при желании преумножить производство материальных благ. В таком случае здравый смысл вопрошает: зачем людям из первобытных обществ работать и производить больше, когда трёх или четырёх часов спокойной ежедневной активности достаточно, чтобы удовлетворить потребности их группы? На что им это? Для чего им накопленные таким образом излишки? В чём было бы их назначение? Люди работают свыше их потребностей только тогда, когда их к этому принуждают. И такой принуждающей силы, очевидно, нет в первобытном мире; отсутствие этой внешней силы даже определяет саму природу первобытных обществ. Можно описывать экономическую организацию таких обществ через понятие «экономики выживания», только если мы понимаем под этим не нужду, которая якобы происходит от нехватки, от немощности этого типа общества и его технологий; но напротив – отказ от ненужных излишков, намерение согласовывать продуктивную активность с удовлетворением потребностей. И не более того. К тому же, если быть более точным, в первобытных обществах вообще-то бывают излишки: плодов выращенных растений (маниока, кукуруза, табак, хлопок и проч.) всегда больше, чем необходимо группе, так как это добавочное производство, разумеется, включено в нормальное рабочее время. Этот избыток, полученный без прибавочного труда, потребляется и тратится в чисто политических целях – во время праздников, визитов чужаков и т. д.
Преимущество металлического топора перед каменным слишком очевидно, чтобы на нём останавливаться: за одинаковое время первым можно срубить, наверное, в десять раз больше, чем вторым, либо же выполнить одну и ту же работу в десять раз быстрее. И когда индейцы открыли для себя продуктивное превосходство топоров белых людей, они захотели получить эти инструменты не для того, чтобы производить больше за то же количество времени, а чтобы производить столько же в десять раз быстрее. Произошло же всё ровным счётом наоборот, потому что вместе с металлическими топорами в первобытный мир индейцев пришли насилие и власть, которые привезли с собой на континент цивилизованные первооткрыватели.
Как пишет Лизо по поводу племени яномами, первобытные общества – это общества отказа от труда: «Презрение яномами к работе и их равнодушие к автономному технологическому прогрессу бесспорно»24. Это справедливо и красноречиво выразил М. Салинз: первобытные общества – это первые общества досуга и изобилия.
Если проект организации экономической антропологии первобытных обществ как автономной дисциплины имеет смысл, он не может отталкиваться от простого описания экономической жизни этих обществ: мы остаёмся в рамках дескриптивной этнологии, на уровне описания неавтономных параметров первобытной социальной жизни. Скорее, только когда явление «тотального социального факта» выступает в качестве автономной сферы, становится оправданным понятие экономической антропологии, то есть когда стремление к досугу заменяется стремлением к накоплению; буквально, когда упомянутая выше внешняя принудительная сила заявляет о своем присутствии в социальном теле.
Это сила, без которой дикари никогда бы не отказались от праздности, сила, которая уничтожает общество в той мере, в какой оно является первобытным, – сила подчинения; это способность принуждать, политическая власть. Антропология здесь перестаёт быть экономической, она, в некотором смысле, теряет свой объект в тот момент, когда думает, что ухватила его, и экономика становится политэкономией.
Для человека из первобытного общества производительная активность ограничена его потребностями, при условии, что речь идёт главным образом об энергетической потребности: продуктивность сведена к восстановлению запаса потраченной энергии. Другими словами, жизнь как природный порядок (исключая производство благ, которые потребляются по праздничным случаям) определяет то количество времени, которое нужно потратить на восстановление энергии. Это значит, что как только удовлетворена общая потребность в энергии, ничто не может побудить первобытное общество производить больше, то есть отчуждать своё время, бесцельно работая, когда это время можно потратить на отдых, игру, войну или праздник. При каких условиях такое отношение первобытного человека к производительной активности может измениться? При каких условиях эта активность выбирает себе цель иную, чем удовлетворение потребности в энергии? Именно здесь нужно поставить вопрос о происхождении труда как труда отчуждённого.
В первобытном обществе, эгалитарном по своей сути, люди – хозяева своей деятельности и того, как происходит обмен её продуктами: они работают только для самих себя, несмотря на то, что отношения человека и продукта его деятельности опосредованы законами обмена. Когда производительная активность отклоняется от своей первоначальной цели, когда вместо того чтобы производить только для самого себя, первобытный человек производит также и для других, без обмена и без взаимности, всё переворачивается вверх дном. Когда эгалитарное правило обмена перестаёт служить основой «гражданского кодекса» общества, когда производительная активность нацелена на удовлетворение потребностей других людей, когда меновое правило сменяется страхом долга – именно тогда уже можно говорить о труде. Именно здесь возникает разница между дикарём Амазонии и индейцем империи инков. В целом, первый производит, чтобы жить, в то время как второй работает, чтобы позволять жить другим – тем, кто не работает, хозяевам, которые говорят ему: «Нужно заплатить за то, что ты нам должен, нужно вечно возвращать свой долг».
Когда в первобытном обществе экономика устанавливается как автономное и строго определённое поле деятельности, когда производительная активность воплощается в отчуждённом труде, подсчитанном и зафиксированном теми, кто насладится его плодами, – тогда общество разделяется на правителей и слуг, на хозяев и подчинённых. В этот момент оно перестаёт избавлять себя от того, что обернётся его гибелью, – от власти и почтения к власти. Главное разделение общества, порождающее все остальные разделения, включая, несомненно, и разделение труда, – это новое вертикальное отношение между основой и верхушкой, политическая пропасть между наделёнными властью, будь она военной или религиозной, и теми, кто подчинён этой власти. Политические отношения власти предшествуют и предопределяют экономические отношения эксплуатации. Отчуждение является политическим и только потом становится экономическим; власть возникает раньше труда; экономика – это ответвление от политики; появление государства предопределяет возникновение классов.
Незавершённость, неполнота, нехватка – конечно, не здесь стоит искать определение природы первобытных обществ. Скорее, её можно представить через позитивные термины преимущества, господства над естественной средой обитания, совершенства социального устройства, свободного отказа от того, что может изменить его, испортить или разложить. Нужно полностью понимать: первобытные общества – не отставшие в развитии эмбрионы позднейших обществ, не социальные тела, «нормальное» развитие которых было прервано какой-то странной болезнью, они не находятся на той исходной точке исторической логики, которая приведёт к каким-то образом уже заранее известному результату, который в действительности оказывается репрезентацией нашей собственной социальной системы. (Если история подчинена такой логике, как вообще возможно, что первобытные общества до сих пор существуют?) В плане экономической жизни всё это проявляется в отказе первобытных обществ позволить труду и производству их поглотить, в решении ограничить запасы продовольствия социально-политическими потребностями, в присущей им невозможности конкуренции – зачем понадобилось бы в первобытном обществе быть богатым среди бедных? – одним словом, в имплицитном запрете на неравенство.
Почему в первобытном обществе экономика отделена от политики? Как видно, это объясняется тем, что экономика здесь существует не автономно. Можно сказать, что в этом смысле первобытные общества – это общества без экономики по причине отказа от экономики. Но нужно ли говорить об отсутствии политического в этих обществах? Нужно ли считать, что поскольку речь идёт об обществах «без закона и без короля», то в них отсутствует сфера политического? И не попадаем ли мы в таком случае в типичную ловушку этноцентризма, с точки зрения которого нехватка накладывает отпечаток на все сферы различных обществ?
Давайте поставим вопрос о политическом измерении первобытных обществ. Речь идёт не просто об «интересной» проблеме, о теме, оставленной исключительно для размышлений специалистов, так как этнология тут раскрывает свой потенциал общей теории истории и общества, которую только предстоит создать. Крайнее разнообразие типов социальной организации, изобилие не похожих друг на друга обществ тем не менее не лишает нас возможности обнаруживать порядок среди беспорядка, упрощать это бесконечное многообразие различий. Эти упрощения могут быть масштабными, поскольку история даёт нам только два типа обществ, несводимых друг к другу, два макрокласса, каждый из которых отсылает к обществам, которые, несмотря на их различия, имеют что-то фундаментально общее. С одной стороны, есть первобытные общества, или общества без государства, и, с другой стороны, есть общества с государством. Это наличие или отсутствие государственного образования (способного принимать различные формы), которое предписывает каждому обществу его логическое место, которое проводит черту непреодолимого разрыва между двумя типами обществ. Появление государства повлекло за собой огромное типологическое разделение между дикарями и цивилизованными людьми; оно предписало неизгладимый разрыв, который меняет решительно всё, поскольку Время становится Историей. В движении истории часто (и справедливо) выделяют два решающих процесса ускорения. Движущей силой первого было то, что называют неолитической революцией (приручение животных, сельское хозяйство, открытие ткацкого и гончарного ремёсел, последовавший за этим переход к оседлому образу жизни групп людей и т. д.). Мы всё ещё живём во время поступательного ускорения второго процесса – индустриальной революции XIX века.
Несомненно, неолитический разрыв радикально изменил материальные условия существования людей прежнего палеолитического периода. Но была ли эта трансформация достаточно фундаментальной, чтобы в самой экстремальной глубине повлиять на сущность обществ? Можно ли говорить о различном функционировании социальных систем в зависимости от того, являются ли они пренеолитическими или постнеолитическими? Этнографические данные указывают скорее на обратное. Переход от кочевого образа жизни к оседлому – это, скорее всего, самое важное последствие неолитической революции, поскольку благодаря стабильной концентрации населения этот переход позволил сформироваться населённым пунктам, и более того – государственным механизмам. Но этот тезис содержит предпосылку, согласно которой любое технико-культурное «явление», лишённое сельского хозяйства, обязательно обречено на кочевничество. Эта предпосылка некорректна с этнографической точки зрения: экономика охоты, рыболовства и собирательства не требует обязательного кочевого образа жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры в Америке и не только, подтверждающие, что отсутствие сельского хозяйства совместимо с оседлым образом жизни. Это позволяет предположить, что если некоторые народы не осваивали сельское хозяйство, когда экологические условия их обитания для этого подходили, то связано это не с их некомпетентностью, технологической «отсталостью» или культурной ущербностью, а просто-напросто с тем, что они в этом не нуждались.
В истории Америки после Колумба есть примеры групп оседлых земледельцев, которые под влиянием технологической революции (освоение лошади, а вдобавок и огнестрельного оружия) решили отказаться от сельского хозяйства, чтобы всецело посвятить себя охоте, эффективность которой была преумножена десятикратной мобильностью, возникшей благодаря использованию лошадей. С освоением верховой езды племена Великих равнин Северной Америки и Гран-Чако в Южной Америке сделали свои перемещения более активными и дальними – но это описание уже довольно далеко от того типа кочевничества, к которому относят группы охотников-собирателей (вроде гуаяки из Парагвая), в этом случае уход от сельского хозяйства не выразился для рассматриваемых групп ни в демографическом рассеянии, ни в трансформации предшествующей социальной организации.
О чём говорят этот переход многочисленных обществ от охоты к сельскому хозяйству и обратное движение некоторых других обществ – от сельского хозяйства к охоте? Вероятно, о том, что эти переходы произошли, ничего не изменив в природе общества; что когда меняются только условия материального существования, оно остаётся верным самому себе; что неолитическая революция, если она значительно изменила (и, наверное, облегчила) материальную жизнь прежних групп людей, не вызвала автоматического переворота социального порядка. Другими словами, когда речь идёт о первобытных обществах, изменение на том уровне, который марксизм называет экономическим базисом, вовсе не обязательно приводит к изменениям в политической надстройке, потому что она, видимо, не зависит от материального базиса. Американский континент ясно иллюстрирует эту взаимную автономию экономики и общества. Группы охотников-собирателей-рыболовов, кочевые или нет, демонстрируют те же социально-политические особенности, что и их соседи, оседлые земледельцы: разные «базисы», идентичные «надстройки». Напротив, общества Мезоамерики – общества с империями, с государством – зависели от сельского хозяйства, которое, с точки зрения его технического уровня, было очень похожим на сельское хозяйство «диких» племён тропического леса: идентичные «базисы», разные «надстройки», потому что в одном случае речь идёт о безгосударственных обществах, в другом – о полноценных государствах.
Таким образом, решающим становится именно политический разрыв, а не экономические изменения. Настоящая революция в протоистории человечества – это не неолитическая революция, потому что она оставила прежнюю организацию общества в нетронутом состоянии, а политическая революция, загадочное, необратимое, смертельное для первобытных обществ явление, которое знакомо нам под именем государства. И если нам хочется сохранить марксистские термины базиса и надстройки, тогда, наверное, придётся признать, что базис – это политическая сфера, а надстройка – экономическая. Единственный глубинный структурный переворот, который способен был трансформировать первобытное общество, попутно его разрушая, – тот, что был вызван внутренними процессами или внешними силами, тот, чьё отсутствие само по себе определяет первобытное общество, – иерархическая власть, властные отношения, подчинение людей, короче говоря, государство. Напрасно было бы искать его происхождение в гипотетических модификациях производственных отношений в первобытном обществе, модификациях, которые, понемногу разделяя общество на бедных и богатых, угнетателей и угнетённых, автоматически привели бы к учреждению органа осуществления власти первых над вторыми, к появлению государства.
Такой процесс постепенного изменения экономической базы является не только чисто гипотетическим, но и невозможным в действительности. Чтобы в отдельно взятом обществе режим производства изменился в сторону интенсификации рабочей активности для увеличения производства благ, нужно либо чтобы люди этого общества желали таковых изменений традиционного образа жизни, либо чтобы эти изменения были бы насильно внедрены в общество. Во втором случае ничего не происходит с самим обществом, которое подчиняется насилию со стороны внешней силы, в интересах которой изменился режим производства: больше работать и производить, чтобы удовлетворять потребности новых хозяев. Политическое угнетение определяет и допускает эксплуатацию. Но напоминание о таком «сценарии» ничему не служит, потому что оно представляет источник государственного насилия как внешнее, случайное, внезапное событие, а не как постепенное воплощение внутренних социально-экономических процессов.
Говорят, что государство – это инструмент, позволяющий доминирующему классу осуществлять насильственное господство над подчинёнными классами. Предположим, что это так. Чтобы возникло государство, нужно, чтобы прежде уже существовало разделение общества на антагонистические социальные классы, связанные между собой отношениями эксплуатации. То есть структура общества – классовое разделение – якобы должна предшествовать возникновению государственной машины. Взглянем бегло на хрупкость этой концепции, служащей инструментом государства. Если общество организовано угнетателями, способными эксплуатировать угнетённых, то лишь потому, что способность поддерживать это отчуждение основана на использовании определённой силы, то есть на том, что составляет саму сущность государства, на «монополии на легитимное физическое насилие». В таком случае, какой цели служит появление государства, если его главная особенность – насилие – имманентна разделению общества и в этом смысле уже воплощена в угнетении, которое одна социальная группа осуществляет над другими? Государство тогда оставалось бы бесполезным органом, основная функция которого выполнялась и без него.
Когда появление государственной машины связывают с трансформацией социальной структуры, это приводит только к отдалению от осознания проблематичности этого события. Потому что в таком случае нужно задаться вопросом о том, почему внутри первобытного общества (а это значит, внутри общества неразделённого) возникает новое разделение на угнетателей и угнетаемых? Что является движущей силой этой ключевой трансформации, которая якобы достигает кульминации в возникновении государства? Один из вариантов ответа гласит, что появление государства позволило легитимировать существование частной собственности, которая возникла ранее. Хорошо. Но почему тогда возникла частная собственность в таком типе общества, которое не знает собственности, поскольку отказывается от неё? Почему какие-то люди однажды захотели заявить: «Это моё», – и почему остальные позволили таким образом допустить возникновение того, что незнакомо первобытному обществу – власти, угнетения, государства? Наши сегодняшние знания о первобытных обществах запрещают нам искать источник политического в области экономики. Генеалогическое древо государства укоренилось не в этой почве. В функционировании экономики первобытного общества, общества без государства, нет ничего, что позволяет ввести различие между самыми богатыми и самыми бедными, потому что в нём никто не испытывает странного желания делать больше, владеть и казаться чем-то большим, чем сосед. Одинаковая для всех способность удовлетворять материальные нужды и постоянно препятствующий личному накоплению обмен благами и услугами делают просто невозможным зарождение такого желания – желания обладать, которое на самом деле является тягой к власти. Первобытное общество, первое общество изобилия, не оставляет никакой возможности желать сверхизобилия.
Первобытные общества – это общества без государства, потому что в них государство является невозможным. Однако все цивилизованные народы сначала были дикими: в чём причина того, что государство перестало быть невозможным? Почему люди перестали быть дикими? Какое удивительное событие, какая революция позволили появиться образу Деспота, отдающего приказы подчинённым? Где возникает политическая власть? Это подлинная загадка происхождения, возможно, временная.
Если пока что кажется невозможным определить условия появления государства, то вместо этого можно уточнить условия его не-появления, и в текстах, которые здесь[22] представлены, предпринята попытка очертить пространство политического в обществах без государства. Без веры, без закона, без короля – то, что Запад в XVI веке говорил про индейцев, нетрудно распространить на любое первобытное общество. Это может быть даже критерием различия: общество является первобытным, если в нём нет короля как легитимного источника власти, то есть государственной машины. Напротив, каждое не-первобытное общество – это общество с государством, и конкретный политический режим здесь не играет решающей роли. Из этого следует, что большие архаические деспотии можно сгруппировать в один класс (короли, императоры Китая или Анд, фараоны), более близкие к нам монархии («Государство – это я») или современные социальные системы, будь то либеральный капитализм, как в Западной Европе, или государственный капитализм, как в других государствах…
В племени нет короля, но есть вождь, который не является вождём государства. Что это означает? Всего лишь
то, что вождь не располагает ни властью, ни способностью к принуждению, ни возможностью приказывать. Вождь не является командиром, люди из племени абсолютно не обязаны ему подчиняться. Пространство власти вождя – это не локус власти, и образ дикого «вождя» (не совсем подходящее название[23]) никак не предвосхищает образ будущего деспота. Государственный аппарат в целом точно не может зародиться в первобытных вождествах.
Почему вождь племени не является прообразом вождя государства? Почему предвосхищение государства невозможно в мире дикарей? Этот радикальный разрыв, делающий немыслимым постепенный переход от первобытного вождества к государственной машине, естественно основывается на том исключающем действии, которое помещает политическую власть за пределы института вождества. Речь идёт о вожде без власти; институции, которая противится своей природе – природе властного института. Проанализированные выше функции вождя хорошо показывают, что речь не идёт о властных функциях. Наделённый обязанностью главным образом улаживать конфликты, которые могут возникнуть между индивидами, семьями, родами и т. д., он располагает только признанным за ним авторитетом, чтобы восстанавливать порядок и согласие. Но, разумеется, авторитет не означает власти, и методы, к которым прибегает вождь для выполнения своей задачи примирителя, ограничиваются исключительно правом речи: он должен не столько решать споры противоположных групп (вождь не является судьёй, он не может позволить себе занять определённую позицию в пользу одной или другой стороны), сколько, вооружённый только красноречием, пытаться убедить людей, которых нужно примирить, отказаться от оскорблений и подражать предкам, которые всегда жили в полном согласии. Это предприятие, не всегда ведущее к успеху, пари с всегда неопределённым исходом, потому что слово вождя не имеет силы закона. Если попытка убеждения не удалась, то конфликт рискует разрешиться через насилие, и авторитет вождя может от этого сильно пострадать, потому что он показал свою неспособность осуществить то, чего от него ждут.
Как племя определяет, что такой-то человек достоин быть вождём? В конечном счёте, только опираясь на его «технические» компетенции – это ораторский дар, навыки охотника, возможность координировать наступательную и оборонительную военную деятельность. И общество никоим образом не позволяет вождю пройти выше этого технического ограничения, оно никогда не позволяет техническому превосходству превратиться в политическую власть. Вождь всегда находится на службе у общества; именно общество – настоящий локус власти – пользуется своей властью над вождём. Поэтому вождь не способен обратить эти отношения в свою пользу, поставить общество на службу себе, применить по отношению к племени то, что называют властью: никогда первобытное общество не потерпит превращения вождя в деспота.
Это в некотором смысле строгий надзор, которому племя подвергает вождя, заключённого в строгие рамки, за пределы которых он не может выйти. Но хочет ли он оттуда выйти? Бывает ли так, чтобы вождь захотел быть «шефом»? Чтобы он захотел заменить служение интересам группы исполнением собственных желаний? Чтобы удовлетворение его личного интереса восторжествовало над подчинением коллективному замыслу? Благодаря строгому контролю, который в первобытных обществах осуществляется как над деятельностью вождя, так и надо всеми другими сторонами жизни (это связано с природой первобытного общества, а не с осознанной и обдуманной одержимостью контролем), случаи, когда вожди нарушают первобытный закон, очень редки: ты не являешься чем-то большим, чем остальные. Хоть и редко, но всё-таки иногда случается, что вождю хочется быть шефом, и не по макиавеллианским мотивам, но, скорее, потому, что у него, в конечном счёте, не остаётся выбора, он не может поступить иначе. Давайте проясним. Вообще говоря, вождь не пытается (и даже не мечтает) ниспровергнуть нормальные (согласующиеся с нормами) отношения, которые он поддерживает со своей группой, не желает ниспровержения, которое из служителя обществу сделало бы его хозяином. Касик Алекан, командующий абипонским племенем на территории аргентинского Гран-Чако, дал прекрасное определение этим нормальным отношениям, когда отвечал испанскому офицеру, который хотел его убедить втянуть своё племя в войну, в которой оно не хотело участвовать: «Абипоны, по обычаю предков, всё делают по своей прихоти, а не по прихоти своего касика. Я ими руковожу, но я не могу нанести ущерб никому из своих людей, не нанеся ущерб самому себе; если бы я пользовался приказами или силой по отношению к моим товарищам, они сразу же отвернулись бы от меня. Я хочу, чтобы они меня любили, а не боялись». И, безусловно, большинство индейских вождей сказали бы то же самое.
Тем временем, есть исключения, почти всегда связанные с войной. На самом деле известно, что подготовка и ведение военных действий – это единственные обстоятельства, когда вождь старается использовать минимум власти, основанной, повторим, исключительно на его технической компетенции воина. Как только битва заканчивается, каким бы ни был её исход, военный вождь снова становится вождём без власти, а последовавший за победой престиж ни в коем случае не превращается во власть. Всё держится на этом строгом, поддерживаемом обществом разделении власти и престижа, славы воина-победителя и прямого командования, которое ему запрещено осуществлять. Источник, наиболее пригодный для утоления жажды воинского престижа, – это война. В то же время вождь, чей престиж связан с войной, может его сохранить и усилить только в войне: это нечто вроде одержимости, импульса, который подталкивает вождя к постоянной организации военных походов, из которых он рассчитывает получить (символические) выгоды, связанные с победой. Насколько его жажда войны соотносится с общей волей племени, в особенности с волей молодых, для которых война также является главным способом завоевать авторитет, настолько воля вождя не выходит за рамки коллективной воли общества, и привычные отношения между племенем и вождём остаются неизменными. Но риск того, что воля вождя выйдет за эти рамки, и он нарушит ограничения, строго заданные его функцией, – этот риск всегда есть. Вождь иногда идёт на этот риск и ставит свои личные интересы выше коллективных интересов племени. Таким образом он переворачивает привычные отношения, которые определяют лидера как инструмент для выполнения социально значимой задачи, и пытается сделать общество инструментом для достижения личных целей: племя на службе у вождя, а не вождь на службе у племени. Если бы это так работало, то именно здесь можно было бы обнаружить источник политической власти как власти насилия и принуждения; здесь обнаружилось бы первое воплощение государства, его миниатюрный прообраз. Но это никогда не работает.
В замечательном повествовании о двадцати годах, проведённых у яномами25, Елена Валеро подробно рассказывает о своём первом муже, главном воине Фузиуэ. Его история прекрасно демонстрирует судьбу дикого вождя, когда он, в силу обстоятельств, вынужден нарушить закон первобытного общества, которое, будучи настоящим локусом власти, отказывается эту власть делегировать. Фузиуэ был признан «вождём» благодаря авторитету, который он добыл себе как организатор и вождь удачных набегов на вражеские группы. Как следствие, он ведёт войны, которых хочет его племя, он ставит на службу группе свою техническую компетенцию воина, мужество, энергичность; он является эффективным инструментом общества. Но главное несчастье в жизни воина-дикаря заключается в том, что приобретённый на войне авторитет быстро улетучивается, если его источники постоянно не обновляются. Племя, для которого вождь является лишь подходящим инструментом для воплощения своей воли, легко забывает прошлые победы вождя. Для него никакой престиж не становится приобретённым окончательно, и если он хочет вернуть людям так легко исчезнувшую память о своём авторитете и славе, то это можно сделать не столько совершая новые, ещё более значительные подвиги, сколько создавая повод для новых сражений. У воина нет выбора: он обречён желать войны. Именно здесь проходит граница общественного мнения, которое признаёт его вождём. Если его желание войны совпадает с общественным, общество продолжает её соблюдать. Но если вождь пытается привить свою жажду войны обществу, живо желающему мира (ни одно общество на самом деле не хочет постоянно вести войну), тогда отношения между вождём и обществом переворачиваются, лидер пытается использовать общество как инструмент для своей личной цели. Итак, не будем забывать, что первобытный вождь – это вождь без власти: как он мог бы применить закон своего желания к обществу, которое от него отказывается? Он одновременно заложник своего желания авторитета и бессилия его воплотить. Что тогда может произойти? Воин обречён на одиночество, на сомнительную битву, которая приводит только к смерти. Такой была судьба южноамериканского воина Фузиуэ. Он остался покинутым племенем за то, что пытался навязать своим людям войну, которой они не хотели. Ему оставалось только вести эту войну одному, и он умер, изрешеченный стрелами. Смерть – это судьба воина, потому что первобытное общество таково, что оно не позволяет заменить желание авторитета волей к власти. Или, другими словами, в первобытном обществе вождь как возможность воли к власти заранее обречён на смерть. Обособленная политическая власть невозможна в первобытном обществе, в нём нет места, нет пустоты, которую могло бы заполнить государство.
Не столь трагично завершившейся, но весьма схожей является история другого индейского лидера, гораздо более знакомого всем, чем безвестный амазонский воин – речь идёт о прославленном вожде апачей Джеронимо. Чтение его воспоминаний26, хотя они и собраны довольно безыскусно, оказывается очень поучительным. Джеронимо был всего лишь молодым воином, таким же, как и все, когда мексиканские солдаты атаковали лагерь его племени и убили женщин и детей. Семья Джеронимо была полностью уничтожена. Разные племена апачей объединились, чтобы отомстить за убийство, и Джеронимо должен был управлять битвой. Всё обернулось полным успехом для апачей, уничтоживших мексиканский гарнизон. Воинский авторитет Джеронимо, главной причины победы, был безграничен. И с этого момента всё меняется, что-то происходит с Джеронимо. Поскольку апачи были довольны победой, которая прекрасно воплотила их жажду мести, дело как бы закончилось, но Джеронимо не согласился: он хотел продолжать мстить мексиканцам, ему казалось недостаточным кровавое поражение солдат. Но, конечно, он не мог один пойти в атаку на мексиканские деревни. Тогда он попытался убедить соплеменников снова вступить на тропу войны. Но впустую. Общество апачей, как только оно достигает коллективной цели – мести – начинает отдыхать. Желание Джеронимо – это теперь его личная цель, которую он хочет навязать всему племени. Он пытается сделать из племени инструмент для осуществления своего желания, в то время как раньше он сам был инструментом племени. Разумеется, апачи никогда не хотели следовать за Джеронимо, так же как и яномами отказались следовать за Фузиуэ. Тем не менее вождю апачей удавалось (иногда с помощью лжи) убедить нескольких молодых соплеменников, жадных до славы и добычи. В одном из таких походов армия Джеронимо, героическая и смехотворная, состояла из двух человек! Апачи, в соответствии с обстоятельствами согласившиеся с лидерством Джеронимо из-за его военной ловкости, упорно отворачивались от него, когда он хотел вести свою личную войну. Джеронимо, последний великий североамериканский военный вождь, потратил тридцать лет своей жизни на попытки захватить реальную власть и не добился успеха…
Сущностная особенность первобытного общества – это применение абсолютной и полной власти ко всему, что его составляет: это сопротивление автономии какой-либо из частей этого общества, это нацеленность всех внутренних процессов, происходящих в обществе, – сознательных и бессознательных – на сохранение социальной жизни в чётко очерченных рамках и в том виде, который предписан этим обществом. Один из способов, которым общество проявляет своё намерение сохранять первобытный социальный порядок, – это сопротивление индивидуальным, централизованным, автономным источникам власти. Таким образом, первобытное общество – это общество, от которого ничто не ускользает, которое не допускает выхода чего-либо за свои пределы, потому что все выходы закрыты. Следовательно, это общество обязано вечно воспроизводить себя, чтобы ничего существенного не могло измениться со временем.
Тем не менее существует аспект, который, кажется, ускользает от контроля общества – по крайней мере частично. Это «течение», которому оно может противопоставить только несовершенные «снасти» – речь о демографическом факторе, управляемом как культурными, так и естественными законами. Это пространство, в котором разворачивается жизнь, укоренённая одновременно в социальном и биологическом, функционирующая, подобно «машине», сообразно собственной механике, и благодаря этому способная оставаться за пределами общественной власти.
Мы не ставим перед собой цели заменить экономический детерминизм демографическим, приписать подходящим причинам (в виде демографического роста) необходимые следствия (трансформация социальной организации). Нужно, однако, признать социологические последствия количества населения, особенно в Америке, и то, что увеличение плотности населения может расшатывать – но необязательно разрушать – первобытное общество. На самом деле вполне возможно, что фундаментальное условие существования первобытного общества состоит в относительной скромности его демографических размеров. Процессы не могут функционировать по первобытной модели, если людей много; или, другими словами, чтобы общество было первобытным, нужно, чтобы оно было небольшим. И действительно, в мире дикарей можно констатировать чрезмерную раздробленность «наций», племён, обществ на локальные группы, которые старательно следят за сохранением своей автономии внутри целого, часть которого они составляют, даже если приходится заключать временные союзы с соседними «соотечественниками», даже если обстоятельства – особенно военные – этого требуют. Эта атомизация пространства обитания племени является эффективным средством воспрепятствовать установлению социально-экономических объединений локальных групп, и, более того, способом блокировать появление государства, по сути своей объединяющего. Итак, нужно констатировать, что когда Европа открыла тупи-гуарани, они уже ощутимо отошли от привычной первобытной модели по двум существенным пунктам: демографическая плотность их племён и локальных групп явно превышает плотность населения соседних народов, а размер локальных групп несоизмерим с размерами социально-политических объединений тропического леса. Разумеется, объединявшие несколько тысяч жителей деревни тупинамба не были городами, но они уже выходили за пределы стандартной нормы демографических размеров соседних обществ. На фоне демографического роста и концентрации населения, которые определённо являются отличительной особенностью не первобытной Америки, но Америки имперской, выделяется тенденция вождеств к захвату власти, неизвестная в других местах. Вожди тупи-гуарани точно не были деспотами, но они больше не были и вождями без власти в привычном смысле. Мы не будем браться за сложную задачу проанализировать вождества тупи-гуарани. Давайте просто отметим, что, с одной стороны, здесь наблюдался демографический рост, а с другой – медленное зарождение политической власти. Объяснение причин демографического роста в первобытном обществе не входит в задачи этнологии. Но в её задачи входит связывание демографического и политического факторов, анализ влияния, которое первый оказывает на второй при помощи социологических инструментов.
На протяжении всего текста мы многократно говорили о природной невозможности автономной политической власти в первобытном обществе, о невозможности генезиса государства в таком обществе. И сейчас, кажется, будем противоречить себе и назовём тупи-гуарани примером первобытного общества, где начало возникать то, что предположительно могло бы стать государством. Бесспорно, в этих обществах происходил процесс, который наверняка начался довольно давно, – возникновение вождества, чья политическая власть не является ничтожной. Французские и португальские этнографы прошлых столетий без колебаний приписывали этим значительным вождям племенных союзов титулы «королей страны» или «царьков». Этот процесс глубокой трансформации общества тупи-гуарани был жестоко прерван с появлением европейцев. Означает ли это, что если бы открытие Нового Света произошло веком позже, государство уже возникло бы в индейских племенах бразильского побережья? Реконструировать гипотетическую историю всегда легко (и рискованно), и её нельзя было бы назвать ложной. Но мы думаем, что в настоящем случае можно с твёрдостью ответить отрицательно: возможное появление государства у тупи-гуарани было прервано не появлением людей с запада, а скачком в развитии самого общества, движением против самой сути вождеств, которое оказало разрушительное влияние на власть вождей. Рассмотрим этот странный феномен, который начиная с последних десятилетий XV века расшатывал племена тупи-гуарани – пламенные пророчества некоторых членов племени, побуждавших индейцев бросить всё, чтобы отправиться на поиски Земли без Зла, земного рая.
Власть вождя и язык в первобытном обществе внутренне связаны, слово – это единственная власть, доставшаяся вождю. Более того, произносить речи – это его прямая обязанность. Но есть другое слово, другая речь, произносимая не вождями, но теми людьми, которые в XV и XVI веках вели за собой тысячи индейцев в безумные странствия в поисках родины богов: это речь карай, слово пророческое, опасное, в высшей степени подрывное, которое побудило индейцев к тому, что можно назвать разрушением их общества. Воззвание пророков покинуть плохую землю (т. е. существующее общество), чтобы добраться до Земли без Зла, общества божественного счастья, – всё это уничтожило социальную структуру и систему норм. И это происходило в тот момент, когда власть вождей и их зарождающаяся политическая сила становились всё более и более явными. Есть основания считать, что если пророки называли злым мир, в котором живут люди, то это потому, что они нашли несчастье, зло в той медленной смерти, на которую появление политического обрекло общество тупи-гуарани как первобытное общество, как общество без государства. Объятые ощущением, что основы древнего мира расшатываются, преследуемые предчувствием социально-экономической катастрофы, пророки решили, что нужно изменить мир, покинуть мир людей ради мира богов.
Эта пророческая речь до сих пор жива, как показывают тексты «Пророки в джунглях» и «Об одном из многих». Все три или четыре тысячи индейцев гуарани, влачащие жалкое существование в лесах Парагвая, все ещё радуются несравненному богатству, которое дарят им карай. Предположительно, карай больше не являются предводителями племён, как их предшественники XVI века, они уже не ищут Землю без Зла. Кажется, недостаток действия стал причиной опьянения мыслью, напряжённой глубокой рефлексии о несчастье человеческих условий существования. Свет, заключённый в этой дикарской мысли, ослепляет. Она гласит, что место рождения Зла, источник несчастий – это Единое.
Наверное, стоит сказать об этом подробнее и задать вопрос о том, что мудрость гуарани имела в виду под Единым? Это излюбленные темы современной мысли гуарани – те же, что более четырёх столетий назад волновали карай, пророков. Почему мир плох? Что мы можем сделать, чтобы уйти от зла? Эти вопросы индейцы не переставали себе задавать многие поколения: сегодняшние карай пророчески продолжают повторять речь своих предшественников. Они знали, что Единое – это зло, они ходили по деревням и рассказывали об этом людям, и те следовали за пророками в поиске Блага, в поиске не-Единого. У тупи-гуарани времён их открытия европейцами есть, с одной стороны, практика (религиозная миграция), которую можно объяснить, только если видеть в ней отказ от того пути, на котором настаивали вождества, отказ от отдельной политической власти, отказ от государства. И, с другой стороны, есть пророческая речь, которая называет Единое корнем Зла и заявляет о возможности его избежать. В каких условиях возможно помыслить Единое? Нужно, чтобы его присутствие, ненавистное или желаемое, каким-то образом стало заметным. И поэтому мы думаем, что за метафизической формулой, уравнивающей Зло и Единое, скрыто другое уравнение и другой политический порядок, гласящий, что Единое – это государство. Пророчества тупи-гуарани – это героическая попытка первобытного общества уничтожить несчастье с помощью радикального отказа от Единого как от универсальной сущности государства. Это «политическое» прочтение метафизического акта должно было бы тогда вызвать кощунственный вопрос: нельзя ли всю метафизику Единого прочесть таким образом? Что такое Единое как Благо, как объект, который западная метафизика, начиная со своих первых дней, вписывает в желание человека? Остановимся на этой волнующей очевидности: мысль пророков-дикарей и мысль древних греков говорят об одном и том же, о Едином; но индеец гуарани говорит, что Единое – это Зло, в то время как Гераклит говорит, что это Благо. В каких условиях возможно помыслить Единое как Благо?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к образцовому миру тупи-гуарани. Первобытное общество, из-за непреодолимого возвышения вождей подвергнутое опасности, создаёт (пусть и ценой коллективного квазисамоубийства) в себе самом силы, способные воспрепятствовать усилению власти вождей, пресечь в корне движение, вероятно, возникшее для того, чтобы превратить вождей в носителей закона. С одной стороны, вожди, а с другой, противостоящие им пророки – такова схематичная картина общества тупи-гуарани в конце XV века. И пророческая «машина» замечательно функционировала, потому что карай были способны повлечь за собой впечатляющие массы индейцев, пророческим словом доведённые до фанатизма (как сказали бы сегодня), вплоть до того, что они были готовы сопровождать их до смерти.
Что это означает? Пророки, вооружённые одним только логосом, смогли стать причиной «мобилизации» индейцев, они смогли осуществить эту невозможную в первобытном обществе вещь: с помощью религиозной миграции унифицировать многие отличные друг от друга племена. Им удавалось воплотить «программу» вождей одним движением! Коварство истории? Фатальность, несмотря ни на что обрекающая первобытное общество на зависимость? Как знать. Но, в любом случае, повстанческий акт пророков против вождей странным образом даровал первым власть бесконечно большую, чем власть вождей. Тогда, возможно, нужно скорректировать идею о том, что речь противоположна насилию. Если дикий вождь ещё служит долгу невинного слова, то первобытное общество в определённых условиях может попасть под влияние другого слова, забыв, что оно звучит как команда, – слова пророка. Возможно, именно в их речи хранится зародыш слова-власти, и за чертами вещающего о желаниях людей предводителя скрывается образ Деспота.
Пророческая речь, её могущество – здесь ли кроется исток власти, действительно ли начало государства нужно искать в Слове? Чтобы стать хозяевами людей, нужно было вначале покорить их души? Может быть. В силу демографических или иных причин общество тупи-гуарани достигло предельных границ по тем параметрам, которые определяют общество как первобытное. Пока влияние пророков не достигло высшей точки, дикари постоянно пытались помешать вождям быть вождями, отказывались от унификации, предотвращали Единое – государство. Как говорят, история народов, имеющих историю, – это история борьбы классов. Можно сказать с не меньшей уверенностью, что история народов, не имеющих истории, – это история их борьбы против государства.
Примечания к разделу «Антропология»
1 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции ⁄ Пер. с. англ.
B. Батуринского. СПб.: Тов-во «Знание», 1907. С. 149–151; см. также: Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность ⁄⁄ Кропоткин П.А. Анархия: Сб. ⁄ Сост. и предисл. Р.К. Баландина. М.: Айрис-пресс, 2002. С. 459, 468.
2 См., напр.: Tylor E.B. Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization. New York: Appleton & Co., 1907. P. 24–25.
3 См., напр.: Steward J.H. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1955; White L.A. The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome. New York: McGraw-Hill, 1959.
4 См.: Грэбер Д. Фрагменты анархистской антропологии. М.: Радикальная теория и практика, 2014. С. 17.
5 См.: Sahlins М. The Original Affluent Society // Stone Age Economics. Hawthorne, New York: Aldine de Gruyter, 1972. P. 1–39 (впервые опубл, в 1968 г. в “Le Monde”).
6 См.: Black В. Primitive Affluence: A Postscript to Sahlins // Friendly Fire. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1994. P. 19–41; на рус. яз. см.: Блэк Б. Первобытное изобилие (послесловие к Салинсу) ⁄⁄ Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии. С. 42–68.
7 См.: Sahlins М. Tribesmen. Englewood Cliffs, Newjersey: Prentice-Hall, 1968. P. 21.
8 См.: Bookchin M. Whither Anarchism? A Reply to Recent Anarchist Critics // Bookchin M. Anarchism, Marxism, and the Future of the Left. P. 187, однако он мог разоблачать её, только подделывая свидетельства, р. 191–193; Black В. Afterthoughts on the Abolition of Work // Black B. Instead of Work. P. 178–182.
9 См.: Бакунин M.A. Письма о Патриотизме ⁄⁄ Бакунин М.А. Избр. соч. В 5 т. Т. 4. Пг.; М.: Кн-во Союза анархо-синдикалистов «Голос труда», 1920. C. 92–93.
10 См.: Gowdy J. Hunter-Gatherers and the Mythology of the Market // The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers / Ed. R.B. Lee & R. Daly. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 391–398 (впервые опубл, в 1999 г.); см. также источники, упоминающиеся в кн.: Black В. Anarchy after Leftism. P. 122–129, BlackB. Nightmares of Reason (2010), ch. 4, “This Side of Paradise”, www.theanarchistlibrary.org.
11 См.: Lee R.B. TheîKung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1979. P. 250–280.
12 Ibid. P. 200–201, 244, 246–248; Sahlins M. Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia // Comparative Studies in Society & History. No. 5 (13). April 1963. P. 285–303; Woodburn J. Egalitarian Societies // Man, n.s. No. 17 (3). September 1982. P. 431–451.
13 См.: Martin C. Keepers of the Game: Indian-Animal Relationships and the Fur Trade. Berkeley, California: University of California Press, 1978. P. 72, 15, 126. Было бы интересным сделать с этой точки зрения обзор богатой рус. научной литературы о племенах Сибири.
14 См.: Barclay Н. People Without Government: An Anthropology of Anarchism. London: Kahn & Averill with Cienfuegos Press, 1982 – адекватное обозрение первобытных анархических обществ, сделанное анархистом, но полевые исследования Барклая не были посвящены такого рода обществам. Последующая его кн., “The State” (London: Freedom Press, 2003), в лучшем случае поверхностная, а в худшем, просто ужасная, см.: Black В. More Modesty АП Around: on Barclay’s The State // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 63. Spring-Summer 2007. P. 53–60). Morris B. People Without Government // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 63. Spring-Summer 2007. P. 41–51 – удовлетворительная краткая рецензия.
15 См.: Scott J.С. Two Cheers for Anarchism.
16 См.: Scott J. C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven, Connecticut & London: Yale University Press, 200g.
17 См.: Зерзан Дж. Первобытный человек будущего.
18 См.: Reclus Е. Anarchy (1894) ⁄⁄ Documentary History, 1. P. 131.
19 См.: Kintz Th. Introduction // Zerzan J. Running on Emptiness. P. viii-xviii; cm. также: “Radical Archaeology as Dissent”, green-anarchy.wikidot.com & www. theanarchistlibrary.org.
20 См.: Bookchin M. Ecology of Freedom: The Origin and Dissolution of Hierarchy. Rev. ed. Montréal, Québec, Canada: Black Rose Books, 1995 (впервые опубл, в 1982 г.); Black В. Anarchy after Leftism. P. 93–95. Джейсону МакКуину принадлежит рецензия на «неудавшуюся попытку Букчина в восьмидесятых сконструировать философский magnum opus в своей кн. “The Ecology of Freedom” (см.: Preface. P. 7). «К сожалению эта книга тяжела для чтения тем, кто не слишком сведущ в теории критики общества [или тем, кто, наоборот, хорошо её знает]. А её стиль местами оказывается непонятным, скучным и отклоняющимся от темы» (см.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 603).
21 См., наир.: Service E.R. Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution. New York: WW Norton & Co., 1975.
22 См., напр.: Carneiro R.L. A Theory of the Origin of the State // Science. No. 3947. August 21, 1970. P. 733–738.
23 См.: Abrutyn S. & Lawrence K. From Chiefdom to State: Toward an Integrated Theory of the Evolution of Polity // Sociological Perspectives. No. 53 (3). Sept. 2010. P. 420. Если возникновение государства было быстрым, одним из эпизодов «квантовой эволюции» – как утверждают эти авторы – то оно, вероятно, возникло путём стремительного насилия.
24 См.: LizotJ. Economie ou société? Quelques thèmes à propos de l’étude d’une communauté d’Amérindiens // Journal de la Société des américanistes. 1973. N0.9. P. 137–175.
25 См.: Биокка Э. Яноама ⁄ Пер. с итал. Л. А. Вершинина. М.: Мысль, 1972.
26 См.: Les Mémoires de Géronimo. Paris: F. Maspero, 1972.
VII. Экология
Мюррей Букчин полагал, что именно он своей книгой 1962 года «Наша синтетическая окружающая среда»1 мог бы стать вдохновителем экологического движения. К несчастью, его переиграл более качественно написанный бестселлер Рейчел Карсон «Безмолвная весна»2. Ничего анархистского или даже радикального не было ни в этой книге Букчина, ни в её сиквеле. Его вторая поп-экологическая книга «Кризис в наших городах» (1965) содержит на суперобложке рекламную аннотацию, написанную секретарём департамента внутренних дел США (членом правительства) и включает послесловие главного врача американской службы здравоохранения. В тот период Букчин даже не был против «разумного» использования ядерного оружия и ископаемого топлива3. Несмотря на это, он претендовал на звание основателя радикального энвайроментализма. Я не нашёл его имени ни в одной исторической книге. Краткий отчёт об экологическом движении в 1960-х годах также его не упоминает4. От имени своей «социальной экологии™» он пошёл на конфронтацию с движением глубинной экологии, – вероятно, только ради привлечения к себе внимания. Вскоре экологическое движение потеряло интерес к этой надуманной вражде5.
Анархистский энвайроментализм отверг бы урбанизм Букчина. Но ещё задолго до него крупные теоретики анархизма, такие как Пётр Кропоткин, предугадывали появление современного энвайроментализма, как это будет показано в первой статье, которую я выбрал для этого раздела. Тема экологии здесь рассматривается в работе Джорджа Вудкока 1974 года (не упоминающей Букчина). Экология не была существенной темой в классическом анархизме. Там она с трудом уживалась с ортодоксальными анархистскими возвеличиваниями владычества человека над природой и освобождающего потенциала технологии и индустриализации, как только контроль над ними возьмут в свои руки рабочие. Наиболее консервативные анархо-левые, включая и анархо-синдикалистов, всё ещё пишут в этом духе. Их риторика очень похожа на речи экономистов, бизнесменов, политиков, редакторов газет и марксистов-ленинцев. С момента появления статьи Вудкока вышли книги, возвращающие нам экологов классического анархизма6.
«Макс Кафар» – псевдоним Джона Кларка, уроженца Луизианы, преподающего философию в Университете Лойолы в Новом Орлеане. По его собственному признанию, он был «на протяжении более чем двадцати лет одним из самых энергичных защитников веры в социальную экологию [Букчина]»7. Он был одним из тех, кто пытался развивать «социальную экологию после Букчина»8 и «за пределами Букчина»9. Понятия не имею, насколько успешно. Я эти книги не читал. Однако «Сюрре (гион) алистский манифест» (1990) был буквально «за пределами» Букчина, в том смысле, что тот его не понял. В своей долгой жизнь, наполненной политической ложью, этим своим высказыванием Букчин вышел за пределы Букчина: «То, что моя связь с Кларком продолжалась столько, сколько продолжалась, – согласно Букчину, – является свидетельством моего безмолвного терпения его даосской трескотни и моей несомненной недогматичной публичной толерантности ко взглядам, не совпадающим с моими собственными»10. «Безмолвное терпение», «несомненная недогматичная» и «толерантность» – да, такими эпитетами Букчина мог бы наградить только сатирик!
Как бы там ни было, я сам не уверен, что до конца понимаю этот «Манифест». Сюрреализм и регионализм – неподходящие кандидаты для синтеза. Но я рукоплещу таким амбициям. Я не знаю, насколько переводима игра слов в этом тексте. Небольшое пояснение для русского (и американского) читателя: Месечабе – это название реки Миссисипи, в своём нижнем течении проходящей через Новый Орлеан и дельту Миссисипи/Месечабе на пути в Карибское море. Индейцы называли её «Отец вод». Если словесная экстравагантность Кафара местами и эзотерическая, то она же может быть и воодушевляющей.
Содержание раздела «Экология»
Джордж Вудкок. Анархизм и экология (пер. с англ. В. Садовского по: Woodcock G. Anarchism and Ecology // Woodcock G. Anarchism and Anarchists: Essays by George Woodcock/ Ed. D. Fetherling. Kingston, Ontario, Canada: Quarry Press, 1992. P. 117–129).
Макс Кафар. Сюрре(гион)алистский манифест (пер. с англ. В. Садовского по: Cafard М. The Surre(gion)alist Manifesto // Cafard M. The Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. Baton Rouge, Louisiana: Exquisite Corpse Books, 2003. P. 5–17).
Анархизм и экология
Джордж Вудкок
С выдающимся, даже пророческим озарением многие анархисты XIX века и их последователи предсказывали, что серьёзные социальные и экологические проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, являются неизбежными последствиями индустриализации и развития. Тем самым эти анархисты были предшественниками тех современных природозащитников, которые сегодня осознают, что разрушение и расхищение окружающей среды скорее связано с патологически порочной социальной системой, нежели с неадекватными мерами охраны или контроля над загрязнениями. Большинство анархистов считало, что человек должен жить в тесной гармонии с другими живыми существами и с окружающим миром. С некоторым основанием можно сказать, что анархисты были первыми настоящими экологами.
В 1899 году русский анархист Пётр Кропоткин, находясь в вынужденной эмиграции в Лондоне, издал свой труд «Поля, фабрики и мастерские», книгу, которая должна стать, если уже не стала, одним из канонических текстов экологического движения. В этой работе Кропоткин рассматривает многие проблемы, занимающие экологов в наше время. Его волновала концентрация населения и промышленности в крупных, нездоровых агломерациях; его волновала расточительность промышленных и аграрных производств того времени, и он рассчитал, что используя действенные меры сохранения плодородности почв, Англия могла бы стать самодостаточной в сельскохозяйственном отношении; он верил в интеграцию работы и образования, так чтобы обучение в процессе производства могло дать академическим знаниям базу для общественной деятельности; он также верил в интеграцию сельского хозяйства и промышленности, чтобы мелкие производители были бы рассредоточены по всей стране и ни один рабочий не чувствовал бы себя изолированным от сельской жизни и от ещё сохраняющихся остатков нетронутой природы. Патрик Геддес, Льюис Мамфорд и другие известные предшественники современного движения в защиту окружающей среды признавали, что Кропоткин существенно повлиял на них, а предложения Мамфорда по широкомасштабной децентрализации, высказанные им в книге «Техника и цивилизация», представляли собой нечто всего лишь чуть большее, чем идеи Кропоткина плюс электрификация.
Если «Оксфордский словарь английского языка» не вводит меня в заблуждение, то экология впервые была признана в качестве направления научной теории в 1870-е годы, в то десятилетие, когда Кропоткин стал анархистом и разработал свои теории анархического коммунизма (наиболее полно изложенные в его книге 1906 года «Хлеб и воля»[24]). Эти теории в основном опирались на пересмотр течения за политическую и экономическую централизацию, которое начало усиливаться ещё с эпохи Возрождения; они подчёркивали, что в своих подсчётах общественных нужд мы должны начинать не с вершин – государства или промышленной корпорации, – а с того уровня, на котором люди напрямую общаются в процессе личных и рабочих взаимоотношений, уровня, на котором наиболее реально можно обсуждать и самым прямым образом определять человеческие нужды.
По сути, разрабатывая анархический коммунизм, Кропоткин лишь развивал те тенденции, которые уже были заметны в анархизме с тех пор, как Уильям Годвин написал в 1790-е годы «Политическую справедливость» – первое значительное изложение этой доктрины. Годвин называл местные ячейки приходами; Прудон и Бакунин были больше заинтересованы в самоуправляющихся мастерских и коммунах; все они подчёркивали необходимость основывать организацию общества на природных законах; и Кропоткин усилил эту концепцию в своей книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» (вышедшую в 1902 году после того, как её материалы появились в виде серии статей в журнале “The Nineteenth Century”). Там он связал социальные обязательства, которые считал свойственными людям при отсутствии институтов принуждения, с общественными инстинктами, широко распространенными, по его мнению, у животных. Кропоткин написал «Взаимную помощь» как реакцию на модный в то время неодарвинистский подход, изображавший природу, по неудачному выражению Теннисона, «с окровавленными зубами и когтями», и рассматривавший борьбу за существование как непременно борьбу конкретных особей и видов. Будучи полевым географом с большим опытом исследований в Восточной Азии, Кропоткин обнаружил, что и некоторые полевые натуралисты вместе с ним осуждают такой взгляд на эволюцию как на неизбежную конкуренцию, и именно с одобрения Генри Уолтера Бейтса, автора классического труда «Натуралист на реке Амазонке» и близкого товарища Дарвина, он выдвинул аргумент о том, что борьба за существование была в действительности больше борьбой против неблагоприятных обстоятельств, нежели борьбой внутри видов, и что одной из наиболее действенных сил в эволюции и поддержании баланса в мире природы было на самом деле взаимодействие. Поскольку Кропоткин уделял основное внимание тому, что происходит внутри видов, он не сделал четкого описания сложной схемы взаимных зависимостей, которые замечает современный эколог, когда рассматривает взаимоотношения в природном мире, однако существование такой модели, безусловно, подразумевалось, особенно если учитывать, как сильно Кропоткин стремился доказать, что закон взаимной помощи является универсальным в своём приложении, помещая человека наряду со всеми животными в одном и том же природном континууме и основывая его собственное развитие как общественного существа на том же принципе, на каком обеспечивалось выживание и других видов – от насекомых, до высших млекопитающих.
Таким образом, поскольку классические анархисты сознавали, в какой степени здоровая в биологических терминах жизнь зависит от взаимопомощи на каждом своём уровне, и ясно видели аналогии между животным миром и человеческим обществом, практически нет сомнений, что они – как и их последователи сегодня – прониклись бы заботами современных экологов. Особым вкладом Кропоткина – наряду с его теоретическим вкладом во «Взаимной помощи» – было установление связи анархизма (посредством конкретных предложений промышленных и аграрных реформ, высказанных в работах, подобных книге «Поля, фабрики и мастерские») с движением за сохранение окружающей среды в интересах более полноценного существования, движения, достигшего зрелости только в последние десятилетия под давлением возрастающего экологического дисбаланса и резко сократившихся запасов топлива и сырьевых материалов.
Анархизм, существовавший уже более ста лет как отдельное отчётливо идентифицируемое политическое движение и в своей теоретической форме начавшийся с публикации «Политической справедливости» Годвина в конце XVIII века, на протяжении своей истории принимал множество форм, поскольку, в отличие от марксизма, он так никогда не и разработал формальной ортодоксальной доктрины или жёсткой организационной структуры, так как и то, и другое противоречило бы его акцентированию спонтанности как проявления свободы. Некоторые из форм, которые принимал анархизм, приводили к сенсационной публичности и вызывали крайнюю враждебность; бывали периоды, когда, к примеру, фанатики-анархисты – подобно фантикам из других движений – прибегали к покушениям на правителей и другим террористическим актам. Но такие крайние анархисты всегда представляли незначительное меньшинство, а кроме них были и другие, кто, подобно Толстому, верил, что анархистское отрицание принуждения автоматически означает отказ от насилия; Ганди причислял себя к анархистам такого типа.
Пожалуй, более существенными были различия во взглядах анархистов на то, как общество должно быть организовано политически и экономически и как должен быть осуществлён переход от несвободного общества. Ключевой для всех анархистских доктрин была убеждённость в том, что если даже человек не был по своей природе добр, он, по крайней мере, был от природы социален, а власть принуждения разрушила этот естественный общественный инстинкт. Все анархисты также соглашались, что громоздкие централизованные организации всех видов несут в себе опасность принуждения, и поэтому неизменно увязывали принцип добровольности с общественной, экономической и политической децентрализацией. Организация, утверждали они, должна начинаться с низового уровня, так, чтобы люди в небольших группах и отдельных локальных районах могли контролировать всё, что имеет к ним непосредственное отношение и не касается никого другого. При расширении диапазона интересов анархисты предпочитали не координацию, навязанную сверху некоей удалённой главенствующей властью, но применение того, что они называли «принципом федерации». Под этим они подразумевали, что общие дела города рассматриваются федерацией улиц и участков, направляющей делегатов на городские собрания, причём инициативы исходят с мест, а само такое общество строится на федеративных принципах снизу доверху – от города к району, от района к региону, и так далее, при этом полномочия принимать решения всегда восходят наверх от низового уровня, но не спускаются вниз некоей центральной властью. Очевидна важность этих взглядов на организацию общества с точки зрения задач экологов, так как потенциальная опасность экологического бедствия всегда раньше всего признаётся именно на местном уровне. Действительно, централизованные органы управления в сравнении с децентрализованными более склонны игнорировать признаки наступления экологической катастрофы, прикрываясь интересами так называемого национального благосостояния или даже открыто признавая интересы корпораций.
Параллельно с постоянным анархистским упором на децентрализацию можно выделить и другой аспект (его вряд ли можно классифицировать как теорию), сближающий анархистов с современными экологами. Это склонность к упрощению, а не к всё более нарастающему усложнению образа жизни.
Теоретически ранние анархисты действительно были склонны разделять с социалистами XIX века убеждение, согласно которому при должном управлении всеми мировыми ресурсами не было бы пределов физическому изобилию, которым люди могли бы с радостью пользоваться; именно это допущение со стороны Годвина позволило Мальтусу выдвинуть свои знаменитые аргументы о пределах природных ресурсов и их вероятном воздействии на прогресс и народонаселение. Поскольку мир в XIX веке всё ещё был – по нашим меркам – весьма мало населён, а также поскольку увеличение доступных ресурсов на протяжении века всегда превосходило возможности потребления при тогдашнем уровне технологического развития, предупреждения Мальтуса оставались без внимания анархистов, как и большинства других людей, вплоть до 1960-x годов.
Однако в случае анархистов существовал и компенсирующий фактор. По своему темпераменту они всегда отдавали предпочтение скромному и даже аскетичному образу жизни. Причиной тому был ряд представлений. В самом анархистском подходе было некое безусловное изначальное пуританство; анархисты были склонны рассматривать богачей и как жертв, достойных жалости, и как негодяев, достойных осуждения, такой дуализм восприятия был не столь редок среди религиозных фундаменталистов, для которых анархисты всегда были ближайшим светским аналогом. В то же самое время, анархисты не только чувствовали, что жизнь человека должна быть как можно более спонтанной и естественной (а значит, и незатруднённой материальными привязанностями), но также полагали, что стремление к богатству приводило к бедствиям экономической централизации, а значит, и к политической власти. В силу этих разнообразных причин такие анархистские мыслители, столь далеко отстоящие друг от друга во времени, как Пьер-Жозеф Прудон в середине XIX века и Пол Гудман в середине XX, были сторонниками того, что Гудман называл «достойной бедностью» – упрощение жизни, которое приведёт к упрощению организации общества и экономики. Анархисты и тесно связанные с ними либертарные социалисты, такие как Лев Толстой и Уильям Моррис, были глубоко озабочены дегуманизирующим эффектом машинных технологий, и хотя ни Толстой, ни Моррис не отвергали полностью использование машин там, где существовала необходимость ликвидации некоторых унизительных форм чёрной работы, и они сами, и их последователи стремились к такому будущему, в котором возродились бы ручные ремёсла и прекратилось бы вызванное промышленной революцией разрушение человека и окружающей среды.
В Индии, где предмеханизированное деревенское общество не только выжило в период британского правления, но и охватывало значительное большинство населения, Ганди – на которого во многом повлияли такие западные анархисты, как Толстой, Кропоткин и Торо, – планировал создать основанное на сельских поселениях общество с экономикой, опирающейся на ремёсла и простой, аскетичный образ жизни. Это не было всего лишь азиатской адаптацией анархизма; в Испании в первые месяцы Гражданской войны в 1936 году жители множества деревень в Андалусии, где у анархистов были последователи среди сельскохозяйственных рабочих, изгоняли своих землевладельцев, обобществляли землю и затем принимались строить самодостаточные локальные экономики, в рамках которых они стремились упростить свои нужды ради автономии деревни. Но, как отмечали наблюдатели, их цели определялись как политико-экономическими соображениями, так и в не меньшей степени моралью; они приветствовали недоступность предметов роскоши, таких как алкоголь или даже кофе, с представлением, что теперь их жизни оказались не просто освобождены, но и очищены.
Важным аспектом этой тенденции является не латентное пуританство, обнаруживаемое под анархическим темпераментом, но, скорее, тот факт, что единственные среди всех левых партий, анархисты – в отличие от либералов, социалистов, коммунистов и различных националистических движений – не были приверженцами постоянного материального прогресса и философии экономики роста. Они были склонны полагать, что хорошая жизнь, свободная жизнь не просто возможна, но и более достижима и надёжна при большей избирательности в подходе к технологическому развитию, в подходе, который не воспринимает богатство как необходимое благо. Они даже были готовы согласиться с тем, что в традиционных либеральных или социалистических понятиях рассматривалось бы как регресс, при условии, что это принесёт выгоды не столь материального характера. И стоит заметить, что такая тенденция встречалась у анархистов наряду с отрицанием или игнорированием ими аргументов Мальтуса, касающихся взаимосвязей между демографическим давлением и ограниченностью природных ресурсов.
Нельзя сказать, чтобы анархизм как историческое движение совсем не смог доказать ценность своих концепций децентрализованного либертарного общества. В широком смысле у него никогда и не было реальной возможности это сделать. Из-за своего недоверия к чрезмерной организованности анархисты медленно адаптировались к господствующим направлениям в экономике XIX века. Прудон стремился как можно дольше сохранять общество независимых крестьян и ремесленников, чьи земли и мастерские гарантировались бы им в качестве пожизненных «владений», а их продукция обменивалась бы посредством системы трудовых квитанций. Лишь с неохотой он соглашался с тем, что развитие системы заводов и железных дорог требовало появления ассоциаций рабочих для коммуникации и управления крупными производственными объектами. Даже когда позднейшие теоретики, такие как Бакунин и Кропоткин, разработали анархистские схемы коллективной собственности на средства производства и распределения (на основе классического лозунга «От каждого по его способностям, каждому по его потребностям»), индивидуализм и регионализм анархистов отражался как в их взглядах на политическую организацию (они очень крепко держались за идею «коммуны», соответствовавшей деревне или городскому кварталу, суверенной в экономических и политических вопросах), так и в их идее революционной тактики, основанной на методе индивидуального действия боевиков (так называемая «пропаганда действием»), – тактики, которая, как они надеялись, своим примером сможет побудить народ начать спонтанное восстание, разрушить пагубную и угнетательскую структуру государства и на её месте создать естественные ячейки свободного кооперативного общества.
Это, в сущности, романтический взгляд, и хотя анархисты были достаточно сильны, чтобы бросить вызов марксистам в Первом интернационале в 1870-е годы и привлечь множество сторонников в латинских и славянских землях, они не смогли создать стабильные массовые движения в основном из-за того, что регионализм пронизывал даже организацию их движения. После раскола Первого интернационала на анархистскую и марксистскую фракции, вскоре исчезнувшие, не было создано никакой устойчивой международной анархистской организации, хотя было множество контактов среди анархистов по всему миру, поддерживавшихся поездками таких вечных изгнанников – знаменитостей движения, как Пётр Кропоткин, Эррико Малатеста и Эмма Гольдман. Даже на национальном уровне лишь в нескольких странах, таких как Испания и Италия, федерации анархистов действительно демонстрировали хотя бы относительную живучесть.
Вместо подготовки к апокалиптической революции анархисты того времени были куда больше заняты попытками создать в уже имеющемся обществе инфраструктуру лучшего и более свободного общества.
Неоднократные неудачи анархистских восстаний в Испании и Италии в 1870-е и 1880-е годы и враждебное отношение общества, вызванное последовавшей волной индивидуального террора, к началу 1890-х годов низвели анархистское движение до кучки убеждённых боевиков и символистских писателей и художников; в самом деле, оно выглядело лишь одной из многочисленных форм эксцентрической фантазии, в которой проявляло себя болезненное настроение finde-siècle[25]. (Хотя даже тогда находились анархисты, разрабатывавшие в прогрессивных школах, сельских обществах и различных областях художественного экспериментирования более конструктивные проявления анархистского подхода.)
Но в действительности именно в это время анархизм стоял накануне одного из своих великих возрождений, отмеченных в его истории. В конце 1880-х годов атмосфера реакции, последовавшая во Франции за поражением Парижской Коммуны 1870–1871 годов (в которой активную роль принимали многие ранние анархисты, включая и художника
Гюстава Курбе), несколько смягчилась, и было позволено функционировать не только левым политическим партиям, но и профсоюзам. Поскольку анархисты рассматривали делегирование ответственности путём голосования за представителей в парламенте как нарушение свободы, они не были особо заинтересованы в участии или в организации политических партий, ставивших своей целью приход к власти посредством выборов или даже переворотов. Для них – и история, как кажется, доказала их правоту – власть была одинаково разлагающей как в руках левых радикалов, так и в руках правых реакционеров; анархисты же стремились к уничтожению, а не к апроприации государства. Однако совсем другим делом были профсоюзы – или синдикаты — поскольку они сохраняли прямую связь с изначальными трудовыми процессами. Анархисты из рабочего класса в большом числе становились членами синдикатов, занимали там ключевые должности и на основе своего опыта разработали единственную форму анархизма, привлёкшую сравнительно стабильную массовую поддержку.
Это был анархо-синдикализм, или революционный синдикализм. Основополагающая теория анархо-синдикализма заключалась в том, что профсоюз, если он остаётся в руках рабочих и никогда не обзаводится бюрократией постоянных собственных чиновников, становится идеальным инструментом для достижения свободного общества, так как настоящим сердцем любого государства является промышленность, а значит, возможность отказываться от труда позволит рабочим останавливать работу этого сердца. Стоит только им объявить всеобщую забастовку – «забастовку скрещённых рук», как её называли французские активисты, – чтобы государство оказалось парализовано, а затем рабочим будет несложно при помощи синдикатов завладеть своими заводами и предоставить их продукцию в распоряжение общества.
Теоретики синдикализма, такие как Жорж Сорель, автор книги «Размышления о насилии», рассматривали всеобщую забастовку как необходимый миф для поддержания боевого духа рабочих, и значит, и жизнестойкости общества в целом. Но воинственно настроенные анархисты внутри синдикатов восприняли эту идею буквально, так же как и те из анархистов (в особенности Малатеста), кто оставался приверженцем анархо-коммунистических доктрин спонтанного и локального действия и опасался, что господство синдикатов в движении может привести к созданию монолитных лоббирующих группировок, которые будут доминировать над обществом если не политически, то экономически.
Тем не менее именно путём создания анархо-синдикалистских союзов в начале XX века, в особенности во Франции, Испании, Италии и странах Латинской Америки, анархизм стал могучим массовым движением и снова оказался соперником марксизма. Вплоть до периода после Первой мировой войны мощное профсоюзное движение Франции CGT[26] находилось под влиянием анархистов, так же как и CNT в Испании, гордившееся своими двумя миллионами членов и бывшее самой крупной организацией из всех, признававших себя анархистскими, до триумфа Франко в 1939 году. В Испании не только анархо-синдикалисты были многочисленнее, чем где-либо ещё; именно там они смогли доказать в ходе первых стадий Гражданской войны 1936–1939 годов, что анархистские теории прямого рабочего контроля над промышленностью могут в самом деле работать на практике, ведь заводы и транспортная система Барселоны, так же как и многие сельскохозяйственные предприятия в Андалусии и Валенсии, были взяты под контроль рабочими под предводительством анархистских активистов и – как отмечали непредвзятые свидетели со стороны – управлялись на удивление хорошо.
Однако эти первые месяцы Гражданской войны в Испании были лебединой песней исторического анархизма. Существовавшие значительные движения в Италии и России были разгромлены, соответственно, фашистами и большевиками, причём последнее только после выдающегося сопротивления анархистских повстанцев на Украине под предводительством Нестора Махно. Триумф марксистов в ходе Октябрьской революции в России в 1917 году и основание Коминтерна повсюду в мире ослабили анархизм, в особенности во Франции, где коммунисты взяли под свой контроль CGT и до сих пор им руководят. В Испании, даже ещё до того, как закончилась Гражданская война, позиции анархистов были подорваны их соратниками коммунистами, и дух CNT был настолько ослаблен, что войска Франко вошли в Барселону, некогда Мекку анархизма, не встретив сопротивления. В 1939 году анархизм превратился в призрак некогда великого движения, поддерживавшийся немногими беженцами в Мексике, Швеции и англоязычных странах, а также, что удивительно, английскими и американскими поэтами и художниками.
Когда в 1962 году я издал свою книгу «Анархизм», движение, кажется, достигло самой нижней своей точки. Но даже тогда я обращал внимание на экстраординарную устойчивость анархистской идеи, которая, в силу самого отсутствия у неё всего, что может напоминать монолитную партию или ортодоксию доктрины, способна возрождаться в различных формах в разные периоды истории. Такое уже происходило в форме рационального диссидентского христианства Уинстенли[27] в XVII веке, в форме образа жизни, которого необходимо достичь путём разумных размышлений, согласно позиции Годвина, в форме учения о спасении для крестьян и ремесленников в мутюализме Прудона, в форме романтической революционности Бакунина, Малатесты и свободного децентрализованного коммунизма учёного Кропоткина, в форме пацифистского коммунитаризма Толстого и Ганди; и в форме практических организаций рабочего контроля синдикалистов. Каждая из этих форм по-своему и в своё время поспособствовала развитию традиции. И вот, в первом издании (1962) «Анархизма» я отмечаю, что хотя то историческое движение, которое основал Бакунин и которое достигло своего пика в Испании, теперь, вне сомнений, мертво, идея анархии всё ещё вполне жива и ещё может проявиться в новых формах.
И как я написал в постскриптуме к изданию «Анархизма» 1974 года (издательство “Penguin”), это в действительности так и произошло. На протяжении 1940-х и 1950-х годов анархизм в основном оставался на плаву за счёт усилий либертарных авторов, в особенности Алекса Комфорта и Герберта Рида в Англии, в чьей книге «Образование посредством искусства» была разработана теория анархистской формы образования посредством культивирования восприимчивости. В 1960-е годы в результате кампании за ядерное разоружение и деятельности Комитета 100 в Англии, а также кампаний за гражданские права в США, анархистские идеи начали распространяться вновь. Появился обновлённый анархизм, привлекающий молодёжь своим настойчивым вниманием к таким идеям, как демократия участия, рабочий контроль и децентрализация, и все эти идеи бьют по монолитному истеблишменту, в котором новое поколение радикалов видело своего главного врага.
Произошедшее в корне отличается от событий прошлого, и, конечно же, это соответствует переменчивости анархистской традиции. То массовое движение, возглавляемое Бакуниным, бросившим вызов Марксу в Первом интернационале, и достигшее своего апогея в испанском CNT, не появилось вновь. Произошло же широкое распространение анархистских идей, в основном через публикации новых исследований и историй анархизма и переиздания старых, давно опубликованных текстов, – распространение, повлиявшее на «новых левых», на студенческое движение, на экологическое движение и на другие близкие течения того времени. За исключением нескольких убеждённых радикалов, анархисты больше не склонны трактовать будущее в образах пламенного восстания, которое уничтожит государство и все институты власти и немедленно возвестит о создании свободного общества. Теперь это в основном рассматривается как миф движения, как точка на горизонте, указывающая направление для текущих действий. Вместо подготовки к апокалиптической революции современные анархисты куда более склонны заниматься попытками создания в имеющемся уже сейчас обществе инфраструктуры более совершенного и свободного общества. В экспериментальных коммунах, в свободных школах, в движениях непривилегированных за контроль над своими судьбами, в локальных инициативах, противостоящих властям и призывающих к децентрализации, в борьбе за увеличение контроля рабочих и профсоюзную демократию, а также часто в активной поддержке экологических движений как одного из путей противостояния угрозам человеку и его среде со стороны корпораций, – занимаясь этим, они, пожалуй, более уверенно движутся к настоящей трансформации общества, чем их предшественники, которые, сделав свои ожидания чрезмерными и доведя требования до абсолюта, предопределили своё собственное поражение. Быть может, мы так никогда и не увидим то свободное общество, о котором мечтали анархисты, но если мы действительно сделаем мир более здоровым, более чистым и более свободным по сравнению с тем, в котором живём сейчас, то в этом будет вклад и анархистской идеи, и в значительной мере это произойдёт посредством развития тех теорий о децентрализованном и органически интегрированном обществе, которые Кропоткин наиболее полно изложил в книге «Поля, заводы и мастерские», книге, которую Толстой, Ганди и Мамфорд читали как основополагающий труд.
1974
Сюрре (гион) алистский манифест
Макс Кафар
Посвящение
Здесь мы бросаем якорь в жирную землю.
Тристан Тцара, «Манифест дада» (1918)
Как черепаха не может отделить себя от своего панциря, так и мы не можем отделить себя от того, что мы причиняем Земле.
Тед Эндрюз
Ради нашей Матери-Земли мы пускаемся в плаванье на Небесных Кораблях. Бросив якоря в Эрде, мы оседлаем ветер. Ради Геи мы принимаем бой, расправляя устрашающие кафарские крылья. Нас больше не бросает в дрожь от кастрирующего, охолащивающего звука: Имени отца. Мы воспомним Маму. Папа разорвал Маму на части. Теперь мы призываем запретные Имена Матери. Анамнез для анонимной Инанны. Сюрре(гион)алистский праздник, Манифестиваль в честь Мамы-Земли. Он посвящён Той, которую мы любим. Единой Великой Матери, в тысяче её форм, вот он – Манифест Мамы (1989).
Principia Logica
Бретон говорил: «Мы всё ещё живём под властью логики».
Сегодня это как никогда справедливо. Да, сейчас мы действительно живём под Кислотным Дождём Логики.
Есть Логии и есть Логики. Эко-Логики, Гео-Логики, Психо-Логики, Мифо-Логики, Этно-Логики, Социо-Логики, Астро-Логики, Космо-Логики, Онто-Логики, Физио-Логики, Био-Логики, Зоо-Логики, et cetera.
Однако же все они преобразовываются в подмножества единой универсальной Техно-Логики. Техно-Логика, смерть Истины. Техно-Логика, интронизация Истины. Погребение Истины под обрушающимся бременем – под Богатством Знания.
Подлинное познание требует «поисков Истины», преследования Истины, погони за Истиной, алкания и жажды Истины, следования за Истиной по всем её кружным путям Логики, через её лабиринты Логики. Это значит взбираться на логические горы, спускаться в логические океанские впадины, пересекать бесконечность непересекающихся плоскостей. Поиски Истины означают позволение ей всегда ускользать.
Взбалтывая Космическое Яйцо
«Регион регионит», – сказал Хайдеггер, герр Хая, поднимая хай. Edelweiss und Eselscheisse![28] Отпрыск scheisse-расы! Стряпчий по тёмным делишкам Бытия! «Регион» не «регионит», а совсем наоборот (Пока Что).
Но где же тогда Регион? Регион есть для каждой Логики. Перечислим некоторые, представляющие важность для нас, сюрре(гион)алистов: Экорегионы, Георегионы, Психорегионы, Мифорегионы, Этнорегионы, Социорегионы и Биорегионы.
Это вовсе не шутка! Мы – Биорегионалисты, только если являемся Регионалистами. И как только мы начнём мыслить Регионами, нам откроется великое многообразие. Регионализмов и Регионов, Регионов внутри Регионов, и Регионализмов внутри Регионализмов. Потому-то это Сюрре(гион)ализм.
Регионы инклюзивны. У них нет межей, нет границ, нет фронтиров, нет Линий Разграничения. Хотя Регионалисты – крайние, у Регионов нет краёв. Через Регионы проходит множество линий, изгибов, гребней, трещин и складок. Но все эти линии включены, и ни одна не исключает. Регионы – это тела. Взаимопроникающие тела. Взаимопроникающие тела в полусинхронных пространствах (Как «Незнакомцы в ночи»[29]).
Регион – это происхождение. Это место нашего происхождения. Где всё продолжает происходить. Происхождение – это вечное движение. Перезаселение означает перепроисхождение. Мы возвращаемся к нашим корням за подпиткой. Без этого возвращения мы чахнем и умираем. Мы держимся своих корней и всегда желаем, чтобы они простирались всё дальше вглубь и всё дальше наружу. Они образуют бесконечную сеть, настолько всеохватную, что выкорчёвка становится невозможной и немыслимой, искоренение – иррациональным.
Регионы разнообразны и произвольны. Согласно Техно-регионализму, при его Техно-Рациональной страсти к определениям, когда менее 90 % видов одной определённой местности присутствуют в другой определённой местности, то каждая из них является отдельным Биорегионом. Как Техно-Логично! Как Научно! Или это так звучит. Ибо подобное определение целиком самоуничтожающе и абсурдно в самой своей техничности. В этом, разумеется, его красота. Оно полностью обосновано, если рассматривается как часть Науки и Логики Абсурда. Бесконечное множество Регионов можно определить по этим критериям. В некоторых случаях Регион гонится за блуждающим организмом (калькулятор в руке). Такова галлюциногенная Логика.
(Хотя её редко используют таким образом – даже в небольших дозах.)
Регион всегда страшится быть захваченным Техно-Логикой. Но и Наука может оказаться в плену у Эстетики. Фалес, первый метафизик и учёный, сказал: «Всё есть Вода» и тем самым стал и первым юмористом. А Техника тоже может быть захвачена Эротикой. Фурье предлагал «Новый Амурный Порядок» в своих Фаланстерах, основанный на тактике Техники Утопии.
От Центра
Регион – это конец Центризма.
Центризм – это одержимость. Быть может, в одержимостях и нет ничего дурного, если мы знаем, что одержимы. Возьмите, к примеру, мистера Алана Фэйруэдера, вся жизнь которого вращается вокруг изучения и употребления картофеля. «Полагаю, мы вправе сказать, что у меня картофелецентричный взгляд на мир», – заявил мистер Фэйруэдер (“Newsweek”, 30.05.1988). Но редко когда центристы бывают столь здравомыслящи.
Антропоцентризм стал нашим мировым чемпионом среди центризмов. Он уже близок к тому, чтобы нокаутировать Землю (Т.К.О. – техническим нокаутом). Но он слишком долго был прижат к канатам ринга. Астро-Логика столкнула Антропос с Космического центра. Био-Логика вытолкнула его с центра Планетарного.
Психо-Логика даже выкинула его из Эго-центра. А сама Техно-Логика растворяет его в воздухе. Едва ли нам понадобится какая-нибудь постструктуралистская Пост-Логика, чтобы «децентрализовать» оставшиеся испарения.
Однако действительно ли нам нужен новый Центризм, чтобы заменить им отмирающий? Некоторые предлагают «Биоцентризм». Он, конечно же, победит, если жукам и водорослям предоставят право голоса. В биоцентричном мире бесспорный центр «Северной Америки» будет располагаться где-то в бассейне реки Атчафалайа. Возможно, в тамошней деревушке Гроссе Тете (кончен день – работать лень, да!). Шикарная идея, и абсолютно истинная в своём уникальном роде. Удивительно, Биоцентризм – это экологическое зеркальное отражение капиталистической рациональности. Всё решают количество и накопление. Только вместо Баксов – Биомасса.
У Экоцентризма, который можно считать финальным Центризмом, есть собственные странные сюрре(гион)алистские последствия. Когда одного видного экоцентриста спросили о значении этого термина, он ответил, что экоцентризм означает, что «всё центрально». Вот финальная истина Центризма: всё центрально, а значит центрально ничто. У этого экоцентриста определённо есть сюрре(гион)алистский потенциал!
Сегодня децентрализация становится неминуемой. Но есть много разновидностей децентрализации, некоторые из которых регионалистские, а другие абсолютно анти-регионалистские. Некоторые из них творческие, в то время как другие нигилистические и консервативные (сохраняющие цивилизованный путь Прогресса: аннигиляцию, разложение, выхолащивание, опустошение).
Капитализм уничтожает Центризм. Представим, что некий Европеец отправляется в некий антицентр Позднего Капитализма – возможно, в Хьюстон или Лос-Анджелес. Привыкший к городским площадям, соборам, остаткам городских стен, историческим местам, знакам, отмечающим геомифический центр (Centre Ville, Centro Ciudad и т. д.), этот путешественник вопрошает: «Как пройти к Центру?» И что ему ответить? Незадачливому путешественнику предложат тьму децентрализованных центров – любой молл и торговый центр в обширной городской застройке. Мегалополис представляет собой триумф децентрализации. Он действительно струится, но не как река, а как Капитал. Подобно чудищу, подобно гидре, он стремится лишь к росту, и никогда – к возврату к истокам. Расти и потреблять, бесконечно.
Регионалистский же антицентризм качественно иного рода. Мы, сюрре(гион)алисты, провозглашаем конец Центризма, однако мы стремимся сотворить и пересотворить множество центров. Ибо когда нет одного Центра (Патриархального Бога, Авторитарного Государства, Неминуемого Итога), могут разрастаться воображаемые центры. Дух человеческий всегда находил центр Вселенной в значимых местах. Да, любое место может быть центром. Такие центры – это центры духовной силы, места конвергенции реальностей: Алтарь. Очаг. Общинный костёр. Городская Площадь. Священная Гора. Часы в Холмсе[30]. (Примечание для живущих вне Месечабе: касательно часов см.: Джон Кеннеди Тул. «Сговор остолопов»[31].)
Только кто-то действительно отчаявшийся или, быть может, чрезмерно поспешный предложит в качестве центра Вселенной вокзал Перпиньяна[32]. Или же в голове у Дали был скрытый, антиподрывной Большой Центральный вокзал?
Вне Цивилизации
Для Региона не существует ни Государства, ни Государственных границ. Государство – это паразитический нарост на Регионе, нечто чужеродное, враждебное, угрожающее. У него нет своей жизни, но оно высасывает силу из живого Сообщества. Его справедливо называют «холодным чудищем», крадущим даже наши слова, претендуя на то, чтобы говорить за нас. Государство геноцидно по своей сути. Оно убивает всё, что не может ассимилировать. И после таких пиро-и вампиродействий остаётся лишь Госаппарат, Государственная Машина. (Даже старая «политическая машина» должна умереть – за то, что она недостаточно механистична и, вероятно также, слишком политическая, слишком Региональная для эры «тотального администрирования».) Государство – это Марш Бога Власти на Земле, а его История – Хитроумие Инструментального Разума. Региональной политике нет места в Вашингтоне, Москве или других «местах пребывания власти». Региональная политика не «прибывает»; она струится повсюду. По рекам и ручьям крови. По нервным системам и пищевым цепочкам. Регионы везде и нигде. Мы все – нелегалы. Мы туземцы и мы неугомонны. У нас нет земли; мы живём на земле. Мы вне Меж-Государств а. Регион против Режима – любого Режима. Регионы анархичны.
Для Региона нет Церкви. Нет Религии с большой буквы Р, потому что религий так же много, как и Регионов. Ересь – это норма. Нет монополии на святое. Нет духовного капитала и духовного Капитолия. Все Религии духовны, а для регионализма все земли священны. Регионализм упраздняет и Теизм, и Атеизм. Теизм: Идея, что существует один-единственный Бог – Бог Власти, и все должны верить в Него. Атеизм: равнозначная и противоположная абсурдность, гласящая, что именно этот Единственный Бог действительно заслуживает неверия. Иллюзия Цивилизации была связана с монотеизмами и замещает монотеизмы. Регионализм рвёт эти путы и стирает границу между священным и профанным. Все автобусы идут в Прекрасную Страну[33]. Нет ничего за её пределами. Регион связан с землёй: он языческий, paysan[34]. Регионы порождают множество обрядов и ритуалов, сакральность мест и циклов. Дух Региона вдохновлённый, просвещённый. Feu follet, блуждающими огнями. Огнями внутренними и внешними. Дух Региона – это Свободный Дух. Соприкасаться с Духами Места, местными Богами, это значит владеть Языками Огня, вернуть себе украденную силу речи.
Для Региона не существует Расы. Смешение является правилом. Десять Тысяч Рас родились в Десяти Тысячах Мест и десять тысяч раз они умножались на десять тысяч. Тех из нас, кто вырос в расовой кастовой системе, ещё детьми учили, как относиться к людям «противоположной расы». Но ныне кости брошены; касты позаброшены. Теперь мы знаем, что нет противоположных полов, и тем более противоположных рас. Природа лишь меняется и заменяет. Всё это Марди Гра[35]. Под маской – маска. Этничность, как этос, разрастается на игре различий. Так наслаждайтесь игрой! Для расовой идеологии эта игра – угрюмая трагедия. Всё сводится к унылой одинаковости и демонической инаковости. Да, паранойя по-своему возбуждает, но ей не хватает стимуляции тонких колебаний, текстуры, многообразия, качества. Этнорегиональность. Топография культуры. Карнавал Культуры.
Для Региона не существует Патриархата. Регион, безусловно, имеет женскую суть. И в то же самое время андрогинную. Единая породила Двух, а эти Двое – Десять Тысяч. Мать – это и Мать, и Отец. Как весьма ясно объясняет БЫТИЕ, нашим Первопредком было андрогинное существо, позднее разделённое на мужчину и женщину. Для Региона нет чётких родословных: происхождение по отцу не формализовано. Семья расширенная, племя включает всех. Регион, подобно Дао, неуловим. Горы и долины перетекают одна в другую. Ручьи и реки перетекают друг в друга. Материнская кровь течёт через весь Регион. Но иногда эта кровь закипает. Когда современный «Чувак» начинает понимать: нехорошо насиловать Мать-Природу! Добрая Девица, Тётушка Природа из Одюбоновского общества[36], желегрудая, непредвзятая Мамочка-Природа из «Нью Эйдж» превращается в Отмороженную Богиню, Разъярённую Природу-Воительницу, в Зубастую Вагину, в электризованную Шакти. И когда ты думаешь, что поимел её, Чувак – она бьёт тебя по самым больным местам!
Для Региона не существует Капитала. Нет подсчёта прибылей и убытков. Всё перерабатывается. Всё возвращается наверх, рециркулируется, а низ выпадает. Жизнь неэкономична, неэффективна. Вся экономическая рациональность оборачивается экологической иррациональностью. В природе природы тратить, глупо расходовать, транжирить. Капиталу требуется скудость ресурсов, но Регион – это сверхизобилие и отсутствие источников ресурсов. Только источники и возвращение к источникам. Регионы приводят к банкротству экономику, они разрывают, они размывают берега банков, они выходят из берегов. Регионы находятся в состоянии баланса, им не нужны бухгалтерские балансы. Капитал уже вынес свой вердикт на Земле: богатое изобилие Жизни – Био-Логическое, Этно-Логическое и Психо-Логическое Богатство, это наследие эонов эволюции – и с точки зрения затрат не является рентабельным.
Чтобы Земля жила, Капитал должен умереть.
Анти-Тезисы Регионализму
Регионы дики. Для Государства и Капитала дикая местность означает пустошь. На диких они смотрят жестоким и алчным взглядом. Они жаждут насиловать и грабить дикость. Они стремятся подчинить, контролировать, эксплуатировать и убивать всё, что живёт свободно. Антитезой дикому является одомашненный – контролируемый в целях власти. И те же самые силы, что стремятся уничтожить дикую природу, уничтожают дикие умы. (См. книгу Гэри Снайдера «Хороший, Дикий, Священный»[37].) Древние леса и поселения они превращают в лесозаготовки и пригороды (лесозаготовка – пригород деревьев; пригород – лесозаготовка людей).
«Антитезой дикому является одомашненный – контролируемый в целях власти».
Регион, подобно Дао, неуловим. «Этот смутный объект желания»[38]. Объект желания всегда смутный. Прославленный объект Бунюэля может быть смутен в особом смысле, однако же все объекты желания неуловимы, неоднозначны, неясны. Система господства старается сделать их более определёнными, более определяемыми. Определяя объекты господства. Подчиняя желания авторитарному коду. Стараясь захватить желание и затем направить, канализировать его в соответствии с требованиями Власти. Мы бросаем вызов: вырваться из этих пут Проекта Желания. Достичь Елисейских Полей освобождённого воображения. Там, где нет (вопреки слухам) никаких Полюсов, есть лишь собрание Антиподов.
Регионы населены Регионалистами. По сути, это порождения привычки, какими бы непривычными эти привычки не были. Они то, что они делают, а делают они это в том самом знакомом неопределённом месте: в своём Регионе. Регионалисты практически обитают в Регионах, и на самом деле некогда они там и обитали полностью, пока это обитание не стало так сильно обременено напластованиями мистики, что их обиталища скрылись из виду (что в особенности верно в отношении болотистых регионов вроде дельты Месечабе). Регионы – не системы. Системы мёртвые, механические и подвержены манипулированиям. Мышление систем – это лишь наиболее продвинутая и наиболее мистифицированная версия инструментального рационализма.
Регионы же непостижимы и бесценны. Они не систематизированы. Они живущие и воображаемые, а значит, превосходят все системы. У некоторых Регионов, как и у личностей, есть системы, но их невозможно свести до одной или нескольких таких систем.
Регионы – это не Мировой Класс. Политическое Насекомое (приносим свои извинения всем настоящим насекомым) не может придумать лучшего комплимента для сообщества, чем назвать его Мировым Классом. Оно становится Мирового Класса, когда оказывается заполнено аттракционами Мирового Класса: когда все его живые локальные и региональные реалии умерщвлены и заменены пластиковыми имитациями Мирового Класса, чтобы привлекать тучи Экономических Насекомых Мирового Класса, время от времени выбирающихся из своих стерильных Отелей Мирового Класса и Центров Собраний и раздающих Доллары Мирового Класса забальзамированным туземцам. Регионы – это не Мировой Класс. Бомба – вот Мировой Класс.
Макдональдс – вот Мировой Класс. Генри Киссинджер – это Мировой Класс. Глобальное Потепление – Мировой Класс. Аушвиц – Мировой Класс. Капиталистический Класс – это Мировой Класс. А Регионы – не Мировой Класс.
Регионы следуют Гео-Логике и движутся в Гео-Логиче-ском времени. Регионы подаются на тарелках. Они – струящиеся, плавучие острова на островах. (Плыви по моему Течению?) Порой Земля напоминает нам, что, с её точки зрения, Геология – это Судьба. Что горы и долины похожи на волны в море. Восстановление Гео-Логики оживляет псевдополитику и псевдоэкономику всех систем Власти. Истинную Эко-Логику и Эко-Номику невозможно нарушить даже самым сильным землетрясением. Но миф о возможности господства над природой продолжает жить. Корпус армейских инженеров всё ещё сражается за изменение течения Месечабе. Но пройдёт несколько лет, и Великая Река возьмёт своё – и отомстит. Энергетические компании всё ещё строят свои ядерные станции по берегам Реки. Они забыли, что сто лет назад земля яростно содрогнулась, Месечабе заполонила Север, и небольшая месечабская Атлантида так и покоится под этими водами[39].
Запустевшая Земля
Что содеяла цивилизация? Веспуччиленд уже превратил Могучую Месечабе в свою сточную трубу (Капиталистический Сточный регионализм), прислал к нам баржи с мусором, а теперь ещё направляет свои отходы к Дельте поездами! Политика постмодерна становится самокритикой. Никогда ранее не бывало скандальных политических дел вроде «Пу-Пу, Чу-Чу», так разъярившего сейчас Месечабскую общественность. Да уж, Месечабцы хотели бы посрамить наших бене-факто-ров (исполняющих свой благородный долг), тех, кто стремится превратить нашу Дельту Месечабе, Ущелье Мира в настоящую Сьерра-Срынь.
За пределами Региона всё – экскременты, всё – отходы, всё – мусор. Капитал и Государство вне циклов, вне самообновляющегося Целого. Их Логика – это накопление, Вечное Не-Возвращение, не подлежащее возвращению бутылочное горлышко бытия. Они столько накопили, и увы, всё это – Пу-Пу.
Где же Реальность сейчас? Когда корпоративные загрязнители льют яд в реки и ручьи, сторонники прямого действия запечатывают трубы. Призывается полиция реальности; отравителей защищают; защитников сажают в тюрьмы. «Это не яд… Это не труба…» Когда реальностью становится Запустевшая Земля, мы должны сказать нет Реальности. Сюрре(гион)алистская сюрреальность где-то в другом месте.
«Есть в доме Патафизик?»
Регионалисты являются Патафизиками. Жарри, основатель Величайшей Науки Патафизики, внёс неоценимый вклад в регионалистское мышление своим изобретением/открытием Патафизики.
Как он говорил, Патафизика «…будет прежде всего учением о единичном, сколько бы ни утверждали, что наука может заниматься лишь общим. Она изучает законы, управляющие исключениями, и стремится объяснить тот иной мир, что дополняет наш; короче говоря и без претензий, предметом её описаний будет мир, который мы можем – а вероятно, и должны – видеть на месте привычного: ведь законы, которые, как нам казалось, правят повседневностью, на самом деле сами обусловлены исключениями из фактов несущественных – пусть таких изъятий и больше, нежели самих явлений, – а факты эти, будучи в свою очередь сведены к мало чем исключительным исключениям, не обладают и самомалейшей привлекательностью единичности»11.
Патафизика помогает нам вспомнить часто забываемую Истину о том, что сама Вселенная есть Великое Исключение – в рамках повседневного обычного течения Небытия. Регионы, разумеется, являются целиком исключениями – исключениями даже для самих себя. Регионалисты – это исключительные люди, и, следовательно, к ним нужен совсем иной подход. 2 500 лет назад Гераклит открыл, что Реальность – это всегда то, чем она не является, и это всегда странно. Как он объяснял: «Если он не ожидает неожиданного, то не найдёт сокровенного и трудно находимого» (Фрагмент 18)12. Регионы там, где всегда происходит неожиданное. Как бы сильно человек ни старался не думать о беспокоящем, эти мысли невозможно выбросить из головы – из его Психорегиона. Мысли, такие как «Маркиза стремилась заполучить графа» или же «Он ускакал в закат на своём домашнем любимце, пони Троцком».
Зелёная политика: Милитаристы против мирлитонов
Нам нужна Зелёная Политика, то есть Политика Регионов, а значит Политика Воображаемого. Старая политика мертва – политика Государства, бюрократии, экономизма, технократии. Её мощь исключительна, но она мертва. Но другое дело похороны. Она погребает нас. Бедный старый Хрущёв заявлял капиталистам: «Мы вас похороним». А вместо этого они хоронят его и всех остальных – в мусоре. Старая политика – это политика пластика на асфальте. Политика неорганичного, политика дезориентации, неприкаянности, некрофилии.
Уоббли, наиболее радикальное из американских рабочих движений (единственное рабочее движение, апеллировавшее к бродягам и сюрреалистам), утверждали, что это было «созданием нового мира под скорлупой прежнего». Ныне этот прежний мир стал ещё более высушенной скорлупой, чем когда-либо раньше. Настало время начать растить новый мир! Таков смысл «Зелёной Политики». Но порой кажется, что то, что выдают за «Зелёную Политику», следует лозунгу «создание нового мира высверливанием изнутри». Да, старый мир должен умереть, но мы точно не можем засверлить его до смерти».
Зелёная Политика должна стать Политикой Регионов – всех Регионов, от небесного, до подземного. Пусть же следующее Собрание Зелёных ведёт все свои дела в поэтической форме. Это предвосхитит тот день, когда Америка станет Зелёной. Даже больше, тот день, когда за небольшую плату мы совершим международный обмен названиями, и Америка станет огромным замёрзшим островом, а Гренландия протянется от одного сверкающего океана до другого. Тот день, когда Зелёная Политика будет править бал. Тот день, когда Инаугурационная Речь президента будет пантомимой, а обращение «О Положении Страны» он пропоёт фальцетом. Тот день, кода члены Верховного Суда будет заседать голыми в напудренных париках и оглашать свои решения на Поросячьей Латыни. Тот день, когда Конгресс закатит многопа(р)ти и вытанцует все Законы до полного уничтожения.
Наш символ – один из тысяч в нашей полисимволике – это Священный Мирлитон. Чайот. Чайотли. Sechium edule[40]. Мирлитон (местные произносят как «Меллатоун»): поистине регионалистское растение в субтропиках. Распространяется повсюду, произрастает везде, переходит все границы, не взирает на разграничения земельных участков. Зеленеет беспорядочно, обильно, без дискриминации. Одинаково зелёный по обе стороны от изгороди. В безграничной щедрости дарит свои плоды всем. Зелёная Политика, Политика Мирлитона. Мирлитон против милитариста, против механической личности. Мирлитон против военно-промышленного комплекса, против механического Государства. Зелень против Машины. (Неслучайно, что слово «Мирлитон» также означает и самый популистский и анархический из всех музыкальных инструментов – Казу.)
Зелёная Политика – это политика Ланьаппе. Словом “Lagniappe” мы, Месечабцы, обозначаем нечто добавленное, не купленное и не проданное, а отданное безвозмездно, значимое только в человеческой шкале, символический обмен, материальное выражение нематериального, неприкладного, невзаимозаменяемого, общинного, общего блага. Смутное воспоминание о Даре. Знак замшелости, периферийности, атавизм неких странных и отдалённых этнорегионов – таких как Дельта Месечабе. Зелёная Политика – это Политика Ланьаппе: она «узаконивает Конец Денег». Она стремится приблизить тот день, когда мы больше не будем символическими заложниками у Знаков Доллара. Тот День, когда Всё будет Ланьаппе. И ту Ночь тоже!
Это в природе Луизианца – творить Порядок путём Анархии:
Таков урок Гамбо[41][42]; таков урок Джаза.
– Lafcadio Bocage, CAHIERS DU MOUVEMENT ANARCHISTE CREOLE" (пер. M. Кафара)
То, что истинно в нашем таинственном регионе Дельты, может по-своему быть истинным повсюду. Так не будем же никогда забывать слова этого мудрого Месечабца!
Призраки на берегах Месечабе
Призрак бродит по Европе. Бретон со всей силой непреднамеренности подметил: «Земля, задрапированная своим зелёным покровом, производит на меня не больше впечатления, чем какое-нибудь привидение». То, что Бретон сознательно опустил, но неосознанно предал – это величие произведённого впечатления. Ибо что может произвести на нас большее впечатление, чем призрак, – и чего мы всегда столь решительно избегаем, за исключением наших снов?
Мы похожи на призраков, Призраков по берегам Месечабе. Преследуемых Землёй. Когда мы нигде, существование есть где-то ещё.
Регион – это и есть «где-то ещё» цивилизации.
Примечания к разделу «Экология»
1 См.: Biehl J. Ecology or Catastrophe. P. 85–86; HerberL. [Murray Bookchin]. Our Synthetic Environment. New York: A.A. Knopf, 1962.
2 См.: Carson R. Silent Spring. Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin, 2002 (впервые опубл, в 1962 г.).
3 См.: HerberL. [Murray Bookchin]. Crisis in Our Cities. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1965. P. 193, процит. в кн.: Black В. Anarchy after Leftism, p. 77.
4 См.: Zimmerman M.E. General Introduction to the Fourth Edition / Environmental Philosophy / Ed. M.E. Zimmerman et al. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. P. 1–4.
5 См.: Black B. Nightmares of Reason.
6 См.: Ryley P. Making Another World Possible: Anarchism, Anti-Capitalism and Ecology in Late 19th Century and early 20th Century Britain. London: Bloomsbury, 2013; Clark J. & Martin C. Liberty, Equality, Geography: The Social Thought of Elisée Reclus. Littleton, Colorado: Aegis Publications, 1996.
7 См.: Cafard M. Description of a Struggle // Cafard M. The Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. P. 14. Рассказ Кафара об их разрыве резко противоречит версиям Букчина. Ср.: Surre(gion)alist Manifesto and Other Writings. P. 139–151 c Biehl J. Ecology or Catastrophe. P. 290–292 и Bookchin M. Whither Anarchism? P. 216–225 (две последние версии противоречат друг другу так же, как Кларку). “Cafard” – по-фр. означает «таракан», это «эвфемизм для религиозного лицемера», см.: Disruptive Elements. P. 68, n. 19. Кларк знает об этом. Таракан помещён на обложку его кн. Возможно, тут Кларк делает отсылку к песне времён мекс. революции, “La Cucaracha” («Таракан») – о курении марихуаны (“marijuana que fumar”).
8 См.: Social Ecology after Bookchin / Ed. A. Light. New York: Guilford Press, 1998; Clark J.D. The Matter of Freedom: Some Ecofeminist Lessons for Social Ecology // Capitalism Nature Socialism. No. 43. 2000. P. 62–80.
9 См.: Watson D. Beyond Bookchin: Preface to a Future Social Ecology. Brooklyn, New York: Autonomedia & Detroit, Michigan: Black & Red, 1996.
10 См.: Bookchin M. Whither Anarchism? P. 223 (курсив добавлен).
11 Цит. по: Жарри А. Убю король и другие произведения ⁄ Сост., общ. ред. и послесл. Г.К. Косикова, пер. с фр. С. Дубина. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2002. С. 274–275 (примеч. перев.).
12 Цит. по: Гераклит. Фрагменты ⁄⁄ Материалисты Древней Греции: Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура ⁄ Пер. М.А. Дынника. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры. 1955. С. 46.
VIII. Философия
Какое-либо прямое взаимодействие между анархизмом и философией было нечастым. Западная политическая и нравственная философия, начавшаяся с Платона и Аристотеля, практически вся была авторитарной до XVII века1. Диоген Киник мог бы быть великолепным примером такого исключения, однако многие из его книг, в отличие от трудов Платона и Аристотеля, были сожжены христианами. Он известен только по тому, что учёные классики называют «фрагментами», – цитатам в текстах других авторов. С Джона Локка началась традиция философского либерализма, продолженная французскими философами XVIII века и привнесённая в XIX век Иеремией Бентамом, Алексисом де Токвилем, Джоном Стюартом Миллем и другими. Ко времени, когда философия оформилась в качестве научной дисциплины на философских отделениях университетов, к концу XIX века, там трудилось несколько либеральных академических философов, таких, например, как Уильям Джеймс. Позднее там будут работать умереннолиберальные преподаватели, например, Джон Дьюи, Бертран Рассел и Джон Ролз. Постепенно либералы стали преобладать на философских отделениях в англоязычном мире. Философы-марксисты же по-прежнему редко туда попадают, хотя в континентальной Европе это бывает несколько чаще. Но анархисты? Никогда. Ну, почти никогда.
Роберт Пол Вольфф написал работу «В защиту анархизма», опубликованную в 1970 году. Он следует нравственной философии Канта, но пишет куда более понятно. Его аргумент прост. Основа морали – автономия личности. Даже если моральный выбор правилен, он «морален, если не является свободным выбором. И если так, то власть несовместима с автономией. А это означает, что подчинение государству и, следовательно, само государство, аморальны. Меня не интересует, хороший из Вольффа кантианец или плохой2. Я не знаю других анархистов-кантианцев. Кант хотя и был поклонником Руссо и сторонником Французской революции, анархистом не являлся. Самый известный из нравственных философов XX века, Джон Ролз, был кантианцем, но всего лишь либералом, он был далёк от радикализма и тем более от анархизма3. Только ещё один академический философ, явно приближающийся к анархизму, Алан Джон Симмонс, приходит к этим идеям, развивая анархические подтексты в философии Джона Локка4. Консерваторы всегда утверждали, что либерализм ведёт к анархии. Эх, если бы так!
Даже самый общительный из анархистов должен размышлять самостоятельно. Это одна из причин, почему анархистов так мало. Анархизм Годвина основан на принципе частного суждения: «Для рационального существа может быть всего одно правило поведения, правильности, и один способ удостовериться в этом правиле – упражняться в собственном понимании»5.
Однако немногие анархисты знают Вольффа. Колин Уорд тупо посчитал его «индивидуалистом, выступающим за свободный рынок»6. Джон Кларк, преподаватель философии, высказал дурацкое заявление, согласно которому почти никому не известный Вольфф «сделал всё возможное, чтобы затормозить содержательный анализ и критику анархистской позиции»7. А левая публицистка Рут Кинна исказила его взгляды. Очерняя Вольффа как индивидуалиста, она пишет: «Версия Вольффа подразумевала создание “чистой теории” анархизма, без какого-либо учёта “материальных, социальных или психологических условий, при которых анархизм может быть осуществимой формой организации общества”. Другими словами, анархизм отождествляется со стремлением к индивидуальному принятию решений (иногда называемому частным суждением), и это стремление отделяется от борьбы за осуществление определённого социально-экономического соглашения»8.
А вот что Вольфф сказал на самом деле: «В аспекте чистой теории, я… просто принял как должное всю этическую теорию [Канта]. В аспекте практического применения я почти ничего не говорил о материальных, социальных или психологических условиях, при которых анархизм смог бы стать осуществимой формой организации общества. Я мучительно осознаю эти недостатки и надеюсь в обозримом будущем выпустить полномасштабную работу, в которой обоим этим аспектам будет уделено ещё больше внимания»9. Вольфф не утверждает, что является индивидуалистом или хотя бы агностиком в вопросе социальных форм анархии. Общепризнано, что его книга – незавершённая. Будучи далёким от ограничивания анархизма лишь рамками «чистой теории», он признаёт необходимость теории социальной. Вольфф так никогда и не написал ту вторую книгу. Но это не оправдание для искажения первой.
Хотя многие западные анархисты являются студентами колледжей, их недавними выпускниками или исключёнными оттуда, их общие познания в культуре нередко незначительны. Хотя анархо-левые часто склонны к морализаторству, их нравственность лишена рациональной основы, по крайней мере такой, о которой бы они знали. Не отличаются они и в жизни своими добродетелями, в особенности честностью. Вольфф попытался дать нравственные основания для анархизма. Я же лично не думаю, что анархизм в них нуждается.
Содержание раздела «Философия»
Роберт Пол Вольфф. Конфликт между властью и автономией (пер. с англ. В. Садовского по: Wolff R.P. The Conflict Between Authority and Autonomy // Wolff R.P. In Defense of Anarchism. New York: Harper Torchbooks, 1976. P. 3–19; впервые опубл, в 1970 г.).
Конфликт между властью и автономией
Роберт Пол Вольфф
1. Понятие власти
Политика – это применение власти государства или попытка повлиять на такое применение. Следовательно, политическая философия, строго говоря, это философия государства. Если мы собираемся определить содержание политической философии и сам факт её существования, нам следует начать с понятия государства.
Государство – это группа лиц, имеющих верховную власть и осуществляющих её на определённой территории. Если быть точным, то следует сказать, что государство – это группа людей, имеющая верховную власть в пределах определённой территории или над некоей популяцией. Кочевое племя может демонстрировать структуру государственной власти до тех пор, пока его подданные не подпадут под превосходящую власть территориального государства10. Государство может включать в себя всех людей, на кого распространяется его власть, как в случае с демократическим государством, согласно его теоретикам; оно может также состоять из одного-единственного человека, по отношению к которому все остальные являются подданными. Мы можем поставить под сомнение, существовало ли когда-нибудь действительно такое государство из одного человека, однако Людовик XIV явно полагал именно так, когда заявил: “L’etat c’est moi”[43]. Отличительной чертой государства является верховная власть, или то, что политические философы привыкли называть «суверенитетом». И когда кто-то говорит о «суверенитете народа», то есть о доктрине, согласно которой народ и есть государство, то, конечно же, слово «суверен», означающее «монарх», отражает предполагаемую концентрацию верховной власти при монархии.
Власть – это право приказывать, и, соотносительно, право требовать подчинения. Его не следует смешивать с могуществом, являющимся возможностью принуждать к повиновению применением или угрозой применения силы. Когда я отдаю свой бумажник грабителю, наставившему на меня пистолет, я делаю так, потому что грозящая мне судьба куда хуже, чем потеря денег, с которой я вынужден смириться. Я допускаю, что у него есть могущество надо мной, но я едва ли предположу, что он имеет власть, то есть право требовать мои деньги, а я буду иметь обязательство отдать их ему. С другой стороны, когда государство предъявляет мне налоговые счета, я плачу по ним (обыкновенно), даже если не хочу этого и даже если я думаю, что смогу уклониться от уплаты. Ведь, в конце концов, это должным образом учреждённое правительство, а значит, у него есть право облагать меня налогом. У него есть власть надо мной. Иногда, конечно же, я обманываю правительство, но даже тогда я признаю его власть, ибо кто может говорить об «обмане» вора?
Претендовать на власть – это претендовать на право требовать подчинения. Тогда что же значит иметь власть? Это может означать обладание таким правом, или, возможно, это значит, что претензии оказались признанными и принятыми теми, на кого они были обращены. Термин «власть» – двойственный, он имеет и описательное, и нормативное значение. Конечно, даже описательное значение отсылает к нормам или обязательствам, но оно делает это, описываято, что, как люди полагают, они должны делать, а не декларируя, что им следует это сделать.
В соответствии с этими двумя значениями власти имеются две концепции государства. Описательно государство может быть определено как группа лиц, признанных обладающими верховной властью на некоей территории – признанных теми, над кем эта власть декларируется. Изучение форм, характеристик, институтов и функционирования de facto государств, как мы можем их назвать, относится к сфере политологии. Если же мы рассмотрим этот термин в его предписывающем значении, то государство оказывается группой лиц, имеющих право осуществлять верховную власть на некоей территории. Обнаружение, анализ и демонстрация форм и принципов легитимной власти – права управлять – называется политической философией.
Что же означает верховная власть? Некоторые политические философы, говоря о власти в нормативном смысле, полагали, что настоящее государство обладает высшей властью по всем вопросам, входящим в его юрисдикцию. Например, Жан-Жак Руссо утверждал, что общественный договор, формирующий справедливое политическое сообщество, «…даёт Политическому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общею волей, носит… имя суверенитета»11. Джон Локк, с другой стороны, считал, что верховная власть справедливого государства простирается только на то, чем государству присуще управлять. Государство, несомненно, есть высочайшая власть, но его право приказывать далеко не абсолютно. Один из вопросов, на которые должна дать ответ политическая философия, состоит в том, есть ли какой-либо предел для сферы дел, на которую распространяется власть справедливого государства.
Приказание власти также нужно отличать от убеждающего аргументирования. Когда мне приказано что-то сделать, я могу исполнить это даже без угрозы, поскольку меня приучили, что я должен это делать. Если причина в этом, то, строго говоря, я не подчиняюсь приказу, но признаю силу аргумента или строгость предписания. Личность, отдающая «приказ», выступает лишь как причина для моего осознания своего долга, и её роль в других случаях может быть исполнена убеждающим другом или даже моей собственной совестью. Я могу, расширив этот термин, сказать, что предписание имеет надо мной власть, имея в виду лишь, что я должен действовать в соответствии с ним. Но у самого человека нет власти – или, если быть точнее, моё подчинение его приказу не означает признания с моей стороны любой такой власти. Поэтому власть пребывает в личностях; они владеют ею – если вообще владеют – в силу того, кем они являются, а не в силу того, что отдают приказы. Мой долг подчиняться – это долг перед ними, а не перед нравственным законом или перед бенефициарами тех действий, которые мне приказано совершить.
Конечно, существует множество причин, по которым люди подчиняются требованиям властей. Самая распространённая, если брать всю историю человечества, – это просто предписывающая сила традиции. Тот факт, что нечто всегда совершалось по определённым правилам, является для большинства людей полностью адекватной причиной снова совершать это таким же образом. Почему мы должны покоряться королю? Потому что мы всегда были покорными королям. Но почему старший сын короля должен в свою очередь становиться королём? Потому что старшие сыновья королей всегда были наследниками трона. Сила традиции настолько сильно отпечаталась в умах людей, что даже изучение жестоких и случайных истоков возникновения правящего рода не ослабит его власть в глазах их подданных.
Некоторые приобретают ауру власти в силу своих собственных выдающихся качеств, будучи либо великими военными предводителями, либо людьми особой святости, либо сильными личностями. Такие люди собирают вокруг себя последователей и учеников, с готовностью им подчиняющихся, не задумываясь о личных интересах или даже вопреки им.
Последователи верят, что их лидер имеет право приказывать, то есть имеет власть.
Сегодня в мире бюрократических армий и институционализированных религий, когда королей осталось мало, а череда пророков прекратилась, наиболее часто власть предоставлена тем, кто занимает официальные должности. Как отмечал Вебер, эти должности увязываются с властью в умах большинства людей, поскольку соответствующими бюрократическими указаниями они определяются как имеющие силу публичности, всеобщности, предсказуемости и так далее. Нас дрессируют отвечать на визуальные знаки официальности, такие как напечатанные бланки и эмблемы. Порой у нас в головах есть чёткие обоснования юридических претензий на власть, например, когда мы подчиняемся приказу, поскольку отдавший его является избранным официальным лицом. Чаще одного лишь вида униформы бывает достаточно, чтобы заставить нас ощущать, что облачённый в неё человек владеет правом на то, чтобы ему подчинялись.
То, что люди соглашаются с претензиями на верховную власть, – это ясно. Но то, что люди обязаны соглашаться с такими претензиями, не выглядит настолько очевидным. Наш первый вопрос поэтому должен быть таким: при каких условиях и по каким причинам один человек может иметь верховную власть над другим? Его можно сформулировать и по-другому: при каких условиях государство (понимаемое нормативно) может существовать?
Кант дал нам подходящее название для такого рода расследования. Он назвал его «дедукцией», обозначая этим термином не доказательство отличия одного предположения от другого, а демонстрацию легитимности понятия. Когда понятие является эмпирическим, его дедукция выполняется лишь указанием на примеры его объектов. Например, дедукция понятия лошади состоит в демонстрации лошади. Поскольку лошади существуют, будет легитимным употреблять это понятие. Сходным образом дедукция описательного понятия государства состоит всего лишь из указания на бесчисленные примеры человеческих сообществ, в которых некоторые люди провозглашают свою верховную власть над другими, и те им подчиняются. Но когда рассматриваемое понятие неэмпирическое, его дедукция должна производиться иначе. Все нормативные понятия неэмпирические, поскольку они относятся к тому, что должно быть, а не что есть. Следовательно, мы не можем оправдать использование понятия (нормативной) верховной власти предоставлением примеров12. Мы должны продемонстрировать при помощи a priori аргумента, что могут существовать формы человеческих сообществ, в которых у некоторых людей есть моральное право управлять. Короче говоря, фундаментальной задачей политической философии является обеспечение дедукции понятия государство.
Чтобы довести эту дедукцию до конца, недостаточно показать, что существуют обстоятельства, при которых у людей есть обязанность исполнять то, что им приказывается de facto властями. Даже при самом несправедливом из правительств есть часто веские причины для того, чтобы подчиняться, а не оказывать неповиновение. Может сложиться такая ситуация, что правительство приказало своим подданным совершить то, что они и так уже имеют независимое обязательство сделать; или может случиться так, что негативные последствия неповиновения существенно перевешивают унижение подчинения. Приказания правительства могут обещать полезные эффекты, как намеренно, так и нет. По этим причинам, а также по причинам предусмотрительности человек может оказаться прав в своём подчинении приказам правительства, под чьей de facto властью он оказался. Но ничто из этого не разрешает вопроса о легитимности власти. Это вопрос права приказывать и соответствующего обязательства подчиняться лицу, отдающему приказ.
Суть этого последнего абзаца невозможно не выделить. Подчинение – это не исполнение того, что кто-то говорит тебе сделать. Это исполнение того, что он говорит тебе сделать в силу того, что он говорит тебе это сделать. Таким образом, легитимная власть, или власть de jure, касается оснований и источников морального обязательства.
Поскольку не подлежит сомнению, что существуют люди, верящие, будто другие имеют над ними власть, можно было бы подумать, что мы можем воспользоваться этим фактом для доказательства того, что где-то в ту или иную эпоху должны были существовать люди, действительно обладавшие легитимной властью. То есть можно полагать, что хотя некоторые претензии на власть и могли быть неверными, но невозможно допустить, чтобы неверными были такие претензии, поскольку в таком случае у нас вовсе не было бы никакого понятия о легитимной власти. С помощью подобного аргумента некоторые философы пытались показать, что не все наши жизненные опыты являются фантазиями, или, более обобщённо, что не всё в опыте является лишь видимостью, а не реальностью. Суть в том, что такие термины, как «фантазия» и «видимость», определяются через свою противоположность «явственному опыту» или «реальности». Отсюда мы могли бы использовать их лишь для описания ситуаций, при которых некоторые из опытов оказывались бы фантазиями, а другие нет, или же одни вещи были всего лишь видимостями, а другие – реальностью.
Каким бы сильным не был этот аргумент в общем случае, его невозможно применить к ситуации противопоставления власти de facto власти de jure, ведь ключевая составляющая обоих этих понятий, а именно «право», привносится в обсуждение, как правило, из сферы нравственной философии. В той мере, в какой мы задумываемся о возможности справедливого государства, мы допускаем, что обсуждение морали имеет смысл, а из таких понятий, как «право», «долг» и «обязательство», были сделаны адекватные дедукции13.
Из существования de facto государств можно заключить, что люди верят в существование легитимной власти, так как, разумеется, de facto государство – это просто государство, чьи подданные верят, что оно легитимное (т. е. государство, имеющее ту власть, которую оно для себя требует). Они могут быть неправы. Действительно, все верования во власть могут быть неверны – возможно, в истории человечества не было ни одного государства, сейчас или когда-либо обладавшего правом на подчинение себе. Невозможно даже представить, чтобы такое государство существовало; вот вопрос, с которым мы должны попытаться разобраться. Но пока люди верят во власть государств, мы можем прийти к выводу, что у них есть представление о de jure власти14.
Нормативное понятие государства как человеческого сообщества, обладающего законной властью на определённой территории, таким образом, определяет и субъект собственно политической философии. Однако даже если он окажется невозможным для проведения дедукции этого понятия – то есть если de jure государство невозможно – всё ещё можно будет поднять большое число моральных вопросов, касающихся взаимоотношения личности с de facto государствами. Можно поинтересоваться, к примеру, есть ли какие-то моральные принципы, обязывающие направлять государство в его законотворчестве, такие как принцип утилитаризма, и при каких обстоятельствах индивиду будет правильным подчиняться законам. Мы можем исследовать общественные идеалы равенства и успеха, или принципы наказания, или обоснования войны. Все эти расследования, по сути, являются приложениями общих моральных принципов к конкретным явлениям (de facto) политики. Следовательно, было бы правильным вернуть себе это слово, переживающее трудные времена, и назвать эту ветвь политологии казуистической политикой. Поскольку имеются люди, признающие притязания на власть, существуют de facto государства. Если в общем допускается легитимность морального дискурса, то в отношении таких государств должны возникать моральные вопросы. Поэтому казуистическая политика как ветвь этики действительно существует. Остаётся решить, существует ли собственно политическая философия.
2. Понятие автономии
Фундаментальным допущением нравственной философии является ответственность людей за совершённые поступки. Из этого допущения неизбежно следует, как это отметил Кант, что люди метафизически свободны, то есть в некоем смысле они способны выбирать, как они будут действовать. Возможность выбирать варианты действия делает человека ответственным, но один лишь выбор сам по себе недостаточен для взятия ответственности за свои действия. Взятие ответственности включает в себя попытки определить, что ты обязан делать, а это, как признавали философы со времён Аристотеля, ложится на плечи дополнительным бременем получения знания, рассуждения над мотивами, прогнозирования последствий, критики принципов и так далее.
Обязательство взять ответственность за чьи-то действия не проистекает из одной свободы воли человека, поскольку для взятия ответственности требуется нечто большее, чем просто свобода выбора. Только из-за того, что у человека есть способность к обдумыванию вариантов своего выбора, можно ли назвать его связанным продолжающимся обязательством брать за них ответственность? Нравственным философам весьма свойственно объединять в одну группу детей и сумасшедших как существ, не вполне ответственных за свои действия, потому что как безумцы признаются не имеющими свободы выбора, так и дети ещё не обладают возможностями для развитого мышления. Даже справедливо, что мы должны предписывать большую степень ответственности детям, так как сумасшедшие в силу недостатка у них свободной воли оказываются полностью лишёнными ответственности, в то время как дети, в той мере, в какой они обладают разумом, хотя бы в частично развитой форме могут быть признаны ответственными (т. е. от них можно потребовать взять ответственность) в соответствующей степени.
Каждый человек, обладающий свободной волей и разумом, имеет обязательство брать ответственность за свои действия, даже если он активно и не участвовал в длительных процессах размышления, исследования и взвешивания того, как ему следует поступить. Иногда человек объявляет о своём желании взять ответственность за последствия своих действий, пусть даже он не обдумывал их или не собирается обдумывать в будущем. Такое заявление, конечно же, является прогрессом по сравнению с отказом принять на себя ответственность, так, по крайней мере, признаётся существование обязательства. Но оно не освобождает человека от долга участвовать в процессе размышления, которого он тем самым глубоко избегал. Само собой разумеется, что у человека есть возможность взять ответственность за свои действия и при этом действовать неверно. Когда мы описываем кого-то как ответственного человека, мы не подчёркиваем, что он всегда поступает правильно, а лишь отмечаем, что он не пренебрегает долгом стараться выяснять, что есть правильно.
Ответственный человек – не капризный и не анархичный, поскольку он признаёт себя связанным моральными ограничениями. Но он настаивает, что только он один определяет эти ограничения. Он может прислушиваться к советам других, но решает сам, определяя, хорошие ли были советы. От других он может выучиться знаниям о своих моральных обязательствах, но только в том смысле, в каком один математик учится у других – а именно выслушивая их аргументы, чью действенность он признаёт, даже не размышляя о них сам. Он не учится в том смысле, как можно учиться у исследователя-путешественника, принимая за истину его рассказы о том, чего не видел своими глазами.
Поскольку ответственный человек принимает моральные решения, которые выражает для себя в форме императивов, мы можем говорить о том, что он сам себе даёт законы или само-законодательствует. Словом, он автономен. Как утверждал Кант, моральная автономия представляет собой сочетание свободы и ответственности; это подчинение законам, которые ты сам для себя сотворил. Автономный человек, в меру своей автономности, не находится в подчинении воли другого человека. Он может делать, что говорит ему другой, но не потому, что ему сказали сделать так. Поэтому в политическом смысле этого слова он свободен.
Так как ответственность человека за свои действия является следствием его возможности выбирать, он не может уступить её или отказаться от неё. Он, однако, может отказываться признавать её, либо сознательно, либо просто не сумев распознать собственное моральное состояние. В тот или иной момент жизни бывает, что все люди отказываются брать на себя ответственность за свои действия, причём некоторые столь последовательно уклоняются от своего долга, что оказываются больше похожими на переросших детей, чем на взрослых. Ввиду того, что моральная автономия – это просто состояние принятия полной ответственности за свои действия, выходит, что люди могут лишаться своей автономии по своему желанию. То есть человек может предпочесть подчиняться приказаниям другого, не делая никаких попыток решить для себя, является ли хорошим или разумным то, что ему приказывают совершить.
Это важный момент, и его не стоит путать с ложным утверждением, что человек может отказаться от ответственности за свои действия. Даже после того как он подчиняет себя воле другого, человек остаётся ответственным за то, что совершает. Но отказываясь участвовать в обдумывании, принимая приказания других как окончательные, он лишается своей автономии. Поэтому Руссо прав, когда говорит, что человек не может стать рабом даже по своему собственному выбору, имея в виду, что даже у рабов есть моральная ответственность за свои действия. Но он неправ, если имеет в виду, что люди не могут добровольно поставить себя в положение рабской зависимости и бездумного подчинения.
Есть множество форм и степеней утраты автономии. Человек может уступить свою независимость суждения по отношению к единственному вопросу, или же применительно к одному типу вопросов. Например, когда я отдаю себя в руки моего врача, я доверяюсь любому способу лечения, которое он предписывает, но только в отношении моего здоровья. Я же не делаю его и своим юридическим консультантом. Человек может лишиться своей автономии в некоторых или во всех вопросах на какой-то определённый период времени или на всю свою жизнь. Он может повиноваться всем приказаниям, какими бы они ни были, за исключением некоторых особых действий (убийства, например), которые он отказывается исполнять. Из примера с врачом очевидно, что существуют по меньшей мере некоторые ситуации, при которых разумным будет отказаться от автономии. В самом деле, как будто можно подумать, что где-то в современном сложном мире, требующем технической компетентности, было бы возможным не делать этого!
Так как понятие принятия и лишения ответственности стоит в центре предстоящего обсуждения, стоит уделить ещё немного места его разъяснению. Взятие ответственности за действия означает принятие окончательных решений касательно того, что надо делать. Строго говоря, для автономного человека нет такого явления, как приказание. Если кто-то в моём окружении произносит то, что может рассматриваться как приказание, и если он или другие ожидают, что эти приказания должны выполняться, то этот факт будет мной принят к сведению и проанализирован. Я могу решить, что должен сделать то, что этот человек мне приказывает, и даже возможно, в данной ситуации его приказание сыграет для меня положительную роль. К примеру, если я нахожусь на тонущем корабле, а капитан отдаёт команду разместиться по спасательным шлюпкам, и если все остальные подчиняются капитану, потому что он – капитан, я могу решить, что с учётом обстоятельств мне следует делать так, как он говорит, поскольку неразбериха, вызванная неповиновением ему, может оказаться опасной для всех. Но в той мере, в какой я принимаю такое решение, я не подчиняюсь его приказанию', то есть я не признаю его имеющим власть надо мной. Я бы принял такое же решение при точно таких же обстоятельствах, если бы один из пассажиров начал отдавать «команды» и в этой неразберихе стал бы тем, кому надо подчиняться.
В политике, как и вообще в жизни, люди часто теряют свою автономию. Есть несколько причин для этого, как и несколько аргументов, предлагающихся для оправдания. Большинство людей, как мы уже отмечали, ощущают силу традиции или бюрократии так сильно, что без размышлений принимают претензии на власть со стороны их номинальных правителей. Редко кто в истории народа дорастает даже до уровня сомнений в праве своих владык приказывать, в долге своём и своих соплеменников подчиняться. Однако когда этот опасный вопрос возникает, могут быть предъявлены разнообразные аргументы, чтобы продемонстрировать власть правителей. Среди самых древних – утверждение Платона, что люди должны подчиняться власти тех, кто обладает более высоким знанием, мудростью или проницательностью. Усложнённая современная версия этого утверждения состоит в том, что при демократии образованная часть населения более вероятно будет политически активной, как верно и то, что плохо информированный сегмент электората должен оставаться пассивным, так как его выход на политическую арену поспособствует лишь усилиям демагогов и экстремистов. Некоторые американские политологи зашли так далеко, что стали утверждать, будто апатия масс американцев – это причина стабильности, и стало быть, – благо.
Моральное условие требует, чтобы мы признавали ответственность и достигали автономии, где и когда только возможно. Иногда это включает в себя нравственное рассуждение и рефлексию; в других случаях – сбор специфической, даже технической информации. Сегодняшний американский гражданин, например, обязан знать современную науку в степени, позволяющей ему следить за дебатами о ядерной политике и приходить к независимым выводам15. Существуют огромные, возможно, непреодолимые препятствия для достижения полной и рациональной автономии в современном мире. Тем не менее пока мы признаём свою ответственность за наши действия, а также осознаём свою способность мыслить, мы должны согласиться с продолжающимся обязательством делать самих себя авторами таких приказаний, которым мы можем подчиняться. Парадокс положения человека в современном мире состоит в том, что чем более полно он признаёт своё право и долг быть господином самому себе, тем в большей степени он становится пассивным объектом технологий и бюрократии, сложности которых он не может надеяться понять. Прошло всего несколько столетий с того момента, когда достаточно хорошо образованный человек мог претендовать на понимание основных проблем правительства, своего короля или парламента. По иронии судьбы, современный выпускник школы, не способный разобраться в вопросах внутренней и внешней политики, по которым ему предлагают голосовать, мог бы с лёгкостью постичь проблемы государственного управления XVIII века.
3. Конфликт между властью и автономией
Определяющим признаком государства является власть, право управлять. Первостепенным обязательством человека является автономия, отказ быть управляемым. Может показаться, что в таком случае разрешение конфликта между автономией личности и предполагаемой властью государства невозможно. В той мере, в какой человек выполняет своё обязательство стать автором своих собственных решений, он будет сопротивляться претензии государства на власть над собой. То есть он будет отрицать, что у него есть долг подчиняться законам государства просто потому, что они законы. При таком подходе кажется, что анархизм является единственной политической доктриной, совместимой с преимуществом автономии.
Анархист, конечно же, может допускать необходимость соблюдения закона при определённых обстоятельствах или на определённое время. Он может даже сомневаться насчёт сколько-нибудь реальной перспективы уничтожения государства как человеческого института. Но он никогда не будет рассматривать приказания государства как легитимные, как имеющие обязывающую моральную силу. В каком-то смысле мы должны охарактеризовать анархиста как человека без страны, поскольку несмотря на нити, связывающие его с землёй его детства, он состоит в точно таком же моральном взаимоотношении со «своим» правительством, как и с правительством любой другой страны, в которой он может оказаться на какое-то время. Когда я провожу отпуск в Великобритании, я подчиняюсь её законам, как в силу благоразумного личного интереса, так по причине очевидных моральных соображений, касающихся полезности порядка, общих позитивных последствий от сохранения системы собственности и так далее. Когда я возвращаюсь в Соединённые Штаты, у меня возникает ощущение прибытия в мою страну, и если я об этом вообще задумываюсь, я представляю себя состоящим в иных, более близких отношениях с американскими законами. Они были провозглашены моим правительством, и значит, у меня есть особое обязательство подчиняться им. Но анархист говорит мне, что эти чувства целиком сентиментальны и не имеют объективного морального основания.
Вся власть одинаково нелегитимна, хотя, конечно же, не поэтому одинаково достойна или недостойна поддержки; и моё подчинение американским законам, если я должен быть морально автономным, должно проистекать из тех же соображений, которыми я руководствовался за границей.
Дилемма, которую мы изложили, может быть кратко выражена языком понятия de jure государства. Если у всех людей будет продолжающееся обязательство достигать наивысшей из всех возможных степеней автономии, то выяснится, что не существует такого государства, подданные которого имели бы моральное обязательство подчиняться его приказам. Следовательно, понятие de jure легитимного государства окажется бессодержательным, а философский анархизм будет выглядеть единственным разумным политическим убеждением просвещённого человека.
Примечания к разделу «Философия»
1 Ср.: «Чем будет жизнь без Платона и Аристотеля для каждого образованного человека, всегда держащего в голове ту эпоху, когда они жили?», см.: Bookchin М. Deep Ecology, Lifestyle Anarchism, and Postmodernism // Bookchin M. Anarchism, Marxism, and the Future of the Left. P. 136.
2 См.: Riley P. On the “Kantian” Foundations of Robert Paul Wolff’s Anarchism // Nomos XIX: Anarchism. P. 294–319.
3 См.: Rawls J. A Theory of Justice. Rev. ed. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1999 (впервые опубл, в 1971 г.). Я взял курс Ролза, когда учился в университете.
4 См.: Simmons A. J. On the Edge of Anarchy: Locke, Consent, and the Limits of Society. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.
5 См.: Godwin W. An Inquiry Concerning Political Justice / Ed. M. Philp. Oxford: Oxford University Press, 2013,?. 72–82 (цитата co c. 72).
6 См.: Ward C. Anarchism: AVery Short Introduction. P. 62, 66, 68. Жаль, что это «Очень краткое введение» не оказалось ещё короче.
7 См.: Clark J. What Is Anarchism? // Nomos XIX: Anarchism. P. 8. Вольфф вызвал лишь «скромную волну возбуждения» среди философов, см.: Wall G. Philosophical Anarchism Revisited // Nomos XIX: Anarchism. P. 273).
8 См.: Kinna R. Anarchism: A Beginner’s Guide. Oxford, England: OneWorld Publications, 2005. P. 19. Заметьте её неверную интерпретацию цитаты Уильяма Годвина, которую я только что привёл. «Суждение» не равно «принятию решения», за исключением судебного заседания.
9 См.: Wolff R.P. In Defense of Anarchism. New York: Harper Torchbooks, 1976. P. viii-ix (курсив добавлен) (впервые опубл, в 1971 г.).
10 Похожее определение «государства» имеется у Макса Вебера в «Политике как профессии». Вебер особое внимание уделяет средствам – силе – с помощью которых государство устанавливает свою волю, однако тщательный анализ его определения демонстрирует, что оно также базируется на понятии власти («императивном координировании»).
11 См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 171.
12 Каждый раз, когда мы приводим пример законной власти, мы будем вынуждены добавлять к нему неэмпирический аргумент, доказывающий его легитимность.
13 Таким образом, политическая философия – это зависимая, или производная дисциплина, так же, как философия науки, она зависит от общей теории познания и от ветвей метафизики, рассматривающих реальность и природу физического мира.
14 Этот тезис настолько прост, что может показаться не заслуживающим такого внимания. Тем не менее некоторые политические философы, включая Гоббса и Джона Остина, полагали, что это понятие, так же как и принципы власти, может быть выведено из концепций могущества или пользы. Например, Остин определяет приказ как обозначение желания, выражаемое кем-то, кто покарает несогласных исполнить его («Определение предмета юриспруденции», Лекция I).
15 Это не так сложно, как кажется, поскольку политика очень редко обращается к спорам, касающимся технических или теоретических деталей. Тем не менее, например, гражданин, не понимающий природу атомной радиации, не может даже претендовать на мнение о целесообразности бомбоубежищ; а поскольку важный выбор между ядерными стратегиями превентивного и ответного удара зависит от возможности успешно функционирующей системы убежищ, неосведомлённый гражданин окажется целиком на милости своих «представителей», как самый убогий раб.
IX. Религия
Между анархизмом и религией нет логической несовместимости. Можно верить в тирана на небесах и при этом противостоять тиранам на земле. В истории было несколько анархистов-христиан. Первым, вероятно, стал американский пацифист Эдин Баллу в 183g году1. А самым знаменитым из них был Лев Толстой. Уильям Годвин и Фердинанд Домела Ньивенхёйс были кальвинистскими пасторами. Несколько авторов из этой антологии выросли в религиозных семьях.
Однако же в силу исторических и психологических причин обычные отношения между анархизмом и религией представляли собой сильный взаимный антагонизм. Эмма Гольдман могла писать: «Анархизм, таким образом, стоит за освобождение человеческого ума от владычества религии, за освобождение человеческого тела от владычества собственности, за освобождение от оков и стеснений правительства»2. Анархизм впервые был систематически изложен Уильямом Годвином (тогда ещё атеистом) на пике Эпохи Рационализма3. Анархизм может рассматриваться – и действительно рассматривался анархистами и их противниками – как наиболее радикальное выражение целей Просвещения – таких как разум, наука, личная свобода, свобода слова, религиозная терпимость, братство (так анархисты называли солидарность) и упразднение привилегий. Организованная религия исторически была непримиримо враждебна анархизму и потому «…в теории анархизма Церковь как организация предаётся такой же анафеме, как и Государство»4. Организованное христианство оказывало безоговорочную поддержку политическим, экономическим и гендерным иерархиям. К концу XIX века такие анархисты, как Кропоткин, взяли себе лозунг «Ни богов, ни господ»5. Бакунин цветасто писал в одном из самых лучших своих заявлений: «Я перевёртываю афоризм Вольтера и говорю: если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его…»6
Существует психологическое напряжение между религией и анархизмом, так как религия – в особенности христианство – фокусируется на вере, повиновении и жертве. Анархизм же – на свободе мысли, сопротивлении власти и просвещённом себялюбии. Даже сейчас левые психологически слишком часто скорее христиане, чем светские7, это касается и анархо-левых. Классические анархисты, такие как Прудон, Бакунин и Кропоткин8, нередко сочетали неистовый атеизм и антиклерикализм с вдохновлённой христианством моралью жертвенности и патриархальностью. Уже существовала и анархистская критика Максом Штирнером такого рода когнитивного диссонанса9. Её возобновили современные анархистские авторы, в том числе и я сам10.
Многие современные анархисты продолжают держаться за свои старомодные вольнодумство и антиклерикализм, но часто уже с меньшей страстностью, поскольку религия теперь не такой сильный враг, каким она была когда-то11. Те же, кто продолжает оставаться активными противниками религий, склонны подчёркивать не столько поддержку религией капитализма и государства, сколько её мораль пассивности и сервильности, то, что Ницше называл моралью рабов. Но и в этом нет ничего нового. Об этом аспекте религии говорили, наряду с прочими, Макс Штирнер и Эмма Гольдман12. Слишком моралистические аргументы в пользу анархизма теперь уже далеко не так распространены13. Для консерваторов – анархо-левых – светская, гуманистическая, универсальная мораль представляется объективной реальностью, а анархисты (таковыми они считают только себя) – безупречнейшими из моралистов, так же как ещё и наисоциалистичнейшими из социалистов и наидемократичнейшими из демократов. Противоположная позиция состоит в том, что анархизм – нечто изначально оригинальное. Неприятие капитализма будет неполным без неприятия государства. Неприятие государства неполно без неприятия религии. Неприятие религии неполно без неприятия морали14. Главное не в том, каким правилам следовать, но скорее, как жить. Вот отрывок из Хакима Бея:
Анархизм мёртв, да здравствует анархия! Нам больше не нужен багаж революционного мазохизма или идеалистического самопожертвования – не нужна фригидность индивидуализма совместной жизни с его презрением к весёлости – не нужны вульгарные суеверия анархизма, сциентизма и прогрессизма XIX века. Всё это бремя! Грязные пролетарские баулы, тяжёлые буржуазные кофры, унылые философские портмоне – за борт!15
Сегодня самым заметным проявлением политического морализма являются «права человека». Как я уже неоднократно объяснял16, права человека – прежде известные как «естественные права» – не самоочевидны, не объективны и не универсальны. Они списаны с, по сути, религиозных концепций природы человека17. Нет такого понятия, как естественное право18. И нет абсолютно никакого смысла в том, чтобы верить в вечную, универсальную, неизменную природу человека. Некоторые анархисты, такие как Кропоткин, были весьма оптимистичны в отношении человеческой природы, но этого не скажешь о большей части анархистов19. Сам Кропоткин возражал: «Люди недостаточно хороши для коммунизма, но достаточно хороши ли они для капитализма?»20 Я написал похоже: «Если вы не можете поверить, что обычные люди не будут совершать преступления друг против друга, как вы можете верить, что это не будет делать государство?»21 Я не говорю, что люди хорошие. Я говорю только, что люди достаточно хороши. Возможно.
Академические учёные и левые одержимы правами человека. Ноам Хомский – учёный, левый и анархист (разве только в своём собственном представлении) – вопил: «Каждая точка зрения формируется на основе некоего понятия о природе человека, однако оно может быть построено на недостатке информации и плохо сформулировано. Это, по крайней мере, справедливо в отношении людей, считающих себя поборниками морали, а не монстрами»22. Мюррей Ротбард, покойный «анархо-капиталистический» профессор экономики, полагал, что скептиков в отношении естественного права следует опровергать, колотя их стулом по башке23.
Всё это замечательно для тех, у кого есть терпение, чтобы пытаться урезонить благочестивцев. Но куда приятнее их высмеивать. В новейшее время сюрреалисты, леттристы, ситуационисты и йиппи делали это куда эффективнее анархистов, за исключением, быть может, панков. Некоторые анархисты, оказавшись подверженными либеральному влиянию, ошибочно полагали, что толерантность означает необходимость быть любезными со своими врагами24. Ситуационист Мустафа Хаяти, говоря об анархистах, насмешничал: «Эти люди будут толерантны ко всему, раз уж они способны быть толерантными друг к другу»25. Но в пасхальное воскресенье 1975 года в Детройте, штат Мичиган, анархисты, связанные с изданием “Fifth Estate”, рассовали поддельные копии ежедневной газеты по дюжинам почтовых ящиков. Заголовком там было: «Пасха отменяется: Тело Христово обнаружено». Другие заметки на первой полосе сообщали о последовавшей реакции по всему миру. По словам одного из организаторов розыгрыша, через неделю он «обнаружил искорёженные, разбитые, смятые, расстрелянные и сбитые машинами почтовые ящики»26. Я прочёл об этом розыгрыше в “Fifth Estate” спустя год.
Мишель Онфре – плодовитый французский философ, написавший «Трактат атеологии» (впервые опубликован в 2005 году). Большинство из его аргументов напоминает доводы Новых Атеистов (Кристофера Хитчинса, Сэма Харриса, Ричарда Докинза и Дэниела Деннета), светских гуманистов, а не анархистов. Однако Онфре называли анархистом27. Сам он именует себя «левым ницшеанцем» и «левым либертарием» (в европейском, а не американском смысле слова), находящим традиционный анархизм «недостаточным»28. Так же считает и большинство анархистов из нашей книги. Хотя Онфре и не сухой рационалистичный анархист, он моралист: эпикуреец, материалист и гедонист29. Он хочет возобновить проект радикального Просвещения XVIII века: дехристианизацию30. Этого же хотят и некоторые тупоголовые анархисты вроде Мюррея Букчина!31
Сейчас некоторые радикальные мыслители считают, что разочарование мира в Просвещении привело к варварствам капитализма и тоталитаризма XX века32. Думаю, такое разочарование было принципиально важно для современности, но современность – это то, что мы хотим отбросить. «Что такое Просвещение?» Согласно Иммануилу Канту, это означает, по сути, думать самому: это «…выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого»33. Возможно, как полагает Роберт Пол Вольфф, это взгляд анархиста, не знающего, что он анархист. Поскольку Онфре, в конце концов, моралист, он не может быть хорошим ницшеанцем. Он нашёл определённые ценности уже готовыми и не желает подвергать их переоценке.
Ферал Рантер («Дикий рантер» – ещё один псевдоним парня, известного также как Вольфи Ландштрейхер) много писал об анархизме, эгоизме, левой политике и морализме. Он по-новому перевёл Макса Штирнера на английский34, а также переводил работы итальянского индивидуалиста Ренцо Новаторе35. «Десять тезисов», демонстрирующих сильное влияние Уильяма Блейка, это своего рода критика религии, которую я нахожу более интересной и, пожалуй, более эффективной, чем то, что Хаким Бей называл «вульгарным суеверием атеизма XIX века». Упоминание «глубокой, глубокой вечности» в последней строчке взято из Ницше: «Но всякая радость жаждет вечности, жаждет глубокой, глубокой вечности!»36
Гэри Снайдер – поэт, публицист, натуралист и «вовлечённый буддист». Как утверждает один ненадёжный источник, он был вдохновителем многих зелёных анархистов37. В 1950-е годы его связывали с битниками. Центральный персонаж романа Джека Керуака «Бродяги Дхармы» основан на личности Снайдера. Он примитивист, активно участвовавший в движении глубинной экологии. Это привело его к конфликту с Мюрреем Букчиным. Как дипломатично выражалась Дженет Биэль, главная ассистентка Букчина: «…особенно в пылу спора, когда Букчин чувствовал, что на кону было нечто важное [т. е. всё время], его манера речи могла становиться грубой, безапелляционной и пренебрежительной, а его полемическая суровость могла скатиться к жгучей язвительности»38. В 1989 году Гэри Снайдер выразился более резко: «Он называет себя анархистом, но пишет как сталинистский душегуб»39. Снайдер является одним из двух участвующих в этой книге авторов (второй – Джон Кларк40), кто исповедует что-то вроде религиозной веры. Нынешние анархисты редко чувствуют или выражают симпатию к религии. Те же немногие, кто так делает, такие как Снайдер и Кларк, выражают симпатию лишь к восточным традициям.
Содержание раздела «Религия»
“Fifth Estate”. Пасха отменяется: Тело Христово обнаружено (пер. с англ. С. Михайленко по: Anon. Easter Canceled: Christ’s Body Found // Fifth Estate. No. 271. April 1976).
Мишель Онфре. Трактат обатеологии (пер. с фр. С. Михайленко по: Onfray М. Traité d’athéologie. Paris: Le Livre de poche, 2018. P. 27–32, 275–281; впервые опубл, в 2005 г.).
Ферал Рантер. Десять тезисов за исчезновение дихотомии «плоть – дух», или Радикальная духовность есть не что иное, как радикальная чувственность (пер. с англ. С. Михайленко по: Feral Ranter. Ten Theses Toward the End of the Flesh-Spirit Dichotomy // Semiotex [te] USA // Ed. J. Fleming & P. Lamborn Wilson. New York: Semiotext [e], 1987. P. 250).
Гэри Снайдер. Буддистский анархизм (пер. с англ. В. Садовского по: Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas // Ed. R. Graham. Vol. 2. Montréal, Québec, Canada, 2009. P. 240–243; впервые опубл, в 1961 г.).
Пасха отменяется: Тело Христово обнаружено
“Fifth Estate”
Религия рушится, а западный мир потрясён
ИЕРУСАЛИМ – UPI[44] – Сегодня христианская вера лежит в руинах, поскольку центральный миф этой всемирной религии – воскрешение Христа – был подорван находкой 2000-летнего трупа и его достоверным опознанием как Иисуса из Назарета.
Это открытие потрясло западную цивилизацию до самых её корней, и хотя сообщения из Рима остаются отрывочными, Ватиканом было сделано несколько шокирующих заявлений.
В 3.00 пополудни по римскому времени папский секретарь объявил об официальной отмене праздника Пасхи. «В конце концов, – сказал монсеньор Луиджи Паста, – если у вас нет Воскресения и Вознесения, то у вас нет и Пасхи, не так ли?»
Паста также заявил, что папа и Коллегия Кардиналов подали в отставку, и что оставшийся костяк сотрудников Ватикана готовится к упразднению Католической Церкви.
Ранее в тот же день, когда толпы разочарованных христиан штурмом взяли Ватикан, они обнаружили папские апартаменты полностью опустошёнными, за исключением чека авиакомпании за два билета в Аргентину
В остальных странах Европы и Северной Америки революционные массы свергли правительство после официальных заявлений о том, что политические государства и религиозные верования лишают их человеческого потенциала (продолжение см. далее).
Открытие, низвергшее христианство, произошло лишь двумя днями ранее в нескольких милях от этого древнего и некогда «святого» города. Фахкир Бумедьюм, странствующий мастер по производству музыкальных тарелок, наткнулся на пролежавшее тут много веков тело, когда пытался откопать латунь на месте строящегося жилого комплекса-кибуца.
Занимаясь раскопками при свете свечи в ранние утренние часы, он обнаружил обутую в сандалию ногу, высовывающуюся из сливной канавы, и, продолжив копать дальше, Бумедьюм откопал голову трупа, всё ещё облечённую в легендарный терновый венец.
Бумедьюм сказал UPI: «Для меня это ничего не значит, я мусульманин, но я полагаю, что другие хотели бы знать».
Гнев множества бывших христиан был вызван нескрываемыми попытками папы римского и других сначала отрицать, а затем преуменьшить значение этого открытия. Даже после того как эксперты в медицине, археологии, религии и истории подтвердили, что полуразложившееся тело принадлежало Иисусу, папа Павел[45] настаивал, что объявление горькой правды приведёт к разрушению христианского мира. В конце концов, в одной из экспертных групп произошла утечка информации, и Ватикан был вынужден сделать заявление, в котором признавалось, что главный догмат их религии – искупление грехов через жертву Христа, – по их словам, «был недействителен».
Ещё хуже был отчёт, составленный доктором Верой Симилитьюд из медицинской команды ООН, которая была одной из первых, кто изучил тело с медицинской точки зрения. В этом отчёте она утверждает, что Христос умер не от ран, нанесённых римскими центурионами, как об этом говорится в христианской Библии, но, скорее всего, от осложнений на последней стадии сифилиса.
Среди осведомлённых источников популярна теория, согласно которой весь Новый Завет был попросту подделан после смерти Иисуса, бывшего одним из множества еврейских религиозных фанатиков, проповедовавших в Палестине в эту эпоху, от естественных причин.
Возможно, мы никогда не узнаем всю правду о том, что происходило между моментом, когда папа Павел был уведомлён о разрушительной находке на Ближнем Востоке в 4 утра по римскому времени, и тем моментом, когда он, наконец, сдался и предал информацию огласке; но римлян с побледневшими лицами, прибывавших ранним утром к Базилике Святого Петра, приветствовало зрелище, которое они запомнят надолго: историческая святыня католиков всего мира и штаб-квартира христианской веры были заколочены досками, и вся огромная площадь была утыкана табличками «Продаётся» от аргентинского риелтора.
Но пока небольшая группа облачённых в чёрное пожилых итальянцев, перебирая чётки, возносила свои молитвы в безмолвной ночи, радикальные итальянцы предприняли другие действия.
Сформировав широкую коалицию из леваков, атеистов и циничных экс-христиан, они взломали запечатанные двери Ватикана и вторглись туда, где ещё недавно располагался центр католической власти.
Предметы искусства и драгоценные металлы стоимостью в неисчислимые миллионы долларов были буквально сорваны со стен в ходе того, что должно было стать одним из самых быстрых поворотов в спокойном развитии карьеры папы Павла. Его отъезд был настолько внезапным, что первые прибывшие в некогда роскошную резиденцию рассказывают, что проектор в кинокомнате всё ещё работал, бесконечно повторяя фильм «Царь царей»[46].
Это предательство со стороны Ватикана, произошедшее в канун святейшего события в христианстве – Пасхи, вызвало последствия, неслыханные в современном обществе. Ревущие толпы католиков штурмовали свои церкви в одном городе за другим и обнаруживали лишь таблички «Продаётся» и объявления о строительстве автомоек на местах их бывших домов молитвы. По словам одного римского бизнесмена: «Это такой Уотергейт, в сравнении с которым кажется ничтожным любое другое укрывательство в истории человечества».
Само собой разумеется, что «укрывательство Иисуса Христа», как это теперь зовётся в европейских столицах, было наиболее всеобъемлющим из когда-либо известных. Информированные источники в Ватикане сообщают, что когда толпа ворвалась во внутренние покои Базилики Святого Петра, радикальные группировки вывозили буквально тоннами… (продолжение на след, странице)[47].
Рабочие восстают, а анархия охватывает мир
ВАШИНГТОН, ЛОНДОН, ПАРИЖ, БЕРЛИН, МАДРИД, МОСКВА, ВАРШАВА – UPI, АР[48] – Будущее капиталистических и социалистических правительств сегодня остаётся под вопросом, а волны антиавторитарного восстания расходятся по всей Европе и Северной Америке.
Девять европейских правительств, падающих как костяшки домино в связи с новостью о том, что христианство было основано на обмане, были свергнуты за последние 18 часов.
В момент написания этого текста восстания в крупных городах Латинской Америки и США представляют существенную опасность для сил традиции. В каждом большом европейском городе советы вооружённых рабочих провозгласили конец всякой власти одной группы или класса над другим.
На Западе лозунг «Долой капитализм!» звучит на улицах Парижа и Лондона. В Праге и Москве сотни тысяч впервые вышли маршем, скандируя «Хватит бюрократов!» Повсюду обязательства покончить с наёмным трудом, товарным производством и фабричной системой привели к радостным танцам на улицах, поскольку главные перекрёстки превратились в сцены для праздничных торжеств. Один из бельгийских клерков рассказал, как волна антихристианских настроений быстро развилась в более сильные антиполитические настроения: «Они засрали нам мозги этим дерьмом про бога и Иисуса. Мы думали, что они – это всё, а мы сами – ничто. Когда всё это исчезло, все эти остальные люди, руководившие нашими жизнями, стали выглядеть столь же бесполезными, как и святые».
В Югославии белградский рабочий-металлист объяснил, почему восстания обрушили бюрократический государственный социализм: «Мы все были атеистами и раньше, но действия наших братьев и сестёр на Западе стали примером для нас. Теперь мы можем установить настоящий коммунизм и избавиться от всех “марксистских” политиканов».
В Германии сегодня ни один священник не застрахован от диатриб со стороны возмущённых горожан. Португалия превратилась в нейтральную территорию, где монашки были изгнаны из городов, подобно многим бродягам. Ни на чьей памяти – даже тех, кто был взращён Второй мировой войной – не было чего-либо, что было бы сопоставимо по испытываемым рядовыми гражданами презрению и злобе по отношению к тем, кто находится у власти.
Политические лидеры ещё сохранившихся государств в это время забаррикадировались в швейцарском шале, спешно составляя план последнего сражения на европейском континенте. Персоны, некогда занимавшие такие высокие посты, как премьер-министр Англии или канцлер Германии, были тайно транспортированы в тщательно охраняемый шале на конной повозке.
Антирелигиозные повстанцы, опьянённые беспрецедентным коллапсом организованной религии, захватили власть над многими территориями. Утверждается, что железные дороги и линии коммуникаций в большинстве штатов США находятся в руках атеистов.
Беглые французские монахини сообщают, что местные жители отреагировали на новости из Ватикана, захватив церкви и предав их огню.
Толпа, по оценкам состоящая более чем из полумиллиона человек, прошлась сегодня по центру Мадрида, выкрикивая революционные лозунги и устраивая антирелигиозные демонстрации.
В ходе одного из инцидентов были замечены люди, тянувшие самодельную повозку с моделью уличного сортира, содержавшей статуи Франко и Папы Павла IV[49].
Обвал мирового рынка ценных бумаг
ЖЕНЕВА – UPI – Сегодня резко упали цены на мировом фондовом рынке, поскольку миллиарды подешевевших акций и ценных бумаг оказались на и без того шатком рынке евродолларов[50].
Неожиданное сложение полномочий всей иерархией христианского мира привело к крайне нестабильной финансовой ситуации на высокочувствительном мировом рынке капиталов, уже подорванном двухзначной инфляцией и распространением рабочих революций по всему миру
Когда отчёты из Берна и Женевы сообщили, что огромное количество высокодоходных акций продавалось вчера в произвольных партиях ценных бумаг, возникли слухи, что ситуация на Ближнем Востоке готова перерасти в войну, и что шейхи пытаются разрушить финансовые центры Европы.
Правда раскрылась поздним вечером, когда события в Риме продемонстрировали, что вся финансовая империя Святой Римско-католической Церкви была обанкрочена неизвестными ливанскими брокерами.
По словам одного из нью-йоркских банкиров, «Конечно, мы знали, что у папы есть несколько лишних баксов, но мы и представить не могли, что их так много».
Воистину беспрецедентное количество… (продолжение на след, странице)
Флот папы не был принят
Паго-Паго, Американское Самоа – АР – Подобно легендарному человеку без страны[51], папский авиафлот, состоящий из боингов-747, несущих на своих бортах майордомов Ватикана, блуждает по миру в поисках места, которое можно было бы назвать домом. После того как жители острова Паго-Паго отказали ему в разрешении на посадку, количество стран, отказавших папским самолётам в посадке, выросло до 103.
Вслед за оглушительным поражением в воздухе от жителей острова Уэйк, летающих на винтажных японских Зеро[52] времён Второй мировой, это было, по словам одного из наблюдателей, «подобно обречению их на отправку в Чистилище».
Информированный источник сообщает, что когда папе было сообщено о поражении, понтифик воспринял это чрезвычайно позитивно.
«Ну и что вы собираетесь делать? – философски сказал папа. – Я знаю, что для сердец этих людей я – не Уолт Дисней, но я лишь пытался срубить деньжат. Конечно, периодически я разводил их, но это всё было ради прикола. Пора забыть прошлые обиды».
Размах мошенничества не знает границ
Миф Фатимы разоблачён
Лиссабон – UPI – Фатимские явления Девы Марии, одни из наиболее прославленных чудес в католичестве, были вчера признаны гигантской мистификацией.
Представители анархистской группировки, захватившей официальные документы после сегодняшнего падения португальского правительства, сообщили, что мистификация в Фатиме была осуществлена португальским правительством и церковью после того, как посещаемость церкви в этом маленьком городке сократилась до менее чем 2 % от количества жителей.
Религиозная легенда гласит, что в начале нынешнего века «Дева Мария» явилась трём португальским детям в небольшом городке Фатима. Утверждается, что в ходе одного из визитов она вручила им пророчества, запечатанные в конверт.
В ходе этого визита она, или некто похожий на неё, вышла к горожанам, чтобы продемонстрировать им силу веры. Те были настолько потрясены этим зрелищем, что возвели святилище в её честь.
Раздражение церковью вышло на новый уровень после обнаружения вчера в подвале в Лиссабоне примитивного проектора, работающего при помощи свечи, с раскрашенным вручную слайдом, изображающим Марию, плывущую на облаке. Гнев обманутых прихожан был настолько силён, что, по сообщениям, в Португалии не осталось ни единого религиозного объекта. В Порто распятия используются в качестве палочки для размешивания краски. Свечи для новеннь[53]… (продолжение на след, странице)
Обнаружены сокровища
Рим – АР – На месте, изначально считавшемся всего лишь стройплощадкой, где было найдено тело Иисуса Христа, были обнаружены ценные реликвии, сообщил ведущий археолог Тель-Авива др. Ирвинг Смит.
Рядом с телом «Спасителя человечества» был найден дневник, который, предположительно, был написан Христом собственноручно, и который содержит новую информацию о так называемых «утерянных годах» – периоде в его жизни с 12 до 25 лет, когда его точное местонахождение было совершенно неизвестно.
Отрывки текста указывают на некоторые доселе считавшиеся невероятными места, где Иисус жил в середине жизни. Например, пассаж из первой части дневника указывает на знание центра Бхагдада[54]. Дословно: «И воистину я ступаю по коридорам и потайным залам храмов удовольствия, и падшие женщины идут по моим следам из Бхазгадиана (Бхагдад) в мой лагерь, где мы проводим лекции до поздней ночи».
Затем приводится описание египетского банкета, на котором Христос заклинает аристократов: «И говорю я вам – что хорошего человеку в стяжании всех богатств мира, если он от этого теряет свою душу? Ты должен лишить себя всех земных благ, чтобы вступить в Царство Небесное. Потому я пригнал две колесницы, которые ты можешь начать заполнять ненужными тебе богатствами».
Трактат об атеологии
Мишель Онфре
В обществе мадам Бовари
Для большинства жизнь без боваризма[55] превратилась бы в кошмар. Считая себя не теми, кем они в действительности являются, воображая себя находящимися в положении, отличающемся от реального, люди, конечно, избегают трагического, но лишаются своей собственной сущности. Я не презираю верующих, я не считаю их смешными или ничтожными, но меня приводит в уныние то, что они предпочитают успокаивающие детские сказки жестоким реалиям взрослых. Лучше уж вера, которая успокаивает, чем разум, который тревожит, – даже ценою вечного интеллектуального инфантилизма: вот ход действия метафизической уловки, имеющей чудовищную цену.
Во мне пробуждаются самые глубокие чувства, когда я становлюсь свидетелем столь несомненного отчуждения: сострадание к обманутым и одновременно с ним – неудержимый гнев по отношению к тем, кто их постоянно обманывает. Не ненависть к поставленным на колени, но уверенность в том, что я никогда не приду к мирному соглашению с теми, кто приказывает им занять эту унизительную позицию и удерживает их в этом положении. Разве можно презирать жертв? И разве можно не бороться против их мучителей?
Духовная нищета порождает самоотречение: она приводит к сексуальной, психической, политической, умственной и иным формам нищеты. Странно, как зрелище отчуждения ближнего заставляет улыбаться того, кто не замечает своего собственного отчуждения. Христианин, который питается рыбой по пятницам, смеётся над мусульманином, отказывающимся от свинины, в свою очередь, глумящимся над евреем, отвергающим ракообразных… Любавичский хасид, раскачивающийся перед стеной плача, смотрит с удивлением на христианина, коленопреклонённого перед генуф-лекторием[56], в то время как мусульманин укладывает свой молитвенный коврик в направлении Мекки. Тем не менее никто из них не приходит к выводу, что соломинка в оке соседа ничем не хуже бревна в его собственном глазу. И что критический дух, столь уместный и всегда приветствуемый, когда речь идёт о других, лишь выиграет, если будет распространён и на его собственные воззрения.
Легковерие людей выходит за рамки наших представлений. Их стремление не замечать очевидного, их желание ещё более отрадного зрелища, даже если оно является в высшей степени выдумкой, их воля к слепоте не знает границ. Уж лучше небылицы, выдумки, мифы и детские сказки, чем наблюдение разоблачения жестокости реальности, чтобы стерпеть очевидную трагичность мира. Чтобы предотвратить смерть, homo sapiens её увольняет. Чтобы избежать необходимости решать проблему, он её упраздняет. Умирать придётся только смертным; верующий же, наивный и глупый, знает, что он бессмертен, что он выживет в глобальной гекатомбе…
Затаившиеся дельцы
Я не питаю неприязни к людям, использующим метафизические уловки ради выживания; с другой стороны, те, кто организует тёмные делишки и, проповедуя идеал аскетизма, между прочим, ни в чём себе не отказывает, окончательно и бесповоротно расположены напротив меня, на другой стороне экзистенциальной баррикады. Торговля другими мирами вселяет уверенность в того, кто их рекламирует, потому что так он находит предлог для укрепления своей собственной потребности в психической помощи. Подобно тому как зачастую психоаналитик возится с другими, чтобы ему не приходилось слишком уж пристально задумываться о собственных слабостях, викарий монотеистических богов навязывает своё мировоззрение другим день ото дня, чтобы самому ещё более надёжно принять свою же веру. Строго по методу Куэ…[57]
Скрывать личную духовную нищету, усугубляя её у других, избегать зрелища этой нищеты у себя самого, драматизируя нищету всего мира, – Боссюэ[58], эталонный проповедник! – как много существует уловок, которые должны быть осуждены. Простой верующий – это одно, а тот, кто называет себя пастырем, – уже совсем другое. До тех пор пока религия остаётся внутренним делом человека, в конце концов, речь ведётся исключительно о неврозах, психозах и иных личных вещах. Существуют разные извращения, которые допустимы, пока не подвергают опасности или угрозе жизни других…
Мой атеизм активизируется, когда личное убеждение становится общественным делом, и во имя чьей-то личной умственной патологии и в соответствии с ней переустраивается мир и для всех других. Между персональным экзистенциальным ужасом и управлением телом и душой других существует целый мир, в котором ведут активную работу затаившиеся дельцы от этой духовной и умственной нищеты. Искажение влечения к смерти, которым они обрабатывают весь мир, не спасает страждущего и не меняет ничего в его страдании, но лишь загрязняет вселенную. Желая избежать негативности, он распространяет её вокруг себя, а затем порождает на свет психическую эпидемию.
Во имя Яхве, Бога, Иисуса и Аллаха – своих полезных выдумок – Моисей, Павел Тарсянин, Константин, Магомет сумели управлять теми тёмными силами, которые их захватывают, терзают и мучают. Проецируя их тьму на мир, они затемняют его ещё сильнее и не облегчают никакую боль. Патологическая власть влечения к смерти излечивается не хаотичным и магическим разбрызгиванием грязи, но философской работой над собой. Правильно проведённая интроспекция даёт отпор фантазиям и заблуждениям, которые питают богов. Атеизм – это не терапия, а восстановленное психическое здоровье.
Наращивать Просвещение
Эта работа над собой предполагает философию. Не веру, предания, мифы, но разум, правильно проведённое самонаблюдение. Мракобесие – этот питательный перегной для религий – борется с западной рационалистической традицией. Надлежащее использование нашей мыслительной способности, поведение нашего разума в соответствии со здравым смыслом, претворение в жизнь подлинной готовности к критике, общая мобилизация нашего рассудка, желание развиваться, стоя на ногах, а не на коленях, – вот множество способов, чтобы отбить наступление иллюзий. Всё это – возвращение к духу Просвещения, давшего имя XVIII веку.
Конечно, многое можно было бы сказать об историографии этого второго Великого века[59]. Пристально уставившись на Французскую революцию, историки следующего века пишут вдогонку своеобразную историю. В ретроспективе предпочтение отдаётся тому, что, как кажется, могло напрямую породить или активно содействовать недавнему историческому событию. Это иронические деконструкции Вольтера, Монтескьё и его три ветви власти, «Общественный договор» Руссо, Кант и его культ разума[60], генеральный подрядчик «Энциклопедии» д’Аламбер и т. д. На самом деле эти блистательные фигуры Просвещения – безусловно презентабельные и политически корректные – были самыми смелыми из всех, кого могли вынести историки.
Я считаю Просвещение более пылким, более вольным, гораздо более смелым. Поскольку при всём кажущемся разнообразии всех этих замечательных людей объединяет деизм. И все они решительно боролись против атеизма, к чему эти избранные мыслители также добавили равновеликое и полнейшее презрение к материализму и чувственности – все философские возможности, составлявшие левое крыло Просвещения и центр радикальности, который был подвергнут забвению, но который может быть востребован в наши дни. Тот, который мне нравится.
Кант несравненен в сдерживании дерзости. «Критика чистого разума» предлагает на шести сотнях страниц нечто, способное взорвать западную метафизику, но философ в итоге отступает. Разделение между верой и разумом, ноуменами и феноменами увековечивает два отдельных мира – это уже большой шаг вперёд… Дополнительное усилие могло бы позволить одному из этих миров – разуму – потребовать права на второй – веру. И анализ не пощадил бы вопрос веры. Ибо заявляя об этих двух отдельных мирах, разум отказывается от своих сил, он щадит веру, и религия спасается. И на этом основании Кант может постулировать (!) (какая потребность в столь многих страницах, которые могут быть сведены к постулированию…) Бога, бессмертие души и существование свободной воли – три столпа всякой религии.
Против антиклерикальной религии
На фоне этого опустошённого пейзажа осаждённого Запада борьба некоторых антиклерикалов порою кажется загрязнённой идеологией противника: многие из тех, кто сражается за наше дело, выглядят в точности как священнослужители. Или даже хуже: как карикатуры на священнослужителей. К сожалению, от современного вольнодумства отдаёт ладаном, оно бесстыдно попахивает святой водой. Ставши пасторами Церкви атеистических ханжей, деятели этого исторически значимого движения, похоже, упустили те возможности, которые мог дать постмодерн. Сегодня мы не сражаемся с монотеизмом при помощи оружия времён республики Гамбетты[61].
Конечно, борьба вольнодумства сыграла важную роль в наступлении современности: деконструкция христианских выдумок, освобождение совести, секуляризация юридической присяги, образования, здравоохранения и армии, борьба против теократии во имя демократии, особенно в её республиканской форме, достигла самой известной победы – отделения церкви от государства.
Тем не менее светские догматы, гражданские церемонии – крещения, причастия (!) – молодёжные фестивали, борьба с колокольным звоном в сёлах, стремление ввести новый календарь, иконоборчество, борьба против ношения ряс – во всём этом чувствуется так много общего с практиками из арсенала христианства. Дехристианизация осуществляется не посредством подобных игр и безделушек, а посредством работы над совокупностью знаний эпохи, посредством воспитания совести в сторону разума. Ведь революционный эпизод дехристианизации произвёл так же быстро культ Верховного Существа[62] и другие празднества, столь же клерикальные, глупые и неуместные.
Давайте мыслить диалектически: подобные эксцессы объясняются и оправдываются суровостью борьбы в то время, неуступчивостью противников, располагавших полной властью над телом, душой и совестью, и захватом христианами всех механизмов в обществе – гражданских, политических, военных. Когда вольнодумцы клеймят своих врагов, называя их вшами и трутнями (паразитами), змеями и гадами (коварными), свиньями и козлами (грязными, вонючими и похотливыми), совами и летучими мышами (существующими во мраке, мракобесами), грифами (любителями вкуса мертвечины[63]!), воронами (во всём чёрном), церковники отвечают им: обезьяна (Дарвин!), свинья (неутомимый эпикурейский поросёнок[64]), псина (совокупляющиеся на публике собаки, столь милые Диогену)… Пикантность острот возрастает, а уровень дискуссии снижается.
Сущность и форма этики
Ещё более неловкий момент: воинственный антиклерикализм опирается на иудео-христианскую этику и зачастую довольствуется её копированием. Иммануил Кант, написав книгу «Религия в пределах только разума», представил молитвенник по светской этике: евангельские добродетели, принципы десяти заповедей, призывы из заветов извлекают пользу из новой подачи. Форма меняется, но сущность остаётся прежней. Секуляризация иудео-христианской морали идеально соответствует имманентному переписыванию трансцендентного дискурса. Исходящее с небес не упразднено, но дополнительно адаптировано для земли. Кюре и чёрный гусар[65] Республики сражаются друг с другом, но, в конечном итоге, они оба сражаются за мир, схожий по своей сути.
Учебники нравственного воспитания в республиканских школах учат главенству семейных ценностей, добродетели труда, необходимости уважать своих родителей и почитать старших, правомерности национализма, патриотическим обязанностям, недоверию по отношению к плотскому, телесному и страстям, благородству ручного труда, подчинению политической власти, обязанности помогать бедным. Что может возразить этому сельский кюре? Труд, семья, отечество[66] – святая троица – и светская, и христианская.
Светская мысль – это не дехристианизированная, а имманентно христианская мысль. С рациональным языком сохраняется сама сущность иудео-христианской этики, хоть и в нетрадиционной для этой идеи манере. Господь покидает небеса, чтобы спуститься на землю. Он не умирает, его не убивают, его даже не берегут – его адаптируют к земле чистейшей имманентности. Иисус остаётся героем обоих видений мира, его лишь просят убрать нимб, чтобы избежать слишком уж демонстративных признаков…
Отсюда и релятивистское определение антиклерикализма: хотя парадигма и остаётся иудео-христианской, делается вид, как будто религия не пронизывает, не пропитывает совесть, тело и душу. Мы говорим, думаем, живём, действуем, мечтаем, фантазируем, едим, страдаем, спим, постигаем по иудео-христиански, сконструированные двумя тысячелетиями форматирования по канону библейского монотеизма. С той поры антиклерикализм сражается за то, чтобы каждому было позволено мыслить так, как он хочет, верить в своего собственного бога, пока он не выносит это на публичное обсуждение. Но публично правит балом секуляризированная религия Христа…
В данном случае нет никаких проблем с тем, чтобы провозгласить в современной Французской республике равенство еврея, христианина и мусульманина, а заодно и буддиста, синтоиста, анимиста, политеиста, агностика и атеиста. Может легко создаться впечатление, что все эти верования между собой абсолютно равнозначны – переживаемые в глубине души как личное убеждение, поскольку вовне, на уровне общественной жизни, окружений, форм, сил – сущности, так сказать, – этика, политика, медицинская этика, право, политические права остаются иудео-христианскими!
К постхристианскому антиклерикализму
Давайте выйдем за пределы антиклерикализма, слишком сильно укоренённого в том, с чем он якобы борется. Поаплодируем ему за то, чем он когда-то был, восхвалим его прошлые сражения, поднимем тост за то, что ему причитается. Но дальше продолжим в диалектической манере. Сегодняшние и завтрашние битвы требуют нового оружия, лучше выкованного, более эффективного, – инструментов, адекватных эпохе. Потому требуется дополнительное усилие для дехристианизации этики, политики и всего прочего. А с ними – и антиклерикализма, который бы только выиграл, освободившись ещё сильнее от иудео-христианской метафизики, и который мог бы на самом деле послужить в грядущих войнах.
Потому что провозглашая равенство между всякой религией и отрицанием всякой религии, как к этому побуждает победивший сегодня антиклерикализм, мы поддерживаем релятивизм: равенство между магической и рациональной мыслью, между выдумкой, мифом и аргументированным дискурсом, между рассказами о чудотворности и научным мышлением, между Торой и «Рассуждением о методе», Новым Заветом и «Критикой чистого разума», Кораном и «Генеалогией морали». Моисей равноценен Декарту, Иисусу, Канту, Магомету и Ницше…
Равенство между верующим евреем, убеждённым, что Бог обращался к его предкам, чтобы поведать им об их избранности, и с этой целью раздвинул море, остановил солнце и т. д., и философом, действующим на основании гипо-тетически-дедуктивного метода? Равенство между правоверным, убеждённым, что его герой был рождён девственницей, распят в правление Понтия Пилата, воскрес на третий день и с той поры проводит спокойные дни, сидя по правую руку от отца, и мыслителем, деконструирующим фабрикацию преданий, построение легенд, создание мифов? Равенство между мусульманином, убеждённым, что если он выпьет божоле и съест жаркое из свинины, то это однозначно закроет ему путь в рай, а вот убийство неверного, наоборот, распахнёт пред ним райские врата, и скрупулёзного аналитика, который, основываясь на позитивистском и эмпирическом принципах, демонстрирует, что монотеистическое верование равнозначно верованию анимиста-догона[67], считающего, что духи его предков возвращаются на землю в телах лисиц? Если ответ на эти вопросы – «да», то нам пора перестать думать…
Подобный релятивизм губителен. Отныне под предлогом антиклерикализма все дискурсы равноценны: заблуждение и правда, ложь и истина, причуда и серьёзность. Мифы и выдумки имеют такой же вес, что и разум. Магия столь же важна, как наука. Грёзы – не менее чем реальность. Но дискурсы неравнозначны между собой: дискурсы невроза, истерии и мистицизма происходят из иного мира, нежели позитивистский дискурс. Недопустимо более ставить на один уровень палача и жертву, добро и зло, недопустимо мириться с нейтральностью, с благожелательностью по отношению сразу ко всей совокупности возможных типов дискурса, включая дискурс магического мышления. Должны ли мы сохранять нейтральность? Можем ли мы всё ещё позволить себе эту роскошь? Я так не думаю…
В час начала последней битвы – уже проигранной – в защиту ценностей Просвещения против магических суждений надлежит пропагандировать постхристианский антиклерикализм, а именно атеистический, воинственный и радикально противостоящий всякому общественному выбору между западным иудео-христианством и противостоящим ему исламом. Ни Библии, ни Корана. Раввинам, кюре, имамам, аятоллам и прочим муллам я по-прежнему предпочитаю философа. Я предпочитаю апеллировать не ко всем этим теологиям и абракадабрам, но к учениям, альтернативным господствующей философской историографии: смеющимся[68], материалистам, радикалам, циникам, гедонистам, атеистам, сенсуалистам, сладострастным[69]. Они-то знают, что существует лишь один мир, и что всякая пропаганда другого мира заставляет нас утрачивать пользу и преимущества единственного существующего мира. Вот уж воистину смертный грех…
Десять тезисов за исчезновение дихотомии «плоть – дух», или Радикальная духовность есть не что иное, как радикальная чувственность
Ферал Рантер
1. Религиозная концепция духовности говорит нам, что духовность – это отрицание плоти.
2. Воодушевлённое существо – «дикий» человек, он полон страсти и, насколько это возможно, действует в соответствии с ней. Обездушенное существо – опустошённый человек, лишённый энергии для продолжения жизни, чьи огни страсти погасли. Очевидным образом, дух является совокупностью страстей и их энергий.
3. Страсти основываются на желаниях плоти.
4. Отрицание плоти является отрицанием страстей и, таким образом, отрицанием духа.
5. Религиозный призыв к отрицанию плоти должен всегда быть призывом к отрицанию всего себя, призывом к превращению себя не в духовное существо, но в ничто. Это призыв к самоуничтожению.
6. Утверждают, что бог есть абсолютный дух, полностью лишённый плоти. Это невозможно. Если бог есть абсолютный дух, бог должен быть абсолютной плотью. Если бог лишён плоти, значит, бог лишён страстей. Если бог лишён страстей, значит, бог лишён духа и, следовательно, является ничем.
7. Поскольку большинство религий непоколебимы в бесплотности бога, я должен сделать вывод, что бог есть ничто.
8. Попытка быть праведным есть попытка быть ничем.
9. Быть ничем есть путь обездушенного.
10. Дух есть плоть, активно следующая своим желаниям. Быть духовным (или, как мне больше нравится, воодушевлённым) – значит быть всецело и неограниченно страстным, чувственным, плотским, эротичным. Вечная жизнь подобной чувственности – это то обилие, которую она дарует в каждый момент, превращая каждый момент в «глубокую, глубокую вечность», к которой взывают наши страсти.
Буддистский анархизм
Гэри Снайдер
Буддизм полагает, что вселенная и все обитающие в ней существа в действительности находятся в состоянии совершенного знания, любви и сострадания; действуя в силу естественных реакций и взаимной зависимости. Личная реализация этого изначального состояния не может быть осуществлена в одиночку и для одного «себя» – ибо оно не может быть реализовано полностью, пока не откажешься и не отбросишь своё эго.
С точки зрения буддизма свободному проявлению этого состояния препятствует невежество, ведущее к страху и ненужным стремлениям. На протяжении истории буддистские философы не смогли выявить ту степень, в какой невежество и страдание вызываются или поощряются социальными факторами, если рассматривать страх и желание как данности человеческого существования. Следовательно, главным предметом буддистской философии является эпистемология и «психология» без внимания к историческим или социологическим вопросам. Хотя в буддизме махаяны и есть грандиозная картина всеобщего спасения, действительным завоеванием буддизма было развитие практических систем медитации с конечной целью освобождения немногих усердно практикующих учение личностей от психологических неврозов и влияний культурной среды. Институционализированный буддизм, под какой бы властью он ни оказался, был явно готов принять или не замечать неравенство и тиранию её политической системы. Это можно считать смертью буддизма, поскольку так уничтожаются все сколько-нибудь значимые функции сострадания. А мудрость без сострадания не чувствует боли.
Ныне никто не может позволить себе быть невинным или потакать себе в невежестве относительно природы современных правительств, политики и социального устройства. Государственные политики современного мира поддерживают своё существование за счёт умышленно стимулируемых стремлений и страхов: чудовищных вымогательств под предлогом покровительства. «Свободный мир» оказался экономически зависим от невероятной системы стимулирования неутолимой жадности, неудовлетворимого сексуального желания и ненависти, которая может изливаться только на самих себя, на тех, кого следовало бы возлюбить, или на революционные чаяния жалких, погрязших в нищете маргинальных обществ, таких как Куба или Вьетнам. Условия Холодной войны превратили все общества современного мира – включая и коммунистические – в порочных извратителей истинного потенциала человека. Они создают популяции «претов» – голодных духов с колоссальным аппетитом и горлами не толще иголки. Почва, леса и вся животная жизнь потребляются этими злокачественными общностями; воздух и вода нашей планеты ими загрязняются.
В человеческой природе или условиях организации человеческого общества нет ничего, что бы действительно требовало, чтобы культура была противоречивой, репрессивной и порождающей жестоких и отчаявшихся людей. Недавние открытия в антропологии и психологии подтверждают это со всё большей очевидностью. Каждый сам может в этом убедиться, пристально вглядевшись в свою собственную природу посредством медитации. Если человек достигает такого уровня веры и прозрения, то он должен прийти к глубокой озабоченности необходимостью радикальных перемен в обществе с помощью различных, будем надеяться, ненасильственных средств.
Радостная и добровольная бедность буддизма становится позитивной силой. Традиционные принципы ненасилия и отказа отнимать чью-то жизнь влекут за собой последствия, сотрясающие целые страны. Практика медитации, для которой необходима лишь «почва под ногами», смывает горы мусора, закачиваемого в головы людей масс-медиа и университетами-супермаркетами. Вера в безмятежное и бескорыстное исполнение природных желаний любви разрушает идеологии, которые ослепляют, калечат и угнетают, – и указывает путь к такому сообществу, которое вызовет изумление у «моралистов» и преобразует армии тех, кто оказался воином лишь потому, что не мог быть возлюбленным.
Буддистская философская традиция Аватамсака (Кэгон) рассматривает мир как обширную взаимосвязанную сеть, в которой все объекты и создания являются необходимыми и просвещёнными. С одной точки зрения, правительства, войны или вообще всё, что мы считаем «злым», безоговорочно входят в эту тотальную реальность. Ястреб, его пикирование и заяц – всё это единое целое. С точки же зрения «человеческой» мы не можем жить при таких условиях, пока все существа не начнут смотреть на мир таким же просвещённым взглядом. Бодхисатва живёт так, как страдальцы, он должен реально помогать тем, кто страдает.
Милосердием Запада была социальная революция; милосердием Востока – личное проникновение в сущность себя⁄пустоты. Нам нужно и то, и другое. И это всё есть в трёх традиционных аспектах пути Дхармы: мудрость (праджня), медитация (дхъяна) и нравственность (шила). Мудрость – это интуитивное познание состояния любви и ясности, находящееся под бременем тревог и раздражений, управляемых нашим эго. Медитация проходит вглубь сознания, чтобы показать тебе это познание – снова и снова, пока оно не станет сознанием, в котором ты живёшь. Нравственность возвращает его в твой образ жизни путём личного примера и ответственных действий, приводя, в конечном итоге, к истинному сообществу (сангхе) «всех существ».
Для меня этот последний аспект означает поддержку любой культурной и экономической революции, которая недвусмысленно приближает нас к свободному, интернациональному, бесклассовому миру. Это означает такие действия, как гражданское неповиновение, откровенную критику, протесты, пацифизм, добровольную бедность и даже мягкое насилие, если дело касается усмирения какого-нибудь взбешённого быдла. Это означает одобрение самого широкого из возможных спектров личного поведения, не причиняющего вреда, – защиту прав каждого на курение травки, употребление пейота, полигамию, полиандрию или гомосексуальность. Тех Миров поведения и привычек, которые уже давно были запрещены иудео-капиталистическо-христианско-марксистским Западом. Это означает уважение к уму и обучению, но не ради стяжательства или достижения личной власти. Это работа над личной ответственностью, но и желание работать в группе. «Формирование нового общества под скорлупой старого» – таков ведь был лозунг Индустриальных рабочих мира пятьдесят лет назад.
В любом случае, традиционные культуры обречены, и вместо того чтобы безнадёжно цепляться за то хорошее, что в них есть, стоит помнить, что всё, что было или есть в любой другой культуре, может быть воссоздано из подсознательного путём медитации. Я действительно считаю, что грядущая революция замкнёт этот цикл и различными путями свяжет нас с самыми творческими аспектами нашего архаичного прошлого. Если нам повезёт, мы в итоге дойдём до тотально интегрированной всемирной культуры с матрилинейной родословной, браками в свободной форме, натурально-кредитной коммунистической экономикой, меньшей промышленностью, куда меньшим населением и куда большим числом природных парков.
Примечания к разделу «Религия»
1 См.: Ballou A. Non-Resistance: A Basis for Christian Anarchism // Patterns of Anarchy. P. 140–149. Вы иногда можете встретить заявления, что многие средневековые мистики были анархистами. Но мистики не были бы мистиками, если бы говорили то, что подразумевают. У них были «непередаваемые озарения, о которых они не могли умолчать», см.: Black В. Words of Power ⁄⁄ The Abolition of Work and Other Essays. P. 126 (впервые опубл, в 1980 г.).
2 См.: Goldman Е. Anarchism: What It Really Stands For // Red Emma Speaks. P. 59.
3 См.: Godwin W. An Enquiry Concerning Political Justice // Woodcock G. Anarchism. P. 60–93. Анархисты никогда особо не читали Годвина, хотя его хвалили Кропоткин и Гольдман.
4 См.: Read H. Poetry and Anarchism // Anarchy and Order. P. 107 (впервые опубл, в 1938 г.).
5 См.: Guérin D. Foreword // No Gods, No Masters. P. 1–2.
6 См.: Бакунин M.А. Бог и Государство ⁄⁄ Бакунин М.А. Избр. философские соч. и письма ⁄ Подг. изд. В.Ф. Пустарнакова. М.: Мысль, 1987. С. 462.
7 См.: Onfray М. Atheist Manifesto ⁄ Trans. J. Leggatt. New York: Arcade Publishing, 2007. P. 215–216.
8 «В глубине души Кропоткин был моралистом», см.: Aurich Р. Anarchist Portraits. P. 71.
9 См.: Штирнер М. Единственный и его собственность ⁄ Пер. с нем. М.Л. Гох-шиллера, Б.В. Гиммельфабра. М.: РИПОЛ Классик, 2017 (впервые опубл, в 1844 г.).
10 См.: Walter N. Anarchism and Atheism (1991), www.theanarchistlibrary.org.
11 См.: Walter N. About Anarchism. P. 42–43. «Практически все анархисты сегодня являются атеистами, или по крайней мере агностиками», ibid. Р. 43. Существует сайт atheistanarchists.org. Он не ответил на мою просьбу предоставить некоторые тексты. Есть и недавно вышедшая антология «академических» анархистов: Religious Anarchism: New Perspectives / Ed. A. Christoyannopoulos. Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publications, 2009.
12 См.: Штирнер M. Единственный и его собственность. С. 59–62; Goldman Е. The Failure of Christianity // Red Emma Speaks. P. 186–194; Badcock J., Jr. Slaves to Duty. Colorado Springs, Colorado: Ralph Myles Publisher, 1972 (впервые опубл, в 1894 г.); Robinson J.В. Egoism // Green Anarchy. No. 20. Summer 2005. P. 31–34; Walker J.L. The Philosophy of Egoism. Colorado Springs, Colorado: Ralph Miles Publisher, 1972. (впервые опубл, в 1905 г.). У Колина Уорда нет критики религии или морали. Неудивительно, что он счёл Макса Штирнера «непонятным», см.: Ward С. Anarchism. Р. 62.
13 Но таким примером является работа: Baldelli G. Social Anarchism. Chicago, Illinois & New York: Aldine – Atherton, 1971, упоминание, но не обсуждение которой я видел только у одного анархиста, см.: Kinna R. Anarchism. P. 117.
14 Goldman E. Victims of Morality // Red Emma Speaks. P. 126–132.
15 См.: Bey H. Communications of the Association of Ontological Anarchy // T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1991. P. 71.
16 См.: Блэк Б. Миф о правах человека ⁄ Пер. с англ. А. Умняшова. Б.м.: Издательские решения, 2019.
17 См.: Rollins L.A. The Myth of Natural Rights. Port Townsend, Washington: Loompanics Unlimited, 1983.
18 См.: Wilson R.A. Natural Law, or, Don’t Put a Rubber on Your Willy. Port Townsend, Washington: Breakout Publications, 1999.
19 См.: Clark J.D. What Is Anarchism? // Nomos XIX: Anarchism. P. 15–17.
20 См.: Kropotkin P. Are We Good Enough? // Act for Yourselves: Articles from Freedom, 1886–1907 / Ed. N. Walter & H. Becker. London: Freedom Press, 1988. P. 81 (впервые опубл, в 1888 г.). «Распространено заблуждение, что анархисты верят в благость “природы человека”, а значит, и в то, что людям можно доверить самоуправление. На самом же деле мы склонны к пессимистской точке зрения: людям не следует доверять, чтобы предотвратить концентрацию власти», см.: Goodman Р. Freedom and Autonomy (1972) ⁄⁄ Documentary History, 2. P. 329.
21 См.: Блэк Б. Азбука анархизма. С. 73.
22 См.: Chomsky on Anarchism ⁄ Ed. В. Pateman. Oakland, California & Edinburgh, Scotland: AK Press, 2009. P. 185. См.: Black B. Chomsky on the Nod. P. 103–126. «Само понятие “прав” становится подозрительным, будучи выражением покровительства элиты, дающей и отказывающей в “правах” и “привилегиях” подчинённым. Борьба против элитизма и иерархии подменяет борьбу за “права” как главную цель», см.: Bookchin М. Introduction ⁄⁄ Post-Scarcity Anarchism. P. 14–15). Это пророчество Букчина, как и все остальные, не сбылось.
23 См.: Rothbard М. On the Duty of Natural Outlaws to Shut Up // New Libertarian. Vol. 4. No. 13. April 1985. P. 10.
24 См.: Зерзан Дж. Приятнизм ⁄⁄ Зерзан. Дж. Первобытный человек будущего. С. 183.
25 См.: Ситуационистский интернационал. О нищете студенческой жизни ⁄ Сост., пер. с фр., примеч. и послесл. С. Михайленко. М.: Гилея, 2012. С. 30.
26 См.: Beltzold М. Recalling Му Times with the Fifth Estate Newspaper 40 Years Ago // Deadline Detroit Lifestyles. 2015. October 13.
27 См.: Ireland D. Introduction to Note from Onfray // New Politics. No. 40. Winter 2006. «Франция, медиа, Онфре, самопровозглашённый анархист», A-infos, – (Я не обнаружил цитату, где бы он сам себя так характеризовал).
28 См.: Onfray М. A Hedonist Manifesto: The Power to Exist / Trans. J. McClellan. New York: Columbia University Press, 2015. P. 127–129.
29 Ibid. P. 12–16 и др.
30 Ibid. P. 32, 34.
31 См.: Bookchin M. Social Anarchism or Lifestyle Anarchism. P. 56–57, 76–77.
32 См., напр.: Horkheimer M., Adorno T.W. Dialectic of Enlightenment / Trans. J. Cumming. New York: Continuum Publishing Co., 1993. Так полагает и большинство анархо-примитивистов, см., напр.: Mooref. On the Enlightenment: Response to a Letter // Green Anarchism. No. 56. Summer 1999).
33 См.: Кант И. Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?» ⁄ Пер. с нем. Ц.Г. Арзаканьяна ⁄⁄ Кант И. Соч. в 6 т. ⁄ Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 25. Пол Фейерабенд включил эту цитату в предисловие к своей кн. «Прощай, разум».
34 См.: Stirner М. The Unique and Its Property / Trans. W. Landstreicher. Baltimore, Maryland: Underground Amusements, 2017. Эта кн., «Единственный и его собственность», название которой на нем.: “Der Einzige und sein Eigentum”, впервые была издана в 1844 г., а на англ, заглавие ещё переводили как “The Ego and His Own” или “The Ego and Its Own”. Ещё одним англ, переводом является: StirnerM. Stirner’s Critics. Berkeley, California: LBC Books & Oakland, California: CAL Press, 2012.
35 См.: Novatore: The Collected Works of Renzo Novatore / Trans. W. Landstreicher. Berkeley, California: Ardent Press, 2012.
36 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра ⁄ Пер. В. Рынкевича. М.: Интербук, 1990. С. 287.
37 См.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 689.
38 См.: Biehl J. Ecology or Catastrophe. P. 223.
39 Цит. в заметке: Martin D. Murray Bookchin, 85, Writer, Activist and Ecology Theorist, Dies // N.Y. Times. 2006. Aug. 7.
40 Кларк – даос, см.: Cafard M. The Dao of Capitalism, or, Going with the (Cash-) Flow; Cafard M. AnarChapters: Zhuangzi’s Crazy Wisdom & Da(o) Da(o) Spirituality // Cafard M. Surre(gion)alist Manifesto. P. 32–58. Я уже цитировал Букчина, где тот заявлял, что его долгое безмолвное терпение «даосской трескотни» Кларка доказывает его недогматичность! (см.: Bookchin М. Wither Anarchism? P. 223). Анархичен ли даосизм? Если верить самому известному кит. анархисту Ба Цзиню, то нет, см.: Li Pei Кап. On Theory and Practice (1921–1927) // Documentary History, 1. P. 362 (впервые опубл, в 1927 г.). Ли Пейкан (также это имя транслитерируется как Ли Фэйгань) – псевдоним кит. анархиста и автора романов, более известного под псевдонимом Па Чинь или Ба Цзинь. Согласно же взгляду одного япон. Анархиста: «…анархизм – это философия, близкая к учению Лао-цзы и Чжуан-цзы…» (см.: Shûsui К. Letter from Prison (1910) ⁄⁄ Documentary History, 1. P. 367). Своё мнение высказывали и другие, см.: David-Neal A. The Theory of the Individual in Chinese Philosophy: Yang-Chou // Neither Lord nor Subject: Anarchism and Eastern Thought (n. p.: Enemy Combat Publications, 2016); Landstreicher W. Introduction // Stirner M. The Unique and Its Property. P. 14–15.
X. Цивилизация
Если «цивилизация» означает «государственное классовое общество», то тогда анархизм против цивилизации. Цивилизованные люди считают урбанизм и грамотность самыми важными показателями цивилизации. На сегодняшний день эти показатели всегда ей сопутствуют. Порой в истории существовали государства без городов и письменности, такие как у зулусов и ранних викингов, но и они уступали под напором цивилизации. Само слово «цивилизация» теперь также подразумевает такие понятия, как закон, высокая культура, бюрократия и организованная религия. Писатели-теоретики, мыслящие в грандиозных масштабах, такие как Арнольд Тойнби и Освальд Шпенглер, без достаточных оснований определяют конкретные «цивилизации» и размышляют об их росте и упадке1. С XIX века писатели такого рода всегда были консерваторами, продвигавшими определённые политические программы. Современные авторы из их числа пишут весьма топорно, например, Сэмюэль Хантингтон, выдумавший абстрактное, антиисторическое «столкновение цивилизаций» ислама и «Запада» с целью оправдать перманентное американское военное присутствие на Ближнем Востоке2. В нашу эру глобализации больше нет столкновений цивилизаций. Есть столкновения политических и экономических интересов между национальными государствами, действующими от имени интернациональных элит. А они часто коварно эксплуатируют расовые, этнические, религиозные и культурные различия.
Начиная с 1970-х и 1980-х годов, некоторые анархисты, в особенности Фреди Перлман, Джон Зерзан, Джон Мор и Дэвид Уотсон, разработали критику Цивилизации как таковой. Отчасти они вдохновлялись антропологией Маршалла Салинса, Пьера Кастра и других. Антрополог Стенли Дайамонд в 1972 году опубликовал книгу «В поисках примитивного: критика цивилизации»3. Её прочли некоторые анархисты. Другим источником вдохновения было радикальное экологическое движение, которое так и не смог подмять под себя Мюррей Букчин. Разочарование, последовавшее за 1960-ми годами, а также поражение Америки во Вьетнаме заставило некоторых думающих людей засомневаться в ранее безоговорочном превосходстве западной цивилизации и даже в цивилизации как таковой. Для анархистов же красноречивую, хотя и не слишком аргументированную критику Цивилизации предоставила книга Фреди Перлмана «Против Его истории, против Левиафана!»4. Издание “Fifth Estate”, с которым был связан Перлман (все они располагались в Детройте), руками своего сотрудника Джорджа Бредфорда (псевдоним Дэвида Уотсона) при участии Джона Зерзана и других принялось публиковать сочинения с критикой цивилизации. Так началось «антицивилизационное» и анархо-примитивистское (анприм) течение в современном анархизме5. Подобно критике работы, критика Цивилизации застала как всегда невежественных анархо-левых врасплох. Со временем они организовали типичную контратаку по сталинским шаблонам, высмеивая примитивистов за романтизацию «благородного дикаря» – так и не прочитав Руссо, они не знали, что он никогда не использовал это выражение6. Не знали они и того, что Руссо никогда не использовал и слово «цивилизация»7. Они даже не знали, что Руссо не верил, что его идеальное первобытное общество когда-либо существовало или будет когда-нибудь существовать8. Однако Руссо действительно проницательно предвосхитил взгляд специалистов-антропологов на охотников и собирателей по меньшей мере в одном аспекте: в том, что безгосударственные первобытные люди не могли даже представлять себе подчинение*. Левые обвиняли примитивистов в оправдании геноцида, основываясь на том неуместном допущении, что индустриальные технологии критически важны для выживания миллиардов людей, неважно, на каком нищенском уровне10. Они так и не объяснили (и даже не пытались), как организация рабочего класса ликвидирует бедность, голод, загрязнение, болезни и войны по всему миру.
Я не стану воспроизводить здесь сознательно невежественные, злонамеренные и грубые пасквили леваков. Я не анархо-примитивист, но часто мне приходилось защищать их от глупой нетерпимости левых. Я всего лишь «антиантипримитивист».
Одна из особых насмешек судьбы состоит в том, что классический анархизм был позитивистским11. Подобно марксизму, он некритически возвеличивал науку и технологию – инструментальную рациональность, при том, что на ней зиждилась фактическая, живая иррациональность капитализма и его государства – или государства и его капитализма, суть одна12. Лишь изредка классический анархизм критиковал механическую технологию как препятствие для свободы13. Пол Фейерабенд, отказываясь от позитивистской анархистской ортодоксальности Кропоткина, агитировал за анархистскую эпистемологию и анархистскую научную антиметодологию, не сдерживаемую правилами14. Он утверждал, что важнейшие научные открытия чаще были результатом нарушения правил, чем следования им. Его позиция получила определённую поддержку в философии науки Томаса Куна15. Примитивисты и постлевые анархисты приняли такой подход, иногда упрощая его. Анархо-левые – включая, разумеется, Мюррея Букчина – только глумились над ним.
Этот раздел откроется с краткого введения, написанного Джоном Филиссом, которого я лично знаю и чьи работы мне нравятся. Он акцентирует отказ от технологий как фундаментальный принцип примитивизма. Затем Дэвид Уотсон – главный теоретик издания “Fifth Estate” в его анархистский период – выражает свою критику в виде метафоры. Анпримы (анархо-примитивисты) обожают метафорический язык первобытных. «Что такое зелёная анархия?», «пособие для начинающих» за авторством коллектива “Green Anarchy”, издававшим одноимённый журнал с 3000 по 2008 год, излагает все основные темы анархо-примитивизма. В нём рассматриваются и многие другие темы этой антологии.
Джейсон МакКуин часто публиковал анпримов в своём журнале “Anarchy”. Сам он не принадлежал к их числу, но очень сочувственно относился к их точке зрения16. Его эссе «Почему я не примитивист» близко к моему мнению по этой теме. Но так же, как и Лоуренс Джэрак, я и не анти-примитивист17. Меня называли примитивистом. Меня вообще много кем называли, часто ошибочно. Одна дама, тупая анархо-профессорша, даже назвала меня «самозваным анти-анархистским анархистом»18. Интересно, где она выискала самозванство? Или самозваный анархист это что-то вроде анархиста образа жизни? А ведь она испытывает симпатию к этой гротескной карикатуре Мюррея Букчина, к «анархизму образа жизни»19.
Содержание раздела «Цивилизация»
Джон Филисс. Что такое примитивизм? (пер. с англ. С. Михайленко ho: FilissJ. What Is Primitivism?https://web.archive.org/web/20190730185307/http: // primitivism.com/what-is-primitivism.htm).
Дэвид Уотсон. Цивилизация подобна реактивному самолёту (пер. с англ. С. Михайленко по: Watson D. Civilization Is Like a Jetliner // Watson D. Against the Megamachine: Essays on Empire & Its Enemies. Brooklyn, New York: Autonomedia; Detroit, Michigan: Fifth Estate, 1997. P. 187–188; впервые опубл, в 1983 г.).
Коллектив “Green Anarchy”. Что такое зелёная анархия? Введение в антицивилизационную анархистскую мысль и практику (пер. с англ. Н. Охотина под ред. В. Садовского по: Anonymous. What Is Green Anarchy? An introduction to anti-civilization anarchist thought and practice // Uncivilized: The Best of Green Anarchy. P. 13–26).
Джейсон МакКуин. Почему я не примитивист? (пер. с англ. В. Садовского по: McQuinn J. Why lam Not a Primitivist // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 55. Spring 2001. P. 12–24).
Что такое примитивизм?
Джон Филисс
Здесь представлена моя собственная попытка дать определение примитивизма.
Примитивизм – это поиск образов жизни, идущих наперекор развитию технологий, его прародителям (неразрывно связанным с отчуждением) и всей совокупности изменений, ими уже вызванных.
Технология в данном случае определяется как использование механизмов, основанное на разделении труда… то есть производство и эксплуатация механизмов стали достаточно сложными и требующими специализации, которая, в свою очередь, подразумевает разделение индивидов и их окончательную стратификацию в обществе наряду с увеличением количества тяжкого труда в форме узкоспециализированных, повторяющихся задач.
Существует множество предположений относительно прародителей технологического развития, но этот вопрос продолжает оставаться открытым. Наиболее известные работы в этом направлении принадлежат перу Джона Зерзана и посвящены изучению символической культуры и её проявлений в числах, языке, религии и ритуале. Эти исследования, практически не понятые анархистской средой, в которой они возникли, особенно важны и ценны как отправная точка для дедуктивного анализа, способного послужить выработке новых идей и выявлению решений.
Возможно, самый простой способ понимания примитивизма – это понимание его в качестве противовеса привлекательности технологий. Примитивизм в целом – это формирование силы, противодействующей всей сущности технологического прогресса. Учитывая всеобъемлющий характер технологического развития, примитивизм может быть единственным ориентированным на человека20 ответом на технологии, который заходит настолько далеко, чтобы не стать их частью.
Необходимость примитивизма обусловливается множеством факторов, среди которых:
• понимание того, что некоторые исторические и доисторические общества во многих отношениях выгодно отличаются от нашего. Наиболее известным примером этого может служить относительная праздность кочевых обществ охотников и собирателей в сравнении с всепроникающей работой в современном индустриальном обществе;
• осознание разрушения окружающей среды, которое представляется неизбежным спутником технологического прогресса;
• обеспокоенность прогнозами технологического прогресса, высказанными Курцвейлом, Моравеком и т. д.21 и описывающими быстрое развитие генетической инженерии, нанотехнологий и особенно систем искусственного интеллекта, которые могут подвергнуть биологических людей такому экономическому и экологическому давлению, которое наш человеческий род может не выдержать.
Фактически, подтверждением потенциальной ценности примитивистской теории может служить любое сколь угодно малое отклонение от точки зрения технологического детерминизма… и такие отклонения, парадоксальным образом, являются практически общепринятыми в нашем обществе вопреки всей его вере в технический прогресс.
Примитивизм сегодня является ещё лишь зарождающейся тенденцией, особенно учитывая масштабность его цели. В контексте открытого общества успешное осуществление примитивизма потребует, чтобы примитивистский подход бесспорно восторжествовал над технологическим практически во всех областях, относящихся, так или иначе, к благополучию человека. Всё, не связанное с этой сферой, может задействовать синтез примитивистских и технологических подходов в нашем обществе, но не вытеснение последних первыми.
В отличие от многих представлений о современном примитивизме, суть поднятого здесь вопроса, главным образом, проблема не политическая, а множество технических22. И в отличие от большинства размышлений на тему политической теории, тот тип решения проблем и уровень информированности, которые требуются для продвижения и широкого распространения примитивистского проекта в нашем обществе (например, осознание благоприятных последствий примитивизма для здоровья человека), могут зачастую служить и частным целям, помимо интеллектуального увлечения. Примитивизм как область исследования обещает стать занятием, приносящим гораздо большее удовольствие человеку, чем изучение большинства политических философий. От того, насколько примитивизм сможет соответствовать этим ожиданиям, будет зависеть его успех в масштабах общества.
Демонстрирует ли траектория примитивизма как таковая наиболее благоприятный способ существования человеческих существ? На этот вопрос никто не может дать ответ прямо сейчас. Вне зависимости от того, выберем ли мы путь примитивизма, путь технологии или некоторый синтез их обоих, – необходимо чётко осмыслить то, что нас ждёт впереди. Самой насущной задачей является выработка широкого спектра вариантов улучшения условий человеческого существования, и посредством детализации этих вариантов мы сможем проложить нашу дорогу к лучшему из возможных образов жизни.
Цивилизация подобна реактивному самолёту
Дэвид Уотсон
Цивилизация подобна реактивному самолёту, шумному, сжигающему безмерное количество топлива. Все мыслимые и немыслимые преступления и загрязнения должны были быть совершены, чтобы заставить его двигаться. Целые виды исчезли с лица земли, целые народы рассеялись. Его тень на воде напоминает нефтяное пятно. Он засасывает птиц в турбины и перемалывает их в прах. Каждая его часть, как однажды нервно заметил Гас Гриссом[70] в отношении космических аппаратов, прежде чем сгорел в одном из них, была сделана компанией, предложившей самую низкую цену.
Цивилизация подобна Боингу-747: отфильтрованный воздух, фоновая музыка, сочащаяся из наушников, ложное ощущение безопасности, химическая еда, пластиковые подносы; все пассажиры, пассивно сидящие в пронумерованных рядах мягких сидений, пялятся на Смерть на экране. Цивилизация подобна реактивному самолёту: идиот-всезнайка в кабине пилота, оперирующий компьютеризированной системой управления, созданной угрюмыми наёмными рабочими, и зависящий в своих решениях от сонных техников, унюхавшихся амфетамином, чьи умы заполнены спортом и сексом.
Цивилизация подобна Боингу-747: забитый сверх лимита подневольными волонтёрами – некоторые из них влюблены в скорость, большинство же дрожит от ужаса и тошноты, но всё-таки соблазнилось рекламой и пропагандой. Цивилизация подобна ДС-ю[71]: этот самолёт столь невероятно герметичен, что вы хотите вырваться из стен этой консервной банки и сбежать, проложить свой собственный путь сквозь облака и покинуть этого грохочущего, визжащего демона, приближающегося к своей точке краха. Малейшая ошибка или техническая неисправность ведут к катастрофе, разбрасывающей ваши скорбные кишки по всей взлётно-посадочной полосе, подобно запоздалым предзнаменованиям, вышибающей вас из ботинок, ломающей все ваши кости как яичную скорлупу.
(Конечно, цивилизация подобна многим другим вещам, помимо самолётов, – но всегда вещам – сливному каналу для химических отходов, лесному массиву, вырубленному ради расширения взлётно-посадочной полосы или строительства нового блестящего торгового центра, в котором люди могут купить салатницы, сделанные из экзотических тропических деревьев, которые полностью исчезнут на следующей неделе; или, может быть, кладбищу машин, или подвесному мосту, который обрушивается из-за расшатывания одного металлического болта. Цивилизация – это гидра. В наличии имеется множество стилей, цветов и размеров Смерти на выбор.)
Цивилизация подобна Боингу «Джамбо Джет»[72], поскольку он транспортирует людей, которые никогда не ощущали свою человеческую природу там, где они были, в те места, куда им не следует попадать. По сути, он по большей части перевозит бизнесменов в костюмах с портфелями, наполненными схемами, контрактами, ещё больше горе-бизнесменов, которые повсюду одинаковы, а потому вообще нет никаких причин, чтобы заботиться об их перевозке. И она движется всё быстрее и быстрее, превращая всё больше и больше мест в аэропорты, (противо)естественную среду обитания бизнесменов.
Как у него получается подниматься с земли – совершенная загадка. Он катится по взлётно-посадочной полосе, мигающие огни вдоль неё похожи на рубцы на теле земли, он набирает скорость и издаёт некое подобие хрюканья, насилуя воздух, прокладывая свой путь вверх параллельно мерцающим волнам тепла и мусору, разлетающемуся прочь, подобно беженцам, покидающим город, подвергнутый бомбардировке. Да, это захватывающе, это чудо, когда жизнь была эвакуирована и даже сами камни убиты.
Но цивилизация, как и реактивный лайнер, этакий феникс-уродец, неспособный подняться из пепла, так же рушится оземь, подобно миллиону взрывающихся ос, огонь распространяется по взлётной полосе в щупальцах бензина, самсонита[73] и обугленной плоти. И всегда абсурдный мусор, конфетти Смерти, обломки, оставшиеся лежать в насмешку над нами вдоль изнурённой траектории умирающей птицы – голова куклы, ботинки, очки, пряжка пояса.
Реактивные самолёты падают, цивилизации падают, эта цивилизация падёт. Данные приборов будут неверно истолкованы в один снежный день (а возможно, и сами приборы откажут). Крылья, предположительно прошедшие противообледенительную обработку, окажутся слишком замёрзшими, чтобы бить по ветру, и птица утонет как жёрнов, поначалу беспричинно снеся мост (потому что цивилизация также подобна мосту, из Рая в Никуда), мост, полный, например, жителей пригородов на их пути на работу или с работы (можно сказать, в аэропорт или из аэропорта), упакованных в их машинах (бескрылых самолётах), подобно дополнительным особым жертвам ненасытной Медузе.
Затем он погрузится в ледяные воды реки, возможно, Потомака, Иордана или Леты[74]. И мы будем внутри, каждый из нас – у своего, специально отведённого для него иллюминатора, идя на снижение в последний раз, подобно головам кукол, упакованным в плексиглас.
Что такое зелёная анархия? Введение в антицивилизационную анархистскую мысль и практику
Коллектив “Green Anarchy”
Восполняя разрыв во времени и работе, нижеследующая статья впервые появилась в одном из вводных материалов журнала зелёных анархистов «Back to Basics»[75]. Её стоит рассматривать как первую ступеньку к дальнейшим исследованиям и дискуссиям. Она охватывает центральные темы как зелёной анархистской критики, так и перспектив этого направления. Это не законченный список, а скорее начало того, что, как мы надеемся, станет непрерывной дискуссией, которая получит обновление и развитие в последующих выпусках «Black Seed»[76].
Это пособие не претендует на статус ни «основополагающих принципов» зелёного анархистского «движения», ни антицивилизационного манифеста. Это просто взгляд на некоторые основные идеи и понятия, разделяемые участниками некоторой общности, которая идентифицирует себя с зелёным анархизмом. Мы понимаем и признаём необходимость придерживаться открытости в нашем ви́дении и стратегии и всегда приветствуем дискуссию. Мы убеждены, что наши мысли и наша суть в каждом своём аспекте постоянно должны сталкиваться с трудностями и оставаться гибкими, если мы хотим расти. Нас не интересует ни создание новой идеологии, ни увековечивание какого-то конкретного мировоззрения. Мы также понимаем, что не все зелёные анархисты имеют антицивилизационные взгляды (но нам действительно трудно понять, как можно отрицать любое господство, не доходя в этом отрицании до самых его основ – до самой цивилизации). Но по этому вопросу, однако, большинство из тех, кто использует термин «зелёный анархист», всё-таки действительно обвиняют цивилизацию и всё то, что она с собой несёт (одомашнивание, патриархат, разделение труда, технологию, производство, представительство, отчуждение, объективацию, контроль, разрушение жизни и т. д.). Хотя некоторые и склонны говорить с точки зрения прямой демократии и городского озеленения, нам представляется невозможным и нежелательным «озеленять» цивилизацию и/или делать её более «справедливой». Нам кажется важным двигаться в сторону радикально децентрализованного мира, бросить вызов логике и ментальности культуры смерти, положить конец любому посредничеству в нашей жизни, уничтожить все институты и физические проявления этого кошмара. Мы хотим стать нецивилизованными. Более общими словами: такова траектория зелёной анархии в мысли и на практике.
Анархия против анархизма
Нам кажется важным начать с различия между «анархией» и «анархизмом». Некоторые могут счесть это неважным, тривиальным или копающимся в нюансах семантики, но для большинства постлевых и антицивилизационных анархистов эта дифференциация имеет существенный смысл. Анархизм может служить важным историческим ориентиром, из него можно черпать вдохновение и уроки, но вместе с тем он стал слишком систематизированным, неподвижным и идеологизированным… всем тем, чем не является анархия. Как можно полагать, это относится в меньшей степени к социальной, политической и философской ориентации анархизма и в большей – к тем, кто самоопределяется как анархист. Без сомнения, многие в нашей анархистской династии были бы разочарованы этой тенденцией к омертвению того, что должно всегда находиться в движении. Первые стихийные анархисты (Прудон, Бакунин, Беркман, Бэльдман, Малатеста и другие) реагировали на окружающий их специфический контекст, обладали своими особыми мотивациями и желаниями. Современные анархисты слишком стремятся увидеть в этих личностях границы анархии, выработать к анархии отношение ЧББС («Что Бы Бакунин Сделал» или, точнее, подумал), что прискорбно и потенциально опасно. Сегодня те, кто определяет себя как «классических» анархистов, отказываются предпринимать какие-либо действия как в неизведанных областях внутри анархизма (например, таких как примитивизм, постлефтизм и т. п.), так и в направлениях, входящих в конфликт с рудиментарным подходом массового рабочего движения (например, индивидуализма, нигилизма и т. п.). Эти догматичные, ригидные и крайне нетворческие анархисты зашли так далеко, что провозгласили анархизм очень специфической социально-экономической методикой организации рабочего класса. Разумеется, это абсурдная крайность, но подобные тенденции прослеживаются в идеях и проектах многих современных анархо-левых (анархо-синдикалистов, анархо-коммунистов, платформистов, федерационистов). «Анархизм» в сегодняшней ситуации – это крайне левая идеология, и мы должны выйти за её пределы. В сравнении с ним «анархия» – это бесформенный, текучий, органический опыт, охватывающий многогранные ви́дения освобождения, как личного, так и коллективного, и всегда открытый. Будучи анархистами, мы не заинтересованы в создании новой рамки или структуры, чтобы жить внутри неё или под ней, какой бы «этичной» и «ненавязчивой» она себя ни провозглашала. Анархисты не могут обеспечить всем другой мир, но мы можем ставить вопросы и рождать идеи, стремиться уничтожить любое господство, всё, что мешает нашим жизням и мечтам, и жить в прямой связи с нашими стремлениями.
Что такое примитивизм?
Хотя и не все зелёные анархисты определяют себя как «примитивистов», но большинство признаёт то значение, которое примитивистская критика имела для перспектив антицивилизационного движения. Примитивизм – это просто антропологическое, интеллектуальное и экспериментальное наблюдение истоков цивилизации и тех обстоятельств, которые привели нас к тому кошмару, в котором мы оказались. Примитивизм считает, что большую часть человеческой истории мы прожили в сообществах прямого личного общения, в равновесии друг с другом и своим окружением, без формальных иерархий и институций для посредничества и контроля за нашими жизнями. Примитивисты хотят извлечь уроки из той динамики, которая имела место в прошлом, а также в современных примитивных обществах собирателей и охотников (которые существовали и продолжают существовать вне цивилизации). Хотя некоторые из них ратуют за немедленное и полное возвращение к обществам кочующих групп собирателей-охотников, большинство сознаёт, что признание успешности чего-то в прошлом не обязательно гарантирует, что это будет работать в будущем. Термин «Будущий первобытный человек», введённый анархо-примитивистом Джоном Зерзаном, намекает на то, что синтез примитивных идей и техник может в соединении с концепциями и устремлениями современных анархистов создавать здоровые, устойчивые и равноправные децентрализованные ситуации. Будучи применён не идеологически, анархо-примитивизм может стать важным инструментом децивилизационного проекта.
Что такое цивилизация?
Зелёные анархисты склонны рассматривать цивилизацию как логику, институции и физический аппарат одомашнивания, контроля и господства. В то время как разные индивидуумы и группы выделяют различные аспекты цивилизации (так, например, примитивисты обычно фокусируются на вопросах её возникновения, феминисты, как правило, фокусируются на истоках и проявлениях патриархата, а повстанческие анархисты в основном нацелены на уничтожение современных институтов контроля), большинство зелёных анархистов сходится в том, что это основополагающая проблема, корень угнетения, и её необходимо разрушить. Подъём человеческой цивилизации за последние 10 000 лет можно в общих чертах описать как смещение от плотно вплетённого в общую ткань жизни существования к существованию отдельному от неё и контролирующему все прочие проявления жизни. До наступления цивилизации у людей обычно было много свободного времени, существовали относительные равенство и автономность полов, неразрушительный подход к природному миру, не было организованного насилия, а также посреднических и вообще формальных институций, людям были свойственны крепкое здоровье и жизнестойкость. Цивилизация принесла с собой войну, подчинение женщин, рост населения, тяжёлый труд, понятие собственности, укоренение иерархий, практически все известные сегодня болезни, и это всего лишь некоторые из её катастрофических плодов. Цивилизация возникает, начиная с принудительного отказа от свободы инстинктов и на этом стоит. Её невозможно реформировать и, следовательно, она – наш противник.
Биоцентризм против антропоцентризма
Резкий диссонанс между мировоззрениями примитивных, связанных с землёй обществ и мировоззрением цивилизации можно анализировать через противопоставление биоцентрических взглядов антропоцентрическим. Биоцентрическая перспектива фокусируется и привязывает нас к земле и к сложной паутине населяющей её жизни, в то время как антропоцентризм, доминирующий в картине мира западной культуры, делает акцент на человеческом обществе, а все прочие проявления жизни исключает из рассмотрения. Биоцентрический взгляд не отвергает человеческое общество, а только лишает его преимущественного статуса, уравновешивая его с другими жизненными силами. Приоритет получает биорегиональный взгляд, который прочно связан с растениями, животными, насекомыми, климатом, географическими особенностями и духом того места, где мы обитаем. Мы никак не отделяемся от окружающей нас среды, так что и не может возникать ни объективации, ни отчуждённости от жизни. Разобщение и объективация лежат в основе нашей способности к власти и контролю, а взаимосвязанность, напротив, оказывается необходимым условием для вдумчивого воспитания, заботы и понимания. Зелёная анархия стремится выйти за пределы человеко-центричных идей и решений и приблизиться к скромному уважению всех проявлений жизни и динамике поддерживающей нас экосистемы.
Критика символической культуры
Ещё одним проблематичным аспектом наших взглядов и взаимодействия с миром может оказаться наш сдвиг в сторону почти полностью символической культуры, в том смысле, что это отдаляет нас от прямого взаимодействия. На это часто отвечают: «Ну, это вы просто хотите побрюзжать?» Возможно, кто-то и впрямь хочет побрюзжать, но обычно эта критика обращена к тем формам коммуникации и понимания, которые строятся преимущественно на символическом мышлении в ущерб другим чувственным и непосредственным опытам, а часто и полностью их исключая. Акцент на символическом – это отход от прямого восприятия в сторону опосредованного опыта в форме языка, искусства, чисел, времени и т. д. Символическая культура пропускает всё наше восприятие сквозь фильтр формальной и неформальной символики. Это далеко не только именование вещей, а целое взаимоотношение с миром, которое пропускается сквозь оптику репрезентации. До сих пор обсуждается, закодирована ли в нашем мозге склонность к символическому мышлению или же она развилась как культурное изменение или адаптация, но в любом случае символический способ выражения и понимания определённо ограничен, а чрезмерная зависимость от него ведёт к объективизации, отчуждению и сужению кругозора. Многие зелёные анархисты практикуют и ратуют за возвращение к недостаточно используемым методам взаимодействия и восприятия, таким как прикосновение, запах и телепатия, а также за экспериментальную разработку индивидуальных методов восприятия и самовыражения.
Одомашнивание жизни
Одомашнивание – это процесс, который цивилизация использует для внедрения своей логики и контроля за проявлениями жизни. Эти проверенные временем механизмы подчинения включают в себя: приручение, разведение, генетическую модификацию, обучение, содержание взаперти, устрашение, принуждение, пытки, обещание, порабощение, террор, убийство… в этот список можно включить почти любое социальное взаимодействие в рамках цивилизации. Функционирование и действие этих механизмов, усиленные разнообразными институтами, ритуалами и обычаями, можно наблюдать и почувствовать в любом месте общества. Благодаря этому же процессу ранее кочевые человеческие популяции стали сдвигаться в сторону оседлого образа жизни и поселений путём занятия сельским хозяйством и разведением скота. Этот тип одомашнивания требует тоталитарных отношений с одомашниваемой землёй, растениями и животными. Жизнь в диком состоянии делит ресурсы и конкурирует за них, а одомашнивание нарушает это равновесие. Одомашненный ландшафт (например, земли под выпас/поля под засев, и в меньшей степени – растениеводство и садоводство) приводит к отказу от открытого деления ресурсов, использовавшегося раньше; там, где прежде было «общее», теперь становится «моё». В романе «Измаил»[77] Дэниэл Куинн объясняет это превращение «Оставляющих» (тех, кто принимает всё, предлагаемое землей) в «Забирающих» (тех, кто требует от земли всё желаемое). Когда возникли собственность и власть, идея собственности заложила основу для социальной иерархии. Одомашнивание не только сменило свободную среду на тоталитарный режим, но и закабалило одомашненные виды. В общем и целом, чем более контролируемой является окружающая среда, тем она менее устойчива. Одомашнивание самого человечества потребовало сделать множество уступок, начиная с уровня собирательства и кочевого образа жизни. Следует отметить, что большинство переходов от кочевого собирательства к одомашниванию не происходило само по себе, а совершалось под угрозой клинка или ствола. В то время как всего лишь 2 000 лет назад большинство мирового населения составляли охотники-собиратели, сегодня это только 0,01 %. Путь одомашнивания – это колонизационная сила, которая принесла мириады патологий завоёванному населению, равно как и самим зачинщикам. Среди примеров – рост алиментарных заболеваний из-за излишней зависимости от однобокой диеты, около 40–60 болезней, проникших в массы человеческого населения через одомашненных животных (грипп, простуда, туберкулез и др.), возникновение избытка продовольствия, которым можно перекормить население сверх меры, и которое неизбежно связано с собственностью и подразумевает конец безусловного долевого распределения.
Истоки и развитие патриархата
В начале цивилизационного сдвига ранним результатом одомашнивания стал патриархат: закрепление мужского господства и развитие усиливающих его институций. Созданием ложных гендерных различий и разделений между мужчинами и женщинами цивилизация вновь порождает «другого», который поддаётся объективации, контролю, господству, использованию и превращению в товар. В общем русле это происходит параллельно с одомашниванием растений для земледелия и животных для животноводства, но и в частностях тоже есть сходство, например, в контроле за рождаемостью. Как и в других сферах социальной стратификации, женщинам назначаются роли в целях создания очень жёсткого и предсказуемого порядка, выгодного иерархическому обществу. Женщины рассматриваются как собственность, не отличающаяся от посевов в полях или овец на пастбищах. Владение и полный контроль – будь это земля, растения, животные, рабы, дети или женщины – часть установившейся цивилизационной динамики. Патриархат требует подчинения женского и узурпации природы, толкая нас к полному уничтожению. Он устанавливает власть, контроль и владычество над дикостью, свободой и жизнью. Патриархальные установки определяют все наши отношения: с самими собой, с нашей сексуальностью, наши отношения с другими, наше отношение к природе. Они серьёзно ограничивают спектр возможного опыта. Переплетённые взаимоотношения между логикой цивилизации и патриархатом невозможно отрицать: тысячелетиями они формировали человеческий опыт на каждом уровне, от институционального до личного, и одновременно пожирали всё живое. Если ты против цивилизации, ты должен быть против патриархата, а сомневаясь в патриархате, следует, как нам представляется, подвергать сомнению и цивилизацию.
Разделение труда и специализация
Цивилизация закрепляет технику сепарации и отчуждения – которая лишает нас способности самостоятельно заботиться о себе, обеспечивать себя всем необходимым. Если отдалить нас от собственных желаний и друг от друга через разделение труда и специализацию, мы становимся более полезными для системы и менее полезными для самих себя. Мы не можем уже пойти куда глаза глядят и по дороге обеспечивать себя и своих близких необходимым пропитанием и прочими нужными для выживания вещами. Вместо этого нас принудительно заталкивает в себя товарная система производства/ потребления, перед которой мы вечно находимся в долгу. Неравенство влияний возникает посредством эффективной власти разнообразных экспертов. Понятие специалиста, по сути, создает властную динамику и подрывает равенство в отношениях. Левые иногда могут политически признавать эти концепции, рассматривают их как необходимую динамику, которая требует контроля или регуляции, в то время как зелёные анархисты видят в разделении труда и специализации фундаментальные неразрешимые проблемы, которые определяют социальные отношения внутри цивилизации.
Отрицание науки
Большинство антицивилизационных анархистов отрицает науку как метод познания мира. Наука отнюдь не нейтральна. Её переполняют мотивы и допущения, вытекающие из той катастрофы разобщения, отчуждения и потребительской мертвенности, которую мы зовём «цивилизацией», и, в свою очередь, её укрепляющие. Наука предполагает отчуждённость. Это вложено в саму суть слова «наблюдение». «Наблюдать» за чем-либо означает постигать его, дистанцируясь, эмоционально и физически, имея односторонний канал для передачи «информации» от наблюдаемого объекта к «Я», каковое определяется как не являющееся частью этого объекта. Этот мертвенный или механистический взгляд является религией, господствующей религией нашей эпохи. Научный метод имеет дело только с исчисляемым. Он не признаёт ценности или эмоции, или то, как пахнет воздух перед началом дождя, – а если и имеет с такими вещами дело, то лишь обращая их в цифры, превращая наше единое целое с запахом дождя в абстрактную чепуху с химической формулой озона, претворяя вызванные этим чувства в умственную идею о том, что эмоции это всего лишь иллюзия возбуждаемых нейронов. Цифры сами по себе не являются истиной, а лишь избранным стилем мышления. Мы выбрали образ мышления, который обращает наше внимание на мир, вырванный из реальности, где ничто само по себе не имеет качества или сознательности или жизни. Мы предпочли превращать живое в мёртвое. Добросовестные учёные признают, что предметом их изучения является суженная симуляция сложного реального мира, но лишь немногие из них заметят, что этот узкий фокус сам себя подпитывает, создаёт технологические, экономические и политические системы, которые, работая сообща, втягивают через него нашу реальность. Уж насколько узок мир чисел, но научный метод не допускает туда даже всех чисел, – только те, которые воспроизводимы, предсказуемы и одинаковы для всех наблюдателей. Разумеется, реальность сама по себе невоспроизводима, непредсказуема и неодинакова для всех наблюдателей. Но и выдуманные миры не заимствованы из реальности. Наука продолжает втягивать нас не просто в выдуманный мир, а в выдуманный мир, превращающийся в кошмар, чьё содержание отобрано по признакам предсказуемости, контролируемости и единообразия. Всё удивительное и чувственное уничтожено. Благодаря науке все состояния сознания, которые не могут быть надёжно классифицированы, характеризуются как безумные или в лучшем случае как «необычные» и исключаются. Аномальный опыт, аномальные идеи, аномальные люди отвергаются или уничтожаются подобно бракованным деталям. Наука является лишь манифестацией и способом закрепления той жажды контроля, которую мы ощутили по крайней мере с того момента, когда начали возделывать поля и сбивать скот в стадо, вместо того чтобы бродить по менее предсказуемому (но более изобильному) реальному миру, или «природе». И с тех самых пор эта жажда руководила любыми решениями по поводу того, что считать «прогрессом», вплоть до генетической перестройки самой жизни.
Проблема технологии
Все зелёные анархисты так или иначе ставят технологии под сомнение. Есть и те, что до сих пор принимают концепцию «зелёной» или «приемлемой» технологии и ищут объяснений, чтобы остаться в рамках тех или иных форм одомашнивания, однако большинство отвергает технологии полностью. Технология – нечто большее, чем провода, кремний, пластик и сталь. Это сложная система, включающая разделение труда, извлечение ресурсов, эксплуатацию к выгоде тех, кто разрабатывает сам процесс. Интерфейс и результат технологии – это всегда отчуждённая, опосредованная и искажённая реальность. Несмотря на все заявления адептов постмодерна и прочих технофилов, технология не нейтральна. Ценности и цели тех, кто производит и контролирует технологии, всегда в них встроены. Технология отличается от простых инструментов во многих отношениях. Простой инструмент – это временное использование элемента из нашего непосредственного окружения для специфической задачи. Инструменты не задействуют сложные системы, которые отчуждают пользователя от действия. Технологии присуще это отчуждение, создающее нездоровый и опосредованный опыт, который ведет к различным формам влияния. Господство вырастает всякий раз, когда возникает новая, «экономящая время» технология, поскольку она прокладывает дорогу к созданию последующих технологий для поддержания, питания, содержания и ремонта исходной. Это очень быстро привело к созданию сложных технологических систем, которые, похоже, существуют независимо от людей, их создавших. Отработанные продукты технологического общества загрязняют нашу физическую и психологическую среду. Жизни тратятся на обслуживание Машины, а топливо её технологических систем и его ядовитые отходы – отнимают у нас воздух. Технология теперь воспроизводит саму себя, что походит на некое зловещее сознание. Технологическое общество – это инфекция планеты, движимая собственным импульсом, быстро организующая новую среду, предназначенную исключительно для механической эффективности и технологической экспансии. Эта технологическая система методично разрушает, уничтожает или подчиняет естественный мир, создавая мир, подходящий лишь для машин. Идеал, к которому стремится технологическая система, – это механизация всего, что ей встречается на пути.
Производство и индустриализм
Ключевой компонент современной техно-капиталистической структуры – это индустриализм, механизированная система производства, построенная на централизованной власти и эксплуатации людей и природы. Индустриализм не мог бы существовать без геноцида, экоцида и колониализма. Для его поддержания признаются приемлемыми (и даже благодатными) насилие, отъём земли, принудительный труд, культурное уничтожение, ассимиляция, экологическое разорение и глобальная торговля. Стандартизация жизни индустриализмом объективирует её и превращает в товар, в потенциальный ресурс. Критика же индустриализма является естественным продолжением анархистской критики государства, потому что индустриализм по своей сути авторитарен. Для того чтобы поддерживать индустриальное общество, необходимо завоёвывать и колонизировать новые земли, чтобы завладевать (как правило) невозобновляемыми ресурсами для топлива и смазки машин. Этот колониализм рационально обосновывается расизмом, сексизмом и культурным шовинизмом. В процессе захвата ресурсов территории нужно освобождать от населения. А чтобы заставить людей работать на заводах, которые производят машины, их следует порабощать, ставить в зависимое положение и всячески подчинять деструктивной, токсичной и унизительной индустриальной системе. Индустриализм не может существовать без массовой централизации и специализации: классовое господство – инструмент индустриальной системы, который закрывает людям доступ к ресурсам и знаниям, делая их беспомощными и лёгкими жертвами эксплуатации. Более того, индустриализм требует того, чтобы ресурсы для поддержания его существования стекались со всей планеты, и этот глобализм подрывает местную автономию и самодостаточность. Таков механистический взгляд на мир, стоящий за индустриализмом. Это же мировоззрение оправдывало рабство, уничтожение людей и подчинение женщин. Всем должно быть очевидно, что индустриализм не только подавляет людей, но и является фундаментально разрушительным для экологии.
За пределами левизны
К сожалению, многих анархистов продолжают рассматривать, да и сами себя они рассматривают, как часть левых. Эта тенденция меняется по мере того как постлевые и антицивилизационные анархисты чётко проводят различие между собственными перспективами и банкротством социалистического и либерального направлений. Левые не только продемонстрировали глобальный крах своих целей, но из всей истории, современной практики и идеологического костяка очевидно и то, что левые (представляясь альтруистами и сторонниками «свободы») по сути являются противоположностью освобождению. Левые никогда фундаментально не критиковали технологию, производство, организацию, представительство, отчуждение, авторитаризм, мораль или прогресс, равно как им почти что нечего сказать по поводу экологии, автономии или личности на каком-либо значимом уровне. «Левые» – это общий термин, приблизительно описывающий все социалистические уклоны (от социал-демократов и либералов до маоистов и сталинистов), которые желают ресоциализировать «массы» под флагом более «прогрессивной» повестки, зачастую используя принудительные и манипулятивные подходы для образования ложного «единства» или создания политических партий. И хотя методы или крайности реализации могут различаться, общий подход остаётся единым – институт обобществлённого и монолитного мировоззрения, построенного на морали.
Против массового общества
Большинство анархистов и «революционеров» тратят значительное время на разработку схем и механизмов производства, распространения, оценки и коммуникации между большим числом людей; другими словами, на функционирование сложного общества. Однако не все анархисты принимают за предпосылку необходимость глобальной (или даже региональной) социальной, политической и экономической координации и взаимосвязи или потребность в организации для управления этим. Мы отвергаем массовое общество по практическим и философским причинам. Главным образом, мы отрицаем неизбежное представительство, которое необходимо в ситуациях за пределами сферы непосредственного опыта (вне полностью децентрализованных моделей существования). Мы не желаем управлять обществом или организовывать другое общество, мы хотим совершенно другую систему координат. Мы желаем мира, где каждая группа самостоятельна и сама решает, как жить, а все взаимодействия строятся на основе общих интересов, где они свободны, открыты и лишены принуждения. Мы хотим жизнь, которую мы проживаем, а не пробегаем. Массовое общество входит в жесточайшее столкновение не только с самоуправлением и личностью, но и с нашей планетой. Просто является нестабильным (с точки зрения добычи ресурсов, систем транспорта и коммуникации, необходимых для любой глобальной экономической системы) продолжать поддержание массового общества в текущем виде или искать ему альтернативные планы развития. Ещё раз отметим: радикальная децентрализация представляется ключом к автономии и неиерархическим и устойчивым способам существования.
Освобождение против организации
Мы – существа, стремящиеся к глубокому и полному разрыву с цивилизованным порядком, анархисты, желающие неограниченной свободы. Мы боремся за освобождение, за децентрализованные и непосредственные отношения с нашим окружением и своими любимыми и близкими. Все организационные модели дают нам примерно те же самые бюрократический контроль и отчуждение, что мы имеем сегодня. В целом организационная модель порождается глубоко патерналистским и недоверчивым образом мышления (пусть порой и с добрыми намерениями), который противоречит анархии. Подлинные отношения общности возникают из глубокого понимания друг друга, развившегося из тесных отношений, основанных на потребностях повседневной жизни, а не построенных на организациях, идеологиях или абстрактных идеях. Обычно организационная модель подавляет личные потребности и желания ради «блага общества», поскольку она пытается стандартизировать как способность к противодействию, так и взгляды индивида. От партий к платформам и федерациям – похоже, что по мере роста масштаба проектов смысл и значение, которое они имеют для жизни личности, падают. Организации – это средства для стабилизации творческого потенциала, контроля за несогласием, сокращения «контрреволюционных устремлений» (как это обычно определяется элитой или руководством). Они, как правило, существуют в количественном измерении, а не в качественном, и оставляют мало пространства для независимой мысли или действий. Неформальные, выстроенные на общности ассоциации стремятся уменьшить отчуждение от решений и процессов и сокращают посредничество между нашими желаниями и нашими действиями. Отношения между подобными группами единомышленников предпочтительно оставлять естественными и изменяемыми, чем регламентированными и жёсткими.
Революция против реформы
Будучи анархистами, мы в принципе противостоим правительству и, соответственно, мы против любого сотрудничества или взаимодействия с государством (или с любой институцией, построенной на принципах иерархии и контроля). Эта позиция задаёт определённую последовательность, или направление стратегии, известную исторически как революция. Это понятие хотя и искажённое, размытое и взятое на вооружение разнообразными идеологиями и повестками, до сих пор имеет значение для анархистской и антиидеологической практики. Под революцией мы подразумеваем непрекращающуюся борьбу за изменение социального и политического ландшафта самым радикальным образом: для анархистов это означает его полное разрушение. Слово «революция» зависит от позиции его употребляющего, равно как и от того, что определяется как «революционная» деятельность. Для анархистов это та деятельность, которая нацелена на полное уничтожение власти. Реформа, с другой стороны, подразумевает деятельность или стратегию, нацеленные на корректировку, исправление или избирательный ремонт каких-то элементов существующей системы, как правило, с использованием методов или аппарата той же системы. Цели и методы революции не могут ни обусловливаться контекстом самой системы, ни реализовываться внутри него. Для анархистов революция и реформа подразумевают полностью несовместимые друг с другом методы и цели, и несмотря на некоторые анархо-либеральные подходы, не существуют в едином поле. Для анархистов антицивилизационного направления революционная деятельность подвергает сомнению сам порядок или парадигму цивилизации, бросает им вызов и работает над их сносом. Революция также не является отдалённым единичным событием, которое мы приближаем или подготавливаем к нему людей, а напротив, является образом жизни или практикой подхода к тем или иным ситуациям.
Сопротивление Мегамашине
Анархисты в целом, и в частности зелёные анархисты, предпочитают прямое действие любым формам опосредованного или символического сопротивления. Различные методы и подходы, включая подрывную деятельность в культуре, саботаж, партизанскую деятельность, политическое насилие (и этим список не ограничивается), всегда входили и входят в арсенал анархистских орудий нападения. Никакая тактика сама по себе не может значительно изменить существующий порядок или направление его развития, но в сочетании с прозрачной и непрекращающейся общественной критикой эти методы, несомненно, важны. Подрывные антисис-темные действия могут варьировать от неприметных до радикальных и быть важным элементом физического сопротивления. Саботаж всегда был важной частью анархистской деятельности, будь то в форме стихийного вандализма (открытого или под покровом ночи) или в форме нелегальной деятельности подпольных ячеек. Не так давно группы наподобие “Earth Liberation Front”[78] (радикальная экологическая группа, состоящая из автономных ячеек, нацеленных против тех, кто получает прибыль на уничтожении планеты) нанесли ущерб на несколько миллионов долларов корпоративным магазинам и офисам, банкам, лесопилкам, генетическим исследовательским центрам, спортивным автомобилям и роскошным домам. Эти акции (часто это поджоги) в сочетании с хорошо артикулированными коммюнике, обычно нацеленными против цивилизации, вдохновляли других на повторение и оказались действенной мерой не только в отношении привлечения внимания к разрушению окружающей среды, но и как устрашение для отдельных разрушителей. Растёт также и партизанская деятельность, множатся ситуации, угрожающие общественному спокойствию, где спонтанная человеческая ярость может выйти из-под контроля и перейти в революционное состояние. Бунты в Сиэтле в 1999 году, в Праге в 2000-м, в Генуе в 2001-м все были вспышками повстанческой активности (хотя и по-разному), и даже будучи ограничены в своих целях, могут рассматриваться как движение в сторону восстания и обозначают качественно иную степень разрыва с реформизмом и всей системой порабощения в целом. Политическое насилие, включающее преследование отдельных личностей, ответственных за конкретные репрессивные действия или решения, также исторически всегда было в арсенале анархистов. Наконец, с учетом колоссальных масштабов всепроникающей системы (социально, политически и технологически), атаки на технологическую сеть и инфраструктуру Мегамашины тоже входят в сферу внимания анархистов-антицивилизационистов. Насильственные действия в сочетании с глубоким анализом цивилизации, несмотря на разницу в подходах и степени активности, находятся на этапе роста.
Нужно быть критичными
По мере того как продолжается марш навстречу глобальному уничтожению, по мере того как общество становится всё менее здоровым, по мере того как мы всё более теряем контроль за собственными жизнями и не можем оказать сколько-нибудь значительное сопротивление этой культуре смерти, жизненно необходимой для нас становится крайняя критичность в отношении «революционных» движений прошлого, современной борьбы и наших собственных проектов. Мы не можем себе позволить упорно повторять ошибки прошлого или не замечать собственных недостатков. Радикальное экологическое движение насыщено одноразовыми кампаниями и символическими акциями, а анархистское – заражено левацкими и либеральными тенденциями. Оба подвержены довольно бессмысленному «активистскому» бурлению и редко пытаются объективно оценить его (бес)полезность. Зачастую этими общественными благодетелями руководят вина и стремление принести себя в жертву, а не собственный путь к свободе, когда они продолжают двигаться курсом, проложенным провалами предшественников. Левые – это гноящаяся рана на заднице человечества, экоактивисты не могут защитить ни кусочка дикой природы, а анархисты редко когда находят даже провокативные слова, не говоря уж о действиях. Хотя некоторые и против критики, потому что она «разделяет», любая по-настоящему радикальная перспектива потребует критического подхода для того, чтобы реально изменить нашу жизнь и мир, в котором мы живём. Те, кто хочет отложить все дебаты до времени «после революции», свести всю дискуссию к пустому и неопределённому трёпу, подчинить критику стратегии, тактике или идеям, они все идут в никуда и только нас тормозят. Ключевой аспект любого радикального анархистского подхода – подвергать сомнению всё подряд, включая, разумеется, и наши собственные идеи, проекты и действия.
Влияние и солидарность
Подход зелёного анархизма разнообразен и открыт, однако в нём действительно есть своя последовательность и базовые элементы. На него повлияли анархисты, примитивисты, луддиты, партизаны, ситуационисты, сюрреалисты, нигилисты, глубинные экологи, биорегионал исты, экофеминисты, разные туземные культуры, антиколониальная борьба, всё естественное, дикое, сама наша планета. Анархисты, разумеется, внесли свой антиавторитарный посыл, который бросает вызов любой власти на самом базовом уровне, стремясь к подлинно равноправным отношениям и пропагандируя сообщества взаимопомощи. Зелёные анархисты, однако, расширяют идеи отказа от господства над всеми проявлениями жизни, не только над человеком, выходя за пределы традиционного анархистского дискурса. От примитивистов зелёные анархисты позаимствовали критический и провокативный взгляд на истоки цивилизации: понимание того беспорядка, в котором мы оказались, и того, как мы в нём оказались, помогает сменить направление. Под вдохновением от луддитов зелёные анархисты пересматривают направление акций прямого действия против технологий и индустрии. Вклад партизан – в том подходе, который позволяет не ждать тонкой настройки кристально чёткой критики, а идентифицировать и стихийно атаковать цивилизационные институты, которые по сути ограничивают нашу свободу и желания. Анархисты-антицивилизационисты многим обязаны ситуационистам и их критике отчуждающего товарного общества, порвать с которым мы можем, опершись на свои мечты и непосредственные желания. Нигилистический отказ от любой из современных реальностей осознаёт глубоко укоренившееся нездоровье нашего общества и дает зелёным анархистам стратегию, которая не требует предлагать обществу разные ви́дения, а фокусируется вместо этого на его разрушении. Глубинная экология, несмотря на её мизантропию, придаёт взглядам зелёных анархистов понимание того, что процветание всей жизни связано в целом с осознанием внутренней сущностной ценности нечеловеческого мира, независимо от его полезности для человека. Восхищение глубинной экологии перед богатством и разнообразием жизни способствует осознанию того, что сегодняшнее взаимодействие человека с окружающим миром полно принуждения и избыточности, и эта ситуация всё время ухудшается. Биорегиона-листы привносят перспективу жизни в пределах собственной биообласти, в тесной связи с землёй, водой, климатом, растениями, животными и общими паттернами данного биорегиона. Экофеминизм сделал большой вклад в понимание истоков, динамики, проявлений и реальности патриархата, его воздействия на планету, на женщин в частности и на человечество в целом. Разрушительность отделения человечества от остальной планеты (цивилизация) в последнее время наиболее отчётливо и громко формулируется именно экофеминистами. Антицивилизационные анархисты испытывают и глубокое влияние различных культур коренных народов, существовавших в истории и сохранившихся поныне. В нашем смиренном постижении экоустойчивых техник выживания и здорового взаимодействия с жизнью и в их практике важно не упрощать и не обобщать опыты аборигенных народов, их культуры, уважать и пытаться понять их многообразие, не поглощая их культурную идентичность и черты. Солидарность, поддержка и стремление примкнуть к антиколониальной борьбе коренных народов (которая всегда была фронтом битвы с цивилизацией) крайне важны для наших попыток сокрушить машину смерти. Важно понимать, что все мы в какой-то момент произошли от земледельческих племён, мы все лишились этих связей с землёй по принуждению, а значит, и нам есть место в антиколониальной борьбе. Нас также вдохновляют дикари – те, кто избежал одомашнивания и воссоединился с дикой природой. И конечно сами дикие животные, из которых и состоит этот прекрасный голубой и зелёный организм по имени Земля. Нужно помнить и то, что хотя многие зелёные анархисты черпают вдохновение из общих источников, зелёная анархия остаётся очень личным отношением каждого, кто идентифицирует и соотносит себя с этими идеями и деятельностью. И в конечном итоге, перспективы, вырастающие из личного жизненного опыта в рамках культуры смерти (цивилизации) и личных желаний за пределами процесса одомашнивания, и есть самое сильное и важное в процессе расцивилизовывания.
Одичание и воссоединение
Для большинства анархистов – зелёных/антицивилизационистов/примитивистов – одичание и воссоединение с Землёй является проектом всей жизни. Оно не ограничено интеллектуальным постижением проблематики или практическим применением примитивных навыков, напротив – это глубокое понимание тех всепроникающих механизмов, которые нас одомашнили, раздробили и вырвали: самих из себя, друг из друга, из окружающего мира. И колоссальное ежедневное усилие по восстановлению былой цельности. Это одичание имеет физическую составляющую: возрождение навыков и разработка методов экоустойчивого сосуществования, включая то, как кормиться, укрываться и лечиться с помощью растений, животных и материалов, естественно встречающихся в нашем биорегионе. Сюда же входит уничтожение физических проявлений цивилизации, её аппарата и инфраструктуры. У одичания есть и эмоциональная составляющая: излечение нас самих и всех остальных от глубоких ран, нанесённых 10 000 лет назад, обучение навыкам совместной жизни в неиерархических и нерепрессивных сообществах, деконструкция одомашнивающего сознания в наших социальных поведенческих паттернах. Одичание подразумевает приоритет прямого опыта и чувства над опосредованием и отчуждением, переосмысление всех аспектов и движущих сил нашей действительности, возрождение нашей дикарской ярости для защиты собственной жизни и борьбы за свободное существование, выработка большей веры в собственную интуицию и собственные инстинкты, восстановление того баланса, который был практически полностью уничтожен за тысячелетия патриархального контроля и одомашнивания. Восстановление дикой природы – это процесс рас-цивилизовывания.
За уничтожение Цивилизации!
За воссоединение с Жизнью!
Почему я не примитивист
Джейсон МакКуин
Образ жизни сообществ охотников-собирателей оказался за последние годы в центре внимания многих анархистов, и на то есть несколько существенных причин. Прежде всего и наиболее очевидно, что если мы собираемся рассматривать действительно существующие анархистские сообщества, то предыстория биологических видов выглядит золотым веком анархии, сообщества, человеческой автономии и свободы. Различные формы государства, обособленности общин и аккумулирований мёртвого труда (капитала) были самоочевидными организующими принципами цивилизованных обществ от начала истории. Но если принять во внимание все доступные нам свидетельства, кажется, что они полностью отсутствовали в течение длительной предыстории человеческих видов. Развитие цивилизации было оборотной стороной неуклонной эрозии как личной и общественной автономии и их влияния внутри анархических, не достигших стадии цивилизации сообществ, так и уцелевших от них рудиментов таких образов жизни.
Более того, в последние несколько десятилетий внутри антропологии и археологии произошла откровенная и (по своим последствиям) весьма радикальная переоценка общественной жизни этих нецивилизованных охотников, собирателей и примитивных земледельцев, как доисторических, так и современных. Такая переоценка привела, как указывали многие анархистские публицисты (в особенности Джон Зерзан, Дэвид Уотсон, также известный как Джордж Бредфорд и проч., и Боб Блэк), к лучшему пониманию и оценке нескольких ключевых аспектов жизни в этих обществах: это значение личной и общинной автономии (означающее отказ предоставлять непомерную власть их лидерам или вождям), сравнительно редкие у них смертоносные войны, совершенство их техник и орудий, их антитрудовая этика (отказ от накопления ненужных излишков, отказ быть привязанными к постоянным поселениям) и их акцент на распределение внутри общины, на чувственность, празднества и игры.
Подъём экологической критики и переоценка природы в последние десятилетия XX века повлекли за собой множество попыток найти в истории примеры экологически устойчивых обществ – обществ, не разграбляющих природные пространства, не уничтожающих дикую жизнь и не эксплуатирующих все природные ресурсы, которые оказываются в пределах зрения. Неудивительно, что любой серьёзный поиск экологических сообществ и культур в большинстве случаев будет обнаруживать общества охотников и собирателей, которые никогда (за исключением ситуаций, когда они были вынуждены это делать под давлением вторгшихся цивилизаций) не стремились создавать избыточные запасы пищи или товаров и никогда не относились с пренебрежением к братьям своим меньшим и к окружающей природе, не обирали их. Их долговременная стабильность и искусность адаптации к природным условиям делают общества охотников и собирателей устойчивыми обществами, а их экономику – устойчивой экономикой par excellence.
Кроме этого, и скопившиеся провалы социально-революционных движений нескольких последних веков, и продолжающееся наступление капитала и технологий, видоизменяющих мир, как никогда прежде ставят под сомнение иллюзорную идеологию прогресса, подкрепляющую современную цивилизацию (как и большинство оппонирующих ей движений). Стала очевидна всё нарастающая лживость прогресса, обещавшего неизбежные, неуклонные улучшения в наших личных жизнях и в жизни всего человечества (при условии, что мы сохраним веру и продолжим поддерживать капиталистическое технологическое развитие). Стало всё сложнее и сложнее поддерживать ложь о том, что жизнь теперь качественно лучше, чем во все предыдущие эпохи. Даже те, кто более всего хочет обманываться (те, кто находится на периферии капиталистических привилегий, власти и богатства), будут вынуждены столкнуться со всё возрастающими сомнениями относительно своей рациональности и этических ценностей, не говоря уже о своём здравом рассудке в мире глобального потепления, массовых вымираний, разливов нефти и токсических веществ, сравнимых с эпидемиями, глобального загрязнения, массовой вырубки дождевых лесов, недоедания и периодически повторяющегося голода повсюду в странах Третьего мира. И всё это в условиях нарастающей поляризации между интернациональной элитой сверхбогатых и громадными массами бессильных, безземельных и бедных. Вдобавок появляется всё больше сомнений, сумеют ли когда-нибудь многочисленные блага электрического отопления, хлорирования воды, транспорта на углеводородах и электронных развлечений перевесить невидимую цену индустриального порабощения, запрограммированного досуга и фактического низведения нас до объектов научного эксперимента, призванного определить, в какой же момент мы наконец потеряем все следы человечности.
По вышеперечисленным причинам развитие современных примитивистских теорий (и в особенности анархо-примитивизма) может показаться лёгким, логичным и неизбежным шагом, хотя это означало бы игнорирование других альтернатив, столь же укоренённых в культуре сопротивления. По крайней мере, примитивизм как многогранный и всё ещё
развивающийся ответ на эпохальные кризисы, ныне встающие перед человечеством, заслуживает нашего серьёзного оценивания. Это, безусловно, один из нескольких возможных вариантов ответа, действительно пытающийся разобраться в наших текущих затруднениях, чтобы предложить выход. Но в то же время в примитивистских взглядах остаётся множество уже высказанных проблем. Мы также сталкиваемся с потенциально серьёзными проблемами самой идеи примитивизма как направления теории и практики. Вероятно, имеет смысл прежде всего рассмотреть некоторые из источников примитивизма с целью выявить и проанализировать несколько его наиболее очевидных затруднений и предложить некоторые решения.
Направления примитивистов
Есть несколько линий развития, которые, как кажется, более или менее сплетены и образуют существующую примитивистскую смесь теорий и практик, по крайней мере, на территории Северной Америки (я не столь хорошо знаком с британским примитивизмом). Но два или три направления можно выделить как наиболее влиятельные и значимые: (1) линия, идущая от детройтского анархо-марксистского объединения “Black & Red” и анархистов, участвовавших в издании журнала “Fifth Estate”, включая и (2) Джона Зерзана, также некоторое время принимавшего в нём участие, хотя он и “Fifth Estate”, в конечном счёте, разошлись из-за разногласий относительно статуса и трактовки сельского хозяйства, культуры и одомашнивания; третье (3) это некоторые активисты, вышедшие из среды, связанной с группой “Earth First!”, часто находящиеся под влиянием радикальных экологов и продвигающие подход «Назад к плейстоцену» (плейстоцен – это геологический период, во время которого возникли человеческие виды).
Фреди Перлман и “Fifth Estate”
Хотя намёки на радикальный примитивизм присутствовали внутри – и даже до возникновения – современного анархистского движения, нынешний примитивизм своим существованием более всего обязан Фреди Перлману и коллективу “Black & Red” из Детройта, публиковавшему его работы начиная с 1960-х годов. Наибольшее влияние оказала его визионерская реконструкция истоков и развития цивилизации, «Против Его Истории, против Левиафана», вышедшая в 1983 году. В этой книге Перлман высказывает предположение, что цивилизация возникла вследствие сложившихся в одном месте и в одно время относительно тяжёлых условий существования, для преодоления которых племенная верхушка посчитала необходимым развить систему общественных водных каналов. Успешное создание такой системы общественной ирригации требовало участия множества людей, организованных как социальная машина под руководством элиты племени. И эта порождённая ими социальная машина стала первым Левиафаном, первой цивилизацией, разраставшейся и воспроизводившей себя путём войн, порабощения и порождения всё более громоздких социальных механизмов. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, в которой порождения этой изначальной цивилизации теперь успешно охватили весь земной шар и завоевали почти все человеческие сообщества. Но, как указывает Перлман, хотя сейчас почти всё человечество и попало в ловушку цивилизаций, внутри Левиафанов всё ещё продолжается сопротивление. И в самом деле, развитие цивилизаций с самого их начала всегда встречало сопротивление каждого нецивилизованного, вольного человеческого сообщества. История – это рассказ о ранних цивилизациях, разрушавших сравнительно свободные сообщества вокруг них, поглощавших или уничтожавших их, и дальнейшее повествование о том, как цивилизации сами боролись друг с другом, когда одни цивилизации уничтожали, поглощали или подчиняли другие вплоть до сегодняшнего дня. Но сопротивление всё ещё возможно, и мы все можем проследить наши родословные до тех людей, которые когда-то жили без государства, без денег и были более свободными в некотором глубинном смысле.
Взгляды Фреди Перлмана были приняты и развиты другими участниками проекта журнала “Fifth Estate”, в первую очередь Дэвидом Уотсоном, писавшим под несколькими псевдонимами, включая Джорджа Бредфорда. “Fifth Estate”, по сути, представлял собой в 1960-е годы подпольное издание, развившееся к середине 1970-х до революционного анархистского журнала, а затем, в 1980-e, до анархо-примитивистского проекта. Хотя “Fifth Estate” в последнее время и отказался от некоторых самых радикальных своих взглядов, высказывавшихся ранее, это издание остаётся одним из важнейших ориентиров в существующей примитивистской среде.
И хотя публицистика Уотсона явно основана на текстах Перлмана, он привнёс в неё и собственные соображения, включая дальнейшее развитие критики технологии и Мегамашины, высказанной Льюисом Мамфордом, апологию первобытной духовности и шаманизма, а также призыв к новой, подлинно социальной экологии (которая смогла бы избежать ошибок натурализма и рационализма Мюррея Букчина, а также постнужды и техноурбанизма). Теперь деятельность Уотсона можно оценить по собранию его наиболее важных текстов для “Fifth Estate” периода 1980-x годов «Против Мегамашины» (1998). Он является также автором двух книг, вышедших ранее: «Насколько глубока глубинная экология?» (1989, под псевдонимом Джордж Бредфорд) и «За пределами Букчина: Предисловие к любой будущей социальной экологии» (1996).
Джон Зерзан
Джон Зерзан, вероятно, самый известный сейчас вдохновитель примитивизма в Северной Америке, начал задаваться вопросами происхождения социального отчуждения в серии своих эссе, которые также печатались в “Fifth Estate” на протяжении 1980-x годов. Эти эссе в итоге вошли в его сборник «Элементы отказа» (1988, второе издание – 1999). Они содержали резкую критику ключевых аспектов человеческой культуры – времени, языка, чисел и искусства – а также значимую критику сельского хозяйства, этого кардинального изменения в истории общества, которое Зерзан называл «основой цивилизации». Однако хотя эти эссе о «происхождении», как их нередко называют, публиковались в “Fifth Estate”, они не всегда встречали одобрение редакции. Действительно, каждый номер “Fifth Estate”, в котором они появлялись, обычно включал в себя и комментарии, недвусмысленно отрицавшие выводы Зерзана. В конце концов, когда коллективу “Fifth Estate” надоело публиковать его авторские тексты, и когда Зерзану стало всё сложнее и сложнее выдерживать очевидную неприязнь газеты к его курсу, он обратился к другим публикаторам, включая журнал “Anarchy”, недолговечное издание Майкла Уильяма “Demolition Derby”[79], и, наконец, среди прочих журнал “England’s Green Anarchist”. Следующий сборник его работ, «Первобытный человек будущего и другие эссе» был выпущен совместными усилиями “Anarchy” и “C.A.L. Press” при участии группы “Autonomedia” в 1994 году23. Кроме того, Зерзан издал две важные антологии примитивизма: «Ставя под вопрос технологию» (совместно с Элис Карнес, 1988, второе издание – 1991) и более свежую «Против цивилизации» (1999).
Скандальную известность Джон Зерзан, пожалуй, прежде всего получил благодаря радикальным и прямолинейным выводам, сделанным в своей ранней критике. В этих эссе и в последующих сочинениях, хорошо знакомых читателям журнала “Anarchy”, он напрочь отвергает всю символическую культуру как отчуждение и отход от первобытного состояния человеческой природы, существовавшего до цивилизации, до одомашнивания, до разделения труда. В определённых кругах он также приобрёл известность своим одобрением Унабомбера, которому посвятил второе издание «Элементов отказа», уверив тем самым всех дотоле сомневавшихся, что он со всей серьёзностью относится к своим критическим статьям и к необходимости разработать принципиально критическую, бескомпромиссную практику.
“Earth First!” и глубинная экология
Примитивистское направление, развившееся из среды, связанной с акцией прямого действия “Earth First!” «В защиту Матери-Земли», тесно связано с понятием глубинной экологии, сформулированным, среди прочих, Арне Нессом, Биллом Деваллом и Джорджем Сешонсом. В рамках этого направления сообщество прямого действия “Earth First!” (в основном базировавшееся на западе США и состоящее преимущественно из анархистов), по-видимому, оказалось в поисках философского обоснования, подходящего для их деятельности по защите дикой местности и человеческой дикости вне города, – и открыло в глубинной экологии если не последовательную теорию, то некое неотразимое оружие.
“Earth First!” будучи в значительной мере, но, конечно, не полностью неформальной организацией, сама происходила из нативистского экоанархизма Эдварда Эбби (чьи сочинения о природе, такие как «Отшельник пустыни» и роман «Банда гаечного ключа», были очень влиятельными), а также радикального нативистского энвайроментализма Дэвида Формана и его друзей. По сути изначальное движение “Earth First!” нередко придерживалось открыто анти-иммигрантского подхода, провозглашавшего «Североамериканская природа только для граждан США и Канады!», чтобы спасти хоть какой-то уголок дикой природы, который ещё можно было бы уберечь от всё увеличивающегося хищничества человека – добычи полезных ископаемых, строительства дорог, тотальных вырубок, чрезмерной аграрной эксплуатации, выпасов скота и туризма на службе у современного общества массового потребления, – даже и не ощущая необходимости разрабатывать какую-либо критическую социальную теорию. Однако как только “Earth First!” вышла за пределы Юго-Запада США и оказалась очагом широко распространённого движения прямого действия, стало ясно, что большинство людей, присоединяющихся к их блокадам, маршам, вывешиванию баннеров и пикетам, в немалой степени действовали под влиянием отнюдь не нативистских социальных движений 1960-x и 1970-х (а под влиянием движения за гражданские права, против войны, против атомного оружия, феминистских и анархистских движений и т. п.). Противоречия между рядовыми членами и неформальными лидерами, контролировавшими журнал “Earth First!”, достигли апогея с уходом Формана и последующим открытием им издания “Wild Earth”, фокусировавшегося на более соответствовавших его предпочтениям перспективах консервационной биологии. Новое руководство “Earth First!” (и новый журналистский коллектив, образовавшийся после ухода Формана) отражало реальное разнообразие активистов, ныне вовлечённых во всю сферу “Earth First!”, – эклектичную смесь либеральных/реформистских защитников природы, левых с экоуклоном (и даже экосиндикалистов, аффилированных с «Индустриальными рабочими мира»), кое-кого из зелёных, различных экоанархистов и множество глубинных экологов. Но несмотря на такое разнообразие очевидно, что глубинная экология вполне может оказывать самое широкое влияние на среду “Earth First!” в целом, включая и тех, кто относит себя к примитивистам. Вероятно, так сложилось в основном потому, что “Earth First!” – это прежде всего движение прямого действия в защиту дикой Природы, явно не социально ориентированное, несмотря на радикальные социальные убеждения многих его участников. Глубинная экология обеспечивает теоретическое обоснование подходу «сначала – природа, общество – потом (если вообще его учитывать)», часто преобладающему в “Earth First!”. Она выдвигает специально выработанный биоцентристский или экоцентристский подход («перспективу единого природного мира», как его характеризует Lone Wolf Circles[80]) на замену предполагаемым антропоцентристским перспективам в большинстве других философий, отдающим предпочтение ценностям и целям человека. Она также предлагает природную философию, сливающуюся с одухотворением природы, которые вместе способствуют оправданию экопримитивистской перспективы для тех многих активистов, кто желал бы видеть существенное сокращение человеческой популяции и уменьшение масштабов или полное уничтожение промышленных технологий с целью снизить или устранить всё нарастающее разрушение природного мира современным индустриальным обществом. Хотя норвежский философ Арне Несс (сам не являвшийся примитивистом) обычно считается создателем глубинной экологии, книга «Глубинная экология» (1986), впервые получившая известность в Северной Америке, была написана Биллом Деваллем и Джорджем Сешонсом. Книга же Арне Несса «Экология, сообщество и образ жизни: Наброски экософии», появилась в 1990 году, а работа Джорджа Сешонса «Глубинная экология для XXI века» вышла в 1994-м.
Который из примитивизмов?
Как со всей очевидностью можно понять из этого краткого обзора (в котором вынужденно не уделено внимание обсуждению как многих деталей, так и некоторых важных участников и влияний), направления в примитивистской среде не просто различны, но нередко по своей сути несовместимы. Отождествление себя с примитивизмом может означать весьма разное для тех, на кого оказали влияние Фреди Перлман или Дэвид Уотсон, Джон Зерзан или Арне Несс. Фреди Перлман поэтически чествует песни и танцы первобытных сообществ, их вовлечённость в природу и их родство с другими биологическими видами. Для Дэвида Уотсона примитивизм прежде всего подразумевает прославление устойчивого, доиндустриального (но не обязательно доаграрного) образа жизни многих народов, который, как он полагает, был принципиально сконцентрирован на племенных культурах (и в особенности племенных религиях), атрибутах и техниках празднеств. Для Джона Зерзана примитивизм в первую очередь является позицией, предъявляющей требование положить конец всем возможным символическим отчуждениям и разделениям труда, чтобы мы могли воспринимать мир как возвращённую цельность опыта, без необходимости в религии, искусстве или других символических компенсациях. В то же время для тех, на кого повлияла глубинная экология, примитивизм означает возврат к доиндустриальному миру, населённому небольшим числом людей, способных не только жить в гармонии с природой, но прежде всего оказывающих минимальное воздействие на все другие виды животных и растений (и даже бактерий).
Примитивизм как идеология
Хотя я ценю и уважаю интеллектуальные поиски большинства примитивистских течений, существуют очевидные проблемы с формулировкой любой критической теории, в основном фокусирующейся на примитивистской идентичности (или любой другой позитивно рассматриваемой идентичности). Боб Блэк утверждал:
Анархо-коммунистические охотники-собиратели (а они ведь именно такие) прошлого и настоящего очень важны. Не (обязательно) потому, что они преуспевают в адаптации к своим специфическим условиям, которые по определению не поддаются обобщению. Они важны потому, что показывают, что жизнь когда-то была и может быть принципиально другой. Смысл не в том, чтобы восстановить такой образ жизни (хотя можно найти основания и для этого), но чтобы понять возможность уклада жизни, абсолютно противоположного нашему, уклада, который в самом деле существовал миллион лет, а значит и другие жизненные уклады, противоположные сегодняшнему, тоже вполне реальны» (Боб Блэк, «Детская болезнь технофилии», напечатано издательством “Green Anarchist” и доступно в сети по адресу www.primitivism.com)24.
Если бы было очевидно, что примитивизм всегда подразумевал такой тип открытой, неидеологизированной позиции, то примитивистская идентичность была бы куда менее проблематичной. Но, к сожалению, для большинства примитивистов идеализированная, гипостазированная картина первобытных обществ неизбежно вытесняет сущностную важность критического подхода к собственным установкам, как бы они это периодически не отрицали. Ключевой аспект критики быстро перемещается от критического осмысления мира общества и природы к принятию необъективного идеала, по которому оценивается этот мир (и собственная жизнь), к архетипически идеологической позиции. Такая почти непреодолимая восприимчивость к идеализации является наиболее слабым местом примитивизма.
Особенно ясно это становится при попытках установить точное значение слова «примитивный»/«первобытный». Крайне важно, что не существует никаких современных «первобытных» сообществ, как нет и никакого единого, характерного, архетипичного «примитивного» общества. И хотя этот факт признаётся большинством примитивистов, его значимость не всегда осознают. В своём существовании все общества, как теперь, так и в прошлом, обладают собственной историей и являются современными обществами в самом важном понимании этого слова, поскольку существуют в том же самом мире (даже располагаясь на удалении от центров власти и богатства), что и национальные государства, мультинациональные корпорации и глобальный товарный рынок. Даже общества древнего мира, существовавшие до прихода сельского хозяйства и цивилизации, при всей их схожести за время своего существования приняли множество невообразимо различающихся и передовых для того времени жизненных укладов. Но за рамками этих нескольких базовых рассуждений мы так и не можем понять, каковы были эти жизненные уклады, и тем более узнать, какие из них были самыми аутентично первобытными. И хотя это не означает, что мы не можем учиться у современных охотников и собирателей – или же растениеводов, кочевых скотоводов и даже устойчивых сельскохозяйственных сообществ, – это всё же означает, что нет смысла брать какой-то один образ жизни за идеал, которому следует некритически подражать, или же гипостазировать архетипический первобытный идеал, основанный на домыслах о том, что могло бы быть.
Ни вперёд, ни назад, а туда, куда мы только пожелаем идти
Как не устают замечать все критики примитивизма, нам просто не под силу вернуться назад во времени. Хотя это так не потому (как верит большинство критиков), что социальный и технический «прогресс» необратим, и не потому, что современная цивилизация неизбежна. Есть множество исторических примеров как сопротивления социальным и техническим инновациям, так и переходов к таким жизненным укладам, которые принято считать (верящими в Прогресс) не только более простыми, но даже худшими или отсталыми. А самое важное то, что мы не можем вернуться в прошлое потому, что куда бы мы ни двигались как общество, мы должны начинать свой путь с той точки, в которой находимся сейчас. Мы все захвачены историческим социальным процессом, ограничивающим наши возможности. Как на это обычно указывают марксисты, существующие материальные условия производства и социальные отношения в процессах производства в основном определяют возможности для социальных изменений. Хотя анархисты всё более критически (что справедливо) относятся к этим продуктивистским допущениям, стоящим за формулировками такого рода, в целом остаётся верным, что существующие условия общественной жизни (во всех их материальных и культурных измерениях) действительно обладают инерцией, делающей чрезвычайно проблематичными любые мысли о «возвращении» к прежде существовавшим (или даже скорее воображаемым) жизненным укладам.
Но нам совершенно необязательно идти вперёд в то будущее, которое готовят для нас капитал и государство. История учит нас, что их прогресс никогда не был нашим прогрессом – если понимать его как любое существенное уменьшение социального отчуждения, одомашнивания или даже эксплуатации. Скорее мы могли бы достичь куда большего, если бы вовремя отбросили стандарты всех философий истории, дабы наконец пойти своим собственным путём.
Только избавившись от ненужных, неизменно идеологических ограничений, налагаемых любыми пристрастными интерпретациями истории, мы наконец-то будем вольны стать теми, кем только пожелаем, а не теми, кем нам указывает стать некая концепция прогресса (или возврата).
Это не означает, что мы как глобальное общество сможем когда-либо просто игнорировать себя ныне существующих. Это означает, что в конечном счёте ни одна идеология не может содержать или определять социально-революционный импульс, его не фальсифицируя. Жизненная сила этого важнейшего импульса демонстрирует преимущество реального существования перед любым теоретизированием всякий раз, когда возникает противоречие между нашими насущными желаниями целостной, неотчуждённой жизни и всеми текущими социальными отношениями, ролями и институтами, которые не дают воплотить эти стремления.
Критика цивилизации, прогресса, технологии
Критическая проверка общества, в котором мы живём именно сейчас, и тех приёмов, при помощи которых оно систематически отчуждает наши занятия и отвергает наши желания более цельного и удовлетворяющего нас образа жизни, значительно более важна для нас, чем переоценка того, что называют первобытными обществами и жизненными укладами. И прежде всего такая проверка всегда должна быть процессом отрицания, неизбежной критикой нашей жизни изнутри, а не со стороны внешнего мира. Критика с позиции идеологий хотя и содержит в себе компонент отрицания, всегда сосредоточена где-то вне наших жизней и нацелена на некий позитивный идеал, которому мы должны, в конечном счёте, соответствовать. Сила их (слишком упрощённой) социальной критики достигается за счёт отрицания первостепенной важности наших собственных жизней и наших собственных возможностей осуществлять какую-либо истинную критику нашего социального отчуждения.
Самой сильной стороной примитивистской среды является разработанная и популяризированная ею критика цивилизации, прогресса и технологии. Сам я не отношу себя к примитивистам потому что считаю любую теорию, идеализирующую одну из конкретных форм бытия (независимо от того, существовала ли она на самом деле), в своей основе идеологической. Но это не означает, что я менее критичен по отношению к цивилизации, прогрессу и технологии. Скорее я считаю их критику жизненно необходимой для обновления и дальнейшей радикализации любых настоящих усилий в общей современной социальной критике.
Как идеология примитивизм застрял в незавидной позиции, желая, по сути, построения сложной формы общества (однако весьма спорной в деталях), что, разумеется, требует не только массивных социальных трансформаций, технических перемен и перемещений населения, но и относительно быстрого отказа от по меньшей мере 10 000 лет цивилизационного развития. Было бы преуменьшением сказать, что цивилизация представляет гигантские риски для нашего выживания как личностей, и даже, вероятно, как видов (в первую очередь из-за потенциальных угроз развязывания ядерной, химической и биологической войны). Однако же примитивизм даже при самом удачном стечении обстоятельств в лучшем случае может нам предложить лишь неопределённые обещания весьма гипотетических результатов: возможную всемирную деморализацию и капитуляцию наиболее могущественных правящих классов без чрезмерного количества гражданских войн, развязанных группировками, пытающимися частично или полностью восстановить рушащийся старый порядок. Таким образом, абсолютно невероятно, чтобы примитивизм, по крайней мере в этой его форме, смог бы получить, даже в условиях существенного социального коллапса, поддержку чего-то большего, чем сравнительно небольшой кучки маргинальных оппозиционеров.
Однако критика цивилизации не должна означать обусловленный идеологией отказ от любого исторического развития общества на протяжении последних 10 000 или 20 000 лет. Критика прогресса не означает, что нам следует вернуться к предшествовавшему образу жизни или приниматься за претворение в жизнь некоего заранее придуманного идеализированного состояния вне цивилизации. Критика технологии не означает, что мы не можем сначала успешно работать над ликвидацией лишь самых вопиющих форм технологизированного производства, потребления и контроля, оставляя менее интенсивные, менее разрушительные для общества и экологии формы технологий для позднейшей трансформации или ликвидации (в то же время, разумеется, стараясь минимизировать их отчуждающие воздействия). По сути, всё это означает, что куда более действенным будет формулирование революционной позиции, не скатывающейся с такой готовностью к идеологии. А также то, что примитивизм, лишённый всех своих идеологических наклонностей, будет лучше смотреться под другим названием.
Как же следует назвать социально-революционный подход, включающий критику цивилизации, прогресса и технологии, интегрированный с критикой отчуждения, идеологии, морали и религии? Не могу сказать, что существует такая формулировка, которая была бы лишена веских предпосылок для скатывания в идеологию. Но я сомневаюсь, что мы придумали бы что-то хуже «примитивизма».
Я, скорее всего, продолжу отождествлять этот подход с простым ярлыком «анархистский», отчасти веря в то, что со временем наиболее ценная критика, в настоящее время тесно идентифицируемая с примитивизмом, будет всё больше инкорпорироваться в анархистскую среду и отождествляться с ней, как в анархистской теории, так и в анархистской практике. Анархо-левым этот процесс не понравится. Не понравится он и анархо-либералам и прочим. Однако критика цивилизации останется наряду с соответствующей критикой прогресса и технологии. Продолжающееся углубление мировых социальных кризисов, вызванных непрекращающимся развитием капитала, технологий и государства, больше никогда не позволит тем анархистам, которые всё ещё противятся углублению этой критики, игнорировать последствия этих кризисов.
Мы стоим у начала нового века. Многие скажут, что сейчас, после двух столетий, прошедших со времён Годвина, Кёрдеруа или Прудона, мы не стали ближе к анархии. Значительно большее количество людей могло бы сказать, что мы отдаляемся от неё ещё сильнее. Или это не так? Если мы сможем сформулировать более мощную и более устойчивую к искушениям идеологии критику; а также если мы сможем разработать более радикальную и бескомпромиссную, но в то же время допускающую изменения практику, то, вероятно, тогда у нас всё ещё есть реальный шанс повлиять на неминуемые грядущие революции.
Примечания к разделу «Цивилизация»
1 См.: Тойнби А.Дж. Исследование истории: В 3 т. ⁄ Пер. с англ., вступ. ст. и коммент. К.Я. Кожурина. СПб.: Изд-во СПбгу; Изд-во О. Абышко, 2006; Шпенглер О. Закат Европы ⁄ Пер. с нем. И.Ф. Гарелина. М: Наука, 1993.
2 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций ⁄ Пер. с англ. Ю. Новикова под. ред. Е. Кривцовой и Т. Велимеева. М.: ACT, 2005; рецензия: Said E.W. The Clash of Ignorance // The Nation. 2001. October 4. Хантингтон, политический «учёный», сделал карьеру, предоставляя шаткие наукообразные оправдания амер, империализму и поддержке амер, марионеточных государств. Первоначально он высказывался, что «меняющимся обществам» (странам третьего мира) прежде всего требуются закон и порядок, а уже позже они могут попробовать поэкспериментировать с демократией и социальной справедливостью, см.: Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven, Connecticut & London: Yale University Press, 1996 (впервые опубл, в 1968 г.), «Написано под эгидой Центра Международных Отношений (CFIA) Гарвардского Университета». CFIA финансировался ЦРУ. Он полагал, что Третьему миру действительно нужно больше диктатур, спонсируемых США. Скажите-ка, а не все ли общества являются меняющимися? Готовы ли даже индустриально развитые демократии к демократии? Э-э, вообще-то нет. Они слишком демократичны. См.: Huntington S.P., Crozier M. Cf Watenuki J. The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York: New York University Press, 1975.
3 См.: Diamond S. In Search of the Primitive: A Critique of Civilization. New Brunswick, Newjersey: Transaction Publications, 1972.
4 См.: Perlman F. Against Hisstory, Against Leviathan! Detroit, Michigan: Black & Red, 2002 (впервые опубл, в 1973 г.).
5 Рассказ Питера Маршалла об этом предсказуемо неполон, а также стандартен, словно редакторская колонка в газ., см.: Marshall Р. Demanding the Impossible. P. 683–688.
6 См.: Diamond S. In Search of the Primitive. P. 112. Предсказуемо, что одним из этих неграмотных леваков был Мюррей Букчин, см.: Bookchin М. Whither Anarchism? P. 186.
7 См.: Gourevitch V. Notes on the Translations // Rousseau J.-J. The Discourses and Other Early Political Writings / Ed. & trans. V. Gourevitch. Cambridge; Cambridge University Press, 1997. P ii.
8 См.: Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства между людьми ⁄⁄ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 61–62.
9 См.: Там же. С. 116; также см.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 185, 230–232.
10 См.: Chomsky N. Interview with Barry Pateman. P. 226.
11 См., напр.: Кропоткин П.А. Современная наука и анархия ⁄ Пер. с фр. под ред. автора. Пб.; М.: Голос труда, 1920. «Попытка дать анархизму научное обоснование была главное заботой Кропоткина – и поскольку в этом он преуспел – его самым выдающимся достижением», см. примеч. к «Современной науке и анархии» в: Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets. P. 145. Букчин, совершенно ничего не знавший о науке, тоже верил в это, см.: Bookchin М. Whither Anarchism? P. 199; Watson D. Beyond Bookchin: Preface for a Future Social Ecology. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1996. P. 45, 68 и др.).
12 См.: Horkheimer M., Adorno T.W. Dialectic of Enlightenment.
13 См.: Graham M. Against the Machine (1954) // Documentary History, 1. p. 442–444.
14 См.: Feyerabend P. Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. London: Verso, 1978. P. 18–22 & n. 12. P. 187–188.
15 См.: Кун T. Структура научных революций. С вводной статьёй и дополнениями 1969 г. ⁄ Пер. с англ. И.З. Налётова. М.: Прогресс, 1977.
16 См.: Chernyi L. Introduction ⁄⁄ Zerzan J. Future Primitive and Other Essays. Brooklyn, New York: Autonomedia & Columbia, Missouri: C.A.L. Press, 1994. P. 8–11. Лев Чёрный и Джейсон МакКуин – одно и то же лицо. Он был со-основателем и в течение многих лет редактором и издателем “Anarchy: Ajournai of Desire Armed”.
17 См.: Jarach L. Why I am Not an Anti-Primitivist // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 68, 69 (2010).
18 См.: Kinna R. Anarchism. P. 5. Её кн. – худшее введение в анархизм, которое я когда-либо читал. Другое мнение, куда более благодушное, принадлежит Лоуренсу Джэраку, см.: Jarach L. That Aside, a Valuable Service // Anarchy: Ajournai of Desire Armed. No. 63. Spring-Summer 2007. P. 19–21.
19 См.: Kinna R. Anarchism. P. 77–79. Всегда именно анархисты с крайне сомнительной анархистской репутацией – Мюррей Букчин, синдикалисты, платформисты, профессора – порочат других, называя их «самозваными» анархистами. Видимо совесть нечиста. Их-то анархизм всего лишь «самозваный».
20 Глубинная экология и подобные радикальные точки зрения на окружающую среду, по большому счёту, призывают покончить с индустриальным обществом в качестве жертвенного жеста, основанного на осознании деградации экологии, вызванной технологией. Мало кто сочтёт подобный аргумент убедительным.
21 Рей Курцвейл – выдающийся амер, изобретатель и автор кн. «Эпоха духовных машин». Ханс Моравек – один из ведущих мировых специалистов в робототехнике, автор двух кн., в частности, «Детей разума», и многочисленных эссе. Обе упомянутые кн. достойны быть прочтёнными всяким, кто интересуется технологиями будущего. Несмотря на то что оба автора относятся к технологиям оптимистично, прогнозы Моравека, напр., своей суровостью превосходят даже мои собственные… хотя я не подвергаю сомнению его всеобъемлющую осведомлённость о безмерном гнёте искусственного интеллекта, с которым предстоит столкнуться людям.
22 К сожалению, примитивизм рассматривается преимущественно в политической перспективе, хотя почти весь его проект выходит за пределы чисто политических решений.
23 См.: Зерзан Дж. Первобытный человек будущего.
24 Цит. по: Блэк Б. Детская болезнь технофилии ⁄⁄ Блэк Б. Анархия и демократия. С. 219.
XI. Утопия
Анархисты, как и марксисты, нередко отрицают, что являются утопистами. Марксисты утверждают, что анархисты предлагают утопию в отличие от их собственного «современного научного социализма»1. Мы не предлагаем (говорят и те, и другие) готовых схем устройства послереволюционного общества. Однако на деле они их всё-таки часто предлагают. И тут нечего стыдиться. Пока что сложно спрогнозировать условия, при которых анархические общества могли бы возникнуть из народных восстаний и краха цивилизации2. Но никто после 1990 года не может отрицать эффективности массового уклонения от работы и общепринятого порядка. Никто из академических учёных-экспертов по коммунизму (или разведок Запада) не предвидел бархатные революции. Никто. Коллапс цивилизации не просто невероятен: он неизбежен. Все сложные общества прошлого были разрушены3. И именно из-за того, что они динамичные и изменяющиеся, государственные общества оказываются нестабильными4. «Если Спарта и Рим погибли, то какое Государство может надеяться существовать вечно?» – вопрошал Руссо5. А археолог Тереза Кинц задавалась вопросом: «Воображали ли крестьяне и вожди майя, что их города-государства поглотят джунгли (как раз крестьяне, возможно, и представляли, может, поэтому так и произошло?) Представляем ли мы, как будут выглядеть места вроде Манхэттена или Лондона через 500, 5000, 50000 лет?»6
В отличие от цивилизаций прошлого, у нас есть преимущество – мы очень хорошо понимаем, по каким причинам может погибнуть наша: перенаселение, глобальное потепление, дезинтергирующаяся инфраструктура, деградация окружающей среды, атомные катастрофы, перенапряжения сил империй и высокие налоги, идущие коррумпированным политикам, а также на ведение войн ещё более дорогими и разрушительными средствами, чем когда-либо ранее. Всё это уже происходит. Так почему бы не задуматься, что же будет после?7 Если всё будет развиваться так, как всегда шло раньше, новое общество окажется значительно проще прежнего. Чем проще такие общества по своей социальной структуре, тем чаще оказывалось, что они были анархическими8. Это должно послужить нам уроком.
Насколько мне известно, современные анархисты не сочинили ни одной литературной утопии9. Под термином «литературная утопия» я понимаю беллетристическое произведение, изображающее идеальное общество. Большинство таких утопий, вроде «Государства» Платона, авторитарные10. Поскольку жители утопий не замечают ничего утопического в своих обществах, в повествование вводится чужак – моряк, потерпевший кораблекрушение, путешественник во времени, исследователь или посланник – чтобы стать рассказчиком этой истории. Однако эта история как история – и не история в общем-то. Жители Утопии проводят Чужестранцу экскурсию и рассказывают, как чудесна их жизнь. Вот и весь сюжет. Ничего особенного не происходит. Нет персонажей, которые, взаимодействуя между собой, оказывали бы влияние один на другого, или, по крайней мере, их взаимодействие открывало бы им себя и друг друга. Их взаимоотношения обезличены или в лучшем случае поверхностны. «Государство» Платона, первая в истории утопия, написана в форме диалога, но все размышления и почти все речи в ней принадлежат Сократу. Позднейшие утопии, например, те, что были написаны Томасом Мором, Фрэнсисом Бэконом, Томмазо Кампанеллой, Уильямом Моррисом, Уильямом Дином Хоуэллсом, Шарлоттой Перкинс – да даже «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона (о стране «Шангри-Ла») и «Экотопия» Эрнста Калленбаха, – в точности соответствуют шаблонам, заложенным Платоном и Мором. Лишь только в литературных антиутоттях — Джонатана Свифта, Евгения Замятина, Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла – присутствует некое развитие, конфликт или трагедия. Хотя утопии и антиутопии бывает нелегко отличить друг от друга11.
Хотя это уже стало клише, я процитирую анархиста Оскара Уайльда: «Что это, Утопия? Но если в мире она отсутствует, на такую карту мира не стоит и смотреть, потому что не увидим той земли, куда всё время стремится Человечество. Однако лишь ступив на этот берег, оно оглядывает горизонт и, завидев лучшие земли, устремляет свой парус в иные пределы. Прогресс есть претворение Утопий в жизнь»12. Мне не стыдно признать, что «Рай возможен»13.
Работа «Коммунитас: Средства к существованию и образы жизни», написанная Персивалем и Полом Гудманами, впервые изданная в 1947 году, посвящена городскому планированию. Что удивительно, им удалось сделать эту тему интересной. После обзора современных им теорий братья Гудманы разумно посчитали, что цели должны определять средства. Они представили три парадигмы локального сообщества, основанные на различных подробно разработанных вариантах выбора. Все из них лучше, чем статус-кво, поскольку каждая из этих парадигм, по меньшей мере, имеет смысл при своих собственных условиях. Первая – это «Город эффективного потребления» – в сущности, рационализованное общество потребления. Вторая – «Плановая безопасность с минимальным регулированием» – предлагает двухуровневую экономику: гарантированные доход и безопасность на самом основном уровне, а для тех, кто хочет большего – почти нерегулируемую рыночную экономику Это очень похоже на сегодняшние предложения безусловного базового дохода. Такая система не является анархистской, хотя был один анархист, который считал иначе14.
Но то, чего действительно хотели братья Гудманы, называлось «Новое сообщество: Ликвидация различия между производством и потреблением». Пол Гудман был широко известным комментатором событий в общественной жизни в 1950-е и 1960-е годы. Также он был анархо-коммунистом, но редко говорил об этом в культурной компании. Эта третья парадигма, верная утопической традиции, нивелирует различие между производством и потреблением, между городом и сельской местностью, между умственным и физическим трудом, и почти что разницу между работой и игрой.
Хаким Бей (псевдоним Питера Ламборна Уилсона) – современный американский постлевый анархист. Он и в самом деле, как писал Мюррей Букчин, является «одним из самых отталкивающих примеров анархизма образа жизни»15: декадентским, гедонистическим, иррациональным, мистическим, постмодернистским и т. п. На этот раз Букчин неправ лишь в основном, но не полностью. Бей – некогда мой личный друг – в некоторой степени действительно всё это в себе воплощал. Он специализируется на поверхностном синтезе противоположностей. Он представляет собой нечто вроде идеологического оппортуниста. Он пытался синтезировать примитивизм, антиработу и высокие технологии в «духовный палеолитизм»16, вызвав этим негодование у верховного жреца примитивизма Джона Зерзана17. И Букчин, и Зерзан – вероятно, никогда больше ни в чём не соглашавшиеся друг с другом – осудили его как постмодерниста.
Тем не менее Бей – творческий и оригинальный мыслитель. У него необычайно широкий круг интересов и познаний, включая восточные религии, научную фантастику, историю анархизма, поп-культуру, Ницше и Штирнера. Десять лет он прожил на Ближнем Востоке. Его концепция Временных Автономных Зон (ВАЗ) призывает выйти за пределы традиционных анархистских максималистских принципов «всё-или-ничего», таких, например, как «реформа против революции», при этом не сводя их к самому нижнему общему знаменателю – реформизму Временные анклавы социальной автономии действительно существовали. Некоторые могут действовать и сейчас. Другие могут возникнуть в будущем. Это места, где переживается и практикуется свобода – не как уход от мира, но как использование возможностей в большем масштабе и в более протяжённом периоде. До сих пор вся реально существовавшая анархия, такая как анархия первобытных обществ, оказывалась временной. Но это лишь означает, что порой через многие тысячи лет, а порой – через год или два она заканчивалась. Если однажды анархии, как и Вселенной, может прийти конец – это не повод её не возрождать.
Я присвоил Бею оригинальность, но его концепция ВАЗ несколько напоминает Союз эгоистов (Verein von Egoisten) Макса Штирнера. Бей хорошо знает Штирнера, а вот незнакомый с ним Мюррей Букчин жаловался: «Бей приветствует идеи Макса Штринера…»18. Штрирнер, которого левые, никогда его не читавшие, так часто объявляют антиобщественным индивидуалистом, на самом деле писал: «Первобытное состояние человека не обособленность или одиночество, а общественность… Общество – наше природное состояние»19. Но общество в целом слишком стесняет индивидуума. Оно должно быть не уничтожено, но распущено и преобразовано в вольное соглашение союзов свободно ассоциированных людей, вступающих в эти союзы и покидающих их в зависимости от того, насколько хорошо те служат их интересам. Такие союзы – это и источники свобод, и их ограничители. Однако Штирнер всегда с подозрительностью относился к возможности превращения этих союзов в «партии»20. Кроме отдельных намёков, Штирнер намеренно не сообщил ничего по поводу того, каким могло бы быть общество эгоистов.
Содержание раздела «Утопия»
Персиваль и Пол Гудманы. Новое сообщество: Ликвидация различия между производством и потреблением (пер. с англ. В. Садовского по: Goodman Р. & Р. Communitas: Means of Livelihood, and Ways of Life. Rev. ed. New York: Vintage Books, i960. P. 153–174).
Хаким Бей. Временная Автономная Зона (пер. с англ. В. Садовского по: Bey Н. T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. Brooklyn, New York: Autonomedia: 1991. P. 97–108).
Новое сообщество. Ликвидация различия между производством и потреблением
Персиваль и Пол Гудманы
Карантин для работы, карантин для домов
Людям нравится изготавливать вещи, работая с материалами, и смотреть, как они обретают форму и выходят такими, какими задумывались, и люди гордятся своими творениями. Люди также любят работать и быть полезными, так как у работы есть ритм, она происходит от спонтанных проявлений чувств, равно как и игра, и людям приятно от сознания своей полезности. Производительная работа – это своего рода созидание, это продление человеческой личности в природу. Но так же верно и то, что частные или государственные капиталистические отношения производства и механизированная промышленность, при какой бы системе она сейчас ни существовала, уже разрушили то инстинктивное удовольствие от работы, той экономической работы, которую так не любят все обычные люди. (Однако же люди боятся безработицы, а те, кому не нравится их работа, не знают, что делать со своим досугом.) В капиталистической или государственно-социалистической экономике эффективность измеряется прибылью и расширением производства, а не умением управлять средствами производства. Массовое производство, дробя трудовой процесс на мелкие операции и распространяя продукцию удалённо от производителя, разрушает у него чувство созидания. Ритм, чёткость, стиль определяются теперь скорее машиной, чем человеком.
Разделение экономики на два противостоящих полюса производства и потребления означает, что мы далеки от условий, при которых работа могла бы быть образом жизни. Образ жизни требует, в конечном счёте, объединения средств производства, а работа должна рассматриваться как непрерывный процесс деятельности, приносящей удовлетворение, – такой, которая приятна и сама по себе, и своим конечным полезным результатом. Подобные соображения приводили многих моралистов-экономистов к желанию обратить время вспять – к условиям ремесленного труда в ограниченном обществе, где взаимоотношения гильдий и небольших рынков дают мастеру-ремесленнику право голоса и руку помощи на каждой фазе производства, распределения и потребления. Можем ли мы достичь таких же ценностей с современными технологиями, общенациональной экономикой и демократическим обществом? Поставив эту цель, давайте ещё раз проанализируем эффективность и машинное производство.
Характерной чертой американских офисов и заводов является жёсткая дисциплина в вопросах пунктуальности. (В некоторых штатах закон предусматривает счётчики времени для защиты труда и расчёта сумм страхования.) Без сомнения, во многих случаях, когда рабочие трудятся в командах, когда бизнес ограничен предписаниями, когда машины подключают к источнику энергии в определённое время, строго пунктуальное и одновременное с остальными осуществление всех операций кардинально важно для эффективности производства. Но по сути дела не такая уж существенная разница, в котором часу у каждого начинается и заканчивается рабочий день, главное, чтобы сама работа была сделана. Нередко работу можно делать как в рабочем помещении, так и дома, или частично там, частично там. Но такая расслабленность никогда не дозволяется, за исключением типичных случаев написания текстов на заказ или коммерческого искусства – типичных, потому что у этих тружеников так или иначе непростое отношение к экономике. (Есть прелестная история о том, как Уильям Фолкнер спросил компанию “Metro-Goldwyn-Мауег”, не может ли он работать дома, а получив ответ «Конечно», уехал обратно к себе в Оксфорд, штат Миссисипи.)
Пунктуальность требуется в первую очередь не ради эффективности, но ради самой дисциплины. Дисциплина же необходима потому, что работа тягостна; вероятно, она делает мысли о работе ещё тягостней, но сама работа становится куда более терпимой, поскольку превращается в структуру, в решение. Дисциплина учреждает работу во внеличностной вторичной окружающей среде, где для человека, вставшего с постели рано утром, дальше всё легко идёт своим чередом. Регулирование времени, отделение от личной среды – вот признаки того, что работа не является образом жизни; это методы, при помощи которых, как бы там ни было, работа, которую невозможно осуществлять личными усилиями, может быть выполнена независимо от личной заинтересованности.
В планах Города-Сада «…технология была как бы отделена карантином» от жилых домов; говоря в более общем смысле, карантином мы отделяем работу от домашней жизни. Но ещё более правильным будет сказать, что мы ставим карантинный барьер, отделяющий дома от работы. К примеру, посещение женой или детьми мужа на его работе будет катастрофой; такая привилегия предусмотрена лишь для самого высокого начальства.
Заново анализируя производство
Планируя область для успешной промышленной работы, мы, таким образом, учитываем четыре основных принципа:
1. Более тесное отношение между персоналом и средой производства, делающее пунктуальность разумной, а не дисциплинирующей, а также введение фаз домашнего и мелкоцехового производства; и наоборот, поиск подходящих вариантов технического использования личных взаимоотношений, которые стали считаться непродуктивными.
2. Участие всех рабочих на всех стадиях производства продукции; право голоса и помощь для опытных рабочих в вопросах разработки дизайна изделия, а также дизайна и функционирования техники; право голоса для всех в политических вопросах общенациональной экономики, исходя из того, что они знают лучше всего, и их промышленной специализации.
3. Расписание работ, спланированное на основании учёта как психологических и моральных, так и технических факторов, чтобы предоставить наиболее гармоничную занятость каждому человеку в разнообразной среде. Даже в областях экономики и технологий люди настолько же цели, насколько и средства.
4. Небольшие производственные единицы со сравнительной самодостаточностью, так, чтобы каждое сообщество могло вступать в более крупные целостности, сохраняя сплочённость и независимость точки зрения.
Эти принципы взаимозависимы.
1. Чтобы отменить существующее разделение рабочей и домашней сред, мы можем действовать одновременно двумя путями: 1) вернуть определённые виды производств в домашние мастерские или придомовые территории; 2) ввести домашнюю работу и определённые производственные семейные отношения, которые в настоящее время совсем не признаются частью экономики, в стиль и отношения верхних уровней экономики.
а) Подумайте о современном разрастании машинной техники. Когда-то можно было сказать, что швейная машина была единственной широко распространяемой производительной машиной; но теперь, особенно в силу последней войны, идея тысяч небольших технически оборудованных мастерских, питаемых электричеством, стала хорошо знакомой; а компактные механизированные инструменты превратились в товары наибольшего спроса. В целом, переход от угля и пара к электричеству и нефти ослабил одну из важнейших причин для концентрации машинной техники вокруг одного приводного вала.
б) Боршоди[81], обращаясь к экономическому учению Аристотеля, доказывал, нередко с уморительным реализмом, что домашние работы, такие как приготовление еды, уборка, починка вещей и развлечения, имеют колоссальную экономическую стоимость, пусть и не в наличных деньгах. Проблема заключается в том, чтобы облегчить и обогатить домашние производства при помощи технических средств и некоторых экспертных подходов, свойственных общественному производству, при этом не разрушая их индивидуальность.
Но большая часть поисков удовлетворительной производственной жизни в домах и семьях состоит в анализе личных взаимоотношений и условий: например, производственного сотрудничества мужа и жены на ферме или производительных возможностей детей и пожилых, в настоящее время исключённых из экономики. Это подразумевает чрезвычайно глубокие и деликатные эмоциональные и моральные проблемы, которые могут быть решены только путём экспериментирования в интегрированных сообществах.
2. Абсурдность работы в промышленности заключается главным образом в том, что каждый оператор машины знаком лишь с несколькими процессами, а не со всей цепочкой производства. Он также не знает, как и где распространяются тысячи созданных при его участии продуктов. Эффективность внедряется сверху усилиями опытных менеджеров, которые сначала разбивают производство на простейшие процессы, потом соединяют их в комбинации, интегрированные с работой машин, а затем организуют логистику поставок и т. д. и только после этого распределяют работу.
Возражая против такой спущенной сверху эффективности, мы должны постараться передать эту функцию рабочим. Это осуществимо только если рабочие имеют целостное представление обо всех операциях. Необходима школа промышленности, научная и не участвующая непосредственно в производстве, но связанная с заводом. Теперь определим, кем будут её ученики и выпускники. Ученики наряду с обучением занимаются более монотонной работой; выпускники же – организаторскими и координирующими работами, тонкой работой, окончательной отделкой. В конце обучения ученик выполняет шедевр – образцовое изделие, новое изобретение, метод, или вносит другой практический вклад в развитие производства. Мастера являются учителями, и в их работу входит проведение свободных дискуссий, касающихся основных изменений.
Такая система обучения существенно отвлекает от графика непрерывного производства; но остаётся вопрос, не окажется ли она более эффективна в долгосрочной перспективе, побуждая людей работать на себя и иметь возможность влиять на дистрибуцию. Под этим мы подразумеваем не только экономическую демократию или социалистическую собственность. Это необходимые критерии, но сами по себе они не являются политическим смыслом индустриализма. Нужна же организация экономической демократии на основе производительных единиц, где каждая из них, полагаясь на собственный опыт и умение выгодно продать то, что она может предложить, взаимодействует со всем обществом в целом. Это синдикализм, проще говоря, собрание промышленного города. Чтобы гарантировать независимую силу каждой производительной единицы, она должна иметь относительную региональную самодостаточность; это может быть союз фермы и завода.
3. Машинный труд в своей сегодняшней форме часто оказывается отупляющим, а не «образом жизни». Выход заключается в распределении работ в соответствии как с психологическими и моральными, так и с техническими и экономическими основаниями. Целью является обеспечение всесторонне гармоничной занятости. Работу можно разделить на командную и индивидуальную или же на физическую и интеллектуальную. Отрасли промышленности можно сочетать в рамках одной местности, чтобы получить правильное разнообразие. Например, производство хрусталя, выдувного стекла и оптических инструментов; или, более обобщённо, сочетание промышленности и сельского хозяйства, завода и домашней работы. Вероятно, наиболее важным, но трудно достижимым является разделение с учётом возможностей и способностей, рутинной работы и инициации, повиновения и руководства.
Проблема заключается в возможности составить сбалансированный план работ для каждого человека и предоставить для него здания и фермы так, чтобы этот план был осуществимым.
4. Интегрирование заводов и ферм приводит нас к идее регионализма и соответствующей региону автономии. Вот основные её составные части:
а) Диверсифицированные фермерские хозяйства как основа самодостаточности, и следовательно, небольшие городские центры (с населением 200 000 человек).
б) Некоторое количество взаимозависимых промышленных центров, расположенных так, чтобы существенная часть национальной экономики была под надёжным контролем. (Идея в том, чтобы имеющаяся свобода была защищена реальной экономической силой.)
в) Эти промышленные предприятия развиваются на базе региональных ресурсов – сельскохозяйственного поля, шахты и источника энергии.
Фермеры, работающие в различных областях сельского хозяйства, могут быть независимыми, и в силу этого небольшие фермы всегда были основой социальной стабильности, но не обязательно служили опорой крестьянского консерватизма. С другой стороны, поскольку сейчас желательна машинная техника, фермеру нужны деньги и связи с более крупной экономикой города.

Город и его окрестности: 1. Городские кварталы. 2. и 3. Различные фермы, на территории которых размещаются все дети и их школы (родители, работающие в районе центральных кварталов, в основном проживают во внутреннем периметре). 4. Территория индустриализованных сельскохозяйственных предприятий и молочных хозяйств. 5. Открытые пространства, пастбища и т. д.
Политическая проблема промышленного рабочего заключается в обратном, поскольку каждая отрасль промышленности полностью зависит от национальной экономики как в материалах, так и в дистрибуции. Но при региональной взаимозависимости промышленных предприятий и тесной интеграции заводской и фермерской работы заводские рабочие приходят в поля для помощи в пиковые сезоны, фермеры заняты работой на заводе зимой; горожане, в особенности дети, могут проживать за городом; фермеры на дому изготовляют небольшие детали для заводов – промышленный регион как единое целое может обеспечить себя независимой договорной рабочей силой на общенациональном уровне.
Общим признаком этой федеральной системы будет отличие местных региональных рынков от общенационального.

Городские кварталы и фермы в пределах велосипедной доступности: принцип планировки заключается в том, что за исключением вредных производств на окраинах, ни одна из общественных или домашних функций не концентрируется изолированно в одной зоне. Таким образом, кварталы будут включать в себя библиотеки, фабрики, жилые дома, магазины, школы, рестораны и т. д., как это диктуют соображения функциональности, внешнего вида и настроений сообщества (ср. городскую площадь на с. 493). 1. Аэропорт и межрегиональный рынок. 2. Скоростные шоссе, зелёный пояс и вредные предприятия. 3. Фермы по 4 акра, дома родителей-горожан и начальные школы. Периферийные дороги, граничащие с шестиугольником города и обслуживающие местное автомобильное и грузовое движение, проходят над или под скоростными трассами или соединяются с ними посредством наклонных съездов
В области транспорта местные рынки обслуживаются пешеходами, велосипедами, повозками и автомобилями; общенациональный же рынок – самолётами и грузовыми трейлерами.
(Всё это – децентрализованные единицы, двойные рынки, выбор промышленной отрасли на основе как политических и психологических, так и экономических и технических факторов – выглядит странным и кружным путём достижения интегрированной национальной экономики, при том, что в настоящее время такое единство уже есть, настолько тесное, что нечего больше и пожелать, и даже чрезмерно эффективное. Однако мы нацелены на другой стандарт эффективности, такой, при котором наступит расцвет изобретений, а работа будет стимулом сама по себе; и самое важное, мы нацелены на достижение высочайших и ближайших к нам идеалов общественной жизни: свободы, ответственности, самоуважения как человека труда, и инициативы. Существующая система не может предложить нам ничего, сравнимого с этими целями.)
Расписание и его модель
Типичное расписание занятий для членов коммуны
(Цифры означают количество месяцев)

Примечания к расписанию
(а) Работа на заводе рабочего-мастера включает в себя исполнительную и тонкую работу.
(б) Период технического обучения идёт одновременно с периодом работы.
(в) Работа над выпускным проектом проводится в своё личное время и на своём личном месте – например, в жилом трейлере для путешествий или загородном домике; может включать в себя дизайн, черчение, сборку ручных механизмов (например, радиоприёмников или часов), заключительные действия (шлифовку линз) и т. п.
(г) Фермерская работа мастера на сельскохозяйственном производстве включает в себя надзор и поддержание хозяйства и по взаимному соглашению распределяется между рабочими, с тем чтобы быть круглогодичной. Более механизированные виды работ в пиковые сезоны выполняются заводскими подмастерьями.
(д) Работа фермерской семьи в промышленности включает в себя изготовление деталей для заводов, взаимодействие с сельскохозяйственным производством (например, полевыми кухнями), заботу о получающих образование в пансионах городских детях.
(е) Занятия молодёжи охватывают многие категории, включая два месяца путешествий, что тем самым знакомит их с различными возможностями.
(ж) Занятия по собственному выбору и воображению – профессиональные, любительские, рекреационные и т. п.
(√) Занятия по мере появления возможности.
Пьяцца в городе
Сегодня у нас в Америке человек, которому повезло иметь полезную и важную работу заниматься тем, что социально востребовано и одобрено, работу, требующую инициативы и применения всех его лучших стремлений, – такой человек (один на тысячу из всех нас) будет трудиться не только очень усердно, но даже со слишком большим усердием; он обнаружит, что, будто поневоле, он всегда возвращается к своей важной работе, словно праздные устремления общества его вовсе не привлекают. Но будем надеяться, что там, где у каждого есть такая работа и где общество организовано исключительно таким образом, чтобы её гарантировать, там и у людей будет более жизнерадостный и лёгкий характер. Не желая отделываться от своей работы ради столь малоценной для них праздности (нет работы – нет и развлечения), люди будут относиться к своей работе неторопливо – ведь всё это, так или иначе, будет не зря потраченным временем.
В этом новом сообществе есть замкнутые площади, подобные тем, о которых писал Камилло Зитте. Такие площади определяют образ города.
Площади – это не улицы с автомобильным или пешеходным движением, а локации, где люди находятся постоянно. До места работы и до дома рукой подать, но на городской площади находится нечто ещё более интересное – другие люди.
Лёгкая праздность пьяцц – это просто длинная пауза, ведь в наши дни беззаботные люди нередко более всего счастливы, когда едут на поезде или в машине на работу, такое «время между». И совесть чиста, поскольку занятие чем-то полезным начнётся в лишь в определённое время (нескоро). Рабочие этого нового сообщества позволяют себе довольно длительные перерывы на обед. Предположим, что для обслуживания какой-то машины или конвейера в течение четырёх часов необходимо десять человек: они договариваются начать где-то в середине дня, и где же им встретиться друг с другом, как не на площади-пьяцце.
С одной стороны пьяццы виден вход на фабрику; другой вход – в небольшую библиотеку, он оборудован урнами для окурков. Как и на всех прочих площадях, имеются часы-куранты; но они – напоминание, а не тиран.

Городская площадь: интеграция работы, любви и знания
Досуг на пьяццах состоит из повторяющихся маленьких удовольствий вроде кормления голубей или созерцания фонтана. Таким образом можно побыть среди людей и пообщаться. Крайне важно, чтобы внутри и снаружи зданий стояли столы с напитками и лёгкими закусками.
Неподалёку от магазинчиков слышен грохот от ударов молота и шум от настройки мотора. Но если это более тихая площадь, там могут быть музыканты. Полощутся окрашенные льняные и шёлковые ткани – это не флаги, а стирка! Ведь здесь всё перемешалось. В то же время есть здесь что-то и от формальности университетского городка.
Ещё один лик пьяццы – жилой многоквартирный дом, где городская семья готовит еду. Занимаются они этим так.

Оживлённая площадь

Спокойная площадь
На первом этаже здания расположен не только ресторан, но и продуктовый магазин; сюда фермеры поставляют свои продукты. Готовит семья этажом выше, они звонят вниз, заказывая свежее мясо, овощи, салат и другие ингредиенты, всё это доставляется им на кухонном подъёмнике, помытое и очищенное – картофель очищен, а шпинат вымыт машиной. Они разделывают и приправляют мясо по вкусу и отправляют его обратно вниз с запиской: «Прожарка Medium Rare к 18.45». Муж уже в двенадцатый раз рассказывает, что когда он был студентом в Париже, пекарь на углу имел привычку готовить цыплят в своей духовке. Люди попроще, живущие в блочных домах поменьше в конце квартала, считают эту процедуру сущей глупостью; они-то просто закупаются едой в магазинах, сами готовят её и едят. Но они не работают на заводах: у них токарные станки в подвалах.
Основной выход с площади почти перегорожен монументом с надписью. Но эту будущую надпись мы разобрать не можем. Площадь выглядит замкнутой.
На знаменитых пьяццах, описанных и измеренных во всей их асимметрии Камилло Зитте, главное здание, которое даёт название всему месту, к примеру, Пьяцца Сан Марко или Пьяцца деи Синьори, – это церковь, ратуша или здание гильдии. Какие же важнейшие здания на описываемых здесь площадях? Мы не знаем.
Ветряк и водонапорная башня, обеспечивающие работу фонтана и наполнение бассейна, были произвольно размещены на иллюстрации просто потому, что подобные искусные механизмы живописны.
Ферма и её дети
Давайте будем растить всех детей в естественной среде, где их будет много и они сами образуют общество друг для друга. Этот метод обладает огромным педагогическим преимуществом, поскольку всё ведение дел в окружающей сельской местности открыто для наблюдения, а не спрятано в счетах и за стенами фабрик. Механизм производства в городе для взрослых ясен; природа же фермерской деятельности взрослым не более очевидна, чем детям десяти- и одиннадцатилетнего возраста.

Схема производства на ферме. Принцип диверсифицированной фермы заключается в симбиозе при минимальном использовании искусственных удобрений. Городские нечистоты, обогащённые продуктами с фермы, по трубам поступают на поля для удобрения земли.
Интегрируя город и село, мы можем исправить существующую несправедливость, когда село берёт на себя бремя воспитания и образования большего числа детей, чем соответствует его доле во всём населении, а затем теряет 50 % от этих вложений по достижении детьми совершеннолетия. (А города потом жалуются, что молодёжь получила образование по сельским стандартам!) Если городские дети отправляются в загородные школы, город берёт на себя пропорциональную долю в расходах и приобретает право высказываться по этому вопросу.
Родители, работающие в городе, живут в небольших домиках на близлежащих фермах – там дом их детей. Но когда они уезжают на работу, дети не остаются одни – они всё ещё дома на ферме. Какая-то договорённость по этому вопросу необходима, так как очевидно, что поскольку городские дома продолжают деградировать, мы не можем быть удовлетворены плачевным состоянием яслей, подготовительных школ и детских садов.
А для фермеров городские семьи являются наиболее ценным источником денежного дохода.
Лучшее общество для воспитания детей после того, как они перестают быть абсолютно беспомощными, – другие дети, слегка постарше или помладше. Это суровое общество, но в худшем случае оно чревато конфликтами, а не любящей, абсолютной родительской властью. Теперь эти дети спят уже не рядом со своими родителями, а в спальных корпусах.
С весьма раннего возраста детей привлекают к работе – кормлению животных и поручениям по дому, что порою оказывается для них слишком сложным. Возможно, ощущение близости города сможет здесь облегчить и условия жизни на ферме, и настроение самих городских детей.

Двор; дом построен из сборных блоков и местных материалов

Первый этаж: большое пространство для собраний и принятия пищи, комната для занятий производством на дому, комната для детских игр и учёбы недалеко от рабочей мастерской и двора фермы. Второй этаж: спальни

Интерьер пространства гостиной и вид со стороны дороги.
Комбинирование заводской и ручной работы. Картина (репродукция Мондриана) не размещается напротив расписанной стены

Все восхваляют диверсифицированное фермерство в качестве образа жизни. Однако молодёжь с ферм устремляется в города, как только появляется такая возможность. (Так же, как все восхваляют прекрасную Ирландию, но молодые ирландцы уезжают толпами из своей страны.) Это неизбежно, когда все рекламируемые социальные ценности, транслируемые радио и кинематографом, – ценности городские. Все признают, что эти ценности – бессмысленная показуха; но они привлекательнее, чем совсем ничто. Чтобы противодействовать этой пропаганде, фермерские социологи пытаются положить начало специфически сельскому общественному мнению, они возрождают народные танцы и устраивают клубы 4·Н[82] и конкурсы, организованные работниками ферм и кооперативами.
Но нужно ли соперничество межу «фермой» и «городом»? Все ценности – это человеческие ценности.
Региональная и национальная экономики
Большое число диверсифицированных ферм означает, с одной стороны, что регион самодостаточен, но, с другой, говорит о том, что у фермеров лишь малая доля урожая экспортируется за пределы региона. Однако их денежные доходы поступают от городского рынка, от домашних производств, от некоторых сельскохозяйственных производств и от размещения горожан. Если фермеры выращивают специализированную культуру, такую как виноград или хлопок, то она перерабатывается в городе. Всё это гарантирует устойчивость местной экономики.
Даже если не брать в расчёт политическую свободу, такая надёжная местная экономика критически важна для тесного взаимодействия между производством и потреблением, поскольку это означает, что цены и стоимость труда не будут настолько зависеть от колебаний громадного общего рынка. Работа человека, важная для производства, сделает возможной дистрибуцию и получение товаров взамен. Это означает, что, в определённых рамках, чем ближе система подходит к экономике простого домохозяйства, тем больше она является экономикой конкретных предметов и услуг, обменивающихся бартером, а не экономикой обобщённых денег.
«Экономика предметов, а не денег» – в этой формуле вся сущность регионализма. Жители региона задействуют свои местные ресурсы и взаимодействуют напрямую, без посредничества государственной бухгалтерии с её миллионами противоречащих мотивов, никогда не разрешимых лицом к лицу. Региональное развитие Управления долины Теннесси соединило электроэнергию и удобрения для ферм, навигацию и предотвращение эрозий, контроль за наводнениями и переработку пищи, национальную рекреацию, и в этом естественном взаимодействии оно породило массу остроумных изобретений. Всё это (заложенное в его основании) проводилось при сравнительной автономии, в соответствии с нежёстким курсом на «всеобщее благосостояние».
Образ жизни, который мы ищем в этом новом сообществе, зависит от информированности о местных отличительных чертах, и это также является условием политической свободы как объединения промышленных предприятий и фермерских кооперативов, а не множества абстрактных голосов и потребителей при деньгах.
Но любая экономика машин является как национальной, так и интернациональной экономикой. Доля необходимых товаров, которые могут быть произведены в запланированном регионе, может быть весьма значительной, но это всего лишь доля. Этот факт спасителен для регионализма! Ведь иначе регионализм скатился бы до провинциализма – рассматриваем ли мы искусство или литературу, или характерные черты народа, или же тенденции в технологиях. Региональные промышленники на своём собрании обнаруживают, что именно потому что их регион силён и много производит, они оказываются зависимы от широкого спектра влияний, которые им придётся учитывать.
Усовершенствование
Попытаемся представить себе нравственный идеал такого сообщества, как описываемое нами.
В роскошном городе потребительских товаров общество развивалось в направлении роста экономики – инвестиции капитала и потребление должны были расти любой ценой или даже преимущественно любой ценой. В третьем сообществе, которое будет описано в нашей книге, сообществе «максимума безопасности и минимума регулирования», мы обнаружим, что ради достижения общественной безопасности и свободы человека рост некоей одной части экономики должен быть категорически запрещён.
Но в текущем, промежуточном плане нет никаких причин, по которым экономика должна или не должна расти. Каждая ситуация конкретна и сводится к конкретному вопросу: «Стоит ли расти в соответствии с этим новым курсом? Стоит ли продолжение следования старому курсу этих сложностей?»


Стулья уберегали нас от больших щелей и грязи на полу – но если у нас нет грязных полов и есть радиаторное отопление – зачем нам стулья?
Это деликатный подход, который нам, американцам, постичь нелегко: мы всегда предпочитаем делать побольше и получше, или перескакиваем на что-то новое, или уцепляемся за старое. Но когда люди привычны к своему знанию о том, ради чего они сдают в аренду свои руки, когда они в курсе производственных операций и отдачи, когда им не нужно доказывать что-то в конкурентной борьбе, тогда они просто заняты, так сказать, оцениванием соотношения средств и целей. Все они в этом случае – эксперты по эффективности. И тогда они на удивление быстро могут найти новую концепцию самой эффективности, совсем не похожую на ту, которой пользуются инженеры Веблена[83]. Когда они могут сказать: «Было бы эффективнее делать это таким образом», а потом продолжить: «А ещё эффективнее будет вообще забыть обо всём этом».
Эффективный для чего? Для образа в жизни в целом. Во все времена достойные люди пользовались этим критерием для отсеивания: «Мы так не делаем, даже если это удобно или прибыльно». Но они уверенно и изобретательно обдумывают это: «Давайте займёмся этим, это нам подходит. Или давайте воздержимся и упростим, это будет задержка и отставание».
Предположим, что один из мастеров в свои два месяца индивидуального труда занялся разработкой эскизов для мебели и, изучив мебель у японцев, решил обходиться без стульев. Такая проблема может повлечь жёсткую борьбу в национальной экономике, когда одно цепляется за другое.
Экономика, как и любая экономика машин, стала бы расти, поскольку она создаёт излишки. Она бы доросла до изысканности. Ярким примером является японский способ. Они покрывают пол толстыми моющимися циновками и обходятся без стульев и полового покрытия. Загромождать комнату мебелью для них слишком хлопотно. Но щедро тратить многодневные усилия на вырезание крошечной канавки на обратной стороне профиль-ручки перегородки-сёдзи – это для них не хлопотно. Они обходятся без обивки, но с большой тщательностью расставляют цветы. Они не воздвигают постоянных перегородок в комнате, потому что виды занятий в жизни всё время меняются.
Когда производство становится неотъемлемой частью жизни, труженик становится художником. Художник по своему определению следует за окружающей обстановкой и находит в ней новые возможности выражения. Его не ограничивает ни то, каким способом всегда делались и делаются определённые вещи, ни даже то, что делаются именно эти вещи. Наши промышленники – и даже компания IBM – в настоящее время очень сильно озабочены тем, как бы заполучить «креативных» людей, они организуют психологические исследования, чтобы узнать, как взрастить «атмосферу креативности»; но они не вполне учитывают ужасную вероятность того, что истинно творческие люди могут посоветовать им закрыть своё производство. Ведь они хотели бы использовать творчество как раз так, как его не следует использовать, ибо это процесс, который сам творит свои собственные цели.
Временная Автономная Зона
Хаким Бей
Пиратские утопии
Морские разбойники и корсары XVIII века создали «информационную сеть», охватившую земной шар: примитивная и нацеленная в первую очередь на нелегальный бизнес, эта сеть, тем не менее, превосходно работала. На всём протяжении этой сети были разбросаны острова – отдалённые укрытия, где корабли могли запастись водой и провиантом, сбыть свою добычу в обмен на предметы роскоши и первой необходимости. Некоторые из этих островов служили поддержкой для «международных сообществ», целых микрообществ, осознанно живших вне закона и решительно настроенных продолжать такую жизнь, пусть и короткую, но весёлую.
Несколько лет назад я просмотрел большое количество вторичных источников – литературы о пиратстве, в надежде найти исследование об этих анклавах – но, как оказалось, ни один историк пока что не счёл их достойными анализа. (О них упоминали Уильям Берроуз, а также ныне покойный британский анархист Ларри Лоу – но никаких систематических исследований не проводилось.) Я вернулся к первоисточникам и разработал свою собственную теорию, некоторые аспекты которой будут обсуждаться в этом эссе. Я назвал эти поселения «пиратскими утопиями».
Недавно Брюс Стерлинг, один из ведущих представителей киберпанковской фантастики, опубликовал роман о недалёком будущем, основанный на допущении, что упадок политических систем приведёт к децентрализованному разрастанию экспериментов в образах жизни: гигантские корпорации, которыми владеют рабочие, независимые анклавы, посвящённые «цифровому пиратству», зелёно-социал-демократические анклавы, анклавы нульработы, освобождённые анархистские зоны и т. д. Информационная экономика, поддерживающая такое разнообразие, называется Сетью; а анклавы (и заглавие самой книги) – Острова в Сети.
Средневековые ассасины основали «Государство», состоявшее из сети удалённых горных долин и замков, разделённых тысячами миль, стратегически неуязвимых для вторжений, связанных информационными потоками тайных агентов, «государство», находившееся в состоянии войны с любыми властями и посвятившее себя одному только знанию. Современные технологии, кульминацией которых стали спутники-шпионы, делают такой вид автономии романтической мечтой. Нет больше никаких пиратских островов. В будущем эта же технология – освобождённая от всякого политического контроля – могла бы сделать возможным целый мир автономных зон. Но пока эта концепция остаётся именно научной фантастикой – чисто умозрительным построением.
Обречены ли мы, живущие сейчас, никогда не испытать автономии, никогда не ступить на мгновение на клочок земли, где правит одна лишь свобода? Низведены ли мы лишь до ностальгиии по прошлому или по будущему? Должны ли мы ждать, пока целый мир не освободится от политического контроля, прежде чем хоть один из нас сможет претендовать на знание свободы? Логика и эмоции объединяются в осуждении такого предположения. Разум утверждает, что нельзя бороться за то, чего не знаешь; а сердце восстаёт против столь жестокой вселенной, которая взвалила такие несправедливости лишь на одно наше поколение во всём человечестве.
Заявить: «Я не стану свободным, пока не окажутся свободными все люди (или все разумные существа)», – всё равно что провалиться в некую нирвану-оцепенение, отречься от нашего человечества, посчитать себя неудачниками.
Я верю, что экстраполируя эти истории об «островах в сети» из прошлого и будущего, мы можем собрать свидетельства, чтобы предположить, что некий вид «свободного анклава» в наше время не только возможен, но и существует. Все мои исследования и рассуждения выкристаллизовались вокруг понятия ВРЕМЕННОЙ АВТОНОМНОЙ ЗОНЫ (далее упоминаемой в виде аббревиатуры ВАЗ). Несмотря на её синтезирующую силу для моих собственных мыслей, я, однако, не считаю, что ВАЗ должна восприниматься как нечто большее, чем эссе («попытка»)[84], предположение, почти поэтический образ. Несмотря на периодический рантеровский энтузиазм моего языка, я не стараюсь выстраивать политическую догму. На самом деле я сознательно отказался от определения ВАЗ – я кружу вокруг этого образа, обстреливая его исследовательскими лучами. В конечном счёте, ВАЗ – почти что самоочевидна. Если фраза становится ходовой, её без проблем будут понимать… понимать в действии.
В ожидании Революции
КАК ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, что «перевернувшийся вверх дном мир» всегда ухитряется выправлять сам себя? Почему за революцией всегда следует реакция, словно времена года в аду?
Восстание, или латинская форма инсуррекция, – слова, использующиеся историками для обозначения неудавшихся революций, движений, которые не укладываются в ожидаемую кривую движения, в одобренную консенсусом траекторию: революция, реакция, предательство, образование более сильного и ещё более репрессивного государства – вращение колеса, возвращение истории снова и снова к своей высшей форме: вечному сапогу на лице человечества.
Не преуспевая в следовании по этой кривой, восстание предлагает возможность движения вовне и за пределы гегельянской спирали того «прогресса», который по сути своей не более чем скрытый порочный круг. Surgo – подниматься, вставать. Insurgo — поднимать (ся), восставать. Операция информационной загрузки. Скажите «пока» этой убогой пародии на кармический цикл, «пока» исторической тщетности революций. Лозунг «Революция!» – был набат, а стал яд, вот такая мутация, пагубная псевдогностическая ловушка судьбы, кошмар, где без разницы, как мы боремся, – мы не убежим из этого злого Эона, от этого инкуба Государства, одного Государства за другим, где каждыми «небесами» правит ещё более злой ангел.
Если История ЕСТЬ «Время», как она заявляет, то тогда восстание – это момент скачка вверх и за пределы Времени, нарушающий «закон» Истории. Если Государство ЕСТЬ История, как оно заявляет, то тогда инсуррекция – это запретный момент, непростительное отрицание диалектики – вскарабкивание по шесту вверх из дымохода, шаманский приём, проведённый под «невозможным углом» к вселенной.
История говорит, что Революция достигает «перманентности» или хотя бы протяжённости, в то время как восстание «временно». В этом смысле восстание оказывается «пиковым опытом» в противоположность стандарту «обычного» сознания и опыта. Подобно празднествам, восстания не могут происходить каждый день – иначе они не были бы «неординарными». Но мгновения такой интенсивности придают форму и значение всей жизни. Шаман возвращается – ты не можешь вечно стоять на крыше – но всё поменялось, произошли сдвиги и интеграции – разница создана.
Вы возразите, говоря, что это совет отчаяния. А как же мечта анархистов, безгосударственное государство, Коммуна, постоянная автономная зона, свободное общество, свободная культура? Должны ли мы оставить эту надежду в обмен на некий экзистенциалистский acte gratuit[85]? Смысл в том, чтобы изменить не сознание, а мир.
Я принимаю это как справедливую критику. Но тем не менее выскажу два возражения; во-первых, революция сих пор никогда не увенчивалась исполнением этой мечты. Образ этой мечты возникает в момент восстания – но как только «Революция» торжествует и возвращается Государство, мечта и идеал уже оказываются преданными. Я не оставил надежду или даже ожидание перемен – но я не доверяю самому слову Революция. Во-вторых, даже если мы меняем революционный подход на концепцию восстания, спонтанно развивающегося в анархистскую культуру, наша собственная конкретная историческая ситуация окажется не столь благоприятна для такого колоссального предприятия. За исключением напрасного мученичества абсолютно ничего не может выйти из лобового столкновения с терминальным государством, с мегакорпоративным информационным государством, с империей Спектакля и симуляции. Их оружие нацелено на нас, в то время как наше скудное вооружение не находит для себя другой цели, кроме гистерезиса, застывшей пустоты, Призрака, способного задушить каждую искру в эктоплазме информации, общества капитуляции, управляемого образом Копа, и поглощающим оком телеэкрана.
Говоря вкратце, мы не навязываем ВАЗ как эксклюзивную самоцель, заменяющую все другие формы организации, тактики и задач. Мы рекомендуем её, потому что она может обеспечить те же достижения, что и восстание, без необходимости прибегать к насилию и мученичеству. ВАЗ похожа на восстание без прямых столкновений с государством, на партизанскую операцию, которая освобождает некое пространство (земли, времени, воображения), а затем самораспускается, чтобы реформировать где-то⁄когда-то другое место, прежде чем государство сможет сокрушить её. Поскольку государство прежде всего озабочено Симуляцией, а не сущностью, ВАЗ может скрытно «оккупировать» эти места и продолжать свои радостные устремления ещё некоторое время в относительном покое. Возможно, некоторые небольшие ВАЗ существовали в течение всей человеческой жизни, потому что оставались незамеченными, подобно анклавам хилл-билли[86], – поскольку они никогда не пересекались со Спектаклем и никогда не показывались за пределами той реальной жизни, что невидима для агентов Симуляции.
Вавилон принимает свои абстракции за реалии; именно в рамках этой ошибки ВАЗ и может возникнуть. Запуск ВАЗ может включать в себя тактику насилия и защиты, но её главная сила в её невидимости – Государство не может распознать её, так как История не даёт ей определения. Как только ВАЗ оказывается упомянута (представлена, втянута в посредничество), она должна исчезнуть, и она исчезнет, оставляя после себя пустую скорлупу лишь для того, чтобы снова прорости где-то ещё, снова невидимой, ибо неопределяемой в терминах Спектакля. Тем самым ВАЗ представляется превосходной тактикой в эру, когда Государство вездесуще и всемогуще и в то же время изрешечено трещинами и пустотами. И так как ВАЗ – это микрокосм «анархистской мечты» о свободной культуре, я не представляю себе лучшей тактики, которая бы одновременно и работала на достижение цели, и уже использовала некоторые из своих преимуществ здесь и сейчас.
Итак, реализм требует, чтобы мы отказались не только от ожидания «Революции», но и от желания её. «Восстание», да – как можно чаще, и даже с риском насилия. Конвульсии Симулируемого Государства будут «зрелищными», но в большинстве случаев самой лучшей и самой радикальной тактикой будет отказ участвовать в зрелищном насилии, удалиться от места симуляции, исчезнуть.
ВАЗ – это лагерь партизан-онтологистов: бей и беги. Продолжай перемещаться со всем своим племенем, даже если это всего лишь данные в Сети. ВАЗ должна уметь защищаться; но и «удар», и «защита» должны, насколько это возможно, уклоняться от насилия государства, которое уже больше не является насилием в прямом смысле слова. Удар наносится по структурам контроля, в особенности по идеям; защита— это «невидимость», боевое искусство, а «неуязвимость» – «оккультное» искусство в рамках боевых искусств. «Кочевая машина войны» завоёвывает, оставаясь незамеченной, и идёт дальше, прежде чем скорректируют карты. Что же до будущего – лишь автономные могут планировать автономию, организоваться ради неё, творить её. Это операция начальной загрузки. Первый шаг чем-то родственен сатори[87] — осознанию того, что ВАЗ начинается с простого акта осознания.
Психотопология повседневной жизни
Концепт ВАЗ вырастает прежде всего из критики Революции и одобрения Восстания. Первое понятие навешивает на второе ярлык провала; но для нас восстание представляет гораздо более интересную возможность с точки зрения требований психологии освобождения, чем все «успешные» революции буржуазии, коммунистов, фашистов и т. п.
Вторая порождающая сила, стоящая за ВАЗ, возникает из исторического развития, которое я называю «закрытием карты». Последний кусочек Земли, на который не претендовало ни одно национальное государство, был поглощён в 1999 году[88]. Наш век – первый, где отсутствует terra incognita, где нет фронтира. Национальная принадлежность – вот верховный принцип мирового управления: ни одна скала в Южных морях не может оставаться никем не присвоенной, ни одна отдалённая долина, ни даже Луна и планеты. Это апофеоз «территориального бандитизма». Ни один квадратный дюйм Земли не остаётся без полицейского контроля и обложения налогами… в теории.
«Карта» – это абстрактная политическая сетка, гигантская афера, навязываемая кнутом и пряником «экспертного» Государства, пока для большинства из нас карта не становится территорией – уже не «Островом Черепахи»[89], а «США». Однако поскольку карта является абстракцией, она не может покрыть всю землю с точностью 1:1. Во фрактальных сложностях настоящей географии карта видит лишь пространственную сетку. Спрятанные в складках безмерности ускользают от измерительной линейки. Карта не точна, карта не может быть точной.
Итак, Революция закрыта, но восстание – нет. Пока мы концентрируем свои силы на временных «всплесках энергии», избегая всех затруднений, связанных с «постоянными решениями».
И – карта закрыта, но автономная зона открыта. Метафорически она разворачивается во фрактальных измерениях, невидимых для картографии Контроля. И здесь нам следует ввести понятие «науки» психотопологии (и психотопографии) в качестве альтернативы «науке» надзора и картографирования Государства и «психическому империализму». Только психотопография способна чертить карты 1:1, так как лишь человеческий разум в достаточной мере сложен для моделирования реальности. Но карта масштаба 1:1 не может «контролировать» эту территорию, поскольку она внешне ей идентична. Она может использоваться лишь для того, чтобы предложить (в смысле указать на) некоторые характерные особенности территории. Мы ищем «пространства» (географические, общественные, культурные, воображаемые), обладающие потенциалом расцветать в форме автономных зон – и мы ищем времена, где эти пространства относительно открыты либо по недосмотру Государства, либо потому, что им как-то удалось остаться незамеченными картографами, или ещё по какой-либо причине. Психотопология – это искусство лозоходства в поисках потенциальных ВАЗ.
Закрытия Революции и карты – это, однако, единственные исходящие из отрицания источники появления ВАЗ; но необходимо сказать многое и об их позитивных источниках. Одно лишь противодействие не может обеспечить энергию, необходимую для «проявления» ВАЗ. Восстание должно быть также восстанием за что-то.
1. Во-первых, можно говорить о естественной антропологии ВАЗ. Нуклеарная семья – это основная ячейка общества консенсуса, но не в случае ВАЗ. («Семьи! – как я ненавижу их! Скряги любви!» – Жид[90].) Нуклеарная семья с её сопутствующими «эдиповыми мучениями», как кажется, является изобретением эпохи неолита, ответом на неолитическую «сельскохозяйственную революцию» с навязанными ею нуждой и иерархией. Палеолитическая модель одновременно и более первозданная, и более радикальная – человеческое стадо. Такая типичная кочевая или полукочевая праобщина охотников/собирателей состоит из примерно 50 человек. В рамках более крупных племенных обществ эти группы представлены кланами или объединениями, такими как общества инициации или тайные союзы, сообщества воинов или охотников, женские и мужские союзы, «республики детей» и т. п. Если нуклеарная семья была порождена нуждой (и оборачивается скаредностью), то родовая община порождена изобилием – и оборачивается расточительностью. По мнению генетиков, семья закрыта из-за мужского обладания женщинами и детьми, из-за иерархической тотальности аграрного/индустриального общества. Праобщина же открыта — не для всех, конечно, но для группы единомышленников, для новых членов, связанных узами любви. Такая группа является не частью более крупной иерархии, а скорее, частью горизонтальной структуры обычаев, расширенного родства, договорённостей и союзов, духовной приверженности и т. д. (Даже сейчас общества американских индейцев сохраняют определённые аспекты такой структуры.)
В нашем собственном Обществе пост-Спектакля и Симуляции многие силы работают – в основном невидимо – чтобы постепенно упразднить нуклеарную семью и возродить родовые группы. Неполадки в структуре Работы отзываются в расстройстве «стабильности» единицы-дома и единицы-семьи. Чьё-то «стадо» теперь включает друзей, бывших супругов, любовников и любовниц, людей, встреченных на различных работах и собраниях, единомышленников, сети по особым интересам, почтовые рассылки и т. д. Нуклеарная семья всё более явно становится ловушкой, культурной ямой, тайным невротическим взрывом разобщённых атомов – и спонтанно возникает очевидная контрстратегия из почти неосознанного переоткрытия более архаичных, но также и больших постиндустриальных возможностей этого человеческого стада.
2. ВАЗ как праздник. Стивен Перл Эндрюс[91] однажды предложил в качестве образа анархистского общества вечеринку с застольем, где вся структура власти растворяется в пиршестве и празднестве. Здесь мы также можем вспомнить Фурье и его идею о чувствах как основе общественного становления – «половой охоте» и «гастрософии» и его осанне игнорируемым чувствам обоняния и вкуса. Античные понятия юбилея и сатурналии происходят из интуитивного ощущения, что некоторые события лежат за пределами «профанного времени», измерительных стержней Государства и Истории. Эти праздники буквально заполняли пробелы в календаре – были вставленными интервалами. Ко времени Средних веков почти треть всех дней в году была отдана под праздники. Возможно, бунты против реформ календаря связаны не столько с «одиннадцатью потерянными днями», сколько с ощущением, что эта имперская наука покушается на закрытие таких пробелов в календаре, где были собраны свободы народа – заговор, картографирование года, захват самого времени, обращение органического космоса в механическую вселенную. Смерть праздника.
Участники восстания неизменно отмечают его праздничные аспекты даже посреди вооружённой борьбы, опасности и риска. Восстание похоже на сатурналию, которая выскользнула (или её принудили исчезнуть) из своего вставленного интервала и теперь на свободе возникает где и когда захочет. Освобождённая от времени и места, она, тем не менее, хорошо чует, какие события вызрели, и привязана к genius loci[92]; наука психотопологии указывает на «потоки сил» и «места силы» (если использовать метафоры оккультистов), которые локализуют ВАЗ во времени и пространстве или, по крайней мере, помогают определить её отношение к моменту и месту действия.
Медиа приглашают нас «прийти отпраздновать особые моменты вашей жизни», ложно объединяя товар и спектакль, знаменитое не-событие чистой репрезентации. В ответ на это непотребство у нас есть, с одной стороны, целый спектр отказов (записанных ситуационистами, Джоном Зерзаном, Бобом Блэком и др.) – а с другой, возникновение культуры праздное аний, убранной и даже спрятанной от людей, которые претендуют на то, чтобы быть менеджерами нашего досуга. «Борись за право праздновать» – это действительно не только пародия на радикальную борьбу, но и её новое проявление, подобающее эпохе, в которой телевизоры и телефоны предлагаются как средства «связываться и соприкасаться» с другими людьми, как средства «Быть Там!».
Перл Эндрюс был прав: вечеринка с застольем – это уже «зародыш нового общества, формирующийся под скорлупой старого» (Преамбула «Индустриальных рабочих мира»). «Сбор племён» в духе шестидесятых, лесное собрание экосаботажников, идиллический Белтейн[93] неоязычников, конференции анархистов, «круги фей»[94] в гей-движении… Гарлемские домашние вечеринки двадцатых, ночные клубы, банкеты, старомодные пикники либертарианцев – нам нужно понять, что всё это уже своего рода «освобождённые зоны», или, по крайней мере, потенциальные ВАЗ. Открытая ли только для немногих друзей, как застолье, или для тысяч празднующих, как на сборищах хиппи, вечеринка всегда «открыта», потому что она не «заказывается»; её можно запланировать, но если она не происходит «случайно» — это провал. Критически важен элемент спонтанности.
Суть вечеринки: лицом к лицу, группа людей синергизирует свои попытки осуществить совместные желания, будь это хорошая еда и веселье, танцы, беседа, искусство жить, может быть даже эротические удовольствия, или создание общественного произведения искусства, или же достижение самого порыва удовольствия – короче говоря, «союз эгоистов» (как писал Штирнер) в своей простейшей форме – или, в терминах Кропоткина, простой биологический импульс к «взаимопомощи». (Здесь нам также стоит вспомнить «экономику невоздержанности» Батая и его теорию культуры потлача.)
3. Жизненно важным в формировании реальности ВАЗ является понятие психического номадизма (или как мы в шутку называем его, «безродного космополитизма»). Аспекты этого феномена рассматривались Делёзом и Гваттари в книге «Номад ология и военная машина», Лиотаром в его эссе 1970–1972 годов, переведённых и опубликованных на английском в сборнике «Дрейф» и многими другими авторами в сборнике «Оазис» издательства “Semiotext (е)”. Здесь мы используем термин «психический номадизм», а не «городской номадизм», «номадология», «дрейф» и т. д., просто с целью собрать все эти концепты в один свободный комплекс, который можно было бы изучать в свете возникновения ВАЗ.
«Смерть Бога», в некотором роде децентрирование всего «Европейского проекта», открыла постидеологическую картину мира со многими перспективами, способную «безродно» перейти от философии к племенному мифу, от естественной науки к даосизму – картину, способную впервые посмотреть глазами, скажем, некого золотого насекомого, где каждая фасетка глаза даёт картину совсем другого мира.
Однако такое ви́дение было достигнуто за счёт проживания в эпоху, где скорость и «товарный фетишизм» создали тираническое ложное единство, стремящееся затемнить всё культурное разнообразие и индивидуальность, так чтобы «одно место было ничуть не лучше и не хуже другого». Этот парадокс порождает «цыган», психопутешественников, которыми движет желание или любопытство, странников с нетвёрдыми лояльностями (наделе нелояльных к «Европейскому проекту», потерявшему всю свою привлекательность и жизненную силу), не привязанных ни к какому конкретному времени и месту, ищущих разнообразия и приключений… Такое описание подходит не только артистам и интеллектуалам экстра-класса, но также гастарбайтерам, беженцам, «бездомным», туристам, путешественникам в кемперах и в целом культуре мобильных домов – и тем, кто «путешествует» в Сети, но при этом может никогда не покидать своих комнат (или подобным Торо[95], который «много путешествовал – по родному городку Конкорд»); и, наконец, оно включает «каждого», всех нас, живущих своими автомобилями, своими отпусками, своими телевизорами, книгами, фильмами, телефонами, сменой работ, «образов жизней», религий, диет и т. д. и т. п.
Психический номадизм как тактика, то, что Делёз и Гваттари метафорически называют «машиной войны», переводит этот парадокс из пассивной формы в активную, может быть даже «насильственную». Последние конвульсии и предсмертные хрипы «Бога» происходят уже такое долгое время – в форме капитализма, фашизма и коммунизма, например, – что потребуется ещё немало «творческого разрушения» прежнего Консенсуса постбакунистскими постницшеанскими диверсантами или апашами (буквально – «врагами»). Эти кочевники практикуют набеги, они корсары, они вирусы; у них есть потребность и желание создавать ВАЗ, лагеря из чёрных палаток под звёздами пустынь, интерзоны, сокрытые укреплённые оазисы на тайных караванных путях, «освобождённые» кусочки джунглей и пустырей, закрытых территорий, чёрных рынков и подземных базаров.
Эти кочевники строят свои маршруты по незнакомым звёздам, которые, быть может, суть светящиеся кластеры данных в киберпространстве, а может быть галлюцинации. Разложите карту земли; над ней составьте карту политических перемен; над ней – карту Сети, в особенности Контрсети с её упором на скрытые информационные потоки и логистику – и, наконец, над всеми ними – карту творческого воображения, эстетики, ценностей масштабом 1:1. Получившаяся сетка наполнится жизнью, её оживят непредсказуемые вихри и волны энергии, коагуляции света, тайные туннели, неожиданности.
Примечания к разделу «Утопия»
1 См.: Плеханов Г.В. Анархизм и социализм ⁄ Предисл. Л. Дейча. Краснодар: Буревестник, 1924. Цитаты из этой кн. употребляет Рут Кинна, см.: Kinna R. Anarchism. P. 99. Сам Плеханов был прежде анархистом.
2 «Вы спросите меня, что такое “свободное общество”, как оно устроено и как оно может быть возможно. Я не дам вам ответа на этот вопрос, ибо кому дано видеть дальше своего собственного времени?», см.: Bauer Е. Critique’s Quarrel with Church and State // The Young Hegelians: An Anthology // Ed. L.S. Stepelevich. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 271 (впервые опубл, в 1844 г.).
3 См.: Tainter J.A. The Collapse of Complex Societies. Cambridge, England & New York: Cambridge University Press, 1988; Diamond,J. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. London: Viking Adult, 2004. От этих кн. я получил безмерное наслаждение.
4 См.: Diamond S. In Search of the Primitive. P. 205, 207, 256.
5 См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 217.
6 См.: Kintz Т. Introduction ⁄⁄ Zerzan J. Running on Emptiness. P. xiii.
7 См.: Black В. Afterthoughts on the Abolition of Work. P. 190–192.
8 См.: Barclay H. People Without Government. P. 50–96.
9 См.: Ле Гуин У. Обделённые ⁄ Пер. с англ. И. Тогоевой. Рига: Полярис, 1997 (впервые опубл, в 1974 г.), научно-фантастический роман с подзаголовком «Двусмысленная утопия». Кн. задумывалась как анархистская утопия, но она не слишком анархистская и не слишком утопическая – за исключением того, что это, подобно большинству утопий, скучное чтиво, см.: Black В. Afterthoughts on the Abolition of Work. P. 225–228.
10 См.: Berneri M.L. Journey Through Utopia. London: Freedom Press, 1982. P. 3 (впервые опубл, в 1950 г.).
11 В качестве примера см.: Burke Е. A Vindication of Natural Society // Liberty and the Great Libertarians // Ed. Ch.T. Sprading. San Francisco, California: Fox & Wilkes, 1995. P. 33–42; Claes G. Introduction // Utopias of the British Enlightenment / Ed. G. Claes. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. xii.
12 См.: Уайльд О. Душа человека при социализме ⁄⁄ Уайльд О. Поли. собр. прозы и драматургии в одном томе ⁄ Пер. с англ. О. Кириченко. М.: Альфа-книга, 2008. С. 957.
13 См.: Black В. (Ass)holism ⁄⁄ The Abolition of Work and Other Essays. P. 46 (впервые опубл, в 1979 г.).
14 См.: Baldelli G. Social Anarchism.P. 113–118.
15 См.: Букчин M. Социальный анархизм или анархизм образа жизни. С. 38.
16 См.: Веу Н. T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. Brooklyn, New York: Autonomedia, 1991. P. 43–47.
17 См.: Zerzan J. Hakim Bey, Postmodern “Anarchist” // Zerzan J. Running on Emptiness. P. 144–146.
18 См.: Bey H. Black Crown & Black Rose: Anarcho-Monarchism & Anarcho-Mysticism // T.A.Z. P. 67–69; Букчин M. Социальный анархизм или анархизм образа жизни. С. 42.
19 См.: Штирнер М. Единственный и его собственность. С. 294.
20 См.: Там же. С. 223–225.
XII. Заключение: с небольшой помощью моих друзей
Какой бы откровенно и неизбежно «личной» ни была эта антология, подходя к её завершению, я хотел бы сделать её ещё более личной, вне зависимости от выбранных мной тематических разделов. Мой окончательный выбор пал на тексты, написанные лично знакомыми мне анархистами (за исключением Фреди Перлмана), активными в 1970-х и 1980-х годах, с которыми я переписывался и вместе проводил время. Они, как и я, относились к тем, кого я полусерьёзно называю «анархистами третьего типа» – ни левыми, ни правыми – они атипичного типа1. Как правило, они не писали художественные произведения, но в этом разделе предстают рассказчиками.
Майкл Велли (т. е. Макиавелли) – таков был псевдоним, под которым Фреди Перлман написал «Руководство для революционных вождей». «Государь» Макиавелли был руководством, поучающим деспотов, как им удерживать и усиливать свою власть. «Руководство» же Велли было полунасмешливой-полусерьёзной демонстрацией «современной модели революции», основанной на примерах захвата власти партиями авангардного типа в XX веке. Местами в тексте встречаются скрытые цитаты из таких успешных революционеров новейшего времени, как Ленин, Сталин, Гитлер и Мао, а также недавних неудачливых американских революционеров из числа «новых левых». Многие левые восприняли эту книгу всерьёз и рукоплескали ей – пока, во втором издании, они не обнаружили, кто именно там цитировался. Если у вас отсутствует чувство иронии или юмора – если вам нравятся Мюррей Букчин и Ноам Хомский – то не иначе как вы просто глупец в политическом смысле.
Перемежаясь с сознательно вычурным политическим анализом, в книге приводятся краткие описания неудач, которые могут обрушиться на головы революционных вождей после революции, если революция была совершена не в соответствии с «современной моделью», а спонтанно, начинаясь как «сопротивление, приобретающее форму непрерывно меняющегося ответа на неуклонное развитие производительных сил»2. В этом разделе я привожу одну из таких сценок.
Грегор Томц в 1980-e годы был словенским панкующим анархистом-интеллектуалом, а значит, и югославским политическим диссидентом. Сейчас он исследователь-социолог. Именно он, будучи с визитом в США, рассказал мне, что «в левых странах очень мало левых». Часть своего детства он провёл в Нью-Йорке, где его отец работал «журналистом», то есть, другими словами, шпионом, направленным в штаб-квартиру ООН. Вот почему он свободно владеет английским языком, языком, на котором и был написан его рассказ. Кроме того, он в совершенстве овладел марксистско-ленинским жаргоном, что также хорошо видно из его рассказа – а это политическая порнография – написанного, вероятно, в 1989 году. У Грегора Томца и Лена Брэкена, как порнографов, сыновей шпионов и анархистов, есть кое-что общее.
Джерри Рейт, мой добрый друг, скончался, по всей видимости, в результате суицида в 1д8д году, незадолго до своего 25-го дня рождения. Уединённо живя в небольшом городке штата Вайоминг, он по почте развил интенсивную интеллектуальную деятельность (одним из его друзей по переписке был Грегор Томц, а другим – Джон Зерзан) – он был, по моему выражению, квинтэссенцией маргинала3. Как мне много позже сказала его сестра, Джерри Рейт был бы страстным фанатом Интернета. Будучи изначально «либертарианцем» в современном американском, свободнорыночном смысле этого слова и не отказываясь от этого до конца, Рейт стал анархистом третьего типа. Я не знал никого, кто бы так сильно ненавидел государство, как он. «Корни современного страха» – это, конечно же, притча о государстве. Этот текст напоминает работу «Цивилизация подобна реактивному самолёту» Дэвида Уотсона, написанную примерно в то же время.
Содержание раздела «Заключение»
Майкл Велли. Руководство для революционных вождей (пер. с англ. В Садовского по: Velli М. Manual for Revolutionary Leaders. 2d ed. Detroit, Michigan: Black & Red, 1974. P. 146–150; впервые опубл, в 1972 г.).
Грегор Томц. Взлёт, падение и повторное падение фальшивого Рейха (пер. с англ. А. Макарова по: Томс G. The Rise, and Fall, and the Repeated Fall of a False Reich // Neutron Gun / Assembled by G. Reith. 2d ed. Ann Arbor, Michigan & New York: Neither/Nor Press, 1987. P. 37–47).
Джерри Рейт. Корни современного страха (пер. с англ. С. Михайленко по: Reith G. The Roots of Modern Terror // Rants and Incendiary Tracts: Voices of Desperate Illumination: 1558 to Present / Ed. B. Black & A. Parfrey. New York: Amok Press & Port Townsend, Washington: Loompanics Unlimited, 1989. P. 192–194).
Руководство для революционных вождей
Майкл Велли
В дореволюционные времена тот ресторан, где сейчас обедает активистка, был крайне дорогим и угождал исключительно богатым постоянным клиентам. В ходе восстания его превратили в бесплатный местный ресторан самообслуживания. После того как отгремели сражения на баррикадах, открывавшиеся в округе новые рестораны стали брать себе за образец оснащение, чистоту и качество еды в этом ресторане.
Давайте предположим, что наша революционная активистка, привыкшая каждый день обедать в этом ресторане по причине превосходного качества его блюд, никогда доселе не задавалась вопросом о том, как в этом ресторане принимаются решения. Может быть, она просто допускала, что в этом заведении работает чрезвычайно хорошо организованный персонал, а именно действует Совет рабочих, а также Комитет Совета, то есть узкая группа, координирующая и организующая чётко поставленные задачи различных работников. Или же она могла предположить, что деятельность ресторана просто продолжала контролироваться и направляться кем-то из дореволюционных менеджеров и шефов. Во всяком случае, именно в этот обеденный перерыв она намеревается выяснить, какой из этих двух вариантов действительно верен. Она решает, что после того как поест, сходит на кухню, чтобы получить со слов менеджера или директора полное представление о политической структуре ресторана.
Доступ на кухню открыт для всех. Плакат рядом с кухонной дверью даже специально приглашает гостей посетить кухню, дабы ознакомиться с тем или иным способом приготовления пищи и стать тем самым немного более опытным в своих собственных кулинарных занятиях. Но, разумеется, наша активистка никогда не собиралась проводить уйму часов за готовкой, ведь организационные вопросы занимали всё её драгоценное рабочее время.
Даже имея такой повод, она заходит на кухню не в ответ на плакат, приглашающий поваров-добровольцев, но для того, чтобы ознакомиться с вопросами, которые могут представлять интерес для Партии. Поколебавшись у входа, думая о той неловкости, которую у неё могут вызвать просьбы помочь, она всё же подавляет опасения и подходит к человеку, раскатывающему тесто: «Вы не могли бы мне сказать, кто здесь управляющий?»
Мужчина бросает на неё странный взгляд, разражается смехом и кричит остальным: «А вот и ещё одна из старорежимных! Ну-ка, кто ей скажет, где управляющий?»
Женщина, посыпающая сырной крошкой жареные бобы, спрашивает у активистки: «Сестра, это правда? Ты действительно хочешь, чтобы я сказала тебе, где управляющий?»
– Я никакая не старорежимная, – возражает активистка, – я состою в революционной организации и была её членом ещё задолго до революции. У меня есть важные вопросы, и мне бы хотелось поговорить с заведующим, с руководителем.
– Ну, так подходи и спрашивай, – отвечает женщина с сыром. – На вопросы любой из нас может ответить. И если ответа не знаю я, то его может знать кто-то другой.
– Да, вот так мы тут всё и делаем, – добавляет мужчина, моющий тарелки.
Лицо активистки краснеет, на мгновение ей захотелось убежать на улицу. Но ей удаётся взять себя в руки. «Вот что я хочу узнать, – говорит она, поворачиваясь то к одному, то к другому. – Я бы хотела спросить, как организованы дела в ресторане».
– А что такое? – переспрашивает женщина.
– Ну, к примеру, когда был организован Совет рабочих, когда были избраны члены Комитета Совета и сколько в нём состоит людей…
– А они не были, – отвечает женщина.
– Они… что?
– Насколько я знаю, ничего такого у нас никогда не организовывали, – говорит женщина.
– То есть как?
– Ага, вот так, – добавляет помешивающий суп мужчина. – Нам объяснили, что всё это ерунда.
– Вы хотите сказать, – обращается активистка к женщине с сыром, – что дореволюционная организация и персонал в этом ресторане остались нетронутыми?
– Я тебе расскажу о дореволюционном персонале, – говорит мужчина с тарелками. – Было три человека, которые всё время мыли тарелки и никогда больше ничем не занимались. Были профессиональные чистильщики овощей, люди, готовившие салаты, специалисты по супам, двое рубщиков мяса, пекарь на полную ставку, менеджер по доставке и его помощник, а ещё кладовщик, пятеро сутенёров, эти ничем другим, кроме сводничества, не занимались, куча профессиональных сборщиков грязной посуды, несколько бригад официантов – по мясу, по вину, и просто те, кто только раскланивался. Никого из этих дореволюционных работников уже здесь нет. Думаю, никто из них даже видеть ресторан больше не захочет.
– Но кто же тогда координирует производство, кто планирует?
– В смысле, что случилось с остальными из того дореволюционного состава? Расскажу и о них тоже. Я тогда мясо сюда доставлял. И привык наблюдать за этими «лучшими». Они, бывало, сюда приходили есть, как они говорили, в «свой собственный» ресторан. Прежде всего, был один, кого они называли Инвестор. Говорили, он выдавал чеки остальным, пока обедал. Один из тех, кому он передавал деньги, был важной шишкой. Он был «по ресторанам» и ещё много где. Тощий человечек, никогда, должно быть, не прикасавшийся к тесту, был «по хлебу». «Я по хлебу», – говорил он, когда пожимал кому-нибудь руку. А ещё один был «по мясу и птице».
– Мы в революционной организации знаем всё это, – возражает активистка.
– А вот и не знаете, – настаивает мужчина. – Тот, что был «по ресторанам», его ещё Большим Боссом называли, – он по-прежнему нас навещал, когда дела начали меняться. Еда была бесплатной, и никто не возражал, что он здесь обедает. Он всегда сидел один за столиком и продолжал сидеть за ним, даже когда все другие уходили. Похоже было, что он не хочет возвращаться на улицу. Может быть, боялся, что толпа кинется преследовать его с криками: «Вот он, вор-капиталист – пристрелите его!» Однажды вечером, когда я тут выпечкой занимался, он даже прошёл на кухню и спросил, не может ли он тут кем-нибудь работать. Вы всего этого не знаете! Вы не знаете, что тот, кто был «по ресторанам», тот, кто якобы «кормил тысячи человек каждый день», тот, кого называли Большой Босс, – этот человек даже не знал, как ему яйцо сварить! Должно быть, всё, что он знал, это только как чеки в банк отсылать. А когда банки закрылись, оказалось, он ничего-то и не знает! Я ему сам сказал, что все будут рады, если он не будет по кухне помогать, и что никто не против, чтобы он тут столовался. А он всё приходил каждый день, пока бои ещё продолжались, но после разгрома армии уже больше не вернулся.
Активистка заметно раздражена и понимает, что эти люди чрезвычайно уклончивы.
– Сказать по правде, мне совсем неинтересна бывшая капиталистическая организация ресторана. Я так много изучала общественные отношения и классовую структуру капитализма, что меня уже тошнит от этого! Я же хочу знать – как организовано это эффективное предприятие сейчас – кто координирует его работу, кто заказывает продукты, кто планирует блюда. Другими словами, кто этим всем руководит, если не Совет рабочих, направляемый Комитетом Совета?
– Сестра, – отвечает женщина, – если кто-то из нас не может чего-то сделать, то это просто не будет сделано.
– Это не ответ! – обрушивается на неё активистка. – Я понять не могу, почему вы так враждебно воспринимаете мои вопросы, почему вы так увиливаете. Я не настолько глупа, чтобы поверить, будто ресторан хоть один день может проработать без организации. Мне, кстати, известно, из чего делается хлеб! Конкретный человек должен решить, сколько хлеба должно быть испечено, чтобы знать, сколько муки ему надо заказать. В свою очередь, кто-то на мельнице отвечает за координацию их запросов с сельскохозяйственным руководством, поставляющим зерно. То же самое и с мясом, и с овощами – не говоря уж о вашем новейшем оборудовании! Для всего этого нужны координаторы, организаторы, составители планов!
Пекарь поворачивается к ней и, будто цитируя философское сочинение, медленно произносит:
– Внутри самого производственного процесса, там, где зарождаются производительные силы, возможности современного существования человечества не были истощены предыдущими формами общественной активности.
– Это невыносимо! – кричит активистка.
– А вы можете сварить яйцо? – спрашивает мужчина, помешивая суп.
– Вы все лжёте! – взвизгивает она. – Производственная деятельность такого масштаба просто невозможна без постоянного персонала, без координаторов и организаторов, без вождей. Эти задачи нельзя оставлять на волю случая! Это прямые задачи организации. Ради стабильности и порядка развитие производительных сил должно быть под контролем.
– Но разве вы слышали, чтобы кто-то голодал во время восстания или после него? – кричит ей в ответ женщина с сыром. – Разве вы слышали, чтобы пища перестала выращиваться из-за потери управленцев? Разве пищу перестали распределять из-за того, что координаторы не прибыли? Разве мы такие дураки, что не знаем, как получить муку с мельницы для пекарни?
– Если все эти процессы идут, – орёт активистка, – это всего лишь доказывает, что должны существовать Советы и Комитеты, координирующие и направляющие их.
– А если их нет, – резко отвечает женщина, – нам что же, голодать, пока они не появятся?!
В ответ на это активистка в гневе вылетает из кухни. У выхода из ресторана на улицу она оборачивается к людям, всё ещё беседующим за столиками. Она поднимает кулак и выкрикивает: «Вся власть Советам Рабочих! Вся Власть Комитетам Совета!» Никто не поворачивается, чтобы взглянуть на неё. Люди просто продолжают свои разговоры.
Взлёт, падение и повторное падение фальшивого Рейха
Грегор Томц
Эрекция
В которой мы обнаруживаем, что в мире ничего не встаёт так крепко, как правда на Рассвете.
«Женни, вот и они, – воскликнул он. – Приберись-ка, а то тут словно помойка. И передай детям, чтобы духу их здесь не было».
«Боже, да не нервничай ты так». Она дала детям денег и проводила их до пожарного выхода, быстро протёрла стол и разложила набор для игры в «Монополию». Как раз, когда она разливала вино по бокалам, Фридрих и Лиззи зашли в их квартиру на втором этаже в доме на рю де Рюс.
Карл и Фридрих принялись меняться своими женщинами с тех пор, как обосновались в Брюсселе. Это происходило примерно так: они играли в «Монополию», выпивали и разговаривали, в основном о политике, в основном говорил Карл. Когда Женни и Лиззи начинали всерьёз проявлять недовольство, Карл отводил Лиззи, а Фридрих – Женни, каждый в свою отдельную комнату. Особой пикантности всему этому добавляло то, что ни одна пара не предавалась любовным ласкам на виду у другой, никогда не говорила скабрезностей, даже никогда не намекала на то, что, как все знали, сейчас начнётся. Пока они играли, в атмосфере всегда царил дух добросердечия и благопристойности. Но когда дамы начинали зевать, двое кавалеров воспринимали это как сигнал к действию. (Зевали ли Женни и Лиззи потому, что просто им наскучивала игра, или так они старались намекнуть, что им нужно хорошенько перепихнуться? Историки диалектического материализма на сей счёт умалчивают. Но давайте вернёмся к нашему рассказу.)
Поначалу Женни было с ним нелегко. Не то чтобы кровати были слишком тесными, в конце концов, всегда можно было заняться этим и на полу. Главной проблемой было то, что его член был крупнее и твёрже того, к которому она успела привыкнуть в давние трирские денёчки, а Фридрих обрабатывал её мощными фрикциями. Но её сочная щёлка скоро привыкла к его гигантскому стволу, и хотя ей было нелегко брать в рот, а ещё сложнее принимать весь его нектар, струёй извергавшийся в её горло и стекавший с уголков её рта, так как она никогда не любила сглатывать, так вот, несмотря на всё это, она страстно хотела, чтобы Карл отрастил себе такой же елдак.
Лиззи же была привычна к более регулярным занятиям любовью с этим жеребцом из Бармена, однако она утешала себя тем фактом, что Карл лучше умел делать куни, или, по крайней мере, занимался этим с большей готовностью, чем её собственный муж.
Женни разделась. Она встала на колени перед Фридрихом в своих панталонах с ластовицами, полупрозрачном лифчике и чёрных чулках, поддерживавшихся алыми подвязками; руками, дрожащими от пьянящего желания, она с большим трудом расстёгивала его ширинку. Она постанывала и тяжело дышала, пока, наконец, не высвободила его член и принялась неистово сосать.
В соседней комнате Карл как раз принялся ласкать киску Лиззи, размышляя при этом, почему это Женни никогда не стонет так же, занимаясь любовью с ним. Пока он думал, его стояк становился всё слабее и слабее. Ему пришло в голову, что Фридрих напрашивается на месть.
И только Карл принялся обдумывать варианты мести, когда раздался громкий стук в дверь. «Чёрт побери, – подумала Женни, – если это дети, я прибью их».
«Надеюсь, это не Мэри», – подумал Фридрих, вынимая свой тугой жезл из мягкой складочки Женни.
«Где это я?» – встрепенулась Лиззи – продолжающийся стук разбудил её.
«Слава богу», – подумал Карл, шагая сначала по коридору, а потом к двери, так и оставаясь в одних носках.
На пороге стояли двое полицейских. Они предъявили ордер, подписанный самим королём, который гласил, что Карл и вся его семья должны покинуть территорию Бельгии в течение 24 часов. Причина: эксгибиционизм.
* * *
На следующий день их депортировали до французской границы, откуда они проследовали в Париж. Они поселились в «Частных апартаментах» на третьем этаже дома на рю Морг в самом центре города. Карл не мог позволить себе такого, так что счёт оплатил Фридрих.
Однажды утром, после безвкусного завтрака, мучаясь похмельем от множества бокалов дешёвого французского вина, выпитого прошлым вечером, Карл поднимался по лестнице, отделявшей его от возможности вздремнуть, когда ему на глаза попалась одна из горничных, шедшая по своим делам.
«Эй, Ами, будь так добра, помоги-ка мне раздеться, – сказал он ей на своём французском с сильным акцентом. – Каждый раз как поем, одежда меня просто душит».
Ами раскраснелась, не зная, что ей делать. Из страха потерять свою работу она боялась обидеть его, но, с другой стороны, вид этого косматого седовласого мужчины с большим брюхом и гнусной вонью, исходящей изо рта, был ей отвратителен. Она была совсем не против небольших шалостей время от времени; при её скудном жалованье денежные подарки от господ были весьма подходящей прибавкой, но ведь должны же у девушки быть какие-то принципы. Пока она взвешивала все доводы за и против секса с ним, Карл уже решил за неё. Он взял её за руку, и прежде чем девушка успела осознать, она уже снимала с него одежду. Однако просто полежать голым на кровати (как на то втайне надеялась Ами) Карлу для хорошего досуга было явно недостаточно.
– Ну-ка, поцелуй меня, шлюшка. И снимай свои обноски. Я же по твоим глазам вижу, как ты хочешь со мной в койку.
– А что я с этого получу? – спросила Ами с некоторой дерзостью.
– Да заплачу я тебе, сучка. Всё зависит от твоего умения и старания.
Ами препоручила себя своей судьбе. Она решила отделаться от него как можно скорее. Она брала его член в свои руки, в рот, обращалась к нему, говорила с ним, пыталась убеждать, проклинала его, наконец, упрашивала его, но почти без всякого эффекта. Ей-таки удалось привести его в слегка эрегированное состояние и успеть сразу же запихнуть его в себя, пока он случайно не поменял настроение. Только с помощью своих вагинальных мышц она удерживала его внутри. Будучи не из слабых, она вся покрылась потом и была на грани изнеможения, когда он, наконец, достиг оргазма. Он так ничего не изверг из себя – единственный плюс в этой ситуации, как она вспоминала потом.
– Держу пари, Эмма, это был лучший трах в твоей жизни, – похвастался Карл, всё ещё с трудом хватая воздух.
– Как скажете, партнёр. Так что насчёт денег, которые вы обещали мне заплатить? Вам ведь понравилось, не так ли?
В ответ Карл лишь разразился смехом. Он поднялся и принялся надевать свои штаны. «Я ещё не разобрался с твоими стараниями и умениями. Нам стоит повторить наш небольшой эксперимент ещё пару раз». Он засмеялся от собственного остроумия.
Она тоже выдала несколько саркастических смешков. «Да-да, как мило. Но мне-то что с того?»
Карл уже получил, что хотел, от этой неблагодарной юной особы. Он велел ей убираться. Она начинала действовать ему на нервы, тогда как ему уже следовало бы заниматься своей книгой о классовой войне во Франции.
Ами решила отомстить. Сначала она хотела найти где-нибудь нож и ударить им его, но подумав, решила действовать рациональнее. Вместо этого она взяла телефон и вызвала жандармов. Она рассказала им всё об этом человеке, пытающемся развязать классовую войну в одной из комнат на третьем этаже «Частных апартаментов». Полицейские практически сразу оказалась на месте преступления, занялись расследованием и на всякий случай арестовали Карла. На следующий день его вместе со всей семьёй депортировали в Германию, где они поселились в Кёльне. С тех пор Ами больше ничего не слышала о нём. Но, конечно же, это был не последний раз, когда мир слышал о Карле Марксе.
Пенетрация
С древних времён и до наших дней единство возникает путём жестокости и очищения, которые отличают нас от прочих животных.
Семьюдесятью годами позже двое невысоких и довольно коренастых мужчин среднего возраста гуляли по улицам Москвы, заключив друг друга в тёплые объятья. Был День Эрекции, страна жила в период Новой Экономической Программы – Нэпушки, как её нежно называли революционные массы. В те дни в первой стране социализма было много свободного капиталистического предпринимательства.
«Ух-ты, Владимир, только взгляни на этого монстра!» – закричал младший из этих людей, похожих на птицеводов. Они остановились перед фасадом колоссального Центра Всенародного Эроса, располагавшегося на месте бывшей православной церкви, стоявшей на Красной площади. Громадина, привлёкшая внимание Иосифа, и столь восхитившая его, представляла собой колоссальный член из пластика, демонстрировавшийся на красном подиуме посреди нарядов для бондажа, плетей, надувных кукол, фетишистского нижнего белья и прочих развратных диковинок такого рода.
Владимир застыл, словно в трансе. Всё его тело непроизвольно тряслось, как на пороге эпилептического припадка. Эти симптомы были хорошо знакомы Иосифу. Он сумел угомонить Владимира, дав ему какую-то сладость, взяв за руку и проведя его внутрь, поближе… к Нему!
Внутри Центр оказался похожим на гигантское лоно. Далеко не сразу они нашли тот магазин, который искали. Всё это время Владимир продолжал обильно потеть и невнятно постанывать.
Владелец магазина рассказал своим новым клиентам, что этот колосс по сути был точной копией того самого оружия, которое Маркс так ловко и столь успешно использовал в классовых войнах предыдущего столетия.
Эта история происхождения монстра возбудила их ещё сильнее. Они захотели попробовать его прямо здесь и сейчас; хозяину стоило немалых усилий угомонить их.
«Я хочу это дилдо, хочу прямо сейчас, – забормотал Владимир, продолжая: – Самотыки возникли как развитие и прямое продолжение фундаментальных атрибутов траханья в целом. Разумеется, это может произойти только на наивысшей стадии его развития, когда некоторые из его атрибутов начинают трансформироваться, принимать форму и проявляться в этом направлении, будучи материальными средствами эмансипации». Тут он расправил Его, засунул себе в рот, щекоча языком залупу, двигаясь дальше вниз по стволу и вылизывая Его резиновые яйца. Он принялся неистово крутиться и долбить самого себя в рот всё быстрее и быстрее, глубже и глубже. Хозяин магазина наблюдал за ним в совершенном изумлении. Ему потребовалось время, чтобы снова взять себя в руки. Он пригрозил вызвать полицию, но было уже слишком поздно. Владимир уже не был способен сдерживать себя. «Я кончаю, я кончаю», – простонал он.
После столь убедительной демонстрации Его мощи двое мужчин с готовностью заплатили за этого Монстра непомерную цену в 60 рублей и поспешили домой, в Зимний дворец.
Уперев дилдо в своё обнажённое тело, Иосиф воткнул его в более чем жаждущий задний проход Владимира. Всю долгую русскую зимнюю ночь он снова и снова совершал это насилие над Владимиром.
Владимир стал одержим Им. Он всё меньше и меньше занимался государственными делами и требовал всё больше и больше персонального внимания Иосифа. А тот постепенно начинал уставать от всего этого, особенно от того, что Владимир был настолько поглощён Монстром, что редко теперь вспоминал о том, чтобы отсосать ему. Он начал избегать Владимира. Того же это привело в такую ярость, что на XI съезде ВКП(б) он потребовал исключения Иосифа за нарушения партийной дисциплины, однако это его намерение было единодушно отвергнуто. Владимир попробовал снова пофлиртовать со Львом, но тот оставался равнодушным. Он пристрастился к участию в оргиях с молодыми фанатами Партии и заявил Владимиру, чтобы тот проваливал. Тогда Владимир обращался к Григорию, упрашивал Михаила, пытался подкупить Николая, убедить Вячеслава, договориться с Феликсом, но всё без малейшего успеха. Все они предпочитали партийные оргии.
Теперь, когда никто не мог помочь ему утешаться Монстром, когда его жена мечтала о его верности, покупая себе трусики с разрезом, чтобы соблазнить его войти в поржавевшую дверь своего тайного прохода, чей порог он не трогал уже Бог знает сколько лет, когда она теребила своего мужа каждую ночь, лишая его надежд на женоубийство, Владимир занемог.
В своём знаменитом теперь завещании он писал, что Лев был старым дураком и потому не мог причинить своей пиписькой вреда, однако Партии в самом деле стоит опасаться Иосифа – не обладавшего в должной мере терпением, лояльностью, учтивостью и воспитанностью, а значит представлявшего потенциальную опасность для них всех. Но члены партии предпочитали думать о других вещах и не слушали старого Владимира…
С тех пор как Иосиф перебрался во Дворец, что-то пошло не так. Сперва он избавился от Сергея, владельца того магазина в Центре, обвинив его в задирании цен. Потом он ликвидировал сам Центр и ввёл монополию Партии – Иосиф стал единственным судьёй, выносящим решения об ошибках в мире эротики. Став председателем, он принялся прививать в постреволюционном обществе фаллоимитаторы всех возможных размеров и материалов – от пластика до стали. Процесс отбора кандидатов для членства в Партии стал значительно более жёстким, и тип искусственного члена, использовавшийся каждым, отражал его позицию не только внутри партии, но и в обществе в целом.
Мужчины и женщины оказались строго разделены. Для члена Партии было просто немыслимо опробовать девичье лоно своим штырём. С одной стороны, это бы свидетельствовало о плохом вкусе, а с другой – стало чем-то, чем «люди занимались раньше», на заре истории человечества, и потому с наступлением Великого Общества это стало считаться в лучшем случае устаревшим, а то и контрреволюционным. Поэтому быть застигнутым со своей оглоблей в чьей-то пещерке было не только крайне аморальным, но и, весьма вероятно, стало бы рассматриваться как реакционный проступок.
Но никто, включая и самого Иосифа, не мог использовать Монстра. Его они положили рядом с мумией Владимира, и солдаты денно и нощно стояли в карауле вокруг них. Иосиф пытался опробовать на себе этот член, но каждый раз его заставали с поличным. И вскоре он пришёл к убеждению, что Он, этот Монстр, преследует и пытается его погубить.
Репродукция
Последствием борьбы станет наступление и дальнейшее развитие демократии, увенчивающееся полным триумфом порядка.
Они выглядели настолько реальными, что вдруг показалось, будто в настоящих людях больше нет нужды; настолько живыми, что скоро никто уже не будет нуждаться в по-настоящему живых людях. Энвер возбуждённо проходил по выставке в Народном Эксгибиционистском Центре Всех Прогрессивных Народов Мира, организованной по случаю 50-летия Великой Заднепроходной Пенетрации, на которой демонстрировались достоинства каждой секс-куклы в сравнении с другими многочисленными родственными моделями. Версии де-люкс с тремя отверстиями: вагиной, анусом и ртом; супер де-люкс версии, в которых половые органы ритмично вибрировали; надувные резиновые модели, которые хорошо умещаются в небольшие чемоданы в сдутом состоянии; оригинальные изделия («для людей с изысканным вкусом»); имитации («для нуворишей»); дорогие («для бедных»); дешёвые («для женщин, детей и военнослужащих»); миловидные («для не столь опытных»); уродливые («для гурманов»); молодые («для пожилых»); старые («для чувствующих себя незащищёнными»); мужчины («для натуралов»); женщины («для лиц с более грубыми запросами»); и так далее.
«Что скажешь, Ахмед? Разве это не самое величайшее изделие со времён того дилдо-Монстра? Сказать по существу, Он нам больше и не нужен!» – Энвер взял своего сына и престолонаследника за руку и пристально посмотрел в его глаза.
«Не сомневаюсь, о Великий Кормчий, – отвечал его сын. – Если ты спрашиваешь, то я отвечу, что Он устарел. Думаю, что будущее за резиновыми моделями. С их помощью мир будет наш. Насколько они функциональны! Всё, что им требуется – лишь немного воздуха, чтобы они заработали. Фантастика! Они никогда не перечат в постели. Они принимают потоки кончи в свои задницы, с готовностью открывают свои отверстия каждый раз, когда тебе хочется, ты можешь помочиться им во рты по своей прихоти… да, будущее и впрямь выглядит лучезарным!»
«Всё это, без сомнения, именно так, о, мой сын и наследник. Но ты забываешь их главное преимущество, то, что действительно их отличает». Энвер говорил как учитель, кем он и являлся на самом деле, учителем своего народа и всех прогрессивных народов мира. «В отличие от живых людей, эти модели никогда не жалуются, с ними ты можешь делать всё, что пожелаешь. Больше никаких сомнений, больше никакой неуверенности. И никаких больше выборов. Мы владеем ими, используем их по своей воле. И когда они встанут на места своих предшественников, классовая борьба будет ликвидирована раз и навсегда».
Когда Энвер закончил свою импровизированную речь, прозвучали громкие спонтанные аплодисменты. Однако, как всегда, у него был заготовлен и другой туз в рукаве, то, что действительно изумит всех присутствующих, собьёт их с ног и заставит просить ещё большего. Он внимательно посмотрел на свою свиту, а затем не спеша повёл их в доселе не осмотренную комнату. В ней была только одна витрина и только одна-единственная модель на подиуме. Нет нужды говорить, что это была потрясающая красотка, сделанная из наилучшего пластика, какой только можно купить за деньги. Но эта необычайная красота не была её единственным или даже главным достоинством. Энвер сделал паузу, дождавшись, пока не стихли вздохи умиления. Когда в комнате воцарилась тишина, настолько полная, что летящий комар звучал, как вертолёт в отдалении, он произнёс: «Дорогие товарищи, дорогой наследник, дорогой я – сегодня мы имеем большую честь лицезреть особую, изготовленную по спецзаказу модель для Великого Кормчего. Персонально. Вы можете посчитать, что уже всю её осмотрели, но позвольте заметить – вас ожидает сюрприз. По сути, вы ещё не видели ничего, если не увидели Энру. Её внешность блекнет в сравнении с её внутренними способностями. Простым нажатием кнопок на моём пульте дистанционного управления моя крошка способна делать практически всё – она может садиться, вставать, наклонять голову, кивать, ложиться (на спину, на живот или на бедро), вставать на колени, рыдать и управлять всей известной бытовой техникой». Рассказывая им обо всех её талантах, он страстно нажимал кнопки на пульте, а Энра резко меняла свои позы и настроение. «Ах да, чуть не забыл! Она способна раздвигать свои ноги и принимать позы для более чем сотни вариантов секса. Разумеется, в рот она тоже берёт. Она немного стесняется, так что я не буду демонстрировать её умения перед вами. Вам придётся поверить мне на слово».
Тут он понимающе подмигнул своей аудитории, а затем продолжил. «Внутри у неё есть все органы нормального человеческого тела. Ну, практически все, скажем так. Только представьте – я, например, могу покормить её. Процессы выделения у неё полностью автоматизированы. Вдумайтесь, какие огромные возможности это представляет для секса!»
В этот момент несколько слушателей действительно потеряли сознание от перевозбуждения. Шпики быстро унесли их, а Энвер продолжал: «И если вы полагаете, что это всё, то вот вам, товарищи, ещё один сюрприз. Моя детка может ещё и говорить! Заметьте – лишь говорить, а не отговариваться. Послушайте!»
Лёжа на спине, с ногами, раздвинутыми насколько это было возможно, кукла заговорила: «Я больше не в силах ждать, Энвер. Позволь мне кончить. Революционная задача рабочего класса есть задача историческая, выполнение которой потребует деятельности поколений, её, безусловно, невозможно выполнить за одну ночь. О, Энвер, но не думай об этом, а лишь засунь свой могучий кол вглубь моей влажной пещеры. Опыт участия в интернациональном движении ясно говорит, что если поколения революции неправильно вонзают, революционная задача, поставленная Вождём рабочего класса, будет обречена на прерывание процесса, а моя порочная задница будет продолжать жаждать ещё. О, детка, да, я кончаю! Залей мою киску своей малафьёй! Нашей партии повезло иметь возлюбленного наследника, чествуемого как единственный преемник Великого Кормчего и как гениальный производитель нашей партии и народа, что делает для нас возможным наилучшим образом выполнить революционную задачу, поставленную нашим Вождём. О, Энвер, не останавливайся, делай то, что ты сейчас делаешь со мной. Благодаря любимому руководству твоего крепкого члена я не только получаю повторные оргазмы, но и стала твёрдо уверенной в том, что ночь за ночью мы способны производить одно революционное поколение за другим!»
Когда Энру отымели, раздались многочисленные спонтанные аплодисменты. Все были вне себя от радости. Впоследствии было множество чествований, празднеств и парадов. И я уверяю вас, люди и сейчас развлекают себя, распевая революционные песни, в которых прославляют Великого Кормчего и его наследника.
Корни современного страха
Джерри Рейт
Вы – один из множества пассажиров большого автобуса, безудержно несущегося вниз по извилистой горной дороге. Водитель автобуса пьяный и полуслепой. Он, а также те, кто находится на передних рядах, пребывают в состоянии интоксикации от паров бензина. Они тоже выпивают. За бортом ночь, в которой не светит даже луна. Фары автобуса оцарапаны периодическим трением о непрерывно разрушающиеся ветхие защитные ограждения, которые являются единственным, что удерживает автобус от падения с 2500-футовой отвесной скалы.
Автобус движется на действительно большой скорости. Несомненно, что тормоза не работают. Лишь крики бдительных пассажиров уберегли спящего водителя от аварии. За последние несколько минут автобус был к этому близок более четырёх раз, прямо влетая в крутой поворот.
Идёт дождь, и дороги скользкие.
Изначально вы сели в автобус, чтобы спрятаться от стихии. Это было очень давно, так давно, что вы уже и не помните. Задолго до этого какой-то умник завёл автобус и сел за руль. С той поры водители менялись несколько раз, но, несмотря ни на что, они все жали педаль газа в пол, хотя зачастую и обещали немного снизить скорость; и все они безостановочно пили из кажущихся бездонными фляг, хранящихся рядом с передними рядами салона.
Большинство пассажиров сидят, молча уставившись в пространство, они сваливаются со своих мест и не пытаются сесть обратно. Они кажутся парализованными. Те, кто создаёт впечатление всё ещё пребывающих в сознании, разделены. Большинство из них верит, что автобус куда-то направляется. Так же думают и водители. Но остальные знают, что никакого конкретного пункта назначения никогда и в мыслях не было. Некоторое время назад вы и некоторые другие нашли карту внутри чего-то под названием «историческая книга», и карта содержала рисунок дороги. На карте были чёткие отметки, обозначающие «тупик». В действительности это самый тупиковый из всех тупиков: карта указывает, что в конце дороги расположена внезапная, лишённая опознавательных знаков пропасть.
Некоторые из пассажиров хотят выбраться наружу, но окна заблокированы и двери заварены. Когда они проходят в начало салона, чтобы поговорить с водителем или его столь же пьяными приверженцами на передних рядах, их силой отталкивают назад. Выкрики с мест приводят лишь к одному: водитель прибавляет скорость и наваливается на руль ещё чаще. Некоторые из пассажиров думают, что всем следует сохранять спокойствие и наслаждаться поездкой. Некоторые уверены, что водителю следует ускориться. Ещё большее количество пассажиров даже и не думает о том, что автобус движется.
Время от времени кто-то из пассажиров приходит в бешенство и наносит серьёзные физические увечья окружающим, пытаясь захватить руль.
Согласно карте, вы недалеки от конца дороги. Большинство людей, которым это сообщают, тотчас же приходят в возбуждение и требуют новых водителей. Затем они пытаются пойти и схватить руль, что приводит к тому, что нынешний водитель начинает петлять по дороге и скрежетать педалями ещё более хаотично. Вы просто хотите остановить автобус и выбраться наружу, но вы не можете. Никому другому и в голову не приходило остановить автобус. И кажется, что те, кто желает ещё большей скорости, одерживают верх; они движимы идеей, что если они попадут туда быстрее, всё будет хорошо.
Примечания к разделу «Заключение»
1 См.: Блэк Б. Элементарное ватсонианство ⁄⁄ Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии. С. 19.
2 См.: VelliM. [Fredy Perlman]. Manual for Revolutionary Leaders. P. 11. Нас. 263–285 издание представляет читателям «Источники идей М. Велли». На эту кн. я написал рецензию: Black В. We Have Met the Enemy and They are Us: The Manual for Revolutionary Leaders, www.academia.edu.
3 См.: Black B. Mailing Their Way into Anarchy.
Иллюстоации

1. «Что такое анархизм» Джорджа Вудкока. Лондон, 1945

2. «Анархизм: История либертарных идей и движений» Джорджа Вудкока. Кливленд, 1962

3. Гэри Снайдер. Беркли. 1955. Фото Аллена Гинзберга
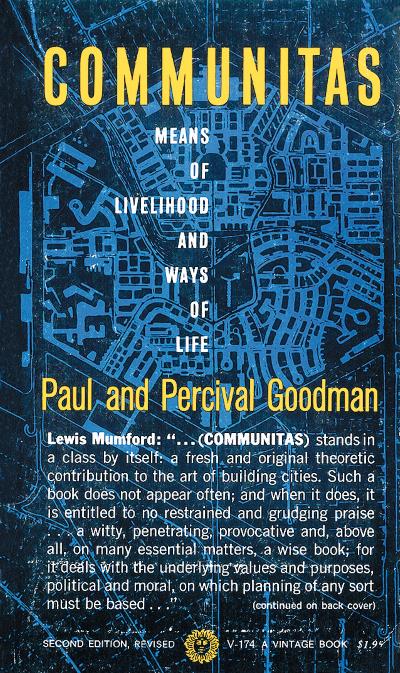
4. «Коммунитас: Средства к существованию и образы жизни» Персиваля и Пола Гудманов. Второе издание. Нью-Йорк, 1960

5. «Чёрный флаг анархизма» Пола Гудмана. Лондон, 1968

6. Пол Гудман. Нью-Йорк. 1960-е. Кадр из фильма Джонатана Ли «Пол Гудман изменил мою жизнь» (2011)

7. Справа: Алекс Комфорт даёт интервью. 15 июля 1963

8. «Модели анархии. Собрание сочинений по анархистской традиции». Гарден-Сити, 1966

9. «Руководство для революционных лидеров» Майкла Велли (Лоррейн и Фреди Перлманов). Второе издание. Детройт, 1974

10. Сборник «Нейтронная пушка» под редакцией Джерри Рейта. Анн-Арбор, 1985

11. Американское издание «Общества против государства» Пьера Кластра. Нью-Йорк, 1989

12. Мюррей Букчин на ярмарке «К завтрашнему дню». Амхерст. 1978. Фото Лайонела Делевиня

13. «Анархизм эпохи пост-нужды» Букчина. Второе издание. Беркли, 1971

14. «К экологическому обществу» Букчина. Монреаль, 1980

15. «Анархия: Журнал вооружённого желания» (декабрь 1985 – январь 1986) с текстами Джерри Рейта, Джейсона МакКуина и др.

16. «Анархия: Журнал вооружённого желания» (лето 1992) с текстами Рауля Ванейгема, Джона Зерзана, Фреди Перлмана и др.

17. «Временная Автономная Зона, Онтологическая Анархия, Поэтический Терроризм» Хакима Бея. Бруклин, 1991

18. «Иммедиатизм» Хакима Бея. Нью-Йорк, 1992

19. Питер Ламборн Уилсон (Хаким Бей) выступает по радио. Нью-Йорк. 26 октября 2019

21. Пересмотренное издание «Будущего первобытного человека» Зерзана. Порт Таунсенд, 2012

22. «Почему есть надежда? Противостояние цивилизации» Зерзана. Порт Таунсенд, 2015

20. Лоуренс Джэрак и Джон Зерзан на анархистской книжной ярмарке. Сан-Франциско. 13 марта 2010

23. «Сюрре(гион)алистский манифест и другие сочинения» Макса Кафара (Джона П. Кларка). Батон-Руж, 2003

24. «Сюррегиональные исследования» Макса Кафара. Чикаго, 2012

25. Джон П. Кларк с избранными сочинениями Элизе Реклю «Анархия, география, современность» (2013) и своей книгой «Между Землёй и Империей. От некроцена к желанному сообществу» (2019) в книжном магазине “Bluestockings”. Нью-Йорк. 2019

26. «Трактат об атеологии» Мишеля Онфре. Париж, 2005



27–29. Антология «Анархизм. Документальная история либертарных идей» в трёх томах под редакцией Роберта Грэма. Монреаль, 2005–2012

30. «Порча денег. Избранные сочинения 1992–2012» Боба Блэка. Беркли, 2012

31. Сборник «Нецивилизованный: Лучшее из Зелёной Анархии». Юджин, 2012

32. «Последняя ночь: Антиработа, атеизм, авантюра» Федерико Кампаньи. Винчестер–Вашингтон, 2013

33. «Случиться может всё» Фреди Перлмана. Переиздание. Сейлем, 2017

34. «Русская контрреволюция», сочинение коллектива CrimethInc. 2018
Примечания
1
Помимо того, что обрезание является обычной практикой у народов, исповедующих ислам и иудаизм, оно широко распространено в Северной Америке. По состоянию на 2006 г. этой операции подвергались 56 % новорождённых американцев (здесь и далее внизу страницы – примеч. пер.).
(обратно)2
до отвращения (лат.).
(обратно)3
См.: For Ourselves. The Right to Be Greedy. Berkeley, CA and Palo Alto, GA: For Ourselves, n. d. [1974]. Кн. была написана амер, ситуационистским коллективом “For Ourselves: Council for Generalized Self-Management”. Боб Блэк сочинил к ней предисловие. В электронном виде кн. доступна по адресу: http:⁄/libcom. org/ library/right-be-greedy-theses-practical-necessity-demanding-everything.
(обратно)4
Понятия древнерим. государственного устройства: полномочия исполнительной власти в гражданской и военной сферах.
(обратно)5
Confederaciôn Nacional del Trabajo – Национальная конфедерация труда, крупнейшая анархо-синдикалистская профсоюзная организация в республиканской Испании.
(обратно)6
Обогащение работы («игл. job enrichment) – качественное расширение поля работ сотрудника, при котором в его рабочее задание дополнительно интегрируются, например, некоторые из функций, выполнявшихся ранее его начальником (планирование, контроль, принятие управленческих решений и др.).
(обратно)7
Имеется в виду англо-нидерл. философ, сатирик и экономист Бернард де Мандевилль (1670–1733). В своей «Басне о пчёлах» он выразил идею, что расточительность способствует торговле, а жадность ей вредит.
(обратно)8
Смысл существования (фр.\
(обратно)9
старый порядок (фр.) – обозначение политического и социально-экономического режима, существовавшего во Франции примерно с кон. XVI в. до кон. XVIII в., до Великой Французской революции.
(обратно)10
Средневековое орудие пыток: железный шкаф в виде фигуры девы с острыми шипами внутри, в который заключали узника.
(обратно)11
Federacion Anarquista Ibérica – Федерация анархистов Иберии, крупнейшая организация исп. анархистов в 1920-1930-6 гг.
(обратно)12
общность, коллектив (нем.).
(обратно)13
«Пятое сословие» (англ.) – периодическое анархистское издание в США, основанное в 1965 г. Изначально газ., выходившая раз в две недели, но с 1970-х гг. издание перешло к формату ежемесячного журн. В настоящее время выходит три раза в год.
(обратно)14
“Safety net” – сеть федеральных программ помощи малообеспеченным гражданам в США.
(обратно)15
Имеется в виду губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
(обратно)16
Майкл Мур – амер, кинорежиссёр-документалист, известный своей активной политической позицией и критикой капиталистического миропорядка.
(обратно)17
Ныне исчезнувший лесной массив в Шотландии. Известен по упоминанию в трагедии Шекспира «Макбет».
(обратно)18
Гийом Тома Франсуа Рейналь (1713–1796) – фр. историк и социолог, представитель Просвещения.
(обратно)19
В оригинале: “l’état de civilisation” и “la civilisation de l’Etat”.
(обратно)20
Рус. аналог фр. термина “économie de subsistance” (букв, «экономика выживания») – «натуральное хозяйство».
(обратно)21
Жак Лизо (род. 1938) – фр. антрополог, ученик К. Леви-Стросса. Чтобы сделать максимально полное антропологическое исследование, Лизо провёл в племени яномами более 20 лет и выучил их язык.
(обратно)22
В сборнике эссе П. Кластра «Общество против государства», куда входит настоящий текст.
(обратно)23
“chef’ во фр. оригинале.
(обратно)24
Оригинал под заголовком «Завоевание хлеба» издан на фр. языке в 1892 г. Рус. издание вышло в 1902 г.
(обратно)25
Доел, «конец века» (фр.), обозначение умонастроений и характерных явлений в культуре на рубеже XIX и XX вв. – индивидуализма, отказа от общественных норм, различных проявлений пессимизма и проч.
(обратно)26
Confédération Générale du Travail – Всеобщая конфедерация труда, крупнейшее профсоюзное объединение во Франции.
(обратно)27
Джерард Уинстенли (1609–1676) – англ, утопический социалист, лидер движения диггеров в период Гражданской войны в Англии.
(обратно)28
Eselscheisse – ослиное дерьмо! (нем.).
(обратно)29
“Strangers in the Night” – известная песня Ф. Синатры.
(обратно)30
Округ в штате Миссисипи.
(обратно)31
Написанный в нач. 1960-x гг. сатирический роман амер, писателя Дж. К. Тула (1937–1969).
(обратно)32
Город во Франции, центр департамента Восточные Пиренеи, неофициальная столица французской Каталонии. “La gare de Perpignan” – картина С. Дали. Вокзал в Перпиньяне он называл центром Вселенной.
(обратно)33
Игра слов: “Grace Land” в букв. пер. – «прекрасная страна». Также Грейс-ленд – поместье в городе Мемфис, штат Теннесси, известное место жительства Э. Пресли.
(обратно)34
крестьянский (фр.). В оригинале игра слов: pagan, paysan.
(обратно)35
Букв. «Жирный вторник» (фр.), карнавал в Новом Орлеане.
(обратно)36
Амер, негосударственная экологическая организация.
(обратно)37
Изданная в 1984 г., кн. амер, поэта-битника и экоактивиста Гэри Снайдера (РОД- 193°)
(обратно)38
Название последнего фильма кинорежиссёра-сюрреалиста Л. Бунюэля, снятого в 1977 г.
(обратно)39
Речь идёт о регулярных разрушительных наводнениях на р. Миссисипи. Некоторые из наиболее крупных произошли в 1874, 1882, 1891 и 1927 гг.
(обратно)40
Научное лат. название чайота.
(обратно)41
Популярный в луизианской кухне густой пряный суп-рагу
(обратно)42
Лафкадио Бокаге, «Записки креольского анархистского движения» (фр.).
(обратно)43
«Государство – это я» (фрд
(обратно)44
United Press International – амер, информационное агентство.
(обратно)45
Имеется в виду папа Павел VI (1963–1978).
(обратно)46
Амер, фильм 1961 г., посвящённый жизненному пути Иисуса.
(обратно)47
Здесь, как и в ряде случаев далее, материал обрывается и продолжения не имеет – оригинал текста расположен на первой полосе газ., а упомянутой следующей страницы не существует.
(обратно)48
Associated Press – крупнейшее международное информационное агентство.
(обратно)49
Вероятно, это опечатка и в виду имеется действовавший на момент описываемых событий папа Павел VI. Но не исключено, что это отсылка к реальному Павлу IV, чей понтификат пришёлся на XVI в. и был отмечен гонениями еретиков.
(обратно)50
Имеются в виду амер, доллары на счетах европейских банков.
(обратно)51
«Человек без страны» – рассказ Э. Хейла 1863 г. об амер, лейтенанте, приговорённом провести остаток своих дней в море.
(обратно)52
Неофициальное название япон. истребителя Mitsubishi А6М.
(обратно)53
Католическая молитвенная практика.
(обратно)54
Вымышленный город (в оригинале – Bhagdad, в отличие от Baghdad, т. е. Багдад).
(обратно)55
Термин, введённый Ж. де Готье. Происходит от названия романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1856) и обозначает стремление погрузиться в мир иллюзий любого плана и игнорировать реалии повседневности.
(обратно)56
Скамейка для молитвы в католических храмах.
(обратно)57
Методика самовнушения и самогипноза, производной которой является эффект плацебо.
(обратно)58
Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) – фр. проповедник и богослов.
(обратно)59
Оригинальный Великий век – период во фр. истории с 1589 по 1715 г.
(обратно)60
Аллюзия на Культ разума – атеистический псевдокульт, введённый фр. революционерами в рамках программы дехристианизации Франции и борьбы с контрреволюционным духовенством; а также на работы «Критика чистого разума» и «Религия в пределах только разума» И. Канта.
(обратно)61
Имеется в виду Третья Республика, начало которой в 1870 г. было положено сообщением Леона Мишеля Гамбетты о низвержении Наполеона III.
(обратно)62
Культ Верховного Существа – религиозный культ, внедрявшийся в 1794 г. во время диктатуры Робеспьера в противовес не только традиционному христианству, но и атеизму, и ранее упомянутому Культу разума.
(обратно)63
Отсылка к ритуалу причастия.
(обратно)64
Отсылка к выражению Горация «Эпикурова стада я поросёнок», которое он использовал в качестве характеристики себя самого как приверженца философии Эпикура.
(обратно)65
Неофициальное прозвище школьных учителей в годы Третьей Республики.
(обратно)66
Официальный девиз коллаборационистского режима Виши (1940–1944).
(обратно)67
Народ, проживающий в Мали и Буркина-Фасо.
(обратно)68
Отсылка к Демокриту, получившему прозвище «смеющийся».
(обратно)69
Отсылка к сочинению «Искусство наслаждаться» Ж.О. де Ламетри.
(обратно)70
Вирджил Айвен Гриссом (прозвище Гас, 1926–1967) – амер, космонавт, погибший во время наземных испытаний в рамках подготовки миссии «Аполлон-1».
(обратно)71
Макдоннел Дуглас ДС-10 – амер, турбореактивный авиалайнер.
(обратно)72
Неофициальное название Боинга-747.
(обратно)73
Игра слов: самсонит – название минерала и “Samsonite” – бренд дорожных чемоданов, популярный в США.
(обратно)74
Потомак – река в США, название которой, по одной из версий, происходит от индейского слова, означавшего «место приношения дани». Иордан – река на Ближнем Востоке, название которой происходит от евр. слова, значащего «падать». Лета – река в США, названная в честь одноимённой реки из древнегреч. мифологии, протекающей в подземном царстве мёртвых.
(обратно)75
«Возвращение к основам» (англ.).
(обратно)76
«Чёрное зерно» (англ.) – амер, анархо-примитивистское издание.
(обратно)77
Роман (1991) амер, писателя-романиста, сторонника примитивизма и критика цивилизации Дэниэла Куинна (1935–2018).
(обратно)78
«Фронт освобождения Земли» (англ.).
(обратно)79
«Гонки на выживание» (англ.).
(обратно)80
Lone Wolf Circles (Круги Одинокого Волка, англ.) – псевдоним амер, писателя и экоактивиста Джесси Вольфа Хардина (род. 1954).
(обратно)81
Ральф Боршоди (1886–1977) – амер, сельскохозяйственный теоретик и практический экспериментатор.
(обратно)82
Камилло Зитте (1843–1903) – австр. архитектор и градостроитель, теоретик художественных основ градостроительства.
(обратно)83
Торстейн Веблен (1857–1929) – амер, экономист, социолог и футуролог.
В своих работах один из первых разработал концепцию технократического общества.
(обратно)84
Фр. “essai” означает «попытку», «пробу», «очерк».
(обратно)85
беспричинный поступок (фр.).
(обратно)86
Прозвище бедных и малообразованных белых сельских жителей Аппалачей, ведущих традиционный замкнутый и независимый образ жизни.
(обратно)87
Дзен-буддистский термин (букв, «просветление»), означающий переживание постижения истинной природы вещей.
(обратно)88
Речь, по всей вероятности, идёт о «треугольнике Бир-Тавиль», ненаселённой территории между Египтом, Суданом и Красным морем. На неё не претендовало ни одно государство, пока в 1899 г. по англо-египет. соглашению территория не отошла к Египту.
(обратно)89
Название североамер, континента в некоторых индейских языках.
(обратно)90
Вольный пересказ слов из кн. фр. писателя Андре Жида (1869–1951) «Яства земные» (1897): «Семьи, я ненавижу вас! Закрытые дома, занавешенные окна, ревниво охраняемое счастье!»
(обратно)91
Стивен Перл Эндрюс (1812–1886) – амер, анархист-индивидуалист, лингвист, философ.
(обратно)92
гений места (лат.).
(обратно)93
Языческий праздник древних кельтов, отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая.
(обратно)94
«Faery Circles» – собрания, посвящённые духовным нью-эйдж практикам и ритуалам у части амер. геев. В названии обыгрываются феи как волшебные существа из европейского фольклора и уничижительное сленговое обозначение геев – fairy («фея», англ.).
(обратно)95
Имеется в виду Генри Дэвид Торо (1817–1862), амер, писатель, философ, натуралист, автор кн. «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), посвящённой его эксперименту по добровольной изоляции от общества.
(обратно)