| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Том второй (fb2)
 - Том второй (пер. Татьяна Большакова,Виктор Иванович Суханов,Юрий Николаевич Аксель-Молочковский (Георгий),Тамара Михайловна Аксель,Валентина Аркадьевна Мартемьянова, ...) 3237K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ярослав Гашек
- Том второй (пер. Татьяна Большакова,Виктор Иванович Суханов,Юрий Николаевич Аксель-Молочковский (Георгий),Тамара Михайловна Аксель,Валентина Аркадьевна Мартемьянова, ...) 3237K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Ярослав Гашек
Ярослав Гашек
Рассказы, политические памфлеты, очерки, 1909–1912 гг.
1909–1910
О святом Гильдульфе
I
Тирольское селение Обервашберенталь раскинулось у перекрестка дорог. Само по себе это обстоятельство не представляло бы ничего достопримечательного, но на том перекрестке стоит столб, а на столбе висит образ святого с бичом в руке. А внизу подпись: «Heiliger Hyldulf, ora pro nobis!»[1]
Образ этот не лишен занимательности, поскольку святой Гильдульф указывает своим бичом на селение Унтервашберенталь, будто грозит ему. Примечателен он и тем, что нарисовал его бродячий подмастерье-маляр, когда оказался в неоплатном долгу у старосты Обервашберенталя — содержателя местного трактира. Не в состоянии заплатить, он оказался перед выбором: либо согласиться на предложение старосты и нарисовать «какого-нибудь святого, который грозил бы бичом Унтервашберенталю, где все село сплошь мерзавцы и враги обервашберентальцев», либо отправиться в тюрьму.
Бедняга предпочел первый вариант и, сидя на хлебе и воде, нарисовал святого. Когда же работа была закончена и его спросили имя святого, он в затруднении не знал, что ответить. К счастью, парень вспомнил, что в Линце у него есть дядюшка по имени Франц Гильдульф; дрожащей рукой он вывел тогда под своим творением: «Heiliger Hyldulf», а приходский священник приписал по-латыни: «Ora pro nobis!»
Самое интересное заключается в том, что дядюшка бродячего подмастерья стал святым, сонм святых пополнился еще одним типичным представителем, а жители Обервашберенталя были введены в заблуждение, так как обращались со своими молитвами к святому Гильдульфу в непоколебимой вере, что такой святой действительно существует.
Однако священник вражеского селения Унтервашберенталь, поглядев в святцы, установил, что Гильдульфа там нет.
Обервашберентальцы восприняли это как личное оскорбление. И их священник (который и раньше-то не терпел своего коллегу из Унтервашберенталя за то, что постоянно проигрывал ему в пикет) в ответ на возмутительное утверждение соседа торжественно провозгласил, что святому Гильдульфу вовсе и не обязательно быть в святцах: совершенно достаточно того, что он вместе с другими избранниками радуется на небесах, а на перекрестке грозит бичом Унтервашберенталю. А в конце концов, пусть в этом гнезде безбожников говорят, что вздумается, хотя бы и вместе со своим духовным пастырем, который жульничает при игре в пикет, — святой Гильдульф будет и впредь предстательствовать за всех, кто горячо помолится перед его образом и опустит свою лепту в кружку, прикрепленную к столбу.
Каждую субботу причетник вынимал из кружки монеты, и негодяи унтервашберентальцы говорили тогда, что священнику понадобились денежки для карт. Все это было им совсем не по нутру. Святой Гильдульф начал успешно конкурировать с их святым, установленным на их перекрестке, со святым Вольмаром, которого обервашберентальцы сразу перестали почитать, как только обзавелись собственным святым.
Теперь, проходя мимо, они пренебрежительно смотрели на святого Вольмара и не останавливались, как прежде, чтобы попросить преподобного настоятеля из города Болоньи ограждать их скот от вздутия, болезней и падежа.
Зато к вечеру, когда солнце в последний раз окрашивало снежные вершины Альп, когда коровы на горных пастбищах, позвякивая колокольцами, укладывались на ночь в загонах, обервашберентальцы останавливались перед святым Гильдульфом и горячо молились, чтобы провел он их счастливо этой грешной жизнью к вечному блаженству, чтобы могли они после смерти вечно радоваться и пить топленое молоко, любимое лакомство всех депутатов из Тироля и Ворарльберга.
— Храни, святой Гильдульф, нас и наш скот от болезней и падежа! Ora pro nobis! — просили они и назло соседям весело горланили свое тирольское: «Холарио, холарио! Холари, холари, холарио!»
Что тем оставалось делать? Пить со злости в своих трактирах и поносить святого Гильдульфа.
Нет, дальше так продолжаться не могло! Святого Гильдульфа нужно было чем-то унизить. Некоторые пугались: зачем оскорблять его публично! Береженого бог бережет. А вдруг Гильдульф и вправду существовал?!
Само собой разумеется, что колеблющимся врагам чужого святого и трусам поразбивали головы.
Унтервашберентальский кузнец Антонин Кюммели заявил после сей славной битвы:
— Я осрамлю святого Гильдульфа!
И на следующий день обервашберентальцы нашли своего святого изуродованным: рука, грозившая бичом Унтервашберенталю, была замазана черным скипидаровым лаком. Он стал одноруким.
В Обервашберентале началось повальное рыдание: рыдали старухи и старики, взрослые и дети, рыдал и сам священник, рыдало все селение.
И в тот же день, около трех часов пополудни по селению разнеслась страшная весть: кузнецу Унтервашберенталя Антонину Кюммели полчаса назад отрезало соломорезкой руку.
Сразу всем стало ясно: произошло чудо. В Унтервашберентале поднялась паника. Священник поспешил к старосте и, рухнув на лавку, произнес:
— Святой Гильдульф разгневался!
Это было страшно. И уж никого не интересовало, что кузнец был пьян, когда так неосторожно сунул руку в соломорезку, и что, когда он пришел в себя, то клялся и божился:
— Это не я! Я ту руку не замазывал! Провалиться мне на этом месте! Отсохни у меня язык! Это не я! Отец наш небесный, ведь это был не я!..
Кузнецу никто не верил…
II
Вскоре кузнец поправился и был осужден судом за святотатство. Все тирольские католические газеты писали о нем как о последней скотине. Напрасно он твердил, что всю ту ночь напролет спокойно спал и что дома у него нет ни капли черного лака. Это не помогало. Преступление кузнеца было настолько очевидным, что никакие доказательства его алиби в расчет не принимались.
Итальянская клерикальная газета опубликовала биографию святого Гильдульфа с указанием даты его смерти. К чести редакции следует заметить, что она, по крайней мере, не сделала из него мученика.
Иллюстрированные журналы поместили фотографию святого Гильдульфа и однорукого кузнеца-святотатца.
В Инсбруке два еврея-старьевщика приняли христианство, поселились в Обервашберентале, основали там торговое дело и начали печатать и продавать открытки с видами его окрестностей.
Было просто необходимо найти поблизости от столба с образом святого Гильдульфа источник целебной воды. По приказанию священника крестьяне изрыли кругом всю долину, но, к сожалению, никакого источника обнаружить не удалось.
Следовало перенести столб куда-нибудь поближе к воде. Священник распорядился поставить его в своем саду, около колодца, аргументируя это тем, что там святой будет охранен от злоумышленников. Одновременно он повесил пять кружек при входе в сад, две — на особый столб около колодца и две добавил к той, которая была под самым образом.
За первую неделю он собрал триста гульденов, на которые вычистил и обложил кирпичом колодец. Все свидетельствовало о том, что Обервашберенталь станет притягательным и выгодным местом паломничества.
Даже в Унтервашберентале перестали молиться своему святому Вольмару.
III
Между тем осужденный кузнец продолжал твердить, что он невиновен, и был настолько. дерзким, что даже подал апелляцию. Это известие вызвало в обоих селениях бурю негодования.
Тут произошла новая неожиданность. В один прекрасный день было обнаружено, что святой Гильдульф смотрит на свет божий голубыми глазами вместо черных, какими он обладал раньше. Хотя здесь и была всего-навсего обыкновенная синька, но выглядело это необычайно красиво. А через три дня у старосты Обервашберенталя родился мальчик с прекрасными голубыми глазами, как у отца и матери. В тот же день счастливый отец прибежал к священнику и, целуя ему руку, взволнованно стал рассказывать:
— Произошло новое чудо! Я все думал о том кузнеце. Когда он лишил святого Гильдульфа руки, то и сам утратил свою руку. Вот я и подумал: у меня глаза голубые, родится у нас ребенок, а кто знает, какого цвета будут у него глаза? Мне хотелось, чтобы они были голубые. И тут мне пришло в голову, что если я окрашу святому Гильдульфу глаза в голубой цвет, то и дитя родится с голубыми глазами. И святой Гильдульф услышал мою молитву.
Это новое чудо необычайно взволновало все село. А на следующее утро святой весь был разукрашен пятнышками от извести и цветной глины: это причетник хотел, чтобы ожидаемый теленок родился в крапинках.
Не знаю, исполнилось ли его желание. Не знаю также, как закончилось дело осужденного кузнеца, поскольку апелляционный суд затребовал мнение авторитетного историка церкви, существовал ли на самом деле святой Гильдульф, Знаю только, что Франц Гильдульф держит в Линце напротив вокзала трактир и до сих пор никак не может понять, почему у него вдруг оказалось сразу два крестных имени.
Heiliger Hyldulf, ora pro nobis! Холарио, холарио! Холари, холари, холарио!
Нравоучительный рассказ
Княгиня фон Шварц состояла в любовной связи со своим молодым исповедником, который слыл непримиримым врагом порока, ибо бог всеведущ и вездесущ. Поскольку же патер был любовником ее светлости, он особенно яростно преследовал порок среди простого народа.
Сам он впервые признался княгине в любви в замковой часовне, а потом сказал:
— Иди, дочь моя, и больше не греши!
Это было так забавно, что княгиня старалась как можно чаще давать ему повод повторять сии библейские слова.
Итак, разделяя с князем благосклонность княгини, он в своих проповедях обличал порок, царящий внизу, у подножья замка, в низеньких халупах, заселенных людьми, работавшими на господском дворе.
Дети этих работников посещали школу, где несколько монашек толковали им закон божий, извлекая из него лишь самые нравоучительные истории. В результате в головах у ребятишек все перепуталось, и когда они приходили домой и слышали, как ругаются их родители, они сидели как пришибленные.
Но какой был толк от того, что детишки под влиянием монашенок тупели и заживо становились ангелочками, если их родители бродили во тьме и не стремились очистить свои души от плотских влечений и страстей?
Княгиня же совершала массу добрых дел, которые уравновешивали ее грехи. Она молилась, возмещая набожностью недостаток добродетели. Княгиня верила в милосердие божье как в то время, когда грешила, так и тогда, когда добрыми делами и покаянием очищала свою душу от грехов, ибо милосердие божье беспредельно. Она даже приказала монашенкам варить детям чесночную похлебку.
Люди же в тех халупах, наоборот, жили в грехах и не думали о спасении души, потому что на это не хватало времени: с утра до вечера работали они за несколько крейцеров в княжеских владениях.
Они не молились и при получке весьма непочтительно отзывались о беспредельном милосердии божьем. А когда видели в замковом парке княгиню, сопровождаемую достопочтенным паном патером, говорили, сплевывая:
— Эта потаскуха и не стареет!
В своем безверии они и не задумывались, что господа поставлены над ними самим господом богом и что княгиня могла услышать их слова.
Говорили они также, что преподобный и досточтимый пан патер — свинья, не помышляя о том, что господь может разгневаться и проклясть их за это. Но бог в своей беспредельной доброте не делал этого, ожидая, что грешники исправятся.
А они продолжали грешить и называли князя «паном буйволом». Один черт знает, как они и додумались-то до этого, ведь в княжеском хозяйстве, если не считать управляющего, казначея и им подобных, они имели дело только с волами.
Итак, они терпели наказание за свои грехи и умирали, изнуренные непосильным трудом, хотя обычно и говорится, что работа на свежем воздухе весьма полезна для здоровья. Уходили они на тот свет, истощенные голодом, несмотря на эту самую хваленую пользу труда на свежем воздухе, а все потому, что были безбожниками, богохульниками и недоедали.
К числу самых больших грешников принадлежали поденщик Вейвода и поденщица Петрова.
Несчастные находились во внебрачном сожительстве и вдобавок ко всему еще хотели обмануть господа бога тем, что в остальном были вполне порядочными людьми.
Но какая же это порядочность, если в результате их сожительства (неловко даже писать об этом!) появились незаконные дети.
Незаконных детей бог наказал тем, что они не получали чесночной похлебки, не были приняты в школу, руководимую монашенками, и не знали посему ничего о господе боге. Они играли себе дома со спичками или копошились около пруда, и порядочные люди из замка ждали, когда же «эти басурманята» утонут либо сгорят, ибо бог всемилосерден и карает лишь с той целью, чтобы люди исправились. (Вспомните последнее несчастье в Италии, когда погибло более четверти миллиона людей.)
Все же дурной пример заразителен, и тщетно пан патер после ночи, проведенной с ее светлостью в неусыпном бдении, особенно гневно обличал порок: люди не ходили в костел, не перегружали записями о крещении церковную книгу и не стремились получить благословение божье и заплатить за это благословение служителю божьему.
Обычно какой-нибудь парень просто говорил:
— Ну, девка, давай переселяйся ко мне!
И глядишь, уже живут вместе, к ужасу ее светлости княгини и пана патера, которые живо представляли себе устрашающую участь грешников на том свете.
— Мы по себе знаем, как трудно бывает избежать соблазна, — вздыхал пан патер. — У нас обоих, то есть у меня и у вас, ваша светлость, сильная воля, но плоть слаба, что, конечно, видит всемогущий господь. Но страшнее всего, когда в пороке погрязают бедняки. Какое значение может иметь проповедь, если эти несчастные не ходят в костел!
— Попробуйте тогда воздействовать на них своим личным к ним обращением, преподобный отец.
— Попробую, — ответил досточтимый патер и поцеловал княгиню в затылок.
Итак, в воскресенье он направился к Вейводе, чтобы разъяснить ему, что это за дьявольская выдумка — внебрачное сожительство.
Вейвода сидел за столом и курил трубку. Петрова вязала чулок, а на постели кувыркались их дети.
Пану патеру был предложен единственный стул, а Вейвода пересел на лавку к Петровой.
Патер без всякого предисловия выгнал из избы ребят и начал разговор по душам.
— Вам нужно было быть поосторожней и повнимательней, пока вы не зашли так далеко, что оказались в незаконном сожительстве. Истинно говорю вам: дьявол бродит вокруг нас, аки лев рыкающий, и ищет, кого бы ему поглотить.
— Оно так, — согласился Вейвода.
— Вы не можете даже представить себе, Вейвода, что это за святое дело — законный брак.
— Оно так, преподобный отец, святое дело.
— Ну, вот видите, Вейвода, и вы, Петрова, брак — вещь неоценимая и угодная богу. Неужели вы не понимаете, что если вы живете вместе просто так, то отвращаете от себя милость божью? А, Вейвода?
— Не все ли едино, ваше преподобие!
— Вейвода, опомнитесь! Что вы говорите?! Вам не кажется, что у вас деревенеет язык?
— Чего нет, того нет, ваше преподобие.
— Вейвода, ради всего святого, посещали вы уроки закона божьего?
— А то как же! По закону божьему у меня всегда были пятерки.
— И не жаль вам, Вейвода, того времени, когда вы учились усердно молиться богу?
Вейвода сплюнул.
— Так это, пан патер, было уж очень давно!
— А вы не думаете, Вейвода, что на том свете вам отольются все ваши прегрешения? Меня очень беспокоит ваша загробная жизнь.
— Все едино, ваше преподобие.
— Вейвода, заклинаю вас, очиститесь и поженитесь с Петровой согласно обряду. Ведь то, что вы делаете, это все равно что пожелать жену ближнего своего, как гласит заповедь! Вейвода, помните о вечной жизни, о смерти! Обещайте мне, что исправитесь. Ведь это же свинств, Вейвода! Это то же самое, как сказано в Писании, что соблазнить чужую жену!.. Так что мы сделаем теперь, Вейвода?
Вейвода вынул трубку изо рта, взял пана патера за руку и сказал доверительно:
— Видать, ваше преподобие, мы с вами так и останемся свиньями.
При. этих словах ид тер, как ошпаренный, выскочил из избы.
Клятва Михи Гамо
Из рассказов о Междумурье
I
Утреннее солнце выбралось из лениво клубившегося над полями тумана и позолотило купол костела в Дольном Домброве, когда Миха Гамо, самый богатый хозяин в Мурском округе[2], шагал по узенькой тропке над обрывистым берегом бурлящей реки Муры; время от времени он останавливался и погружал взор в шумный стремительный поток, будто пытался отыскать в этих мутных водах, проносивших мимо глину и компост, разгадку мучившего его вопроса: «Кому же это я вчера в корчме у перевоза обещал отдать в жены свою дочку Матешу?» Но вздувшиеся воды Муры все так же выводили свою однообразную песню, и Миха Гамо, недоуменно качая головой, продолжал осторожно продвигаться вдоль крутого берега, утирая потный лоб. Несмотря на утреннюю прохладу, он вспотел от размышлений, ведь еще ни разу в жизни не случалось ему думать так напряженно, как сегодня.
Позавчера, помнится, поехал он в Любрек, на хорватскую сторону, продать десяток коней и взял с собой трех батраков — Крумовика, Растика и Кашицу. Всех коней он с выгодой продал и на обратном пути вчера днем заглянул с батраками в корчму у мурского перевоза. Народу там было порядочно, это он хорошо помнит. Корчмарь, Матео Лучик, проклятая его душа, все подносил и подносил — то вино, то рыбу с красным перцем, а вино у него отменное.
— Ну что, ребята, — предложил тут Миха Гамо батракам, — не пропить ли нам ну хоть того маленького жеребчика, что ржал всю дорогу?
— Да будет на то воля божья, — ответили те, и велел Миха Гамо принести кувшин «напейся-не облейся» с дырками по краю, так что, если наклонить его, вино через эти дырки вместо рта на землю льется. Не всякий изловчится напиться из такого кувшина.
Вино через ручки вытекает — и надо в одной ручке дырку пальцем заткнуть, а через дырку в другой ручке вино потягивать. Но до чего же вкусное вино из такого глиняного кувшина! Пьется приятно и быстро, а разогревает медленно. Выпьешь, дольешь и дальше передаешь, тот выпьет, снова дольет и дает третьему. Глаза начинают блестеть, и вот уже вокруг такого кувшина все запели, а проклятая душа, Матео Лучик, все подносит и подносит вино, то, что с виноградников под Вараждином.
— А что, хороший я хозяин? — спрашивает Гамо.
— Добрый хозяин, — отвечает Крумовик, а Растик с Кашицей и другие крестьяне пьют за его здоровье — Льеков, Опатрник, Къелин и еще кто-то, всех и не упомнишь. Когда вино на столе, вроде все знакомые, а после поди вспомни, с кем братался-целовался. Все крутится, в глазах мельтешит, ноги будто чужие, а ты знай весело напеваешь:
— Дой-думдойдой-дум-дум…
Плетешь невесть какую околесицу, еще и божишься, и чем только не клянешься. Матео Лучик от страха даже крестится. И вот, оказывается, поклялся ты отдать Матешу, дочку свою единственную, в жены новому своему побратиму, а кто он таков, наутро, проспавшись, и не помнишь. Ни кто он, ни откуда, с тобой ли пришел, раньше ли в корчме сидел, попозже заявился или еще как.
Может, был то Крумовик или Растик, а может, и третий — Кашица, что не видит на один глаз. Все из памяти выскочило, только и помнишь, что божился, клятву страшную давал, поминал господа бога, а то, может, и крест целовал, и весь народ звал в свидетели…
Дойдя в своих воспоминаниях до этого места, Миха Гамо удрученно сел в траву на берегу, ломая голову, как быть дальше.

И до того ему было тоскливо, прямо хоть плачь.
Но тут, на счастье, вспомнил он о своем покровителе, святом Михе — Михаиле, и вознес к нему молитву, прося ниспослать в его дрянную, глупую, безрассудную башку хоть какую ни на есть полезную мыслишку.
Произнося молитву, уставился он на желтые воды вышедшей из берегов Муры, глядел, как крутятся водовороты, как волны терзают берег, швыряя в него грязную пену.
И почудилось ему вдруг, когда прищурил он глаза, будто сам святой Михаил шепчет на ухо: «Осторожно расспроси своих работников насчет вчерашнего…»
— Благодарствую, святой Михаил, — набожно сказал Гамо, — а если совет твой поможет, закажу новый оклад к твоей иконе, что дома у меня висит, и позолотить отдам.
Он поднялся и зашагал вдоль берега к своей плавучей мельнице на реке, где работники мололи кукурузу. Чем ближе подходил он к этому сооружению из двух лодок, привязанных цепями к кольям на берегу, с большим колесом между ними, и чем явственней долетал до его ушей стук мельничных колес и хриплое пенье работников из дощатой будки на лодках, тем медленнее становились его шаги.
«А вдруг я посулил Матешу Крумовику, или Растику, или одноглазому Кашице»?
Он поднялся на мостки и с бьющимся сердцем вошел в будку.
— Dobar dan[3], ребята, бог в помощь!
— Dobar dan, дай бог здоровья, gospo — хозяин!
— Ну, как вы, ребята, после вчерашнего, голова не болит?
— Не болит, хозяин, а сам-то ты здоров?
— И я, Крумовик, bog mi dao[4] здоров, вот вышел поглядеть, как тут у вас помол идет. Что, много ли муки из нынешней кукурузы?
— Сыплется, слава тебе господи.
Миха Гамо присел на мешки и неуверенно произнес:
— А что, братцы, вчера у Матео Лучика ничего я такого дурного не говорил?
Работники смущенно топтались у жерновов.
— Ну, — серьезно произнес старший из них, Растик, — мы всего не помним, только вот Матешу ты кому-то в жены пообещал. Верно пан священник говорит: чертово вино чудеса творит и очи застит. А кому обещал — не ведаем, мы уж тут вспоминали, только никто его и не знает. Ты и клятву давал, да плохо мы ее запомнили, так, что ли, Кашица?
Одноглазый Кашица вздохнул и ответил:
— Начал ты вроде хорошо, по-христиански начал: «U ime Oca i Sina i svetog Duha»[5], я, Миха Гамо, клянусь…» а уж потом и нечистой силой клялся, и чертей красных приплел, которых пан священник в проповеди поминал.
— И еще о диком вепре, — грустно добавил Крумовик, осеняя себя крестным знамением, — пусть, говорил ты, дикий вепрь мою могилу разроет, а меня нечистым своим пятачком обнюхает. Верно, Кашица? И чтоб не было мне на том свете покоя, и чтоб мне грозой дом спалило, водой поле залило, воронье глаза выклевало, чтоб мне без рук, без ног остаться, и пусть мне волки уши обглодают, и кишки мои сгниют. Чтоб помереть мне без отпущения грехов, и чтоб черти мою душу через навозную кучу в пекло затащили, и чтоб жариться мне там веки вечные…
— А уж потом, — сказал Растик, — ты добавил: «И да поможет мне в том бог отец и сын и дух святой!» Правда, вот кому это ты клялся, мы чего-то не припомним, затмение на нас нашло.
* * *
Невеселый вернулся домой Миха Гамо. Обед на столе, от капусты пар валит, и баранина жареная благоухает, только Миха ни к чему не притронулся, сидит за столом и пальцами по лавке постукивает.
— Ох, Матеша, — вздыхает Гамо, — отец твой на старости лет совсем рехнулся. Вчера у Матео Лучика какому-то человеку тебя в жены пообещал и клятву дал страшную, а кто тот человек, откуда пришел, и не знаю. Вот до чего зелье проклятущее доводит. Надо бы вечером к Матео Лучику сходить, может, тот знает…
— Ну что ж теперь, — через силу улыбнулась Матеша, — ты ешь, а то баранина быстро стынет.
II
В Помурье дурнушку сыскать не так-то просто. На хорватской стороне об этом так говорят, не совсем, правда, учтиво:
— В Междумурье коней покупай и невесту сватай.
А девушки из Дольного Домброва слывут самыми красивыми в Помурье, и какова же, надо думать, была Матеша Гамова, если шла про нее молва, будто краше всех она в Дольном Домброве.
И парни в Помурье тоже красивые и крепкие.
— Конь из Помурья в упряжке хорош, а помурянский парень в драке один троих стоит, — говорят опять же на хорватской стороне.
Самым же видным парнем был в Домброве Власи Сочибабик, тот, что по вечерам, когда парни с девчатами сидели у дворов под шелковицами, ходил взад-вперед по селу и ни на одну лавку не глядел, кроме той, где сидела Матеша Гамова.
И когда парни вечерами, прохаживаясь по селу, запевали песни, Матеша Гамова только Сочибабика голос и слышала… Хотя уже признался Сочибабик сестре своей Драгунке, что любит Матешу, самой ей не говорил пока ничего; правда, та от Драгунки уже про все проведала.
Как же тут было не сокрушаться Матеше, что до сих пор не открылся Сочибабик отцу ее, Михе Гамо. Так и так, мол, люблю вашу дочку, а отец, уж она-то его знала, вынес бы вина, угостил Сочибабика, а потом велел бы позвать Матешу и спросил у нее: «Ну, Матеша, вот Сочибабик пришел и, как тому положено, просит у отца благословения, значит, взять тебя в жены. И я, отец твой, спрашиваю, хочешь ли пойти за Сочибабика?» — «Хочу», — ответила бы Матеша.
Потом бы все целовали крест и в костеле поставили бы свечи по случаю согласного сватовства. А через неделю пришел бы отец жениха Филип с дядюшкой Стражбой.
«Кум и сосед, — сказал бы папаша Филип, — вот мы пришли к тебе выпить по чарке вина и узнать, не раздумал ты отдать за моего сына свою Матешу?»
«Не раздумал, — ответил бы Миха Гамо, — добро пожаловать, давайте выпьем вина и отведаем белой курицы».
Матеша зажарила бы белую курицу и съела ее сердце на счастье в супружестве, и тогда, по правилам, должны были уже Филип и Стражба поставить в костеле по большой свече, на которых свечник из города вырежет «Матеше Гамо, Власи Сочибабик, дай бог здоровья!» И горели бы эти свечи с утра до вечера целую неделю, а когда они догорели б, позвал бы пан священник Матешу и жениха ее в приходский дом, а там уже будут и Миха Гамо, и Филип с дядюшкой Стражбой, и нотариус Палим Врашень. Надо будет составить брачный договор о том, сколько земли и скотины уступит Сочибабику отец, а сколько в приданое за Матешу даст Миха Гамо.
Брачный договор подпишут, обмоют это дело вином и пану священнику заплатят за «opovjedenje»[6].
«Ну, — скажет пан священник, — соседи могли бы добавить». И те не поскупятся. Первое оглашение, потом — второе, третье, а там уже и до свадьбы недалеко…
Размечтавшись обо всем этом, Матеша даже всплакнула. Вот глупый этот Сочибабик, все бродит молча по вечерам да улыбается с важным видом…
* * *
После обеда Матеша Гамова отправилась на перевоз к Матео Лучику.
— Матео Лучик, кум дорогой, хочу я тебя об одном одолжении попросить.
А Матео Лучик, хоть и старик уже, но стоит пригожей девушке заговорить с ним, ретивое у него взыграет как прежде.
— Чего тебе, Матеша, голубка?
— Матео, милый, отец тут вчера у тебя напился. Что это за люди с ним были?
— Да ваши же работники, Матеша, и другие мужики — Льеков, Опатрник, Къелин и еще кто-то, все пьяные, и еще был тут…
— А Сочибабика здесь не было, Матео Лучик, милый?
— Нет, голубка, не было. Сидели тут Льеков, Опатрник, Къелин…
— Послушай-ка, Матео Лучик, век тебя не забуду, скажи вечером отцу, что был тут Сочибабик и что это ему он пообещал меня в жены и клятву дал.
— Понимаю, Матеша, голубка, все сделаю как надо, а ты уж поцелуй старого Матео… Все, голубушка, не бойся, Матео Лучик свое слово держит.
* * *
Птицей летит Матеша по дороге меж кукурузных полей, радостная спешит домой и весело напевает, глядя, как люди обрывают крупные початки…
III
Вечером Миха Гамо уселся перед корчмой у перевоза, закурил трубку, прихлопнул пару комаров на носу и спросил Матео Лучика:
— Ну что, Матео, хорошо тебе вчера было?
— Хорошо, Миха, а ты как?
— Худо мне, Матео, грех я на душу взял. — Он вздохнул и продолжил, — как выпью, так и несу невесть что.
— А Сочибабику-то это как пришлось, а, Миха?
— При чем тут Сочибабик, чего ты о нем вспомнил? Я тебе толкую, что согрешил и что теперь нам, несчастным…
— Ах, Миха, ты что же это не помнишь, что ли, что поклялся отдать Матешу Сочибабику?
Тут Гамо встал и бросился обнимать Матео:
— Прямо камень с души снял. Сочибабик — хороший парень, и отец его Филип — добрый мой сосед, я уж сколько раз с ним братался. И ведь никто вспомнить не мог, кому это я клялся — ни Кашица, ни Растик с Крумовиком, никто не помнит. Все в грех впали, напились как нехристи, ну и я туда же. Я уж боялся, не затесался ли к нам нечистый, бес собачий, сучья кровь, не ему ли Миха Матешу посулил? Разве не слыхать по Междумурью, что нечистая сила христианам докучает? Покойница мать рассказывала, как ее отец, светлая ему память, поехал раз в Вараждин коров покупать. Купил, значит, и возвращается вечером домой. А купил как на подбор — одних черных. Гонит он их по дороге через лес за Любреком и чует — серой запахло. Кругом тьма-тьмущая, и вдруг коровы начали светиться. Шерсть у них засверкала, а хвостом махнут — будто молнии сыплются, и обернулись те коровы чертями, — Матео перекрестился… — стало быть, из коров превратились они в чертей, в нечистую силу, и сплясали чардаш вокруг горемыки христианина и сгинули в дубняке. Так и пришел он домой без коров, перепуганный насмерть, и всю дорогу из лесу голоса слышал: мачада, мачада, мачада… А плодятся черти больше всего в болотах у Муры и Дравы. Правда, люди и другое болтали, будто тех коров он в карты проиграл. Вот и поди знай, черта ли ты встретил или еще какую нечисть. Так и я мучился. Слушай, Матео, принеси-ка бутылку вина, запьем лучше эти страхи, да и за здоровье Сочибабика выпьем.
Выпил Миха Гамо с Лучиком, повеселел и обещал ему, что на свадьбу Матеши вино у Матео возьмут, то самое, что с вараждинских виноградников, А бутылки на счастье о деревья расколотят. И напророчат они им радости и счастья в жизни.
Допоздна засиделся Миха, а домой собрался, уже совсем как стемнело. И перепутал он дорогу, вместо поля пошел по узенькой тропке вдоль берега Муры. Тропинка узкая, а Миха на ней чардаш отплясывает. Распугал дроф, спавших в камышах, те поднялись с криком.
Большая дрофа на лету задела Миху крылом. А луна не светит, дорога в темноте, воды не видать, острых листьев камыша и то не видно. Нехорошо это, дурной знак…
Выбрался Миха из камышей, приплясывая на крутом берегу, а волны Муры ему такт об берег отбивали. Эй, гой-гой-гой-гоп! Топал Миха по самому обрыву, и тут край тропинки под ним рухнул, закружила вода Муры самого богатого хозяина, тонет Миха, в ушах у него звенит, а в голове последняя мысль бьется. — завлекла его, значит, нечистая сила… И вполне могло выйти так, что Матео Лучик был тем последним, кто видел Миху Гамо живым.
IV
В каталажке вараждинского суда лежали под вечер на нарах пятеро бездомных бродяг, скитальцев, которых выловили в вараждинской жупе гайдуки и сельская стража.
Разлегшись на нарах, они вели между собой беседу о путях-дорогах.
— Да, — начал один, — трудно нашему брату на хорватских землях. Там, за Загребом, крестьянам самим есть нечего. А на пути из Загреба через горы селений и вовсе нету. Скалы одни, голые, как эти вот стены. Еле доберешься.
— В Далмации — другое дело, — вставил второй, — вот куда ходить надо. У всех в подвалах вино, далматинцы угостят, итальянцы напоят. А то иди в Крайну. Там, в Крайне, народ добрый. Накормят путника и денег дадут.
— У Постойны хорошо просить, — сказал маленький бродяга, — стоишь, бывало, люди мимо идут, видят, что странник, и подают…
— Я так скажу, ребята, — еле слышно произнес старый бродяга, который до той поры молчал, — ни к чему по чужим дальним странам шататься. За Муру идите, в Междумурье. Вот где путника привечают. Раз пришел я к Муре, в корчму, что у переправы стоит. Зашел, угостили меня вином из кувшина «напейся — не облейся», вместе с мужиками пью, будто ровня им. И подходит ко мне один пожилой хозяин, Михой его величали, обнял меня и сулил отдать в жены дочку свою. И обещание свое клятвой скрепил, такой страшной клятвой — у меня аж волосы дыбом встали. Богородицей клялся, отцом, сыном и святым духом… Правда, братцы, неплохо там.
— Что же ты, старый, там не остался?
— Да как начали меня крестить, я из рук у кума возьми и выскользни, и с тех пор несчастье так и ходит за мной по пятам. Выхожу я утром из этой самой корчмы, а навстречу жандарм, черт бы его побрал. «Лучше будет нам дальше вместе идти», — говорит, будь он проклят, чтоб ему мать обесчестили, отца убили…
И привел меня в город, из города за Драву, по этапу, а из Любрека сюда в Вараждин. Но вы, братцы, в Междумурье сходите, вас там приветят, дочерей своих посулят и самой страшной клятвой обещание свое скрепят…
V
Матеша Гамова бродила по двору сама не своя. Поздно уже, а отца все нет.
«Разве что задержался, — думает она со страхом, — ведь потом вдоль Муры пойдет пьяный. Берега-то крутые, обрывистые, рухнут невзначай, папаша ведь тяжелый».
— Эй, Растик, — зовет Матеша, — бери два фонаря, да пойдем-ка хозяина, отца встречать.
Сонный Растик, ворча, зажег фонари, и они вышли в ночь, в темноту.
— Послушай, Растик, — говорит ему Матеша, — не слыхал ты чего о водяных разбойниках?
— Слыхал, бабка, бывало, нам, ребятишкам, вечером как станет рассказывать, так мы сразу в рев. Про то, как водяные разбойники, злые духи, по ночам под бережком караулят. Идешь вдоль берега, а они тихонько так, спаси нас богородица, посвистывают. И если кто этот свист услышит, надо «Верую» задом наперед сказать — не то злые духи тело его ухватят. От их свиста берег дрожит и рушится… И не заметишь, как заманят тебя на край, и свалишься в воду, прямо в омут. А омут тот — тоже сила живая, злая, кружит она в воде души грешных утопленников. Схватит тебя такая вот грешная душа, и, ежели ты грешен, вода из тебя дух выжмет, и потонешь ни за что ни про что. А кто же не согрешит за всю жизнь? Немного таких найдется, кого бог помилует и ниспошлет ангела. Ну, а покуда ангел подоспеет, тебе самому надо с дьяволом справиться, водоворот остановить, а то, к примеру, выругаешься в воде, бог от тебя отступится и не поможет. Есть в реке и чистые души деток утопших. Коли заглотнешь с водой такую душеньку, дитятко божье за тебя похлопочет. Хуже, если проглотишь с водой душу самоубийцы. Самоубийца покоя не знает, душа его в тебе начнет метаться, оглушит тебя, в водорослях запутает, на берег выбросит, тогда конец тебе, утонешь, не высвободишься.
— Растик, а что водяные?
— Эти у нас не водятся, Матеша. Они быстрого течения не любят, худеют от него и силу теряют. А ежели все же родится такое из дерьма самоубийцы-«самомора», то на Муре такой водяной обернется чайкой и улетит в болота, на Дольные земли либо на озеро Балатон.
— Подай мне один фонарь, Растик, раз уж мы у мельницы, сяду-ка я в лодку и поплыву вдоль берега, вдруг папаша надумал все же по-над Мурой, честь ей и хвала, возвращаться. Ты, Растик, ступай кукурузным полем, вдруг хозяин-батюшка там пошел. А я погребу к перевозу и зайду к Матео Лучику, коли там отец, мы с тобой у Матео встретимся.
Матеша отвязала лодку, закрепила на носу фонарь, заплескали по воде весла, и поплыла лодка по Муре, честь ей и хвала, как сказала Матеша, потому что не приведи господи прогневать реку…
Матеша плыла в темноте, которую лишь на несколько метров разгонял свет от фонаря. Лучи света и плеск весел пробуждали от сна ласточек-береговушек, которые попискивали в ночной тиши и испуганно вылетали из своих гнезд в высоких берегах.
Вдоль самого берега ведет лодку Матеша, и что же видит она за излучиной реки?
Видит фонарь на другой лодке и слышит плеск весел.
Может, кто-то из Дольного Домброва рыбу ловит?
Подплывает ближе и различает лодку, а в лодке кто-то сидит, вздыхает.
Вот лодки почти поравнялись, и тут в тишине реки и берегов с другой лодки раздается:
— Здравствуй, Матеша!
И Матеша отвечает:
— Здравствуй, Сочибабик!
Так это Сочибабик, оказывается, вздыхал в лодке, Власи Сочибабик, славный парень, сын Филипа.
— Куда ты так поздно, Матеша?
— Да вот папаша ушел вечером к Матео Лучику, а мне тревожно за него, дома сидеть невмоготу. Растик пошел ему навстречу через поле, а я вдоль берега к перевозу плыву.
И поплыли две лодки рядышком.
— А ты, Сочибабик, куда на ночь глядя собрался, не иначе как рыбу ловить, только что же я сети не вижу?
— Ах, разнесчастная моя жизнь, — вздохнул Сочибабик, — не спалось мне дома, все думал-думал, а потом вышел вон, отвязал лодку и поплыл, куда вода понесет. Горемычный я человек, Матеша. Отец твой Миха, по деревне говорят, вроде вчера у Матео обещал тебя в жены отдать, а кому — не знает, и что вроде как поклялся он.
Лодка Сочибабика обогнала Матешу.
— Подожди, — зовет Матеша, — не шуми веслами, я тебя не слышу.
И снова поплыли лодки бок о бок.
— В чем же твое несчастье, Сочибабик?
Вздохнул Сочибабик и, подумав, сказал:
— Много девушек кругом, есть среди них и красивые, но ты, Матеша, краше всех. И, выходит, лучше мне утопиться.
— Опять ты меня обогнал… Так почему тебе лучше утопиться?
— Посулил тебя отец кому-то в корчме…
Сочибабик так заработал веслами, что Матеша еле его, беднягу, догнала.
— Не печалься ты, да подожди грести, не думай про это, да говорю же тебе: не греби, это ведь просто так болтали. Ну что, теперь ты доволен, Сочибабик?
Сочибабик со вздохом тихонько спросил:
— А ты бы пошла за меня?..
И снова оказался далеко впереди.
— Да подождешь ты меня или нет, Сочибабик? — кричит Матеша. — Подыми весла, послушай, что я тебе скажу.
И снова лодки плывут вместе, Сочибабик сидит бледный и тихо ждет ответа.
— Ну что, Матеша, пойдешь за меня?
— Пошла бы с божьей помощью, Сочибабик… Тихо, а то лодку перевернешь. Ты нагнись немножно, и я тоже, поцелуй меня, если хочешь, Власи!
Тихо плещут весла, и плывут в лодках два счастливых человека — Матеша и Власи. Несет их вода, и говорят они друг другу о любви… Но что это послышалось вдали на берегу? Веселый крик и топот «эй, гой-гой-гой-гоп», будто кто чардаш пляшет.
Все ближе горланят.
— Папаша идет, — восклицает Матеша, — храни его господь и святой угодник Михаил.
— Эй-гой-гой-гой-гоп!
И тут вдруг рухнул край берега и что-то тяжелое плюхнулось в воду.
А лодки уже спешат, несутся к тому месту. Глядите, вот он, Миха Гамо, мечется в воде, будто душу самоубийцы проглотил. Крутит его на том месте, где корчатся в воде души грешных утопленников, кружится с ним водоворот, но вот крепкая рука Сочибабика поднимает Миху над водой. И что же видит Матеша, когда подплывает к лодке Сочибабика? Папаша Миха лежит в лодке весь мокрый, а Власи старается из него воду выкачать.
Тихо подплыли лодки к переправе… Кликнули Матео, он прибежал, и недвижного Миху вынесли из лодки на берег, а потом отнесли в дом. Позади них бредет Матеша, руки заламывает и причитает. В доме уложили Миху на пол, на грудь крест положили, потом достали свяченой воды, смочили ему виски и ложку водки в рот влили. И глядь — ожил Миха, медленно открыл глаза. Подвинули ему крест поближе к горлу, и Миха произнес:
— Где я?
После этого крест положили уже на лицо, чтобы и мысли пришли в порядок… Миха приподнялся, огляделся вокруг, увидел Матео, Матешу, Сочибабика да как разрыдается:
— Да что ж я за человек такой, будь я проклят, пьяница несчастный, Матешу чуть без отца не оставил, Сочибабика без тестя.
Матеша руку Сочибабика сжала и шепчет:
— Слышишь, Власи!
Миха заплакал и стал допытываться, не видал ли кто на реке голубого света — чертова знака, и не слыхал ли кто непонятные голоса: мачада, мачада, мачада!
Никто ничего не слышал.
— Слава тебе, святой Михаил, — обрадовался Миха, — ушел я от нечистой силы…
Тут и Растик появился из темноты. Услыхав про случившееся, он даже прослезился и рассказал, что, пока он шел полем, ветра не было, а фонарь вдруг погас и высоко над головой услыхал он звуки: джву, джву.
Видать, злые духи водили свой нечистый хоровод.
А Матео побожился, что, как ушел Миха, спустил он собаку и та, оборотясь к реке, три раза протяжно и тоскливо провыла…
В такую зловещую ночь страшновато им было домой идти и все остались ночевать в корчме. Чего понапрасну к нечистой силе в гости набиваться? Матеша легла в каморке, а мужчины остались в горнице языки почесать. Зашел разговор и о клятве Михи. Подивился Сочибабик, когда сказал Миха, что клятву ему давал, но и Матео Лучик подтвердил, тут и Растик вспомнил, что точно Сочибабику посулил Миха Матешу.
Власи божился, что в тот вечер он на реке рыбу ловил, и уж никак не мог быть в корчме у перевоза.
Вот какие странные вещи творятся, всеблагой наш спаситель, не иначе как темные силы избрали Междумурье местом для шабаша! А Сочибабик прошептал этим темным силам короткую молитву, благодаря за случившееся, и все думал про свою Матешу, пока не уснул, положив голову на стол у Матео Лучика…
VI
Миха Гамо заказал благодарственный молебен по случаю избавления от нечистой силы.
— Как есть язычники, — отметил про себя пан священник, запирая в кассу деньги и улыбаясь при этом, как, вероятно, и любой другой уважаемый житель Междумурья перед свадьбой в богатой крестьянской семье… Уже догорела толстая свеча с вырезанными на ней именами Матеши и Сочибабика, уже состоялось первое оглашение и свидетели подписали у нотариуса Палима Врашеня брачный договор, который начинался словами: «U Krista Boga[7], я, Миха Гамо…»
Не меньше четверти часа прошло, пока ставил Миха свою подпись. Он очень старался, хорошо понимая важность документа, но запутался настолько, что сперва никак не мог вспомнить, как пишется буква «г», а потом и прописное «м» в слове ГАМО доставило ему массу неприятностей. Вместо трех палочек он написал пять, захотел исправить, но от чужого сочувствия стал совсем бестолковым, нажал слишком сильно и вместо собственного имени изобразил небольшое озерцо.
В конце концов он просто поставил три крестика, и свидетели, Стражба и остальные, последовали его примеру, призывая при этой тяжелой и ответственной работе в помощники святого духа; тот поспособствовал, и крестики красиво и ровно обозначили по очереди Стражбу, Льекова, Опатрника и папашу Филипа, что скрепил под ними своей подписью нотариус, Палим Врашень, постаравшись и в службу и в дружбу.
Пока жив, будет оставаться Миха главой в доме, а как отдаст богу душу, наследство примет Матеша, и жить супруги до самой смерти Михи будут в доме Сочибабика, а с хозяйства Гамо брать процент, всегда неизменный, будет урожай или нет, прибавится ли скотины или убавится. И Сочибабик-отец тоже останется главою рода Сочибабйков до самой своей смерти, и свою «kuću»[8] передаст Власи лишь в знак отцовской любви, а вовсе не потому, что захочет уйти от дел. Когда же умрет старый Сочибабик, главою станет Власи, и в светлую память об отце поставит часовенку у дороги из Дольного Домброва в Горный, и посвятит ту часовенку святому Филипу Нерею, богоугоднику, рожденному во Флоренции, в возрасте восьми лет провалившемуся с ослом в погреб и с божьей помощью от увечий и смерти спасенному.
Матеша в память о покойном Гамо тоже поставит часовню в честь его небесного покровителя, святого архангела Михаила, ангела второго ряда, и стоять она будет на дороге к перевозу, а если родится у Матеши сын, назовут его Михой.
— Будет тебе, — увещевал Миха папашу Филипа, когда тот при составлении брачного договора требовал, чтоб будущий внук звался Филипом, — хвала и честь святому Филипу, только ведь святой Михаил святее его, он самого черта из рая изгнал.
Состоялось и второе оглашение, затем и третье, и уже нотариус встречает свадебную процессию и регистрирует гражданский брак в книге регистрации бракосочетаний королевства венгерского[9].
После гражданского бракосочетания все направились в костел, бросая за спину горох.
Миха Гамо выпил у нотариуса два литра вина и теперь растроганно плачет, сестра Сочибабика, Драгунка, ведет невесту, а та, в сапожках со стельками из листьев подорожника, чтобы жить с мужем в согласии, шагает потихоньку и все оглядывается на веселое лицо Сочибабика, которого согласно мудрой традиции свидетели ведут в костел за руки.
— Поглядите-ка, на той стороне играет и ловит мух трехцветный котенок. Это счастливая, очень счастливая примета.
— До чего ж славная зверушка, — всхлипывает дядюшка Стражба, взволнованный не меньше, чем счастливый отец Миха, — мышку бы ему кинуть…
Учитель Вовик уже поджидает с музыкантами на хорах, свадебная процессия входит в костел. Звучит орган, гудит контрабас, жалобно поют скрипки, трещит маленький барабанчик — хоть и ни складу ни ладу, зато трогательно и по-церковному.
Миха готов бежать на хоры обниматься с учителем Вовиком, но понимает, что сейчас не время, пускай сперва обвенчают.
Досточтимый пан священник водружается на кафедру и читает из Евангелия:
— «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог дал своего единственного сына, — возвещает священник, — и ты, Миха, отдаешь свое единственное чадо и расстаешься с ним.
Миха, тронутый сравнением, проливает слезы и рыдает в голос, а священник продолжает излагать свою мысль о том, как же может быть счастлив Миха, отдавая свою дочь такому хорошему и достойному человеку, как Сочибабик.
Речь священника изредка прерывается паузами — должно быть, ему видятся пятьдесят золотых, лежащие в кассе, пятьдесят золотых за таинство бракосочетания, и еще думает он о свадебном угощении и вине.
Через полчаса священник заканчивает тем же, с чего начал:
— «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший Hác воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому».
Музыканты на хорах наяривают что есть сил, уже чуя ароматы свадебного стола.
Служба. Министранты не поспевают за священником и глотают фразы: вместо «vobiscum»[10] звучит только «cum», затем «um» и, в конце концов, «m».
«Ite, missa est…»[11] Это единственное целое предложение, которое сумел выговорить священник — «отпусти, господи, грехи его», — и потерявшие терпение министранты отвечают «dras» вместо «gratias»[12], несмотря на страшные глаза, которыё делает священник.
Все в переполненном костеле смотрят на Сочибабика и Матешу, коленопреклоненных пред алтарем. Лишь учитель Вовик, поговорив с Растиком, с таинственным видом извещает музыкантов, что на столе сегодня будут оленьи окорока.
И вот уже звучит в полной тишине «да» Матеши и из толпы гостей отзывается низкий голос растроганного Михи «да, да, да».
Весело играют на хорах музыканты, из костела валом валят зеваки и, приплясывая, выходят гости.
Власи ведет Матешу, вслед им звучит музыка, а перед костелом их встречают другие музыканты. Это цыганский голова Бурга со своим оркестром: загородив дорогу, грянули и они. А у общинного дома поджидают пятеро верховых со старинными саблями и пылающими факелами.
Подлетают ближе, саблями размахивают, кричат что-то неразборчивое — выкуп требуют от жениха. Остался этот обычай в память о турецком владычестве. Тогда, сто лет назад, в десяти часах езды отсюда в Надьканиже развевался зеленый флаг и сверкал полумесяц канижского пашалыка, а турки учиняли в наших полях набеги и в Мурском округе на свадьбах от гостей выкуп требовали.
Жених дает парням по золотому, тут подходят стрелки с «жупаном» и требуют на порох. Получают свое и эти.
Тут выходит старуха Григорова, бабка-повитуха, и трижды обходит вокруг, пританцовывая, чтобы дети у них родились, а парни палят из ружей и пистолетов, аж уши закладывает, чтобы дети были сильные, красивые и смелые.
Цыгане и деревенские музыканты играют разом, и все шествие с плясками выходит за околицу. Разве не в селе будет свадьба? Нет. Свадебный стол накрыт у Матео Лучика, там Миха поклялся, что выдаст Матешу за Сочибабика, так пусть и гулянье там будет, коли сдержал он свое слово.
Половина села приглашена на свадьбу, Матео Лучик встречаёт гостей уже на полдороге, а с ним еще один цыганский оркестр с хорватского берега.
И вот уже играют три оркестра, конец дороге — они у Матео.
До чего толково он все устроил, длинные, покрытые белыми скатертями столы стоят на зеленом лугу, в тени деревьев помурянского леса. На опушке леса кругом костры разложены и сырой хворост заготовлен, чтобы к вечеру комаров дымом разгонять.
VII
Такого свадебного застолья в Мурской округе давненько не бывало.
Два жареных вола дожидаются, чтобы их разрезали. Кур уже съедено не один десяток, и четыре оленьих окорока из-за Дравы пришлись по вкусу и гостям и музыкантам. Жареные шницели из дроф и мягкие кукурузные лепешки, помазанные абрикосовым повидлом. Блюда печеные, жареные, тушеные. И вино красное, столько его пьется, что хоть литр разлей — никто и не заметит, вот сколько вина.
Слышны песни, играет музыка, трава затоптана — танцуют чардаш.
Миха подпрыгивает в танце, плачет, смеется. Плачет и пляшет Стражба.
Ну, а как там Къелин, Опатрник, Льеков, Кашица, Растик, Крумовик и другие: священник, учитель Вовик, нотариус Палим Врашень? Едят, пьют, пояса распустили, толкуют меж собой, все на равных.
Что же касается Матео Лучика, то он как раз ведет у перевоза беседу с четырьмя странниками.
— В Вара жди не кой тюрьме, — начинает один из них, голова их и предводитель, — рассказывал нам старый бродяга, брат наш, что по Междумурью хорошо странствовать и что крестьяне тут, мол, дочерей своих в жены обещают, как обещал ему один, Миха какой-то. А старик тот в тюрьме занемог, вот и говорит нам: помру я, братцы, не видать мне больше Муры, а вы ступайте туда, найдите Миху и передайте ему поклон от старика бродяги, с которым он пил вино из кувшина «напейся-не облейся» и которому дочку посулил, в чем и поклялся…
Матео Лучик качает головой и отвечает им:
— Братцы, золотые мои, нехорошо про это Михе напоминать, выпил он лишнего и согрешил, лучше молчите, братцы, про это. Впрочем, в добрый час вы пришли. Свадьбу тут справляют. Поешьте с нами, попейте, о путях-дорогах расскажите, а про это дело помалкивайте, коли вы христиане.
Вот как случилось, что не передали бродяги Михе наказ старика странника. Пили, ели, напились-наелись, как и все гости, кроме Матешй, Сочибабика, пана священника и нотариуса Палима…
А когда возвращались ночью в село и вел Сочибабик Матешу к себе в дом, только один пьяный цыган играл им по дороге, остальные разбрелись кто куда, какие пропали, какие улеглись спать по разным местам, — кто на меже, кто в лесу помурянском, а кто и под столом успокоился, где валялись кости оленей, дроф, куриц и волов… и где пролитое вино постепенно окрашивало землю в красный цвет, будто случилось там большое побоище, которого вопреки всем обычаям, к счастью, не произошло.
VIII
На другой день сидел Матео Лучик у перевоза и подсчитывал, какую прибыль получил он от клятвы Михи Гамо. Считал, считал, а сам блаженно улыбался, потому что сбывался потихоньку давний его сон: накопить побольше деньжат и уехать отсюда в родные места, над Которской бухтой, — ведь он родом из Далмации.
Купит он себе там маленькую «kuću», заведет хозяйство, будет на скалы и на море в Которской бухте смотреть, вспоминать о годах, что прожил здесь, на Муре, в корчме у перевоза, смеяться над нечистой силой и чувствовать на лице след того единственного поцелуя Матеши, при мыслях о котором у него, старика, трепещет сердце…
Об одной ужасной собаке
Я был принят в редакцию журнала «Мир животных», владелец которого содержал большую псарню. И хотя по части собак у нас имелся редактор-специалист и сам владелец был крупным знатоком, известным кинологом, совершенно естественно было и мое желание запастись серьезными знаниями относительно этих благородных друзей человека.
Я проштудировал целую кучу книг по кинологии, так что даже начал тявкать во сне, и представьте себе, во всем разобрался. До сей поры я слабо представлял, чем «дакс» отличается от «барсучки». И вот вам пожалуйста! Не прошло и недели, а я уже знал, что «дакс» и «барсучка» означает одно и то же — то бишь таксу.
Итак, во всеоружии, как мне казалось, специальных знаний, я явился в редакцию, уселся за редакционный стол и стал с ужасом ожидать, что же будет дальше.
Подошел главный редактор, потрепал меня по плечу и сказал:
— Напишите в следующий номер статью о китайских пинчерах…
Сперва меня бросило в жар, затем в холод, и, перебирая на полках солидные монографии, я трясся сильнее осинового листочка. Вместо китайских пинчеров мне начали мерещиться по стенам китайцы. Наконец я наткнулся на труд Вацлава Фукса «Все породы собак в описаниях и картинках» и, вытаращив глаза, просидел над ней три часа, после чего в отчаянии решил сходить пообедать. На улице у входа в «Мир животных» мне встретилась дама, тащившая за собой пса. Ах, что это была за собака! Сидя над листками бумаги, я тщетно пытался придумать хотя бы одну фразу для заказанной статьи, но при виде этой собаки понял, что смог бы написать целую книгу. Мной овладело неодолимое желание стать владельцем замечательной собаки, поскольку было ясно, что без практического опыта я останусь полным олухом в области кинологии, к тому же порода этой собаки представлялась мне какой-то универсальной. А дама, едва заметив, с каким вожделением я смотрю на ее собаку, сразу запричитала:
— Бедный песик! Вы посмотрите, что за красавец, но все же нам придется расстаться. На днях я поступаю на службу и уезжаю, а с собой взять его не могу. Вот и иду в редакцию «Мира животных», может быть, там кто-нибудь возьмет. Нет, я не продаю, боже упаси! Мне бы такое и в голову не пришло! Ведь это все равно что собственное дитя продать. Доверить воспитание — это другое дело. Он ведь такой красивый, вы полюбуйтесь, до чего хорош!
Да, пес был просто великолепен. Это я отметил сразу. Немного напоминал не то элитного скайтерьера, не то гигантского пинчера. И те и другие отличаются торчащими, аккуратно подрезанными ушами и коротким, обрубленным хвостом. Но этот был, по моему убеждению, красивее и тех и других. Хвост у него был как у пойнтера, одно ухо загибалось крючком, наподобие ушей шотландских овчарок — колли. Другое ухо торчало, как у карликового французского бульдога, а голова навевала воспоминания о неудачном представителе породы пуделей. Что же касается туловища, то оно было, на мой взгляд, само совершенство. По туловищу пес являл собой помесь фокстерьера со спаниелем.
Короче говоря, экземпляр был настолько замечательный, что мог послужить для меня пособием по изучению существующих собачьих пород.
— Сударыня, — сказал я, — я мог бы порекомендовать вам порядочного человека, который оценил бы достоинства вашего пса. Этот человек — я. Подарите мне собаку.
— Она ваша, — подозрительно быстро согласилась дама.
Каждый поймет, сколь счастливым для меня было это мгновение, воспоминания о котором я буду хранить до конца дней.
— Сейчас я сниму нижнюю юбку, — продолжала дама, — она, правда, не первой свежести, но, надеюсь, это вас не смутит. Собаке надо оставить какую-нибудь мою вещь, чтобы она к вам привыкла.
Ситуация создавалась щекотливая. Не хватало еще, чтобы она начала раздеваться посреди дороги! Дама уже готова была осуществить свое намерение, однако я, руководствуясь соображениями нравственности, заявил, что сойдет и носовой платок. Правда, платок у нее оказался один, и вдобавок она страдала насморком. Сейчас и я по ее милости хожу с насморком, но это еще не самое большое несчастье, постигшее меня в истории с этой великолепной собакой. Я дал псу обнюхать мокрый платок хозяйки и спрятал его в карман, а ей из чувства сострадания отдал свой, за который в свое время заплатил какую-то ерунду вроде тридцати геллеров, что, несомненно, было весьма незначительной компенсацией за столь роскошное приобретение.
Напоследок дама записала мой адрес, якобы для того, чтобы как-нибудь заехать проведать собаку, и добавила, что мне неплохо было бы запомнить пять адресов, или же записать их на случай, если пес от меня сбежит, а это, заметила она, не исключено. В этом случае найти его можно будет в Вршовицах у пани Камилы, Баракова улица, дом 14, или в Дейвицах у сапожника Книжки. Он может сбежать в Карлин на Виткову улицу к колбаснику. Если его и там не окажется, то тогда он наверняка будет у пани Зазворковой в кондитерской на Вацлавской площади. Однако вполне вероятно, что он сбежит на Подол, на Шварценбергский проспект, мануфактура пани Моучковой. Сама дама и есть пани Камила из Вршовиц, а все остальные из разных концов Праги — ее родственники, к которым она ходила в гости с собакой. У всех этих родственников на Подоле, в Карлине, в Дейвицах и на Вацлавской площади есть дети, а собачка так любит детей, что до обеда, например, играет с ними в Дейвицах, а после обеда — в Карлине. Так что расстраиваться по этому поводу совершенно незачем, уж где-нибудь пса я найду непременно. На этом описание маршрутов его странных прогулок закончилось, и я попытался по зубам определить возраст собаки. Дама сказала, что она не кусается, и это оказалось святой правдой. Зубов у моей собачки не было вовсе. Дама объяснила, что зубы псу выбили стулом во время драки на престольном празднике. В этой связи чрезвычайно актуальным стал вопрос о его рационе. Оказалось, что по воскресеньям он ест фарш из вареного мяса и манную кашу, в понедельник — гороховое пюре с мелко нарезанными копченостями, во вторник — колбасу из рубленой свинины с ливером, в среду — картофельные галушки, в четверг — пшенную кашу с корицей и сахаром, в пятницу — молочный пудинг, а в субботу — кровяную колбасу с картофельным пюре. И будьте внимательны, во вторник и в субботу не забудьте вынуть из колбасы деревянные палочки. Что же касается галушек, то в них ни в коем случае нельзя класть ни комбижир, ни маргарин, а исключительно сливочное масло. Мне были даны адреса фирм, имеющих лаборатории по исследованию пищевых продуктов, где можно купить апробированную высококачественную манку. Да, вот что еще! Обратите внимание на картофель для галушек. Сами понимаете, что подмороженный картофель тут не годится. Затем она дала мне рецепт приготовления горохового пюре и порекомендовала двух колбасников, у одного из которых следовало покупать кровяную колбасу, а у другого — колбасу из рубленой свинины с ливером.
Так мы дошли до трамвайной остановки. Дама погрозила псу пальцем:
— Слушайся, разбойник!
И вскочила в трамвай так быстро, что в потоке ее слов я даже не успел вставить вопрос, как же, собственно говоря, зовут это чудовище.
Теперь-то я называю его чудовищем, и вы сами увидите, что за все его проделки, за то, что друзей он превратил в моих заклятых врагов, за то, что многих дорогих мне людей он довел до тюрьмы, он не заслуживает другого названиями даже более того: «чудовище» еще слишком мягкое выражение. А ведь до чего невинно он выглядел!
Когда мы остались наедине, он поплелся за мной, словно я уже лет десять был его хозяином. Непохоже было, что перемена владельца как-то на него подействовала.
Он имел вид подкидыша, которого волокут на поводке, смотрел вокруг с выражением полной апатии и лишь изредка останавливался, чтобы у стены дома совершить обряд, согласно общепринятым нормам собачьего поведения. Я не сразу заметил, что он проделывал это слишком часто и при этом явно старался испортить выставленные на лотках перед магазинами продукты. Теперь-то я понимаю, что его действия были направлены на то, чтобы мне поскорее опостылеть. Но тогда я тащил его дальше в радостной уверенности, что моя замечательная собака будет у всех вызывать только зависть. Так мы и шествовали по Праге, когда останавливался он — замирал и я. На мосту он задержался у брюк сборщика пошлины за переход. Секунды ему оказалось достаточно. Смутившись, когда его обозвали свиньей, я потащил пса в кафе «Тумовка», намереваясь похвастаться своим приобретением и внести изменение в его меню, предложив рогалик, смоченный в кофе. Из кафе меня вежливо, но настойчиво попросили, и как можно быстрее, поскольку в общественные места вход с собаками запрещен, не говоря о том, что у моего пса, дескать, слишком разбойничий вид.
Сгорая от стыда, я потащил его дальше и в ближайшей лавке купил ему колбасы. Чудовище только взглянуло на вывеску и, честное слово, не вру, колбасу жрать не стало. Оно не увидело на вывеске слова «Хмель». А жрал этот чертов негодяй колбасу только от Хмеля!
Однако тогда меня умилила проницательность собаки, и я зашагал дальше, заботясь лишь о том, чтобы она не входила в соприкосновение с брюками прохожих. Моим главным намерением было похвастаться псом перед своими знакомыми в редакции одной известной политической газеты, которые сомневались в моей способности быстро найти общий язык с собаками.
Короче говоря, доставил я его в редакцию и убедился, что политические обозреватели разбираются в собаках еще меньше, чем в политике. Все они решили, что перед ними немецкая овчарка. Наибольшее восхищение выказал доктор Пулпан. Пес с такой доверчивостью ответил на его восторги, что Пулпан необыкновенно проникновенным голосом принялся упрашивать меня отдать ему это животное. И что бы вы думали я сделал в приливе великодушия? Подарил пса. Но поскольку я не знал его имени, то мы выбрали ему кличку из книги Вацлава Фукса «Все породы собак в описаниях и картинках»: Ами, Амик, Амидор, Амичек, Афик, Вабика, Бабка, Бенда, Бика, Балабан, Блекта, Бобечек, Брблоун, Бундаш и так далее до Цыгана. Но и без клички он выглядел как философ из «Богемы» Мюрже.
В конце концов, какая разница — у меня будет собака или у моего друга Пулпана? Его невеста обожает животных. Заимев столь роскошного пса, Пулпан заслужит еще большее расположение невесты. И почему бы мне, собственно, не избавиться от такой великолепной собаки? Конечно, она и вправду красива, однако есть у нее кое-какие странности. Ее проделку со сборщиком платы на мосту не отнесешь к разряду красивых поступков. А взять ее привычки! Страсть к детям из разных концов Праги и ее окрестностей или это ее изысканное меню! Я и уступил пса Пулпану. Оставив адреса всех родственников прежней хозяйки и рассказав, чем его кормить, я ушел, распираемый сознанием собственной щедрости. Давно я никому ничего не дарил!
Шагать по улице было легко и приятно: во-первых, не надо было тащить за собой косматое существо, а во-вторых, приятно сознавать, что ты совершил добрый поступок. Домой я вернулся поздней ночью и узнал о событиях, от которых волосы у меня поднялись дыбом.
Под вечер к моей матери зашла какая-то дама, которая привела собаку и утверждала, что эта собака моя и что она от меня сбежала. Мать ничего не поняла, так как даже представить себе не могла, чтобы я оказался таким идиотом (ее собственные слова) и невесть от кого приволок к себе в дом этакую беззубую образину.
Началась перебранка. Дама сказала, что, во-первых, она не кто попало, а вдова, и сын ее уже три года на военной службе, а собака эта вовсе не беззубая образина, а очень порядочная собака. Обо мне она отозвалась, как о сущем ангеле, который прекрасно разбирается в собаках, особенно в таких красивых. В конце концов дама объявила, что она не уйдет из дому, пока я не приду и не заберу своего пса. Выдворенная с помощью соседки за дверь, она пригрозила подать в суд за оскорбление личности, что впоследствии и сделала. Моя мать на старости лет оказалась под судом!
Дама зашла к привратнице, где два часа распространялась о грубости моих домочадцев и о том, какой я ангел. Дело кончилось тем, что привратница обещала покараулить пса до моего прихода. Но тут же уступила его за крону молодой даме с первого этажа, которой пес безумно понравился.
На другой день я с утра ушел в редакцию, и, едва сел за стол, раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышал голос Пулпана:
— Алло, алло, дорогой мой, ты представляешь! Собака сбежала от меня вчера под вечер, и я просто ума не приложу, что делать. Я же подарил его своей невесте, он ей страшно понравился, она сказала, что он просто душка. Я обежал пол-Праги и окрестностей, и наконец в Вршовицах у пани Камилы мне сказали, что пес у тебя, его вернет тебе привратница. Прошу, будь так добр, разреши мне забрать его сегодня вечером.
— Алло, — ответил я, — буду очень рад, заходи, или я сам тебе его приведу.
Вечером я зашел к той молодой даме с первого этажа и без лишних разговоров забрал собаку. Она ни за что не хотела отдавать, утверждая, что купила его у привратницы. Взамен этого ужасного пса я пообещал ей маленького тойтерьера. На мое счастье, мужа ее не оказалось дома. Я отвел пса к Пулпану, а возвратившись домой, встретился на лестнице с мужем той молодой дамы. Завидев меня, он раскричался, будто я украл у него собаку, которую он уже продал за десять крон мастеру на фабрике. Тому, видите ли, хочется именно такую лохматую и смешную. Так что вечером, хочешь не хочешь, чтоб я привел собаку, поскольку из десяти крон задатка три он уже пропил, что-то отдал сюда, что-то туда, короче говоря, пса нет — его я украл, десяти крон тоже нет, авторитет его перед мастером подорван, и будет просто смешно, если после всего этого он не надает мне по морде. Исполнить свое намерение ему не удалось, но шуму было много. Я заперся у себя в квартире, а негодующий храбрец через час вернулся с тем самым мастером, на вид вполне приличным человеком, так что я даже впустил его в квартиру. Но когда он палкой проломил столешницу кухонного стола, мы поняли, что приятная наружность и благородное поведение на лестнице были обманчивы. С помощью брата я вытолкал его за дверь.
Нас замучили жалобами. От невесты Пулпана пес убегал уже раз пятьдесят, несчастная постоянно занимается розысками собаки, и обращать внимание на моего приятеля у нее просто нет времени.
Ужасная собака слоняется по окрестностям: утром она в Дейвицах, вечером на Подоле, а в обед — в Карлине.
Мою семью и меня ожидают судебные тяжбы. Пулпан на меня разозлился, поскольку из-за этого пса в его отношениях с невестой появился холодок. Друзья избегают меня, ибо обо мне пошли слухи, что я всем преподношу в подарок собаку, которая доводит хозяина до преступления и разрушает как семейное счастье, так и все иные виды благополучия…
Антигосударственный заговор в Хорватии
(Пособие по массовому производству государственных изменников)
1. Инструктивная беседа
Наместник хорватского бана сидел в кабинете за своим столом и доверительно наставлял земского комиссара:
— Правительство нашего бана, барона Рауха, весьма непопулярно. И было бы недурно, если б мы сие попытались исправить. Как вы считаете — не повесить ли нам для этой цели пятьдесят человек?
— Что ж, — снисходительно отвечал хорватский земский комиссар, — дело не в количестве.
— Вижу, доброе у вас сердце, милый комиссар. Барон Раух обожает таких людей. Что же касается меня, я б распорядился повесить пятьдесят семь. Что вы на это скажете?
— Скажу, ваше превосходительство, что это не имеет значения: пятьдесят семь или пятьдесят восемь. Меня это не трогает. Я чиновник. И слава богу — хороший чиновник. Повесить так повесить, расстрелять так расстрелять. А велит закон утопить — и утопим, прикажут на кол сажать — посажу и на кол. Даст мне указание начальство зарезаться — и зарежусь. Да если бы наш светлейший бан повелел: «Kérem semit inni» — хватит тебе пить — и не буду больше пить, так и умру за родину от жажды. Вот я какой чиновник. И за королевство, за Венгрию как за свое отечество этими вот голыми руками удавлю любого изменника. Бог свидетель, ваше превосходительство. По высочайшему распоряжению…
Наместник бана улыбнулся:
— Этого не требуется, дорогой друг. Главное, как я уже говорил, снискать доверие народа к правительству нашего светлейшего бана Рауха… А это можно сделать, лишь организовав процесс против государственных изменников. Но за печкой или в собственном брюхе их не отыскать. А надо найти. Терпение и труд все перетрут.
Барону Рауху нужно закусить изменниками. Мы их ему состряпаем. Из сахара их не слепишь, оглядимся вокруг себя. Куда это годится, если среди такого обилия людей в Хорватии не найдется 57 изменников! Хвать здесь, хвать там, глянь, и отыскалась хотя бы курительная трубка с надписью. Порядок. Вот тебе и изменник, который курил эту трубку. А кто ему сделал надпись на трубке? Снова — хвать, и берешь фабриканта трубок и торговца, у которого владелец трубки покупал табак. А вдруг еще — тот первый за табачком сам не ходил, посылал кого-то. Снова — хвать, и еще один «hazaáruló» — изменник. Господи, а да кто же торчит в мире, будто гвоздь на ровном месте? У всех арестованных родственники. И тех тоже перехватать.
Так-то вот — здесь схватишь, там, наконец и наткнешься на кого-либо, кто и признается, и присягнет в чем угодно, за что ему заплатишь. Вот тебе и свидетель. Что? И подсудимые рвутся присягнуть? Отечески их пожуришь, от подсудимых присяги не требуется, для этого у нас есть свидетели. А когда всем подследственным пришьешь государственную измену, это же колоссальный процесс, и в Хорватии установится покой. Как говорят, цель оправдывает средства, дорогой друг. А можно поступить и иначе. Берешь какого-нибудь мерзавца, и пусть выбирает: сидеть или же под присягой сознаваться во всем, что ему подскажешь. Такому прохвосту цены нет, он всегда готов послужить властям. В награду можно пожаловать ему и дворянство. Порой правительство оказывается в такой щекотливой ситуации, когда не знаешь, что и предпринять, и такой вот послушный мерзавец окажется желаннее манны небесной. А если он к тому же умеет и писать, совсем хорошо. Издаст подстрекательскую брошюру. Это, кстати, не моя идея, самого бана. Но мне она очень нравится. Если вышеупомянутый тип неграмотен, придется написать за. него. Мало ли в земском управлении чиновников, кропавших стишки в юности! Чиновник сделает лучше не надо, мерзавец под его писаниной подпишется — и прекрасно. Ниточка потянулась. Подстрекательская брошюра привлечет внимание правительственных кругов. Автора можно вызвать к бану. Бан похлопает его по плечу и подаст руку, чтобы тут же пойти ее вымыть. Грязная тварь, но интересы отчизны… Главное, чтобы в брошюре приводились имена людей, которые еще живы: мертвеца не повесишь и в тюрьму не заткнешь. А теперь снова, как я уже говорил. Прием тот же самый. Хвать здесь, хвать там. И суд следует подготовить, ему придется судить невиновных людей за государственную измену. Приговор выносится по ходу следствия. А как вы думаете, что на все это скажет Европа, дорогой комиссар?
— А нам на общественное мнение… — отвечал земский комиссар.
— Как это вы хорошо сказали, — похвалил наместник бана. — Значит, вперед. А прочее придет само по себе.
2. Письмо наместника бана барону Рауху
Ваше превосходительство!
Негодяя, согласного выполнить все наши пожелания, нашел. Зовут его Настич. Пообещал ему дворянское звание, прочное положение в обществе и деньги. Брошюру он напишет сам.
3. Письмо бана барона Рауха наместнику
Дорогой друг!
Я только что переговорил с нашим другом Настичем. Ассигновал ему 30 000, чтобы он напечатал брошюру собственным изданием. Прилагаю список особ, у коих следует найти подозрительные материалы. Необходимы десять человек, способных дать лжесвидетельства под присягой. Все расходы беру на себя.
4. Что было найдено у подозреваемых лиц (согласно официальному протоколу)
У первого лица: перочинный ножик с красной рукояткой, белая рубашка, особенно подозрительно, что у обвиняемого синие глаза, так как в совокупности получается трехцветный славянский флаг.
У второго лица: кувшин с надписью на сербском языке.
У третьего лица: ничего не было найдено, что вдвойне подозрительно, ибо свидетельствует о нечистой совести вышеупомянутого обвиняемого, оказавшегося столь опытным преступником, что успел уничтожить все следы преступных связей.
У четвертого найден альбом с открытками, и среди них — две из Белграда. Ввиду того что подписи отправителей неразборчивы, можно сделать вывод, что сербские круги были хорошо информированы о том, что корреспонденция носит антидинастический характер.
У пятого лица ничего не найдено. Это еще подозрительнее, чем у третьего лица, так как в данном случае полиция действовала наверняка.
Шестое лицо оказалось не в состоянии объяснить то обстоятельство, что когда-то распевало сербскую народную песню. Поскольку у него также ничего не было найдено, относиться к нему следует так же, как к обвиняемым второму и пятому.
У шестого лица обнаружены носки, приобретенные в Земуне. Учитывая, что Земун расположен на другом берегу, как раз против Белграда, нельзя не согласиться с тем, что покупкой этих носков пять лет тому назад он хотел застраховаться на всякий случай, если придется объяснять свои связи с Сербией и с сербскими кругами.
Седьмое лицо тщательно скрыло все, что могло бы навести на подозрение в государственной измене. Доказательством сего является то, что при внезапно проведенном обыске у обвиняемого также ничего не было найдено.
Восьмое лицо подвергнуто предварительному заключению, так как имеет отчима, который числится под номером пять и у которого ничего не было найдено. Существует обоснованное подозрение в том, что оба они состоят между собой в преступном сговоре, разыгрывая из себя невинных.
У девятого лица найден сборник сербских песен.
Десятое лицо имеет список членов «Сокола».
У лиц 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21-го обнаружены членские книжки «Сокола».
У лиц 22, 23, 24, 25 и 26-го членские книжки «Сокола» не обнаружены. Это вызывает тем вящее подозрение, что вышеупомянутые лица превосходно знали о существовании «Сокола», этого антиправительственного общества, и не вступали в него единственно потому, что надеялись утаить от надлежащих органов свое преступное поведение. Поэтому правительство полагает, что обвиняемые вполне сознавали антиправительственный характер своего поведения.
У лиц 27, 28, 29, 30 и по 35-е найдены гантели. По мнению правительства, гантели безусловно были приобретены обвиняемыми с целью специальными упражнениями укрепить мускулатуру и оказывать энергичное сопротивление правительственным органам. Тем самым они совершили преступный акт противодействия властям, включающий все признаки государственной измены.
У лиц с 35 и по 50-е включительно найдены различные документы, свидетельствующие о связях обвиняемых с сербскими кругами. Главным доказательством является их религия — та же самая, что и у сербов в королевстве Сербия.
Лицо пятьдесят первое внезапно умерло, находясь в предварительном заключении, что свидетельствует о стремлении любой ценой избежать справедливого приговора.
У лиц с 52 по 57-е найдены сербские газеты. Ввиду того что правительственные хорватские газеты найдены у них не были, очевидно, что им вполне хватило сербских газет, чем подтверждается обвинение их в государственной измене.
5. Выдержка из судебного разбирательства по делу о государственной измене
Председатель суда, обращаясь к первому обвиняемому:
— Вам знакома эта шляпа?
— Да.
— А помните ли вы, когда в последний раз вы надевали ее на голову?
— Нет, не помню.
Председатель предлагает это запротоколировать.
Прокурор:
— Значит, вам неизвестно, что эту шляпу вам одолжил обвиняемый доктор Медакович?
— Не помню.
Председатель, повысив голос:
— Однако если так же, как вы не знаете, кто вам одолжил шляпу, вы ничего не захотите знать и о государственной измене…
6
Боюсь за себя, раз уж вот-вот начнется процесс в Загребе, Дело в том, что у меня есть красный носовой платок, в моей кухне стоит белый шкаф, а весной небо станет совсем синим. В совокупности это дает цвета антиправительственного славянского флага.
Юный император и кошка
Это был юный император, в его груди билось доброе сердце, и он любил предания о ратных подвигах предков. Был он бог весть уже какой в роду. Его венценосные предки сожгли в общей сложности более тысячи городов, опустошили тысячи вражеских деревень, их армии истребили тысячи тысяч вражеских воинов и из столетия в столетие со славой возвращались в свое великое отечество, где их встречали победными песнями и колокольным звоном всех церквей империи, ибо страна была благочестива, а население и победное воинство — добрые христиане. Потому-то бог умножал их силы во всех предприятиях, а все враги империи бледнели и тряслись перед храбрым войском этой славной династии, ибо оно не давало им пощады.
Новому императору было четырнадцать лет, когда он вступил на престол. Его юная душа была полна благих намерений, он затеял разные реформы, а в один прекрасный день, пробудясь поутру и будучи умыт, одет и причесан, вызвал придворного повара и сказал ему в присутствии министров внутренних и иностранных дел, военного министра и министра сельского хозяйства и культов:
— Милый граф и придворный повар! Учителя мне рассказывали, что не все мои подданные едят паштеты, есть такие, кто по бедности ест кошек. Милый граф и придворный повар, назначаю вас отныне также министром-наместником любой из моих провинций, выберите ее сами, но сегодня к обеду я хочу кошку.
Придворный повар обнял колени великодушного юного монарха.
— Это невозможно, ваше величество. Помилуйте, ваше величество, кошек за высочайшим столом не едят.
Юный венценосец улыбнулся и ласково промолвил:
— Разумеется, не едят, это мне прекрасно известно, но я знаю, что кошек едят бедняки. А сердце велит мне быть отцом неимущих, по примеру моих славных предков. Блаженной памяти дедушка собственноручно взял серп и на глазах у сельчан нажал травы для двух кроликов. Мой венценосный отец в доме бедного сапожника собственноручно забил в башмак два деревянных гвоздика. Богатырь прадедушка лично вытащил ведро воды из колодца. Как же мне не любить бедняков, если все мои предки показали, что они уважают тяжелый труд бедного люда? А посему заявляю, что воля моя, воля владыки и абсолютного монарха непреклонна. Хочу к обеду кошку, и баста. Можете идти.
Когда юный император остался один в своем покое, сердце его возликовало. Из окна своего дворца он смотрел на столицу империи, что темнела внизу. Там, в этом море каменных домов живет много бедных людей, которые, как рассказывали монарху учителя, едят кошек и прочую гадость, что является отличительным признаком бедноты. А он, славный и властительный монарх, склонится к ним и умерит их нищету, потому что и у него будет на обед кошка. Это станет началом реформ, которые нужно провести, чтобы по всему свету разнеслась молва о его доброте.
Тут распахнулись двери и вошла заплаканная вдовствующая императрица.
— Венценосный сын мой, — всхлипнула она, упав в кресло. — Вы хотите на обед кошку? Сын мой, это ваше непреклонное желание?
Юный монарх кивнул.
— Хочу и буду, — торжественно произнес он. — Ибо склоню сердце свое к бедному люду. Вспомните, матушка вдовствующая императрица, наших предков. Моя высочайшая прабабушка однажды взяла иглу и нитки и пришила пуговицу к штанам нищего бродяги. Моя достославная бабушка выстирала носовой платок бедного каменотеса, а вы, моя венценосная мать, однажды собственноручно наполнили чашу вином и подали ее церемониймейстеру, доказав, что не гнушаетесь никакой работой. Итак, наша славная история говорит нашим сердцам о том, что императрицы никогда не стыдились труда, пусть самого тяжелого, чтобы доказать, что беднота может найти в них заступниц. Посему сегодня я пообедаю жареной кошкой, такова моя монаршая воля. Не плачьте, венценосная мать, это — начало реформ. Я буду передовым монархом и отцом бедняков.
Когда вдовствующая императрица удалилась, явился церемониймейстер и припал к коленям юного императора.
— Ваше величество! — молвил он. — Соизвольте выглянуть в окно.
Внизу во дворе было черно от императорских советников, придворных дам и прочих придворных.
— Всем им сделалось дурно, когда его сиятельство граф, придворный повар и министр-наместник, распорядился послать за хорошей кошкой, — сказал церемониймейстер. — И все они умоляют ваше величество всемилостивейше разрешить им не смотреть на то, как вы, ваше величество, будете высочайше вкушать кошку. Я со своей стороны покорнейше умоляю ваше величество отказаться от своего намерения.
Возмущенный этой дерзостью, юный монарх в гневе топнул ногой и воскликнул:
— Требую к обеду кошку в сметанном соусе!
— Ваше величество!
Юный монарх повернулся к нему спиной.
Подавленный церемониймейстер ушел, чтобы подать в отставку, а император вызвал министра внутренних дел.
— Любезный министр, — мудро сказал он, покачиваясь в кресле. — С тех пор как я взошел на трон, я часто размышляю о неравенстве людей. Мои учителя привили мне добрые принципы. Люди бывают богатые и бедные. Бедные едят кошек. Богатые и власть имущие кошек не едят. Бедные, кроме того, едят лапшу… Поэтому я хочу иметь к обеду кошку в сметане и с лапшой. Вызовите мне придворного повара.
Когда явился граф, повар и его сиятельство министр-наместник в одном лице, юный монарх сказал ему:
— Бедные люди едят кошек, а богатые и власть имущие кошек не едят. Я провожу реформы. Бедные люди едят лапшу. Подайте мне сегодня к обеду кошку в сметане и с лапшой.
Потом он велел вызвать министра внутренних дел и сказал:
— Я хочу, чтобы об этом было написано в газетах. Завтра подайте мне все газеты. Я слышал от учителей, что в моей империи выходят газеты. С завтрашнего дня желаю читать сообщения о моем правлении и моих реформах.
— Кстати, — обратился он к придворному повару, — к обеду пригласите моих министров. А на случай, чтобы меня не обманули с этой кошкой, я сам буду присутствовать при ее приготовлении.
Спускаясь по лестнице в дворцовую кухню, благородный юный император встретил военного министра и весело сказал ему:
— Любезный министр, передовой монарх стремится сгладить неравенство людей, поэтому у нас сегодня на обед будет кошка, поскольку бедные люди едят кошек, а богатые и власть имущие не едят… Вы тоже приглашены к моему столу. Завтра об этом напишут все газеты, а я отныне начинаю реформы. Я император и хочу съесть кошку…
Немного погодя юного монарха отвезли в закрытой карете в старый замок, где он был изолирован до конца дней своих, как впавший в кретинизм. И все из-за того, что он был император и пожелал на обед жареную кошку…
В старой лавке москательных и аптекарских товаров
1. Первый день практики
Когда я начал учиться на продавца москательных и аптекарских товаров, в первый же день знакомства с новой профессией мой хозяин пан Колошка пригласил меня в свою контору, — как он называл закуток, отгороженный от лавки деревянной перегородкой.
Пан Колошка, пожилой человек с густой растительностью на лице, такого небольшого росточка, что я, пятнадцатилетний парень, был выше него на голову, уселся возле письменного стола на стул и, не сводя с меня маленьких колючих глазок, заговорил:

— Итак, с сегодняшнего дня вы мой новый практикант и потому извольте выслушать со всем вниманием мои слова и постарайтесь следовать им в течение всей жизни. Вам, наверное, известна пословица «Добрый совет дороже золота». Так вот, навострите уши и слушайте, что я говорю, Ваша новая профессия не из легких. Еще недавно вы учились в школе и единственной вашей заботой было вызубрить что-нибудь наизусть. Но кроме латыни, которую вы как гимназист четвертого класса, полагаю, немного знаете, продавцу аптекарских товаров больше ничего не пригодится. В лавке вас не спросят, когда правил тот или иной король или, скажем, что такое геометрия и тому подобное. В лавке никого не интересует, как далеко от нас до какой-нибудь звезды, никому не интересно и то, через «и» или через «ы» пишется цыпленок. В лавку приходит покупатель, и ему безразлично, правильно вы говорите по-чешски или нет, и вы к нему с этим тоже не приставайте, вполне достаточно понять, что́ ему нужно, и обслужить как положено. В лавке надо уметь считать и не просчитываться. Нужно все прикинуть. Вот это и есть торговля. Вы человек молодой и должны учиться на живом примере, а не по книжкам, как в школе. Когда появится покупатель, выслушайте его и, пожелай он хоть луну с неба, вскарабкайтесь на небо и достаньте ему луну. А после думайте о покупателе что угодно, но только про себя. Торговец, запомните, живет за счет покупателей. Если кто заходит в лавку, вы должны кричать: «Низко кланяюсь, милостивый государь! Целую ручку, сударыня! Мое почтение, барышня!» И оставаться вежливым, даже когда покупатель уходит, ничего не купив. Отпуская товар — правда, до этого дело дойдет не так скоро, но запомните наперед — вам следует говорить: «Что угодно, чем могу служить» и тому подобное, и суетиться, поворачиваться, быть расторопным и никогда не обсчитывать. Если на складе чего-то нет, предложите другой товар, главное — не упустить покупателя. Всучите ему, раз уж он зашел, что попало: нужна ему, к примеру, зубная щетка — подсуньте зубной порошок, а если нужен зубной порошок — подсуньте зубную щетку и убеждайте, что это можно купить только по случаю. Врите все, что взбредет на ум, со временем вы этому обучитесь, но, понятное дело, врать можно только покупателю, а не мне. Я для вас как отец родной, а если я иной раз и обругаю — не перечьте, потому что я вспыльчив. Мои приказания следует выполнять незамедлительно. У меня все должно идти, как в армии. Вы обязаны быть честным, — думаю, это можно не объяснять, — не имеете права лакомиться сладостями, разбивать что-то. Вы обязаны работать, вам это только на пользу. Все это я говорю по-отечески. По утрам будете приходить ко мне домой за шкатулкой с ключами, потом пойдете в лавку. Придет приказчик, вы с ним отопрете лавку, вывесите ангелочка, вернетесь в лавку, вытрете пыль, чтоб везде было чисто, а я приду в восемь часов и отдам распоряжения. В десять утра будете приходить ко мне в контору, получите деньги, купите мне кружку пива, две булки и сардинку. В час дня можете пойти пообедать, вернетесь в два. В четыре часа зайдете ко мне в контору, получите деньги и сходите в кофейню за кофе.
Запомните — чтоб сливок было побольше. В восемь часов снимаете ангелочка и вместе с посыльным закрываете лавку. Ключ кладете в шкатулку, приказчик шкатулку запирает, ключ берет себе, а вы приносите шкатулку с ключом от лавки ко мне домой. Раз в полмесяца разрешаю вам с десяти до одиннадцати ходить в костел. И главное — слушать меня, а не других в лавке. Сегодня будете протирать бутылки и банки, пока все. Протирая, приглядывайтесь к надписям по-латыни и по-чешски и примечайте, где что находится, так понемногу всему и научитесь. Запомните все это хорошенько и ступайте!
Я вышел из конторы в смятении. Все наставления в моей голове перемешались, а когда я подошел к прилавку, приказчик Таубен сказал:
— Ну что, измучил вас наш старый Радикс?
— А кто это? — робко спросил я.
— Да наш Колошка, — ответил приказчик, — мы называем его «Радикс», что означает корень. Такие уж у нас, продавцов аптекарских товаров, прозвища, молодой человек. Понимаете, наш Радикс, как говорится, слегка прибит пыльным мешком, а в общем человек он добрый. Думаете, эти наставления он сам придумал? Как бы не так, молодой человек! Все это он заучил наизусть, со слов жены. Жену его мы называем «Ацидум», то есть кислота. Не смотрите на старика как на господа бога. Он, по сути дела, ничто, всем заправляет его жена. Вот появится она — сами увидите, кто тут, собственно говоря, хозяин. Так что, молодой человек, слушайте нас. Старик наверняка велел вам сегодня протирать бутылки и банки. Протирайте, только не торопясь. Как можно медленнее. В работе спешка ни к чему. А то он живо свернет вас в бараний рог. Если до вечера протрете пятнадцать банок, считайте — уже хорошо поработали. Протирайте их всю неделю, потихонечку, полегонечку. Не надрывайтесь, а то он начнет на вас валить, чем дальше, тем больше, А появится его старуха, бегите и целуйте ей руку. Если Радикс пошлет вас по делу к поставщику или еще куда с поручением, идите неторопливо, словно вышли на прогулку, я тоже так делал. Главное, не возвращаться быстро. А то он вас просто загоняет, привыкнет, что вы скоро возвращаетесь, и решит, что вы должны бегать.
Помолчав, пан Таубен добавил:
— Я вижу, вы сообразительный молодой человек, вот вам на два литра пива, идите вон туда, в конце склада, на дне бочки — видите ее отсюда? — есть кувшин. Возьмите его и черным ходом пройдите через двор в пивную. Принесите два литра пива. Кувшин с пивом снова поставите в бочку. Выпейте, сколько захочется. Знаете, я ведь тоже был практикантом.
Пан Таубен дал мне деньги, и я выполнил его поручение. Спрятав кувшин в бочке, я вернулся и начал протирать банки так медленно, как только мог.
Через полчаса пан Колошка позвал меня в контору.
— Вот что я забыл, — сказал он. — Если пан Таубен пошлет вас за пивом, сразу скажите мне. Говорят, пан Таубен любит посылать практикантов за пивом…
К событиям первого дня следует добавить, что я ходил за недозволенным пивом для пана Таубена в общей сложности пять раз и слышал, как на вопрос посыльного: «Ну, а как молодой практикант?» — пан Таубен ответил: «Уже обращен в нашу веру и называет старика «Радикс»…»
2. Наставления пана Таубена
В последующие два дня я по совету пана Таубена неторопливо протирал бутылки и банки.
— Если придет Радикс, — наставлял меня пан Таубен, — и поинтересуется, почему вы до сих пор не закончили работу, скажете, что изучаете надписи; впрочем, отложите-ка это дело, сейчас я покажу вам наше заведение.
Приказчик повел меня по дому. Лавка пана Колошки помещалась в старом здании. Теперь его уже нет. Этот потемневший от времени дом был пропитан запахом сушеных лекарственных трав, который в первые дни одурманивал меня и так въелся в мою одежду, что любой издалека мог почуять — идет будущий продавец аптекарских товаров.
У этого старинного дома была своя неповторимая прелесть. В моем воображении возникали лаборатории алхимиков и средневековые аптеки, про которые я читал. Как бы в подтверждение этого на складе хранились две огромные ступки и несколько больших реторт, стоявших на черных от пыли и таких же грязных, как реторты, подставках.
Со склада пан Таубен повел меня в подворотню, под сводами которой громоздились корыта, лохани, скалки и тому подобные предметы, которыми торговала женщина, сидевшая на скамеечке у выхода на улицу.
— Это бондарка Кроупова, — сказал приказчик, — муж ее порядочная дрянь и все, что она за день заработает, пропивает в соседней пивной. Он оттуда не вылезает, а когда деньги кончаются, идет к жене и спрашивает: «Продала что-нибудь?» Бондарка отвечает: «Одну лохань». А муж ее на это: «Всего-то на восемь кружек пива». Он все считает на кружки. А станете постарше, молодой человек, поймете, что означают мои слова: она все терпит, потому что находится с ним в сожительстве.
— Не спешите, — продолжал пан Таубен, — если кто зайдет в лавку, Радикс его обслужит. Эту пивную вы уже знаете. Ближе к двадцатому денег на пиво у меня не будет, станете брать в долг; Но хозяин там такая продувная бестия, молодой человек, что за ним нужен глаз да глаз, не то он вместо двух литров запишет вам три, такое уже бывало. А вот жена у него хорошая. Если она придет в лавку покупать спирт, наливайте ей — когда со временем станете отпускать товар — чистый спирт, а не разбавленный водой, который мы продаем покупателям. Она настаивает вишневку, а я иной раз забегаю пропустить рюмочку, пусть уж настойка будет крепкой. Прежний практикант налил ей как-то разбавленного, и лучше не спрашивайте, что это была за вишневка. А трактирщику, если он попросит желудочные капли, дайте их бесплатно: он-то и по три месяца ждет уплаты моего долга.
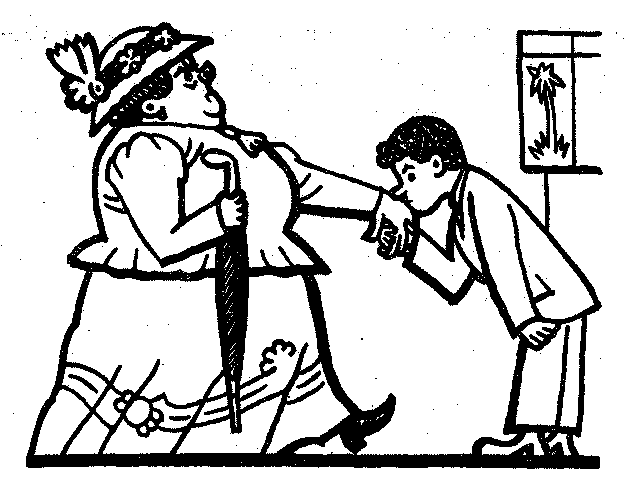
Вон там — видите два грязных окна — живет дворничиха Паздеркова, она по утрам заходит к нам за рюмочкой тминной водки. Радикс распорядился наливать ей тминную бесплатно, а то она весь дом вверх дном перевернет. Все эти три дня, как вы здесь, она не появлялась — болеет. Стоит учителю ее сына, рыжего Францека, оставить его после уроков, как она заболевает. Францеку одиннадцать лет, но хулиган он жуткий. Никому от него нет покоя, что он только не вытворяет, но всыпать ему мы не рискуем. Я застал его однажды, когда он сверлил дырку в жестяном баллоне с маслом, и дал подзатыльник. Тут примчалась в лавку старая Паздеркова и требовала, чтобы Радикс меня немедля уволил. А сколько было крику на улице перед лавкой! Сбежался народ, она держала Францека за руку, мальчишка ревел в голос, она вопила, что в лавке находится человек, который ее невинного и беззащитного ребенка избил до потери сознания. Пришлось угостить ее тминной, а Францеку дать конфетку. Рыжий Францек меня просто извел. А вот погодите, летом во дворе увидите спектакль: Францек в чем мать родила станет с утра до вечера плескаться в корыте посреди двора. На втором этаже живет старая дева, так она, увидев однажды Францека в этаком виде, упала в обморок. Паздеркова все покупает у нас за полцены. А эти окна — мясника пана Каванека; он всегда приглашает меня на домашний зельц и посыльного угощает. Это мы с посыльным называем — встречный счет. Он нас не обсчитывает, и мы его тоже. Как в немецкой пословице: «Leben und leben lassen»[13]. Мы продаем ему приправы по обычной цене, но если придет пан Каванек за какими-нибудь пряностями, взвесьте ему полтора, а посчитайте всего за килограмм. Он угостит вас зельцем… Только на глазах у хозяина не ешьте. Прежний практикант уносил зельц домой. Со временем все узнаете. А теперь пойдем в подвал.
Пан Таубен открыл дверь подвала и зажег фонарь. Из темноты шибануло в нос чем-то кислым и затхлым и послышался писк.
— Это крысы, — объяснил пан Таубен, — прежнего практиканта одна укусила; в старых домах, молодой человек, они везде водятся. С тех пор как наш Радикс изобрел специальный яд для крыс, они невероятно расплодились. Особенно в летние месяцы в подвале то и дело шныряют эти серые твари. А кошки здесь не удерживаются с тех пор, как возле мясника поселился новый жилец. Вообразил, что у него чахотка, ловит кошек, сдирает с них шкуру и прикладывает себе на грудь. Осторожно, не поскользнитесь на ступеньках, здесь все еще не просохло с тех пор, как мы с посыльным разбили баллон с дистиллированной водой. Пришлось покупателям давать обыкновенную воду, из колодца. И все капли теперь с молочным оттенком, потому что при их изготовлении приходилось вместо дистиллированной воды брать колодезную. Наш Радикс отказался уже от трех поставщиков, решив, что они продали ему какое-то низкосортное масло и эфир для капель. Вот как, молодой чёловек, надо действовать. Никогда не теряйте голову, главное дело, старайтесь надуть старика — ведь если мы когда-нибудь заделаемся хозяевами, нас тоже будут надувать. Я привел вас в подвал, молодой человек, чтоб показать, где стоит оливковое масло.
Пан Таубен открыл деревянную перегородку и произнес, указывая на жестяной баллон:
— Видите, вот это оливковое масло, хотя написано «масло льняное». Если Радикс пошлет вас в подвал с бутылкой за оливковым маслом, наполните ее льняным, потому что полгода назад баллон с оливковым маслом разбился. Бывает, что покупатели это масло возвращают, и старик уже кучу писем написал фирме-поставщику, почему-де ему прислали такой плохой сорт. Радикс сюда не ходит, он до смерти боится крыс, так что жалуйтесь, мол, в подвале крыс развелось — просто ужас! Ладно, пошли обратно.
Когда мы снова вышли во двор, пан Таубен сказал:
— Да, молодой человек, вы обратили внимание на кондитерскую за домом? Тамошние ученики ходят к нам летом за неочищенной солью для мороженого. Давайте им соль бесплатно, а они накормят вас мороженым, я его тоже люблю. Но чтоб старик не видел, когда будете его есть. На чердак сегодня уже не полезем, Радикс и так небось с ума сходит — ведь он в лавке один, а там сейчас самый наплыв покупателей.

— Где вы шлялись, пан Таубен? — злился пан Колошка, когда мы вернулись в лавку. — Вы гуляете, а я тут работай как вол.
— Прошу прощенья, пан хозяин, — ответил пан Таубен, — я знакомил нового практиканта с нашим заведением и давал ему наставления.
— Это другое дело, — успокоился пан Колошка, — постарайтесь научить его всему, чтоб от него был какой-то толк.
— Слушаюсь, пан хозяин, — ответил пан Таубен, — надеюсь, толк от него будет.
3. О пане Фердинанде, посыльном
Пану Фердинанду в ту пору было около сорока. Его высокий лоб свидетельствовал о необычайно развитом интеллекте, что мне и подтвердил пан Таубен: «Хитрый малый».
У него были добрые серые глаза, каштановые волосы и темные усики; но прежде всего в глаза бросался его красный нос, верный признак того, что некогда пан Фердинанд работал посыльным в лавке спиртных напитков.
Одежда его была засаленная, грязная, покрытая всевозможными жирными пятнами, в дырах, прожженных кислотами, измазанная краской для пола; пиджак был испещрен масляными красками, на жилете блестел бронзовый порошок, намертво въевшийся в пятна от раствора каучука в бензине. Левый рукав его пиджака вонял скипидаром, правый благоухал толченой корицей. Короче, здесь была представлена пестрая мешанина из лекарственных трав и различных химикалий. И в пивной, как я позднее узнал, пан Фердинанд садился на свое место перед приоткрытой дверцей печки, вдали от всех, чтобы запах его рабочей одежды не отпугивал остальных посетителей.
При этом следует отметить: пан Фердинанд всегда ходил в начищенных до блеска ботинках. Закончив какую-нибудь работу, он шел на склад и драил там их до зеркального блеска.
Пан Колошка уверял, будто пан Фердинанд «убивает» таким образом время, но как бы ни было, пан Фердинанд то и дело чистил ботинки.
С этого началась и наша довольно доверительная беседа с паном Фердинандом вскоре после начала моей практики.
Пан Фердинанд как раз вернулся со двора, где толок в ступке корицу, и направился на склад, взял из шкафа баночку гуталина, обувную щетку, и тут я тоже зашел на склад.
— Подите сюда, молодой человек, — обратился он ко мне.
Я подошел поближе.
— У вас много слюны?
— Много.
— Хорошо, — одобрил пан Фердинанд, — а то у меня, пока я толок корицу, что-то в горле пересохло.
— Ага, — ответил я, не понимая, к чему он клонит.
— Если гуталин растереть с обыкновенной водой, — продолжал посыльный, — ботинки до нужного блеска не доведешь.
— Вы правы, — согласился я.
— А со слюной блестит, — заметил пан Фердинанд и добавил: — Ну!
Я молчал, и пан Фердинанд воскликнул:
— Вас что, убудет, молодой человек, если вы плюнете мне в гуталин?.. Сразу бы догадаться, — проговорил он, когда я выполнил его просьбу, — надо помогать друг другу. Наш брат должен поддерживать своих, — разглагольствовал он, начищая ботинки, — так уж на свете повелось, молодой человек, и так оно и будет до скончания веков. — А большие господа, — совершенно неожиданно закончил он, — будут мешать беднякам поддерживать друг друга. Глупые мы еще очень, молодой человек, — продолжал он свои рассуждения, — сожрать друг друга готовы. Лучше всего это видно у нас в Михеле. Знаете, где Михель?
— Да.
— Я ведь живу в Михеле, а рядом со мной живет тоже посыльный, я получаю в неделю на четыре гульдена больше, чем он, и могу пропить на четыре гульдена больше, он из-за этого злится и кричит в коридоре, что-де в один прекрасный день меня выведет на чистую воду и я на всю жизнь это запомню. Недавно вот кричал, что я обокрал нашего старика в «сортировке» на фактуре, он-де знает, как это делается. Я рассердился и говорю: «Не все же, Плачек, воруют так глупо, как ты, жулик. Когда ты работал на той фабрике, в проходной расстегнули твой жилет и сразу увидели, что ты тащишь домой, ворюга».
Пан Фердинанд был сильно взволнован, это чувствовалось по той скорости, с какой он чистил ботинки. Щетка летала с неимоверной быстротой, а пан Фердинанд хмурил свой высокий лоб и рассказывал дальше:
— Теперь, говорю, слово за тобой, Плачек, и Плачек встает посреди коридора и начинает вопить: «Ах ты, каналья аптекарская, да от тебя за две мили несет вашими пойлами». — «Веди себя прилично, Плачек, — отвечаю, — я о тебе ничего дурного не сказал, а ведь ты только ругаться умеешь, ворюга». Плачек выскочил в коридор и заорал: «Ты продал ботинки своего сына, и мальчишка ходит босой, сбыл на сторону кило перца, откуда ты его взял? Свернул челюсть жене, разбойничья морда, в трактире украл солонку, и все за одну только неделю». Я говорю: «А за «морду» — в морду». — Пан Фердинанд умолк, затем продолжал: — Дрянной человек Плачек, дал-то я ему всего разок-другой, а он собирается теперь подавать на меня в суд. Опять у меня слюни кончились, плюньте, молодой человек, еще в гуталин. Вода такого блеска не дает. Ну вот! Спасибо. Надо помогать друг другу…
Я вернулся в лавку, и пан Таубен сразу спросил:
— Не слишком ли сегодня от пана Фердинанда разит пивом?
— Не знаю, разве тут разберешь, — ответил я.
— Вы правы, из-за его одежды… — сказал приказчик, — но на всякий случай предупредите, пусть пожует лимон, потому что его старик ждет, чтобы послать с тележкой за олифой.
4. Пани Колошкова
С первого взгляда мне стало ясно, отчего пан Таубен называет жену хозяина латинским словом «ацидум», то есть кислота.
На следующий же день после нашей беседы с паном Фердинандом она появилась в лавке часов в девять утра.
Не успели старые часы на стене прохрипеть девять, как дверь с надписью «Добро пожаловать» раскрылась, потянув за веревочку висевшего над дверью ангелочка, ангелочек сделал поклон, звякнул колокольчик, и в лавку величавой поступью аббата, идущего взглянуть, не пьют ли монахи в подвале вино, вплыла толстая высокая напудренная женщина с довольно красивыми, несмотря на полноту, чертами лица, в крикливой шляпке и шелковом платье, шуршанье которого было слышно издалека.
Пан Таубен, только что отпускавший шуточки, принял вдруг серьезный вид, быстро шепнул мне: «Наша старуха» и тотчас громко поздоровался:
— Целую ручку, милостивая сударыня.
Я подбежал и поцеловал пани Колошковой руку.
Пани Колошкова не соизволила удостоить нас ответом, подошла к прилавку и спросила:
— Где хозяин?
— В конторе, милостивая сударыня, — ответил приказчик и с поразительной резвостью помчался по проходу между прилавком и полками, открыл застекленную дверь в деревянной перегородке и воскликнул:
— Простите, пан хозяин, милостивая сударыня в лавке.
Из-за прилавка выбежал маленький муж и принес своей высокой жене стул, почтительно приветствуя ее:
— Как поживаешь, Мароушка? Как приятно, что ты зашла навестить нас.
— А ты спишь в конторе, — сердито ответила пани Колошкова, — спишь и не видишь, что пан Таубен со всеми удобствами расселся на прилавке и зевает…
— Но позвольте, милостивая сударыня, — возразил пан Таубен.
— Что я, не видела? — быстро заговорила пани Колошкова. — Вы сидели на прилавке, били баклуши, зевали. Уж конечно, после кутежа так и тянет на зевоту.
— Я был дома, милостивая сударыня, — защищался приказчик.
— А у кого глаза ввалились? — бушевала супруга нашего хозяина. — Думаете, по вас не видно, что вы всю ночь сорили деньгами?
— И ты это терпишь? — быстро повернулась она к своему мужу. — На то ты и хозяин, чтоб запретить молодым людям растрачивать свои силы по трактирам.
— Впредь этого не повторится, — удрученно ответил пан Колошка.
— Да что вы, нигде я вчера не был, — протестовал пан Таубен, — у меня уж и деньги кончились.
— Ага, — сердито сказала пани Колошкова, — значит, когда у вас есть деньги, вы ходите и тратите их, что ж после этого удивляться, что вы похожи на мученика!
(Справедливости ради следует заметить, что до прихода пани Колошковой у пана Таубена был прекрасный цветущий вид.)
— Швыряетесь деньгами, — продолжала пани Колошкова, — и после такой ночи не можете толком обслужить покупателей.
— Но тебе, Колошка, все едино, — повернулась она к своему мужу, казавшемуся в эти минуты еще меньше обычного, — тебе бы только спать в своей конторе. Без меня ты бы уже двадцать лет назад обанкротился.
— Если кто-то войдет… — робко произнес пан Колошка.
— Если кто-то войдет, — ухмыльнулась пани Колошкова, — я и при нем скажу. Что тебя тогда спасло? Пятнадцать тысяч моего приданого! Они тебе и по сей день помогают держаться на поверхности. Не присматривай я за торговлей, давно бы все пошло прахом. А что я за это имею? У супругов Базовиц есть вилла под Добржиховицами, а у них доходы меньше наших. Сколько лет я твержу тебе, что надо построить виллу, да где там! Пан Колошка лучше себя побалует. В десять часов он пьет пльзеньское, ест сардинку, потом кофе со сливками, ему и дела нет, — может ли его жена себя чем-нибудь побаловать, хотя он прекрасно знает, что если б не жена, он уже двадцать лет назад обанкротился бы. Тогда б тебе было не до пльзеньского с сардинкой, — продолжала она браниться, развивая свою, видимо, любимую тему, — и ты не пил бы кофе со сливками. И не возникало б жажды от сардинки. Попробуй только вечером послать служанку за пивом, а потом обнимать меня. Уж лучше б меня другие обнимали, не ты. Если б не мой отец, которому ты задолжал, я бы сроду за тебя не вышла. А бедный папочка рассчитывал хоть таким путем вернуть свои деньги. Твой тесть слишком добр к тебе, он все делает для того, чтоб в семье не было раздоров и ссор и чтобы я, твоя несчастная жертва, не страдала еще больше.
Я хочу видеть книгу ежедневных расходов за последнюю неделю, — приказала она, переводя дыхание, — немедленно принеси ее!
Пан Колошка исчез за деревянной перегородкой, тут же вернулся с книгой и почтительно положил ее на прилавок.
Пани Колошкова поднялась со стула, пан Колошка придвинул стул к прилавку, жена снова села и начала внимательно изучать каждую статью ежедневных расходов за последнюю неделю.
Вид у пана Колошки в эти минуты был довольно-таки жалкий, не сравнить с тем, когда он говорил мне: «Итак, с сегодняшнего дня вы мой новый практикант». Тогда он держался гордо и независимо, а тут дрожал и бледнел, опираясь о прилавок, и с невероятно почтительным и смиренным выражением лица вслед за женой переводил страдальческий взгляд с одной строчки на другую. Мне показалось, будто он делает робкую попытку прикрыть локтем какую-то запись внизу страницы.
Стояла тишина. Слышно было, как тикают карманные часы пана Таубена, а в какой-то момент мне померещилось, будто я слышу, как стучит сердце пана Колошки.
Пани Колошкова отстранила локоть супруга и продолжала изучать записи.
— Что это такое? — вырвалось у нее, когда ее неумолимый взгляд дошел до места, где только что лежал локоть ее удрученного супруга. — Что такое? «Разные расходы 23 гуль. 50 кр.» Какие такие разные расходы?
Если до этого вид у пана Колошки был жалким, то сейчас он стал просто плачевным. Пан Колошка открыл рот, собираясь что-то сказать, но слова застряли в горле. Его затрясло, зуб на зуб не попадал, словно он вылез из теплой воды и его неожиданно обдуло холодным ветром.
Зоркий взгляд пани Колошковой остановился на его трясущейся челюсти, выбивавшей мелкую дробь: та-та-та-та-та.
— Что это? — загремела пани Колошкова. — Куда пошли эти двадцать три гуль, пятьдесят кр?
В ответ — ни слова, лишь зубы пана Колошки еще более дробно выбивали: та-та-та-та.
— Объяснишь ты или нет? — менторским тоном произнесла пани Колошкова.
— На-на-на-на сар-сар-сар-сардины и-и пль-пль-зень-зень-пль-зеньское пи-пи-пиво, — трепетал пан Колошка, — и-и-и за-за-за бу-бу-булки и-и ко-ко-кофе.
— Ты мне зубы не заговаривай! — кричала пани Колошкова — Ты содержишь какую-то женщину, даешь ей деньги, а семью свою обираешь. Всех нас обираешь!
Пан Колошка собрался с духом и заговорил:
— Ты не права, голубушка, я… признаюсь — я разбил твою памятную вазу, которая стояла в гостиной, пришлось купить новую, чтобы ты не узнала, и поставить на место старой…
После этих слов книга расходов полетела в голову пана Колошки, но, миновав свою цель, проследовала дальше, по направлению конторки, стул был отброшен в сторону, пани Колошкова, побагровев, что было видно даже сквозь румяна, устремилась к двери, проговорив медленно и весомо:
— Обедать домой не приходи, а вечером ты у меня получишь!.. Ну обожди. — Ее последние слова донеслись уже от порога, и пани Колошкова стремительно распахнула дверь.
Звякнул колокольчик, ангелочек на дверях с надписью «Добро пожаловать» механически поклонился, и шлейф пани Колошковой резко взметнул пыль тротуара, словно желая наглядно продемонстрировать ее ярость.
Пан Колошка, казалось, задышал чаще, словно человек, вырвавшийся из душного помещения на свежий воздух, и, глубокомысленно склонив голову, направился за деревянную перегородку, бросив в мою сторону хозяйским тоном:
— Вы, наверное, знаете поговорку «Сор из избы не выносят», а не знаете — запомните. — Пан Колошка исчез в конторе, и вскоре оттуда послышался его голос: — Пан Таубен, зайдите!
Вернувшись от хозяина, пан Таубен сказал мне смеясь:
— Перетрусил старик. Справлялся, в какой бы гостинице ему лучше переночевать. — И тут же назидательно заключил: — Сами видите, молодой человек, ацидум и есть ацидум, что значит кислота.
5. Посетители лавки
Первым в лавке ежедневно появлялся Броучек, рассыльный. Он ждал открытия на улице и входил в лавку со словами:
— Дай вам бог доброго утра, на два горькой.
Мы ему наливали по знакомству, он, причмокнув от удовольствия, возвращал пустую рюмку и всякий раз замечал:
— Согревает, проклятая, вам бы распивочную открыть?
Впервые увидев меня, Броучек сказал:
— Держитесь молодцом, парень, всем нам на радость.
Иногда вместе с ним ждал открытия и толстый полицейский, несший службу на этой улице. Сей господин производил внушительное впечатление не столько саблей и револьвером, сколько своей толщиной; переступив порог лавки, он отдавал честь и произносил:
— Все в порядке.
Пан Таубен и ему наливал рюмку горькой, разумеется, бесплатно. Толстый полицейский выпивал ее и, отдав честь, заключал:
— Все в порядке.
После чего уходил.
Рассыльный Броучек ненадолго задерживался в лавке, давая оценку вчерашней погоде: «Вчера шел дождь» или «Такого прекрасного дня, как вчера, я не помню», «Вчера было холодно». Потом со словами: «Всего вам доброго, за мной еще два» — уходил.
После него обычно появлялась старая еврейка пани Вернерова, хозяйка распивочной по соседству.
Она приходила с огромной стеклянной бутылью и ежедневно покупала шесть литров чистого спирта.
— Um Gottes willen[14], пан Таубен, — говорила она, — подумать только, вчера у нас снова подрались. На меня страх нападает, стоит мне вспомнить, что я одна в распивочной, боюсь, изобьют меня, как бивали моего покойного мужа.
И по крайней мере раз в неделю, особенно если заставала в лавке еще кого-нибудь, она непременно рассказывала историю, самую заурядную для винных погребков, когда хозяина избивали пьяные, которых сам же он и напоил, пусть даже на их последние деньги.
— А покойный, — добавляла она жалостливо, — был такой добряк, ein golden Herz[15], сроду водки не разбавлял, а они его, бедняжку, побили из-за какой-то мухи в рюмке. Ja, ja, eine Fliege[16], он же не нарочно!
Расплачиваясь, она всякий раз торговалась, уверяя, будто читала вчера в газетах, что цена чистого спирта упала на два крейцера за литр.
Следом за ней появлялась дворничиха Паздеркова, приходила за своей порцией тминной, а заодно истолковать сон пана Таубена, объяснение которого всегда заканчивала словами:
— Да, так и есть, почить вам сном праведных.
Шельма пан Таубен всякий раз рассказывал, что ему снились белые лошади.
Доверительно справившись о здоровье пана Колошки, хозяина, и пана Фердинанда, она принималась жаловаться на жильцов. И в заключение горько сетовала, что учитель опять оставил вчера ее Францека без обеда.
После ее ухода заглядывал перед школой рыжий Францек — просил кусок лакрицы или стеклянную трубочку, если в этот день собирался стрелять в школе горохом, и всякий раз добавлял, что мама заплатит.
Затем приходили барыни и служанки по дороге на рынок. Чего только они не покупали — травы от кашля и хрипов, рвотное и противорвотное, слабительные от самых легких до самых сильных, разные мази, губки для мытья, мастику для пола, желудочные капли, пудру и другую косметику, и прочее, и прочее…
Барыни, особенно помоложе, торговались. Заходила пани Воглова, супруга скорняка, за средством от моли. Это была пожилая женщина, которая вечно торопилась: «Да поживей, поживей», словно моль за эти пять минут могла невероятно размножиться. Заходила пани Кроупкова, молодая супруга слесаря, и жаловалась обычно на несварение желудка у мужа.
— Готовьте ему сами, милостивая сударыня, — советовал пан Таубен.
— Да я сама и готовлю, — наивно отвечала молодая женщина.
Приходили покупатели, которым, судя по всему, величайшее удовольствие доставляли пререкания с паном Таубеном. Среди них особенно выделялся пан Кршечан. Он ходил к нам по субботам с утра, когда было больше всего покупателей, немилосердно расталкивал всех, пробиваясь к прилавку с криком:
— Вы мне снова прошлый раз подсунули дрянь. Это разве липовый чай? Да это просто дорожная пыль! Имейте в виду — я покупаю у вас много лет. Это надо учитывать, уважаемый. Не так ли? Вам нечего сказать? В таком случае дайте мне на сорок крейцеров липового чая, но если и на этот раз будет одна пыль, я пожалуюсь на вас в магистрат.
После этой тирады он доставал табакерку, открывал ее и, перегнувшись через прилавок, предлагал:
— Понюхайте, пан Таубен, помогает хорошему самочувствию.
Мы называли его полоумный пан Кршечан.
Приезжая в Прагу, к нам заходил мельник Влашек, откуда-то из-под Чешского Брода. Он клал шляпу на стол, с серьезным видом извлекал из кармана листок, где было записано, что надо купить землякам — пану учителю, пану священнику и остальным.
Он с достоинством протягивал листок пану Таубену и заводил разговор о полевых работах: «Начинаем косить за рекой» или: «Пора скородить», и тому подобное, вроде: «Пшеница уже наливается».
— Все, значит, — произносил он, когда товар по списку лежал перед ним на столе, — а еще мне дайте пакет целебных трав для коров.
Частым посетителем был в лавке также высокий господин в черных очках, говорили, что он директор какого-то небольшого сиротского дома.
Наклонившись над прилавком, он всегда шепотом просил у пана Таубена:
— Мне полкило ртутной мази.
Ах эта ртутная мазь! В моей памяти тотчас воскресала двести тринадцатая страница из «Естественной истории животного мира» Покорного, и я видел себя маленьким гимназистом, который учит наизусть: «Ц. Бескрылые. Вошь детская (Pediculus capitis) — серо-желтая, бескрылая. Имеет короткие усики и вытянутый хоботок, с помощью которого она высасывает кровь. Встречается только на голове, в основном у детей».
Наш учитель естественной истории при этом произносил:
— И тогда маленьким детям мажут голову ртутной мазью. Не смейтесь там, на последних партах.
Бедный директор сиротского дома! Знал бы он, что вместо ртути мы кладем в мазь порошок графита, который в двадцать раз дешевле.
— Не все ли равно, — смеялся обыкновенно после его ухода пан Таубен, — у сироток, по крайней мере, почернеют головы и они смогут играть в арапов.
Покупатели приходили и уходили, старики, молодые, господа, дамы, девицы, дети, веселые, как, скажем, трактирщик с Малой Страны, покупавший у нас чемерицу чихательную, которую он подмешивал в табак и предлагал эту умопомрачительную понюшку посетителям трактира; люди печальные, вроде пана Вагнера, пенсионера, который постоянно покупал желудочные капли и разные травы для желудка, пока вконец его не испортил, или вроде слепого Йозефа, старичка нищего, который стучал палкой о порог и всякий раз просил другие травы — сушеный василек, пион и тому подобное. Дома он их жег и окуривал дымом свои незрячие глаза в надежде, что в один прекрасный день отыщет траву, которая принесет избавление не только ему, но и другим слепым.
Приходили барышни за духами и пудрой, зардевшись, спрашивали различные косметические средства, которые особой пользы коже не приносят, но употребление которых является признаком хорошего тона.
Приходили скрипачи за канифолью, случалось, гимназисты и реалисты, воодушевленные химическими опытами, покупали химикаты, с осторожностью унося их, дважды в неделю появлялась дворничиха из соседнего дома за ядом для крыс. Прибегали смешливые служанки за щелоком, которым тайком от хозяек пользовались при стирке белья. Являлся также сторож одной из гимназий за лабораторной посудой и химикатами для опытов; он был страшный педант и требовал, чтобы ему все как следует упаковали.
— Как бы меня не разнесло в клочья когда-нибудь, — говорил он, осторожно рассовывая по карманам пальто покупки.
Приходил почтальон, приносивший заявки от заказчиков и всевозможные прейскуранты, и неизменно получал рюмку английской горькой.
Заглядывали в лавку агенты различных фирм со словами:
— Сегодня ничего не нужно? У нас дешево.
А по пятницам один за другим являлись нищие со всей округи за своим крейцером. Захаживали и бродячие подмастерья или разносчики аптекарских товаров в надежде на вспомоществование или на место.
Все они — знакомые и новые лица — и были посетители лавки.
6. На чердаке
Лезть на чердак надо было по деревянной, видавшей виды лестнице, каждый шаг по которой сопровождался звуком, напоминавшим гомон птиц, пробуждавшихся утром ото сна. Это было довольно нежное верезжание и одновременно посвист.
Рыжий Францек любил коротать время, вызывая этот звук.
Впервые поднимаясь на чердак, чтобы по распоряжению пана Колошки отыскать посыльного пана Фердинанда, который два часа назад отправился в эти, доселе неведомые для меня пределы, чтобы просеять отруби, важнейшую составную часть наших целебных трав для скота, я увидел рыжего Францека на середине лестницы, он разгонял скуку, прыгая на одной ноге со ступеньки на ступеньку вверх и вниз, заставляя тем самым лестницу скрипеть и визжать.
Свои своеобразные, непостижимые для меня развлечения он объяснил так:
— Я вот уже полчаса прыгаю, жду, когда старикан со второго этажа, который живет возле лестницы, спятит. Скоро опять вылезет.
И действительно. Я не так уж долго наблюдал забаву рыжего Францека, как вдруг распахнулась дверь квартиры, и на лестницу с криком выскочил старый господин в халате, держа в руке розгу:
— Проклятый мальчишка, я вот тебя отстегаю, дашь ты мне покой?!
Он спустился на две ступеньки, размахивая розгой, рыжий Францек еще три раза подпрыгнул, лестница трижды издала свой нежный, но пронзительный скрип, после чего Францек задал стрекача.
— Поймайте мне этого мальчишку, — попросил меня старый господин. — Впрочем, не стоит, я до него и так доберусь. Ведь это же все равно что вилкой скрести по тарелке.
Старый господин с розгой вернулся к себе домой, а я продолжал свой путь в неведомые края.
Я шел по длинной крытой галерее двухэтажного дома. На перилах сушилось белье. Из какого-то открытого окна донесся женский голос:
— Это новый практикант.
Я посмотрел вниз, во двор. Францек, засунув руки в карманы, выходил из своей квартиры.
Дворничиха стояла в дверях и кричала:
— Пусть только пан канцелярист до тебя дотронется, я ему покажу где раки зимуют.
Францек вернулся на лестницу, и вскоре послышался знакомый визг и скрип старых деревянных ступенек.
Дойдя до конца галереи, я поднялся по лестнице на чердак. В коридоре, у нижних ступенек лестницы, которая вела в самую высокую часть дома, мне бросилась в глаза надпись на грязной штукатурке, сделанная черным углем: «Практикант Йозеф Кадлец последний раз был здесь 29 февраля перед отъездом в Кладно, где он завершит практику. Ему здесь жилось хорошо».
Ниже не столь уверенным почерком было выведено: «Практикант Йозеф Кадлец был доносчик и осел. Фердинанд».
Под комментарием пана Фердинанда довольно искусно был нарисован кувшин и карты, с письменным признанием: «Это — самое лучшее».
Я решил, что почерк принадлежит пану Таубену.
Напротив была нарисована большая бочка, а возле нее уродливый человечек и пояснение: «Радикс наливает малагу».
А выше, у самых дверей чердака, синим мелом было написано: «Пан Фердинанд ходит к дворничихе».
Надписи довершала последняя, выведенная на двери черным лаком: «Чердак лавки москательных и аптекарских товаров».
Дверь была закрыта, и, когда я распахнул ее, на меня повеяло одурманивающим ароматом сушеных трав, а до моего слуха донесся какой-то храп, позволяющий понять народное выражение: «Будто дрова пилят».
Меня окутало таинственным полумраком. Я свернул направо и вошел в отпертую дверь, огромный замок которой, мирно болтавшийся на засове, напомнил мне вход в тюрьму.
Через стеклянную крышу сюда проникал слабый свет, тускло освещая ряды бочек с пыльными крышками, где хранились всевозможные травы.
От бочек шли одуряющие запахи. Они стояли по обе стороны прохода, а между ними валялись пустые бутылки, солома от упаковки бутылей, еще не сметенная в сторону, тут и там лежали разные просыпанные лекарственные травы, осколки стекла.
Среди бочек сразу бросались в глаза высокие посудины с порошковыми красками — желтой и коричневой охрой, красной глиной, — пол вокруг которых имел соответствующий оттенок. Несколько бочек было опрокинуто, и содержимое их смешалось с красками, химикалиями и сухими травами, покрывающими кирпичный пол чердака. В этом отделении хранились и небрежно прикрытые крышками ящики, в них сверкали кристаллы квасцов, селитры и прочих солей.
Узкая полоска света в углу падала на глыбы каменной соли, кристаллики которой переливались всеми цветами радуги. Рядом валялись сита и фарфоровая посуда, в которой растирают краски.
Между ящиками поблескивали жестяные баллоны с маслом, керамические сосуды с кислотами, заткнутые глиняными пробками; некоторые из них, вроде сосуда с азотной кислотой, дымились и, окутанные небольшими облачками, вызывали кашель.
В этой части чердака стоял резкий запах. Едко пахло аммиаком из стеклянного баллона — большой столитровой бутыли, от белой хлорной извести в открытой бочке першило в горле.
Глаза постепенно привыкали к полумраку, и я увидел, что стою возле лестницы. Мне надо было, как я уже говорил, найти пана Фердинанда, но это оказалось непросто.
Правда, войдя, я сразу же услышал храп — верный признак того, что посыльный здесь; храп мог бы служить мне ориентиром, но не тут-то было.
«Кху-пу-кху-пуу-кху-пу» доносилось то из одного угла, то из другого.
— Пан Фердинанд, — кричал я, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону, — несите просеянные отруби вниз!
В ответ — лишь приглушенный храп: «Кху-пу-кху-пу», эхо которого разносилось по всему чердаку, сбивая меня с толку, и я не мог понять, где искать спящего пана Фердинанда.
— Пан Фердинанд, — снова закричал я, — вы тут уже два часа, отнесите просеянные отруби вниз!
Никакого впечатления.
Теперь он дышал носом: «Пфу-пфу-фу».
Я поднялся по приставной лесенке в другую часть чердака, намереваясь продолжить поиски.
На настиле среди стропил и балок лежали мешки с сушеными травами, шуршащими при каждом шаге.
Здесь было посветлее. Я осмотрелся вокруг.
Сперва мне показалось, что пан Фердинанд храпит слева, за грудой набитых мешков. Я перелез через мешки — там было пусто.
Я продолжил свои поиски справа, и действительно, пан Фердинанд спал там. Ложе его было устлано розами. В полном смысле слова: он спал на куче сухих розовых лепестков. Он лежал, удобно вытянувшись, прикрыв лицо пиджаком, который приглушал храп.
Я стал будить его, дергая за ногу:
— Пан Фердинанд, вам надо снести просеянные отруби вниз!
После третьей моей попытки пан Фердинанд проснулся, сбросил с лица пиджак, приподнялся, зевнул и произнес:
— Это вы, молодой человек? Я тут вздремнул малость.
— Несите отруби вниз, — повторил я, — вы здесь сидите уже два часа.
— Что, отруби? — испугался пан Фердинанд. — Я про них начисто забыл. Прилег на пять минут да проспал. Да, уходился я. Вот что. А теперь еще отруби просеивай.
Пан Фердинанд надел пиджак, вскочил и сказал:
— Здесь хорошо спится. Если б я втянул лестницу наверх, вы бы меня, молодой человек, не нашли.
Мы стали спускаться вниз. Пан Фердинанд обернулся на последней ступеньке и умиротворенно произнес:
— А летом, когда бабы нанесут свежих трав, спится еще лучше. Будто в деревне на сене. Разляжешься — и спишь себе. А старику нашему скажите, что у меня пошла носом кровь, поэтому я еще не закончил.
Когда я покидал чердак, рыжий Францек все еще прыгал, заставляя старые ступеньки скрипеть.
— Что мне сказать? Когда вы придете? — крикнул я в полумрак чердака.
— Когда закончу; — ответил пан Фердинанд.
Голос его доносился сверху — пан Фердинанд поднимался по лесенке на свое прежнее место, устланное розами, в прямом смысле этого слова…
7. Тележка
Постепенно я ознакомился со всем заведением: подвал, чердак, сводчатый склад за лавкой, сарай во дворе, где пан Фердинанд толок коренья и где, кроме большой ступки с тяжелым пестиком, хранилась ручная тележка, периодически менявшая окраску. Тележка, с которой пан Фердинанд ездил за товаром или развозил его, была предметом его гордости.
Ни один посыльный не мог похвастать такой красивой тележкой, колеса, рама, короче, все части которой были раскрашены в яркие цвета — синий, красный и зеленый.
Завидев тележку, всяк отзывался о ней одобрительно, но пану Фердинанду было этого мало. Он вечно возился с ней, перекрашивал ее, отводя для этой цели, как правило, субботу пополудни, чтобы за ночь и воскресенье тележка как следует просохла.
А в понедельник, куда бы он ни поехал, его тележка привлекала внимание новыми блестящими красками, смелым сочетанием цветов, обычно не применявшихся для окраски тележек.
То она переливалась всеми цветами радуги, а колеса были кроваво-красные с зелеными и синими полосками, то колеса становились бронзовыми, а сама тележка черной в желто-белую полосу. Через неделю все менялось. Тележка оказывалась покрыта зигзагами коричневого и белого цвета, а колеса были желтые с черными полосами.
Столь смелые комбинации, все новые и новые сочетания цветов могли возникнуть лишь в голове пана Фердинанда за его высоким челом. Пан Фердинанд любил свою тележку отечески нежно, как заботливый воспитатель, он стремился, чтобы его подопечная всегда была нарядна.
Пренебрежительно отозваться о тележке означало навсегда восстановить против себя пана Фердинанда.
Когда однажды косой Венца, подмастерье мясника из нашего дома, отважился заметить в пивной, что тележка похожа на размалеванного индейца, пан Фердинанд вспомнил свою излюбленную присказку «За «морду» — в морду» и тут же перешел от слов к делу.
— Я тебе покажу размалеванного индейца, косой черт! — Голос его слышен был даже во дворе.
С тех пор они сделались заклятыми врагами и выражали свою неприязнь взглядами и словами.
Косой Венца, быть может, и помирился бы; во всяком случае, когда пан Фердинанд угощал в пивной своих друзей, заказав двухлитровые кружки пива, он подошел к нему и сказал:
— Надеюсь, вы больше не сердитесь, пан Фердинанд?
Пан Фердинанд лаконично ответил:
— Сержусь, косой черт. — А когда двухлитровая кружка пошла по кругу, заявил: — Косоглазым не давать!
Он был нетерпим к любому, кто непочтительно отзывался о его прекрасной тележке.
А как тщательно обследовал он каждый вечер, — хорошо ли заперт сарай, где покоилась его тележка, и нередко, как бы не доверяя себе, возвращался и заново осматривал замок.
— Спокойной ночи, тележка, — произносил он обычно. А утром первым делом шел к сараю — не украл ли кто ее ночью.
— Доброе утро, тележка, — говорил он, — вот и я. Работа начинается.
Тележка была его верным товарищем, и надо было видеть, как пан Фердинанд толкает ее, важно покуривая фарфоровую трубку! А если где-нибудь по пути он останавливался в трактире, любо-дорого было посмотреть, с какой отеческой заботой оберегал он свою тележку, стоящую на улице. Он следил за ней в окно и настораживался, если какая-нибудь подозрительная личность приближалась к его подопечной.
Она приносила ему не только славу, но и барыш. Он возил в ней со станции или со складов крупных фирм разные товары, ловко проскальзывая мимо таможенных пунктов, где взималась пошлина за продовольственные товары, и, таким образом, деньги за провоз вина, спирта и тому подобного, которые должны были достаться городу, доставались ему.
Обманывая бдительность таможенников, он применял различную тактику; чаще всего он быстро проскальзывал через таможенную черту между двумя телегами.
Здесь, конечно, требовался особый талант. Надо было выискать такие улицы, где движение особенно оживленное, и, выждав удобный момент, проскочить под прикрытием других повозок. Быстро едущие легкие экипажи для этого не годились, а вот дождавшись тяжело груженных телег, он подъезжал именно в тот момент, когда они следовали за таможенную черту, уже заплатив пошлину. А потом, ловко затесавшись меж ними и глядя в оба, сперва не спеша, а потом все быстрее и быстрее и, наконец, бегом — мимо бдительных стражей, толкая перед собой тележку, так что бочки и прочий груз только подпрыгивали. Прохожие даже не успевали заметить тележку, как она уже проносилась мимо.
Пан Фердинанд сворачивал в тихий переулок и там, замедляя темп, в конце концов снова толкал тележку солидно и не спеша, попыхивал фарфоровой трубкой и время от времени останавливался, чтобы утереть пот со лба или прикинуть, на какую, собственно, сумму рискнул он надуть таможню и магистрат.
Деньги, добытые таким способом с помощью своего удивительного таланта, он прятал в кошелек, чтобы в самое ближайшее время истратить их в первом попавшемся трактире.
И тут, сидя неподалеку от двери, он с благодарностью поглядывал на тележку, стоящую у тротуара. Не подвела! А если б в решающий момент, когда он пересекал таможенную черту, колеса его тележки вдруг отказали бы? Если б вдруг прогнулась тщательно смазанная ось? Нет, тележка его не подведет.
Но однажды случилось невероятное. Пан Фердинанд вернулся под вечер с товаром, но в каком виде была тележка! Забрызганная, на колесах комья грязи.
Все смотрели с изумлением. Пан Фердинанд сгрузил товар и, не вычистив тележку, грубо затолкал ее в сарай и запер.
И перед закрытием лавки не пошел, как обычно, взглянуть, хорошо ли защелкнут замок, и не произнес: «Спокойной ночи, тележка», зато пану Таубену он сказал, показывая желтый листок:
— Впервые меня зацапали. Аккурат, когда я пересекал черту, эта проклятая тележка стала и ни с места. Колеса застопорились. Ну я и попортил ей красоту в луже.
Больше пан Фердинанд не раскрашивал свою тележку.
8. Тесть пана Колошки
О нем зашла речь однажды в обеденную пору. Пан Колошка ушел обедать, посетителей в лавке не было, пан Таубен сидел спиной к двери на одном конце прилавка, пан Фердинанд на другом. Это время отводилось для бесед.
— Чего только Радикс не терпит от своего тестя, — проронил вдруг пан Таубен, закуривая сигарету.
— Будь у него теща, и то легче было б, — веско добавил пан Фердинанд, — хоть и болтают про женские языки, но уж если тесть начинает высказываться, хорошего не жди.
— И чем старее, тем он все хуже, — продолжал пан Таубен. — Недавно Радикс рассказывал одному знакомому, что тесть думает, будто Радикс взял концессию на продажу яда только для того, чтобы его отравить. Лекарства для себя он берет не у нас, а в аптеке. Когда Радикс приходит домой, тот обшаривает карманы его пиджака — нет ли в них какого яду. Страшное дело, пан Фердинанд, иметь такого тестя.
— Весьма печально, пан Таубен, — подхватил пан Фердинанд, — если тесть швыряет вечером в своего зятя ботинок. Мне про это недавно служанка рассказывала. Правда, в Радикса он не попал. Сами понимаете, человек пожилой, рука неверная. Но какова дерзость, пан Таубен! На такое может решиться только очень дурной человек. А в довершение всего Радикс и рта раскрыть не смеет, потому что там еще и Ацидум. Жена злющая, тесть злющий, оба бешеные. Это, доложу вам, пан Таубен, тяжкое испытание.
— К тому же, — вставил пан Таубен, — тесть вечно попрекает зятя деньгами, что дал ему на торговлю. Вы знаете, пан Фердинанд, как Радикс женился на своей кислоте?
— Уж толком и не помню, — ответил пан Фердинанд, — бондарка Кроупкова говорит, что вроде заперли как-то Радикса в комнате да заставили попросить ее руки.
— Ну, это не совсем точно, — произнес приказчик. — Дело было вот как. Радикс еще в холостые годы держал эту лавку, а его нынешний тесть Ванёус владел в ту пору крупной фабрикой по переработке лекарственных трав. Весь товар Радикс получал от Ванёуса. Но тогда Радикс обходился на завтрак не только сардинкой, булкой да кружкой пива, а ел и пил вволю. Ел и пил в лавке, вечером запирал ее и продолжал свое в другом месте. Молодой да неженатый, он срывал цветы удовольствия, за всех расплачивался, а долги росли чем дальше, тем больше. Радикс тратил деньги, полученные за товар, взятый в кредит на фабрике своего нынешнего тестя. Он вообще ему не платил, забирая все новый и новый товар. Тот посылал напоминания, и в один прекрасный день Радикс отправился просить пана Ванёуса любезно отсрочить платежи. Он явился к нему домой и именно там впервые увидел свою нынешнюю жену, Ацидум. Старый Краус, который служил здесь до вас, рассказывал, что в молодости Радикс был красивым, любил увиваться за женщинами и язык у него был хорошо подвешен. Пану Ванёусу он понравился, и тот извинился за напоминание о деньгах. Он даже пригласил Радикса заходить в гости. Радикс и похаживал, брал при этом с его склада товары в кредит и ничего не платил. Когда долг достиг огромных размеров, Радикс прекратил свои визиты. Это, ясное дело, пана Ванёуса разозлило, он написал ему письмо: мол, передает дело в суд, чтоб Радикса признали несостоятельным должником. Старый Краус рассказывал, что Радикс тогда решился: «Завтра пойду туда и покончу со всем. Что поделаешь, Краус, если пан Ванёус объявит меня банкротом, лавку мою продадут, придется начинать все сначала». И еще Краус рассказывал, со слов Радикса, о его визите к пану Ванёусу. «У меня душа ушла в пятки, говорил ему Радикс, когда я поднимался по лестнице к Ванёусам, ноги дрожали, а все тело будто током било. Денег у меня не было, я шел без всяких надежд на то, что пан Ванёус сжалится и не потянет меня в суд. Прихожу, а пан Ванёус говорит: «Идите сюда». Завел меня в комнату, запер дверь и накинулся: «Сударь, у вас нет. ничего. Вы обманщик, вы транжирите деньги, берете у меня товар в долг, обещаете заплатить, но это лишь пустые слова». — «Смилуйтесь, говорю, я исправлюсь». — «Все это болтовня, — кипятился пан Ванёус, — так мне сроду не вернуть своих денег». Походил раздраженно по комнате, вдруг оборачивается и спрашивает: «Пан Колошка! У вас еще есть долги?» — «Да! В Усти-над-Лабой». — «Сколько?» — «Около пятисот гульденов». Пан Ванёус начал носиться по комнате и орать: «Так мне своих денег не вернуть, так мне своих денег не вернуть». Вдруг он чуть успокоился и говорит: «Я полагал, вы честный человек; вы ходили в гости ради моей дочери или просто для отвода глаз, чтоб я продолжал отпускать товары в долг?» Я, прямо обомлев от удивления, соврал, желая расположить его к себе. «Ради вашей дочери, пан Ванёус!» — воскликнул я, хоть и думать-то о ней не думал. И начались чудеса. Пан Ванёус отпер дверь и позвал дочь. Она вошла, и он сказал: «Мари, пан Колошка просит твоей руки, если ты согласна, я не возражаю». Не успел я опомниться, как эта женщина едва не задушила меня в своих объятиях». Знаете, пан Фердинанд, старый Краус говорил, что, когда на другой день Радикс рассказал ему об этом, он разинул рот и минут пятнадцать не мог его закрыть. Вот как было дело, пан Фердинанд. В тот день Радикс получил жену и тестя в придачу, а тесть его рассчитывал получить свои деньги.
— Ужас, — вздохнул пан Фердинанд, — один день испортил Радиксу всю жизнь. Страшное дело иметь такого тестя.
— Тещи уже отжили свой век, — рассуждал пан Таубен, — и любая теща рядом со стариком Ванёусом сущий младенец. Раз пришел я к Радиксу домой в обед: тесть в очках сидел возле него и следил, чтобы он не взял вторую порцию. На обед у них было мясо под соусом, любимая еда Радикса, и он попробовал было взять еще кусок. Тесть заметил и разозлился: «Положи назад! У тебя и так была большая порция, вон и кнедлик остался, а ему еще подавай! На лакомые кусочки ты падок, как фокстерьер на крыс. Заставить бы тебя с недельку поголодать, вот бы ты помучился».
— В воскресенье после обеда он читает тестю газеты, — ввернул пан Фердинанд, — а жена отправляется на прогулку или в гости.
— Тесть вообще скверно обращается с Радиксом, — заметил пан Таубен, — как разозлится, запрет его трубку к себе в шкаф и с неделю не дает ему курить. А несколько трубок тесть уже разбил.
— Об него, — уточнил посыльный. — Служанка рассказывала, пришел как-то вечером Радикс домой и машинально поздоровался: «Доброе утро». — «Повтори, что ты сказал», — потребовал тесть. Радикс перепугался и, заикаясь, робко произнес: «Доброе утро, папенька». Тесть схватил с подставки трубку и несколько раз ударил его. «Я тебе покажу, как дурачить старых людей! Экий обормот, — злился тесть, — вечером желать доброго утра!»
— Точно, он его бьет, — откликнулся приказчик, — вот уж испытание так испытание.
— Радикс посадил как-то в палисаднике деревца, — сказал посыльный, — так тесть их срезал; наверно, Радикс уже ждет не дождется…
— Чего, пан Фердинанд?
— Ну, что в один прекрасный день мы запрем пораньше лавку и вывесим табличку, которую он заказал еще два года назад, когда тесть тяжело заболел, — ответил пан Фердинанд.
— А, — произнес пан Таубен, — вот вы о чем: «Сегодня, в связи с похоронами тестя, лавка закрыта».
— Совершенно верно, — ответил посыльный.
Разговор прервал господин, который вошел в лавку и попросил что-нибудь от зубной боли…
Первое мая советника Мацковика
Первого мая советник Мацковик, пятидесятипятилетний шестипудовый государственный служащий, совершил со своей пятидесятилетней пятипудовой супругой загородную прогулку в Посазавье.
Сойдя с поезда, они взяли извозчика и через некоторое время вышли у загородного ресторана, заняли столик и заказали обед. Поели, попили, потом опять — в пролетку и приказали отвезти их этак за полкилометра от ресторана, в лес; там опять вылезли и сели на опушке на траву.
— Птицы щебечут, — поэтически промолвила советница.
— Да, да, никак не заснешь, — ответил советник. — В поезде растрясет, и не пообедаешь как следует… Ты хотела этой поездки. Ладно. Вот и страдай!
— Я и не думаю страдать, — мягко возразила советница. — Птички щебечут, чирикают, воркуют, радуются жизни…
— Какая там жизнь! — заворчал советник, — Придет охотник, начнет бухать из ружья — вот тебе и радость жизни: всех куропаток, перепелов, фазанов перестреляет. Что может быть лучше домашней кухни? А если б мы здесь что-нибудь такое заказали, получилось бы, как с цыпленком.
— Птенчики в гнездышке радуются, — вздохнула советница, — вот сейчас папа с мамой прилетят, накормят…
— Птенчики! Таким вот птенчиком и цыпленок тот был, которого нам в ресторане подали, — уныло заметил Мацковик. — Пять косточек — и все. Я бы десяток таких птенчиков слопал!
— Не говори так, милый. Мы в лесу…
— Почему это я в каком-то дурацком лесу не могу произнести слово «слопал»? В гостиной я сказал бы «съел», в какой-нибудь веселой компании — «расправился». А здесь мы наконец единственный раз в году одни. Обычно с нами за город тащится целая орава знакомых. Господи, какое наслаждение хоть раз в год распоясаться!
— Опомнись, Ондржей! Ты ведь как будто ничего не пил!..
— Правда, выпил я немного. Но здесь приволье, и я хочу безобразничать. Как в детстве, когда мальчишкой был. Мы бродили тогда по лесу и, не думая о приличиях, орали наперебой. Я ничего не пил. В этом нищем краю болван ресторатор подает не вино, а какую-то бурду вонючую!
— Ондржей!!!
— Отстань, дай хоть раз в году вздохнуть свободно. Теперь я даже в канцелярии не могу выругаться: подчиненные накляузничают. А мне хочется садануть покрепче…
— Тебе не к лицу, Ондржей, ведь ты интеллигентный человек… Да еще сегодня, в такой прекрасный майский день, когда все кругом улыбается…
— Еще бы не улыбаться. Например, этот бездельник извозчик! Я ему пять крон заплачу, и он их пропьет, как скотина…
Тут супруга зажала ему рот, и окончание получилось неразборчивое.
— Потом на карачках ползать будет, — продолжал советник. — Вот и все его весеннее настроение. Если бы не мысль о том, что хорошенько наговорюсь, лучше проспать весь день. Какой к черту толк от этого первого мая!
— «Май — пора любви», — возразила советница, которая начиная с тридцатилетнего возраста регулярно читала семейные журналы для женщин. — И птички щебечут…
— Отвяжись от меня со своей ерундой! Уж коли ты заберешь себе что в голову — конец. Птички пускай хоть на голове ходят, нам-то что до этого? Это дело лесного управления! По-твоему, май — пора любви? Ну, это для молодых сумасбродов! Так влюбленные разговаривают, а не солидные люди. Что о тебе подумали бы, если б в твои пятьдесят лет, да при твоей толщине, услыхали от тебя такие речи? Все равно как если бы я, со своим брюхом, которое еле таскаю, пустился бегом по улице за какой-нибудь молоденькой барышней и стал бы ее щипать, приговаривая: «Поцелуй меня, душечка: май — пора любви». И была б она хорошенькая, колыхала бы бедрами, как лань, а ботиночки, ножки…
— Ондржей!
— Ботиночки, ножки у нее были бы такие крохотные, что я мог бы их проглотить. И декольте…
— Ондржей!
— Локотки беленькие, плечики полненькие, глаза, как черносливины, шейка — алебастр, волосы светлые, шелковые… Поцелуй меня, старуха…
Толстяк неожиданно запечатлел поцелуй на лбу своей супруги; а та, удивленная столь внезапной переменой, нежно заглянула ему в глаза и промолвила:
— Наверно, Маха был похож на тебя, Ондржей…
Поцеловавшись еще раз, они сели в экипаж и вернулись в ресторан — закусить…
Так провел первое мая советник Мацковик.
Животные и чудеса
Посвящается господам редакторам журнала «Чех»
Из книг святых отцов явствует, что раньше совершалось много чудес. Чудеса эти примечательны тем, что в них большую роль играли животные. Здесь я привожу добрым верующим несколько примеров того, какие творились чудеса и как тесно с жизнью животных была связана жизнь целого ряда святых. Все это поистине удивительные деяния, наполняющие верующих глубоким изумлением и блаженством. Ибо чудеса эти преступают все до сей поры существующие законы природы и неопровержимо доказывают, на что способна набожная фантазия. Кто этому не верит, будет неминуемо проклят.
Марциан и гады
Однажды, когда святой Марциан пребывал в обществе своего ученика, святого Эусебиуса, к ним приблизилось огромное множество ужасных гадов. Эусебиус хотел убежать, но Марциан успокоил его, сказав: «Надейся на бога!» При этих словах гады рассыпались в прах, и ветер развеял его во все стороны света. Это было в третьем веке после рождества Христова.

Ромедиус и медведь
В книге «Святая Бавария» («Bavaria Sancta») написано следующее: «Однажды святой отшельник Ромедиус задумал пуститься в путь, как он часто делал и раньше, к угоднику Вигилиусу, другу своему, который жил в Триесте. И сел набожный отшельник на осла и поехал через горы и леса. Вдруг, когда он слез с осла и пустил его пастись, из чащи выбежал медведь, который тут же и вкусил от ослика. И двинулся Ромедиус бесстрашно на медведя и приказал ему поднять с земли уздечку покойного осла и взнуздать самого себя. Медведь исполнил сие, трясясь от страха, и святой Ромедиус вскочил на него и так доехал до самого Триеста, куда и прибыл благополучно 7 июня 520 года после рождества Христова».
Святая Теодора и нильский крокодил
Святой Теодоре из Александрии в Египте предстояло сделаться женой богатого язычника. Куда ей было деваться? Она убежала из дому и укрылась в монастыре, переодевшись в мужское платье. Там, среди монахов, ей пришлось бороться со многими искушениями, но она всегда побеждала их. Недалеко от монастыря был пруд, к которому монахи ходили по воду. В пруду этом завелся ужасный нильский крокодил, который утаскивал под воду бедных монахов. Святая Теодора решила одолеть крокодила словом божьим и в один прекрасный день, невзирая на причитания монахов, пошла одна к пруду. Крокодил при виде человека вылез на берег и приготовился проглотить его. Святая Теодора, осенив себя крестным знамением, неустрашимо подошла к крокодилу, говоря: «Войди в воду и больше не причиняй вреда». Крокодил так испугался, что бросился стремглав в пруд и вскоре утонул в его волнах.
Голова святой Урсулы и голубь
Долго не могли найти голову святой Урсулы, пока однажды по милости божьей не случилось следующее: святой Кумберт, епископ Кельнский, занимавшийся поисками головы мученицы, сидел однажды печальный в своих покоях, как вдруг в открытое окно влетел голубь с пергаментом в клюве. Он опустил пергамент на колени удивленного епископа, который прочитал: «Mia caput in ecclesia Bambercis, dexta pars. Sancta Ursula». («Моя голова в Бамбергском соборе, правый придел. Святая Урсула»). Когда же, по письму святой Урсулы, пошли в Бамберг, в самом деле нашли там ее голову, которая доныне хранится как реликвия в Кельнском соборе. И пергамент тот я тоже там видел, он писан действительно женской рукой, У них там есть даже чучело того самого голубя от седьмого века после рождества Христова. И в довершение чуда надпись на пергаменте была сделана ализариновыми чернилами, которые тогда еще не были изобретены.
Епископ Корбиан и орел
Когда святой Корбиан со свитой странствовал по Италии, сопровождавшие его не могли найти ни кусочка мяса для подкрепления. И возроптали все, но Корбиан сказал: «Вот увидите, господь бог ниспошлет нам пищу с неба». Только он произнес эти слова, как над их головами появился орел с ягненком в когтях и сбросил ягненка посреди их стана. По свидетельству святого Корбиана, к ноге ягненка был привязан мешочек с солью и пряностями, необходимыми для приготовления сочного жаркого.
Отшельник Гутлах и ласточки
Отшельника Гутлаха в пустыне навещали ласточки, виясь над его сединами. Этот святой человек питался одними корешками. В какой-то год выдалась такая страшная засуха, что в течение многих дней, — Гутлах не мог найти ни одного съедобного корешка и был уже близок к голодной смерти. Блуждая по пустыне, услышал он вдруг глас свыше:
— Вернись домой, вернись домой!
И он пошел домой и нашел на столе в своей хижине на большом блюде дюжину фаршированных жареных ласточек. Это были те самые ласточки; по велению божьему они сами себя нафаршировали и зажарили.
Святой Сола и муравьи
Магнус Иохам в книге «Святая Бавария» («Bavaria Sancta») повествует о чудотворной силе святого Солы, показывая ее на следующем замечательном примере. Святой Сола пошел однажды в лес, где на него напали два волка. У святого не было иной защиты, кроме твердой веры в бога. И вот именем божьим приказал он лесным муравьям защитить его, что они и выполнили с охотой и с таким рвением ополчились на волков, что те убежали.
Конрад и паук
Старая летопись от десятого века повествует нам о не менее удивительном случае из жизни святого епископ» Конрада из Констанцы, что в швейцарской земле. Когда упомянутый епископ, причащаясь, готовился пригубить из чаши вино, пресуществленное святейшим таинством в кровь Христову, со свода вдруг в чашу упал паучок. Епископ самоотверженно выпил вино прямо с пауком.
Далее в летописи говорится: «И вышел паучок на другой день из тела епископа, живой, невредимый и бодрый, и свершилось сие в присутствии курфюрста Баварского и многих князей церкви, громко возликовавших при виде такого чуда». Паучка этого берегли и кормили до самой его кончины.
Событие сие запечатлено пускай неумелой, зато весьма наглядной резьбой, находящейся в Базельском кафедральном соборе. Над задней частью епископова тела в момент свершения чуда сияет святой ореол…
Читатель «Чеха» и осел
Некий набожный католик, церковный сторож и устроитель процессий паломников, встретил некогда неподалеку от Святой Горы атеиста, который стал над ним насмехаться. Набожный человек возвел очи горе — и в ту же минуту атеист превратился в осла. Церковный сторож принялся благодарить бога, но, с другой стороны, ему стало жаль, что человек вдруг сделался животным, и он опять помолился богу — и осел преобразился в человека, который через несколько месяцев стал сотрудником журнала «Чех».
Ослик Гуат
Под горой Дроалишпиц в Бернских Альпах на мюригенских альпийских лугах глядела за коровами крестьян из деревни Ундермлоакен красавица Батценмюллер.
И когда вечернее безмолвие горных громад нарушали своими песнями парни из Ундермлоакена, то это ей, прекрасной пастушке, адресованы были их переливчатые «холарио», и до самых мюригенских лугов возносились вздохи их неутоленной страсти.
Но вздохи оставались безответны, а все эти «холарио» безутешно замирали среди вершин, ибо сердце девицы Батценмюллер было холодно, как ледники Дроалишпица и слова ее — беспощадны, словно лавина, низвергающаяся с горных склонов и хоронящая все надежды.
Сюда, наверх, на сочные луга и пастбища, где пейзажи радовали глаз свежестью; приходить можно было только по делам. И заглядывали сюда по большей части одни лишь пожилые крестьяне. Они поднимались вдоль леса, пока наконец не выходили на это широкое плоскогорье, будто зажатое зубчатыми силуэтами гор; назад они уносили в корзинах сыр и масло, приготовленное красавицей Батценмюллер и ее помощницами Кати и Анной.
Крестьяне записывали надои, лакомились топленым молоком, осматривали свою скотину и снова степенно спускались в долину. Животные здесь были рослые и красивые, из тех, какими славятся восточные кантоны Швейцарии, а также кантоны швицкий и ригский. Были там и коровы, купленные в кантонах Ури, Унтервальден, Граубюнден и Аппенцель, на коротких крепких ногах, широкогрудые, с гладкой шерстью и мощной шеей.
Видом своим они олицетворяли силу и стать, словно природа не желала терпеть в этом царстве величественных гор ничего незначительного.
Коровы, склонив головы, высматривали на зеленом ковре луга приглянувшиеся им травинки, мелодично позвякивая над пологими альпийскими склонами своими колокольцами. Изредка, меланхолично подняв голову, они мычали в ту сторону, где стояла на скале красавица Батценмюллер и глядела, как вечернее солнце окрашивает в розовый цвет снега на склонах Дроалишпица, а на ледниках Бернских Альп вспыхивают розовые блики. А возле нее стоял ослик Гуат и ревел от восторга, ибо заход солнца предвещал скорый приход Кати с буханкой хлеба, от которой хозяйка отрезала ломоть себе к ужину.
Ослик Гуат всегда делился с ней своим любимым лакомством — хлебными корками. Он часто думал о них, как, впрочем, и о многом другом, волновавшем его.
Например, о том, почему временами, когда хозяйка смотрит в сторону тех гор, откуда встает по утрам огненный шар, из глаз ее течет вода?
Или почему она так сердится, когда с ней заговаривают парни из Ундермлоакена, а недавно одного из них, не успел он завести свое «холарио», она и вовсе выпроводила палкой и гнала вниз до самого леса?
В тот раз ослик продолжал преследовать этого красавца еще далеко в лесу. Он налетал на него, забегая сбоку и норовя лягнуть задними ногами, и проделывал это до тех пор, пока непрошеный посетитель не исчез в чащобе.
Тогда, издав победный рев, ослик с важным видом возвратился на луг, удивляясь нахальству этого юнца, посмевшего обнять красавицу Батценмюллер за талию.
Такого не позволял себе еще никто. Они с хозяйкой выставили уже невесть сколько таких молодцов, но ни один из них не отваживался на подобную дерзость.
«Да у меня на кончике уха волос больше, чем у него на верхней губе и подбородке», — думал ослик Гуат.
Ему вообще нравились только пожилые крестьяне. У них были длинные усы, и к нему они относились ласково, трепали по загривку и называли голубчиком.
Крестьянские же парни внимания на него почти не обращали. Еще внизу затягивали они свое «холарио», подходили к его хозяйке, пытались взять ее за руку и вот уже летели прочь, а следом Гуат, бодаясь головой, и красавица Батценмюллер, раздавая воздыхателям затрещины.
Зато старые крестьяне похлопывали коров и Гуата и изредка спрашивали девицу Батценмюллер, как поживает этот чертов Иогелли.
После таких разговоров красавица всегда ходила грустная, и Гуат как только не изощрялся, выделывая всякие фокусы, чтобы ее развеселить, да все напрасно.
Тщетны были его усилия, потому что вода, капавшая у нее из глаз, была совсем соленая.
И тогда ослик Гуат, поглядывая вместе с ней на вершины гор и скалы, терся своей ушастой головой об ее короткую юбку. А что толку!
— Иогелли, ах, Иогелли! — взывала красавица, и так грустен был ее голос, что Гуат начинал вторить ей, оглашая скалистые ущелья тоскливым ревом.
А она обнимала ослика Гуата за серую шею и говорила:
— Откуда тебе, дурачку, знать, каково это — любить Иогелли, такого негодяя и мерзавца! Ах, Гуатик, голубчик мой!
Огромные темные глаза ослика смотрели в голубые глаза девицы Батценмюллер, в те самые голубые глаза, которые так любил Иогелли, тот, что ушел из Ундермлоакена в Берн водить по горам иностранцев, а случилось это после того, как обладательница голубых глаз надсмеялась над ним, назвав его бабой, как есть бабой, только за то, что ради нее он позволил продырявить себе ножом брюхо на целых два сантиметра.
И Иогелли, бедный Иогелли, когда поправился, уехал в Берн и теперь водит иностранцев в горы.
— Иностранок, — говорила Гуату красавица, — он обвязывает их веревкой, а потом берет в охапку и переносит через снежные поля.
Соленая вода снова начинала капать из ее голубых глаз, и она вздыхала: «Ах, Иогелли, ах, Иогелли…»
Но Иогелли исчез, оставил свои восемь коров на попеченние девице Батценмюллер, а сам затерялся не то в Берне, не то в Бернских Альпах.
— Ах, Гуат, знаешь ли ты, что это такое — любить Иогелли?
Гуат грустно заревел. Ему ли не знать, если в такие вот вечера он не получал от заплаканной хозяйки своих любимых хлебных корок, ведь от огорчения бедняжка даже не ужинала.
И вдруг в один прекрасный день Иогелли вернулся. Пришел на пастбище, как обычно приходят крестьяне из Ундермлоакена, остановил Кати и Анну и поинтересовался, как тут поживают его коровы. Потом спокойно, будто разговаривал с торговцем скотиной, обратился к красавице Батценмюллер:
— Хочу вот повыгоднее своих коров продать, уезжаю я из этих проклятых краев!
Они стояли друг против друга, и он вглядывался в ее заплаканные глаза.
— Поступай как знаешь, Иогелли!
— К чему мне эти коровы, — Иогелли с трудом сдерживал негодование, — всех продам и никаких тебе хлопот. Открою за горами трактир и буду туристов обирать.
— Как хочешь, Иогелли!
— Вот-вот, чего тут думать, так и сделаю. И никто мне не указ, — раздраженно выкрикивал Иогелли, — не у кого мне разрешения спрашивать!
«Чего это он тут разорался? — недоумевал ослик Гуат, приближаясь к Иогелли с тыла. — Сейчас мы его как погоним! Пусть только попробует взять ее за руку».
— Собачья в здешних местах жизнь. Ей-богу, есть на свете и другие края, получше этих, и уж если там кого и пырнут ножом из-за голубых глазок и скажут «а ну проваливай», то будьте уверены, эта голубоглазая не назовет человека бабой. Так-то вот. А теперь прощай!
И видит Гуат, что Иогелли подает красавице Батценмюллер руку.
«Ну, — решает он, — пора лягаться, а уж потом как погоним мы его вдвоем…»
И, развернувшись, с такой силой наносит Иогелли удар пониже спины, что тот с размаху падает красавице в объятья.
Когда же ослик оборачивается, чтобы прицелиться еще раз, то оторопело застывает на месте, потому что Иогелли обнимает хозяйку, а она — его, и Иогелли больше уже не кричит.
Коровы мелодично позвякивают колокольцами, а ослик Гуат отходит прочь, задумчиво вертит ушастой головой, изредка прядет ушами и, оглядываясь назад, недоумевает, отчего это Иогелли говорит хозяйке, что коров он продавать не станет и ни за какие горы не уедет, пусть она не беспокоится…
«Ну и болван же этот Иогелли, — думает ослик, — ведь как раз сегодня придут покупатели, так удачно можно было бы коров продать…»
И свое глубокое неудовольствие всей этой историей он выражает сердитым ревом, а многоголосое эхо вторит ему, отражаясь от скалистых утесов под заснеженным Дроалишпицем.
По долгу службы
История, поучительная для всех налогоплательщиков
Пана Карела Махитку, отставного чиновника судебной канцелярии, и налогового инспектора Готтштейна связывала многолетняя верная дружба. Оба они ревностно почитали матерь божию и были беззаветно преданы делу Марианской конгрегации, коего государственного института являлись рьяными членами и не менее горячими сторонниками.
И неудивительно, что жизнь их протекала в приятности, а когда головы обоих посеребрились, они носили свои седины с достоинством, ибо волосы их не просто полиняли от какого-то там неупорядоченного образа жизни, а благородно поседели, поскольку иначе и быть не могло у членов Марианской конгрегации.
Неиссякаемая вера в то, что ждет обоих царствие небесное, часто наполняла усладой их дружеские беседы на квартире Карела Махитки, неизменно начинавшиеся истинно христианским приветствием налогового инспектора:
— Да ниспошлет тебе господь доброго здравия, Махитка!
И, беседуя о политике, оба клеймили позором течения, не отвечавшие их нравственным принципам, и людей, имевших иные политические взгляды, ибо совершенно ясно, что проклясть и предать анафеме в интересах общественного порядка вовсе не грешно.
И окажись они, пан Махитка и пан Готтштейн, у власти — они бы всех инакомыслящих вздернули, опять же в интересах сохранения порядка.
Увы, судьба уготовила им не тот жизненный путь, какого они желали.
Жизнь пана Махитки двигалась по проторенной колее, оберегая его от волнений плоти и позволяя толстеть медленно, но верно. Состоя чиновником судебной канцелярии, он довольствовался тем, что вел бухгалтерские книги, изредка поругивал надзирателей или подследственных, записывал свидетельские показания и, выполняя все свои обязанности, спокойно дожидался грядущего дня, когда, выйдя в отставку, сможет спокойно ходить на проповеди в костел со своим другом Готтштейном. И потому совершенно не удивительно, что всемилостивейший господь сподобил его во здравии дождаться выхода на пенсию с блаженной уверенностью в том, что обязанности свои он исполнил в соответствии с предписанием.
Ни разу хотя бы на минуту не опоздал он в канцелярию и с удивительным постоянством многие годы призывал к усердию своих подчиненных. Горячо молился по дороге на службу:
— Господи! Даруй мне здоровья, дабы отработать прилежно день сей!
И на обратном пути:
— Господи всеблагий, отец небесный, благодарю тебя, что даровал мне силы в трудах моих!
Тридцать пять лет безупречной службы — тут и впрямь есть чему позавидовать. И, разумеется, государство щедро вознаграждало свое чадо, Карела Махитку, за тщание. Ну как тут не возблагодарить судьбу, если сам видишь, что и отечество может быть этаким милым папенькой для добропорядочных своих детушек!
Всеми добродетелями обладал Карел Махитка. Их и до утра не перечесть.
Помимо добродетелей религиозных и гражданских он отличался еще необычайной сдержанностью в вопросах любви и целомудрием в полном соответствии с требованием шестой заповеди «не прелюбодействуй!».
Причем это высоконравственное убеждение он исповедовал не только теперь, по выходе в отставку в возрасте шестидесяти лет, но пронес через молодость и зрелые годы Он был ярым сторонником безбрачия, следовать которому рекомендовал всем государственным служащим.
Махитка ни разу не влюблялся, предложения никому не делал и в, браке не состоял. И был он не из тех старых холостяков, которые воздерживаются от брака из соображений строгой экономии, чтобы избавиться от бремени забот о детях и супруге, а при этом, заимев лишние деньги, не побрезгуют соблазнить жену ближнего своего, от чего, как известно, предостерегает заповедь господня.
Нельзя было отнести его и к тем неженатым господам, которые самым бессовестным образом соблазняют барышень и невинных девиц, безбожно преступая нравственные законы, и невзирая на добрые советы, следуют греховным побуждениям, а это весьма часто имеет печальные последствия.
Итак, пан Карел Махитка придерживался строгих правил и слыл мужем добродетельным, сумевшим превозмочь в себе греховные вожделения. Кроме дружеских бесед с налоговым инспектором Готтштейном, он не позволял себе иных развлечений и к тому же держал в доме попугая и канарейку. Канарейку он выучил нескольким мелодиям церковных песнопений, а попугая — здороваться, как подобает истинному христианину. И когда он спрашивал попугая:
— Лоро, где господь бог?
Лоро указывал покрытой перьями цепкой лапкой вверх и отчетливо произносил:
— Там!
Вот какая искренняя дружба связывала эти непорочные существа — канарейку, попугая, пана Махитку и пана Готтштейна.
Совершенно излишне было бы рассказывать о том, что за человек был пан Готтштейн. Распутник, негодяй или человек недостаточно строгий в вопросах веры или в соблюдении государственных интересов решительно не мог бы стать другом пану Махитке. Пан Готтштейн был человек образцовый во всех отношениях.
За годы службы пан Махитка накопил изрядную сумму и, когда пришла ему пора выйти в отставку, осуществил давний свой замысел — путешествие в Лурд, место, популярное у богомольцев. И, оставив на попечение прислуги попугая и канарейку, трогательно распростившись с налоговым инспектором, отбыл он в прелестную обитель паломников, дабы воочию лицезреть все те места, где свершилось столько дивного и чудесного, что сегодня уже самим священнослужителям приходится это опровергать.
Возвратился он, окрепнув духом и вдоволь натешившись сновидениями о славном уголке на небесах, приглянувшемся ему за время богомолья, приятном укромном уголке в райских долинах под тенистым каштаном у смородиновых кустов, с которых ангелочки угощают ягодками исключительно своих гостей в царствии небесном, и в тот же вечер ему нанес визит пан Готтштейн, душевный его друг и налоговый инспектор.
Встреча получилась трогательная. Достойные мужи окропили друг друга слезами искренней дружбы.
Рекой лились из уст доброго пана Махитки рассказы о неисчислимых красотах Лурда, где провел он четыре месяца в неустанном радостном ликовании, где явью стала его мечта узреть сии чудные пределы, так укрепляющие дела церкви на поприще финансовом и моральном.
Это было чрезвычайно умилительное живописание всех тех услад, что понятны лишь истинному верующему, а именно — употребление святой воды, целование стен пещеры и тому подобные духовные деликатесы.
— Я сам будто стал святым! — восторженно закончил пан Махитка.
Тут налоговый инспектор откашлялся и вынул из кармана какие-то бумаги.
— Да, стало быть, господь сподобил тебя, Махитка. Лурд, это точно, место святое, Карличек… гм… понимаешь, как бы это тебе объяснить… и надо же именно сегодня… Карличек, ты только не сердись, тут вот все написано. Это я по долгу службы, Карличек. Вот — здесь письменное уведомление насчет налога на безбрачие. Ведь тебя не было, а у меня служба, ты только не пугайся, Карличек, я пришел по поводу конфискации, такой порядок…
Пан Карел Махитка в ужасе уставился на бумагу. Это было предписание об описи имущества пана Карела Махитки, чиновника судебной канцелярии в отставке, в связи с неуплатой 27 крон 50 геллеров налога за безбрачие.
Пан Махитка залился слезами.
— Боже мой, — возопил он в гневе, — у меня конфискуют, у меня, честного человека!..
Он неистово заламывал руки и рыдал, как неразумное дитя.
Затем резко поднялся, вытер слезы покрывалом, сорвав его с постели, и взревел:
— Не заплачу!
— Карличек!
— Я платить не буду, — натужно орал пан Махитка, вытаращив глаза, — не буду платить! Зачем же я тогда, для чего, спрашивается, соблюдал целомудрие, как указано в заповеди господней? За это я должен платить?..
— Но ведь есть законы, Карличек!
Вот тогда-то и выкрикнул пан Махитка слова, которые привели к трагедии:
— Плевал я на эти законы!
И в тот же миг налоговый инспектор вцепился ему в горло с воплем:
— Что вы сказали? Да я вас убью!..
* * *
Три дня спустя ввиду невыносимого запаха дверь квартиры несчастного пана Махитки пришлось взломать.
В проеме окна был обнаружен труп пана Махитки, рядом с ним висели клетки с попугаем и канарейкой, а на другом окне — пан налоговый инспектор, который, удавив друга, попугая и канарейку, сам в приливе служебного рвения лишил себя жизни.
На столе он вывел мелом слова:
«Я выполнил свой служебный долг и умираю как герой!»
Случай у райских ворот
Один австрийский министр юстиции, попав на небо, устроился там помогать святому Петру у ворот рая.
Курил трубку, сплевывал вниз, на ад, разумеется, и приглядывался к душам, которые хотели попасть на небо.
Иные души держались самонадеянно, другие же кротко и тихо молили впустить их.
А были и такие, что громко молотили по воротам, нахально крича, будто они — невинные лилии.
Бывший австрийский министр юстиции подвергал каждую душу досмотру, расспрашивал и затем помогал святому Петру открывать ворота, так как за многие столетия, что святой Петр просидел у них, замок изрядно заржавел и отпирался с большим трудом.
— Милый Петр, — сказал однажды министр юстиции, — не мешало бы смазать ворота вазелином. Дальше так не пойдет. Замок скрипит, прямо мочи нет.
— Да я и сам о том лет уже шестьсот думаю, — отвечал святой Петр, — но, видишь — я не мог никуда отойти, пока у меня не было помощника. А если он когда и появлялся, то оказывалось, что один чересчур дотошно разглядывает праведниц, прибывающих на небо, хе-хе, то пощупает, то пощекочет, одежды-то на них, как сам понимаешь, нету. Среди них бывали и пышненькие, хе-хе, молоденькие мученицы, ваше превосходительство. Кожа такая бархатная. Некоторые держали головы на коленях — загляденье, да и только! А тут как-то одна из мучениц, не успел помощник и подступить к ней, захохотала, голова-то у нее из руки и выскользнула, пришлось взять ее на небо без головы. Это та самая безголовая святая, что сидит у фонтана на дереве и по вечерам моет ноги. Из-за того случая получился ужасный скандал и с помощником пришлось расстаться. Прислали мне другого. Он честно прослужил двести лет, но однажды явились два дюжих ангела и сбросили молодца с небес в чистилище. Оказалось, на земле жили двое под одним и тем же именем, один негодяй, а другой — вполне приличный человек, так вот негодяй и проник на небо, а приличный подзапоздал, его и отправили в ад. А после того как продержали его двести лет в кипящем дерьме, выяснилось, что он — святой. От него исходило, несмотря на всю эту процедуру, такое благоухание, что несколько чертей исправились и уверовали в бога. Видите, ваше превосходительство, какие здесь заботы. Как я вам говорил, вот уже несколько столетий я никуда не отлучаюсь от райских ворот. На земле надо мной, как над римским папой, уж подшучивают, будто не выхожу никуда, но теперь, прошу прощенья, я выберусь. Позабочусь о вазелине, — надо же смазать ворота. Я уверен, что могу полностью на вас положиться, ваше превосходительство. На ночь извольте всегда закрывать замок на два оборота и засов задвигать, чтобы к нам не пролезли черти. Был у нас такой случай — воспользовались отмычкой и пробрались в отделение, где некоторые души находятся под наблюдением. Была там одна прехорошенькая девчушка, у нее имелось свидетельство, удостоверяющее невинность, от самого парижского архиепископа. Дело оказалось весьма запутанным, им занималась высшая небесная судебная палата. Один из чертей, прокравшихся на небо, маханул через стену в это отделение, и произошло несчастье. Через девять месяцев народился чертенок. Выдали ей за это девятьсот тысяч лет адских мучений, а чертенка я с превеликим тщанием благочестиво утопил. Так что, ваше превосходительство, не давайте разжалобить себя горькими воплями. Лучше заставить праведника прождать лишнее столетие, чем одного недостойного пропустить на небо.
— Я это понимаю, — сказал бывший министр юстиции.
— И еще несколько слов, ваше превосходительство. Когда вам случится кого-нибудь впускать на небо, будьте любезны его обыскать, чтоб не попало сюда ничего против церкви и существующего порядка. Особенно если они хотели пожаловаться, как теперь о нас, здешних, пишут, и несли с собой газетные вырезки. Нынче и святым нельзя верить. Ну, с богом, а я пошел за вазелином.
Бывший министр юстиции, оставшись у райских ворот в одиночестве, бдительно осматривал окрестности через бинокль.
Внизу, глубоко под ним, проплывали миры, а когда показался земной шар, Австрия была обращена к министру спиной.
С досадою отвернувшись в сторону, министр стал дожидаться появления душ.
Наконец у ворот раздался бойкий стук.
— Кто там?
— Лидер социал-демократов…
Бывший министр юстиции усмехнулся.
— Ну, вас-то я никогда не принимал всерьез. Входите.
Душа вошла и низко поклонилась. Увидев заместителя святого Петра, она его узнала сразу.
— Мы, как там, на земле, держались друг за друга, так и здесь будем, — сказал бывший министр юстиции. — Табачку не хотите ли? Трубка-то у вас есть?
Новый небожитель закурил и обратил внимание министра на вновь прибывшие души. Их оказалось две. Министр хотел было уже допустить их на небо, как старый знакомый схватил его за руку.
— Дружище, этих двух не стоит, — сказал он, — они. однажды голосовали против правительства.
Спустя мгновение черти уже тащили их под руки в ад, где и закинули в кипящую серу на вечные времена.
Как видите, всякого ждет справедливое возмездие, и даже если на земле с ропчущими против властей ничего не случилось, то, по мудрому соизволению божьему, им суждено быть не на небесах, но в сере кипящей.
Как мой друг Ключка рисовал святую Аполену
Если вы в присутствии художника Ключки проявите хотя бы малейшее сомнение в художественных достоинствах написанных им картин, он начнет рассказывать вам длинную историю о том, как его портреты — необычайно живые и натуральные — убедили даже бессловесную тварь, и поклянется вам, что это святая правда.
А его правдивая история звучит примерно так.
Однажды писал он у себя в мастерской портрет своей квартирной хозяйки — старой дамы, у которой был огромный сенбернар по кличке Фокс. Художник воспроизвел ее в натуральную величину, сидящей в кресле со сложенными на коленях руками.
Когда портрет хозяйки был уже совсем готов и она ушла, наверх прибежал Фокс. Увидя портрет, он подскочил к нему, виляя хвостом и издавая радостный лай, и начал лизать руки своей госпожи, полагая, что видит перед собой саму повелительницу живую. И, только слизав своим шершавым языком всю краску, он убедился в ошибке, опустил обиженно хвост и, ворча, удалился.
А если вы и после этого будете выражать свои сомнения, художник расскажет вам, как он ввел в заблуждение саму хозяйку.
Он изобразил на полотне Фокса, и, когда однажды хозяйка шла к нему, чтобы напомнить о квартирной плате, он поставил картину так, чтобы она сразу бросилась ей в глаза.
— Фокс, Фоксичек! — начала хозяйка звать нарисованного пса. — Иди сюда, иди ко мне! Ну, иди же, не бойся! Фокс, Фоксичек. А, ты боишься, негодяй, что попробуешь плетки за то, что расположился в чужой комнате? Фокс!..
Подобных историй о том, как животные и люди принимали его изображения за подлинные, живые, он мог бы сообщить вам великое множество, и в ваших глазах, если ему удастся вас убедить, он предстанет вторым Апеллесом — известным в истории художником, который так натурально изобразил однажды черешни, что прилетели птицы и начали их клевать. Имя этого художника я чуть было не забыл, но имя Ключки не забуду никогда, поскольку сохранились сведения о его деятельности и путешествиях, которые он предпринимал в сопровождении своего друга.
Друг его и рассказал мне нижеследующее:
— Однажды во время своих странствований по Моравии мы подошли к деревне, расположенной среди валашских лесов.
Путешествовали мы тем достойным удивления способом, при котором требуется мало денег, много красноречия и необычайное хладнокровие, то есть кормились у приходских священников, зажиточных крестьян, адвокатов, учителей и так далее.
Следуя этому методу, мы зашли в приходский дом, где застали священника, приятного старика, и экономку в расцвете сил, но встретили нас не очень приветливо, так как его преподобие был занят проверкой счетов по ремонту костёла.
Местность нам понравилась, и мы, само собой разумеется, решили задержаться здесь подольше. К сожалению, Ключку вдруг осенила за ужином злосчастная идея: ой начал толковать о том, что утром мы могли бы осмотреть костел, так как якобы всегда печемся о хорошем состоянии образов святых в храмах божьих и никогда не забываем безвозмездно предложить свои услуги там, где требуется их реставрировать.
Его заявление сразу расположило к нам священника, который распорядился подать бутылку вина и завел с нами дружескую беседу о церковной живописи.
Ключка столько всего наговорил, что у меня голова пошла кругом. Напрасно я делал ему под столом знаки, чтобы он не очень завирался, — ничто не помогало. Он спокойно разглагольствовал о том, что в Стражнице мы разрисовали целый костел, причем совершенно бескорыстно, лишь во славу божью…
Когда его преподобие вышел за новой бутылкой вина, я воспользовался его отсутствием, чтобы втолковать Ключке, что своей болтовней он навлечет на нас массу неприятностей: вдруг священнику придет в голову, что мы могли бы нарисовать ему какого-нибудь святого. Что тогда делать? Обычно мы рисовали детей, баб, стариков, святых же мучеников никогда еще не изображали. Так зачем же без конца болтать об этих святых!
— Я надеюсь, — сказал Ключка, — что этого он от нас не потребует. Но если бог ниспошлет на нас такое бедствие, отдадимся его воле и нарисуем ему какого-нибудь святого.
Говорил он необычайно смиренно, как и подобает гостю священника.
Его преподобие возвратился с вином и, когда налил нам, имел вид человека, который только для того и выходил на минутку, чтобы хорошенько поразмыслить над тем, что ему предстоит сказать.
— Ad salutem, domini![17] — провозгласил он, чокаясь с нами. — Я в самом деле очень рад, что вы пришли ко мне.
Помолчав, он сказал:
— Сначала я принял вас, господа, несколько холодно, потому что, откровенно говоря, не доверял вам, узнав, что вы художники. Художников я всегда считал людьми легкомысленными, которые рисуют женщин… как бы это поделикатнее выразиться? — ну, словом, женщин без одежды. И я очень признателен вам, что вы вывели меня из этого заблуждения. Вы совершенно правы, утверждая, что все прославленные художники рисовали святых. Кого, например, изображал Леонардо да Винчи и другие? Мучеников и мучениц божьих…
Он опять остановился и через минуту тягостного для нас молчания произнес:
— У меня к вам небольшая просьба, господа, просьба верующего к верующим. Наш костел весьма примечателен своими образами святых, и все они в полном порядке. Вот только святой деве Аполене не хватает головы. Не будете ли вы, господа, так любезны — не нарисуете ли святой Аполене голову? Благочестие здешнего народа сильно страдает, когда он видит на стене изображение святой мученицы без головы.
— С величайшим удовольствием! — отозвался Ключка, в то время как я немилосердно щипал его за ногу. — Нарисуем святую Аполену и тем послужим интересам церкви.
— Святая Аполена, — продолжал священник, — была замучена в году двести пятьдесят втором по рождеству Христову, во времена императора Дециуса.
— Если досточтимому пану священнику угодно, мы могли бы пририсовать также и императора Дециуса, — услужливо предложил Ключка.
Я с трепетом взглянул на священника.
— Думается, что император Дециус там есть, — ответил он. — Святую Аполену принуждали поклоняться идолам; когда же она это отвергла, безжалостные палачи выбили ей все зубы и саму ее бросили в конце концов в огонь… А ее святая душа вознеслась к небу, к вечной мученической короне.
Святая Аполена, как вам, господа, конечно, известно, — покровительница и заступница всех, у кого болят зубы. На этом обстоятельстве я делаю особое ударение. Здешний народ любит, чтобы страдания святых изображались наглядно. Как будут наши верующие радоваться, увидев святую Аполену с выражением ужасных мук на лице! Вот я и прошу вас, господа, сослужите христианскую службу, украсьте храм божий, нарисуйте святой деве Аполене лицо, искаженное страданием! Если бы святая приятно улыбалась, народ не стал бы столь набожно ей молиться.
Мы обещали выполнить его просьбу.
И затем до ночи шептались в отведенной нам комнате.
— Было бы очень странно, — бахвалился Ключка, — если б я, нарисовав Фокса, который ввел в заблуждение хозяйку, и хозяйку, которая ввела в заблуждение Фокса, — если б я не нарисовал головы святой девы Аполены, которой палачи выбили все зубы, и не изобразил бы на ее лице выражения мучительного страдания, какое имеют почти все, кто идет в больницу к милосердным братьям или в зубную амбулаторию, чтобы вырвать себе больной зуб.
В крайнем случае расковыряю булавкой дупло коренного зуба, — он разболится, я встану перед зеркалом и буду изображать святую Аполену и сам себя нарисую. А с этого эскиза перенесу выражение страдания на образ божьей святой в костеле.
— Легко сказать! — заметил я, криво усмехаясь. — За твою болтовню, что мы будто расписываем костелы, ты заслужил бы…
— А ты мне не угрожай, — спокойно возразил Ключка. — Знаешь, как была изобретена тачка?
— Нет, не знаю.
— Человек попробовал — и сделал тачку, — торжествующе ответил Ключка. — Я попробую — и сделаю святую деву Аполену.
Да, легко было говорить…
На следующее утро мы пошли осмотреть костел и образ мученицы без головы. Он висел высоко, под самым сводом. Взобравшись на лестницу, мы сняли его и отнесли в свою комнату, превращенную нами в мастерскую.
Два дня мы чувствовали себя великолепно: вдоволь ели и пили, курили трубки хозяина и размышляли, как нам изобразить страдание на лице святой девы.
Ключка делал наброски, эскизы, но везде святая Аполена так приятно улыбалась, что я давился от смеха и хохотал во все горло.
На третий день к вечеру несчастный Ключка пробормотал:
— Если бы мне найти здесь хоть одного человека, у которого болят зубы, я бы его сфотографировал и рисовал бы по этому образцу.
Негодный Ключка устроил мне подвох: я спал у окна, а он ночью распахнул его и открыл дверь, чтобы у меня от сквозняка разболелись зубы. Но, к счастью, этого не случилось.
На четвертый день мы взяли фотоаппарат и пошли с ним по деревне в надежде натолкнуться хотя бы на одну физиономию с флюсом. Увы! А тут еще его преподобие начал расспрашивать за обедом:
— Ну, как там святая Аполена?
— Я уже сделал ей волосы, — ответил Ключка, — брови у нее также есть, скоро будет готова вся. Требуется немало труда, чтобы создать совершенное произведение искусства.
Пятый день… Снова безуспешные поиски кого-нибудь, страдающего от зубной боли.
— Здесь чересчур здоровая местность! — жаловался Ключка.
На шестой день он начал умолять меня во имя искусства вырвать у себя клещами хотя бы один зуб, а он меня тотчас сфотографирует.
Настал день седьмой… Рано утром Ключка по обыкновению отправился на кухню расспросить экономку, что готовится к обеду. Возвращался он всегда переполненный радостью, сообщая, что будет то-то и то-то, и это полностью отвлекало нас от мыслей о святой деве Аполене. В этот седьмой день Ключка прибежал из кухни с сияющими глазами.
— Гусь с кнедликами? — крикнул я ему навстречу.
— Балда! — отрезал Ключка. — У экономки разболелись зубы. Она бродит по саду с самым ужасным выражением лица. Живо аппарат! Да быстрей же!
Как только мы получили фотографию страдающей экономки, работа над образом святой Аполены начала быстро продвигаться.
Выражение страдания на лице было просто превосходное.
На восьмой день картина была готова.
Мы поставили ее к окну и любовались от двери, какая она получилась роскошная.
В это время дверь отворилась, и вошел священник. Он огляделся вокруг, увидел картину и в наступившей тишине произнес, обращаясь к изображению:
— Мария, у вас все еще болит зуб? Я же говорил вам, чтобы вы шли в Рожнов, там этот зуб вырвут. Иначе он всегда будет вас мучить…
— Когда же священник понял свою ошибку, — закончил тихим голосом приятель Ключки, — он сразу превратился в язычника и начал безбожно ругаться. Мы сообразили, что самое лучшее сейчас для нас — поскорее собрать свои манатки и исчезнуть…
Как только мы оказались за деревней, Ключка спокойно обратился ко мне:
— Вот теперь видишь, что я не врал тебе про Фокса, уж если священник мог ошибиться, то как было не ошибиться глупой твари!
Да, воистину, Ключка — это второй Апеллес…
Д-р Карел Крамарж
Д-р Карел Крамарж, владелец фабрики в Либштате и один из основных акционеров младочешской позитивной политики, вступил на общественное поприще 27 февраля 1860 года в Высоком-над-Изерой. В этот день он появился на свет, а через семь дней был окрещен. В ту пору Карел Крамарж еще не отдавал предпочтения ни одной политической партии, хотя то была эпоха Баха. Именно в эти мрачные годы гонений д-р Крамарж чрезвычайно весело взирал на белый свет. Шести лет он стал серьезней, и дела стали продвигаться быстрее. Девятнадцати он уже окончил гимназию на Малой Стране и отправился в Германию. Был членом корпорации буршей в Берлине и в Страсбурге. Погуляв на студенческих попойках, вернулся в Прагу и учился столь прилежно, что в 1884 году удостоился звания доктора прав. С тех пор он постоянно пребывал в заботах о деньгах, вызывая этим упреки своих врагов. И все же основой таковых его забот была книга «Papiergeld in Osterreich»[18], которую д-р Крамарж самолично написал и издал в Лейпциге. Как видно, главное для д-ра Карела Крамаржа — бумажные деньги, что и характеризует весь его дальнейший жизненны путь. В те времена Карел Крамарж еще и сам не знал, что он такое и что из него выйдет. Он мнил себя реалистом и стал редактором «Часа». И тут-то, редактируя реалистический журнал, Карел Крамарж вдруг понял, что он, собственно говоря, совсем не реалист, а младочех. Чтобы как-то покончить с этим запутанным делом, он с 1890 года взял на себя львиную долю переговоров между реалистами и младочехами. Переговоры имели тот результат, что д-р Крамарж окончательно переметнулся к младочехам и ринулся в Табор, где в 1891 году был избран депутатом. В 1894 году Карел Крамарж согласился представлять округ Семили в земском сейме, где самолично добился у наместника лицензии для вдовы Шумановой на табачную лавчонку в предместье города.
В качестве депутата имперского сейма от города Табора Карел Крамарж настоял также на том, чтобы на местном вокзале был изъят испорченный автомат для продажи билетов. Само собой разумеется, что благодаря своему ораторскому таланту он с успехом добивался лицензий на табачные лавки и для жителей Табора. Когда же правительство увидело, что вымогание лицензий на табачные лавки увеличивает популярность Крамаржа в народе и он становится опасен, его выдвинули в законодательную комиссию, дабы одним махом убить к нему народное доверие. Это коренным образом изменило жизнь д-ра Карела Крамаржа. С тех пор он таскается то по комиссиям, то по Крыму. И удивительное дело: то, что ему следовало бы говорить в комиссиях, он произносит в Крыму, а то, что хотел бы сказать в Крыму, говорит в комиссиях. Здесь следует упомянуть о его новой идее помощи чешскому народу. Дело в том, что д-р Крамарж взял себе за правило во времена серьезнейших политических конфликтов, когда чешскому народу приходится особенно туго, уезжать в Крым, а когда он возвращается — буря уже миновала. Это не случайность: так подсказывает д-ру Крамаржу опыт. Именно это легло в основу нового политического метода: предоставлять событиям свободно развиваться, не вмешиваться в ход истории, держаться в сторонке и ждать, когда буря пролетит, — в полной уверенности, что не пролететь она не может. Это и есть основы так называемой позитивной младочешской политики, вождем которой является д-р Крамарж.
Позитивная политика — открытие д-ра Крамаржа, и это — нечто великолепное, захватывающее и чйстое. Позитивная политика напоминает стакан кристально прозрачной воды, в которой ничего не видно, которая чиста от инородных тел и не вызывает никаких последствий.
Само название «позитивная политика» произошло от слова «позитив». В фотографии это означает изображение, полученное с негатива; в грамматике позитив — положительная степень сравнения прилагательных; существуют позитивные, то есть положительные, величины в математике; в музыке позитив — разновидность органа без педалей; в гальванической батарее есть позитивный (положительный) полюс; морские карты отмечают позитивное движение береговой линии; в философии позитив — противоположность тому, что достигнуто мышлением; позитивизмом называется целое философское направление; всюду позитив (позитивный) что-то значит, лишь «позитивная политика» не значит ничего, потому что, говоря языком философии, это такая политика, которую выдумали, не прибегая к мыслительным процессам. Позитивизм вообще запрещает думать, вот почему д-р Крамарж является поборником позитивной политики. Позитивная политика означает такую политику, когда ничего нельзя поделать, когда ситуация сама по себе является позитивной — то есть такой, когда события должно принимать такими, как они есть, когда нельзя ничего изменить — разве что реорганизовать младочешскую партию.
Д-р Карел Крамарж полностью оправдал свое предназначение. Он возродил младочешскую партию. Если уж нельзя ничего предпринять против Вены, можно проводить реформы хотя бы среди своих. Поэтому в пику «Народним листам» он основал газету «Ден», которая собрала едва ли триста подписчиков. Ясно, что Крамаржу приходится доплачивать на ее содержание из собственного кармана, но свернуть с избранного пути он уже не может.
Во время русской революции д-р Крамарж, как обычно, предпринял поездку в свое крымское поместье. Потом газеты сообщили, что поезд, в котором он возвращался на родину, подвергся нападению русских революционеров и был разграблен. Весь чешский народ жил единой мыслью: может, и д-ра Крамаржа похитили революционеры? Слава богу, этого не случилось, и клуб депутатов свободомыслящей партии вздохнул с облегчением.
О том, что политическая деятельность д-ра Крамаржа известна даже за границей, можно было бы и не упоминать. Следует лишь заметить, что редакция французской газеты «Курье эропеен» обратилась в 1905 году к д-ру Крамаржу с просьбой написать статью о результатах позитивной политики. С тех пор прошло уже четыре года, но д-р Крамарж не послал еще ни строчки.
Итак, если мы даже одобряем не все, что предпринимает д-р Крамарж для процветания чешских дел, то все-таки желаем ему и впредь трудиться на благо чешской нации с помощью частых поездок в Крым, позитивной политики, реорганизации младочешской партии, а главное — неустанных хлопот о лицензиях на табачные лавочки.
Нация, которая кроме позитивной политики имеет еще и табачные лавки, не погибнет. В этом главная заслуга д-ра Карела Крамаржа.
Сеанс спиритизма
Начальник полиции удовлетворенно обвел взглядом собравшихся. За столом сидели лучшие полицейские сыщики, за ними расположились сметливые полицейские чиновники, все эти достойнейшие мужи пришли сюда по его просьбе, явились в его кабинет для проведения сеанса спиритизма.
Полицейские сидели в загадочном молчании у простого стола, положив на него руки и с нетерпеньем ожидая — что же дальше? Многие испытывали неясное ощущение, будто за спиной у них кто-то есть, стоит кто-то неведомый.
Другие же ощущали близость чего-то страшного, проникшего и в них самих.
Комиссар десятого отделения вспоминал свою бабушку. Кругом царил полумрак, шторы были опущены. И комиссар полиции десятого отделения невольно думал про себя, что бабка-то его, умершая двадцать пять лет назад, устроилась где-то здесь в углу на корточках.
Главный секретарь шестого отделения чувствовал неприятный озноб: из-под пианино в углу кабинета на него смотрели глазки — голубые, чудесные глазки его дочурки, умершей тридцать лет назад.
Смеркалось.
Напрягая зрение, они таращились в полутьму. Вещи в кабинете приобретали странные очертания. Будто вот-вот они засветятся изнутри таинственным светом.
В большом старом шкафу скрипнуло. Это был звук из тех, что пугают нас в глухой ночной тишине дома, когда мебель разговаривает с нами на своем удивительном языке.
— Четвертое измерение! — замогильным голосом произнес начальник полиции.
После этого послышалось таинственное постукивание по потолку, и казалось, висящая на нем люстра таинственно закачалась.
— Многоуважаемые господа! — заговорил начальник полиции. — Неизвестный дух ответит на мои вопросы постукиванием или же вообще не ответит. Будьте внимательнее! Это беседа с силами магнетическими. На этом вот столике вы и услышите ответы на мои вопросы. Речь пойдет о последнем злодейском убийстве лавочника Котика, причем, как и обычно, преступника мы не нашли. Многоуважаемые господа! Дух убитого среди нас!
Присутствующие ощутили всю серьезность наступившего момента, когда при этих словах на пианино что-то стукнуло, затем стукнуло по письменному столу, стук уверенно приближался прямо к столу, за которым они сидели. Чувствовалось — кто-то ходит, невидимое, неведомое существо, из пространства четвертого измерения. Тут застучало по письменному столику, и совершенно отчетливо. Перед взорами мелькнуло нечто светящееся, неописуемое: им виделись новые очертания, хотя предметов они не различали. Ощущался какой-то свет, но ничего нельзя было разглядеть. Их понесло далеко-далеко — на ту самую улицу, где было обнаружено тело убитого Котика и где они отыскивали следы, оставленные убийцей. Полицейские с ужасом увидели труп. Голова у трупа исчезла. Дело принимало неожиданный оборот. Стали искать голову. В конце концов в реке выловили ручной саквояж и в нем обнаружили человеческую голову. Но принадлежала она не Котику…
Поразительно… Пришлось искать тело от неопознанной головы. Тела не нашли. Теперь они располагали обезглавленным телом лавочника Котика и какой-то неизвестной головой. Убийцы они не обнаружили, зато налицо оказался еще один труп, который принадлежал неизвестной голове. Наконец все они сами почувствовали себя безголовыми. И тут же что-то мелькнуло в головах. Мысль обо всем этом. Стали вспоминать, как в заброшенной шахте, за городом, обнаружили обезглавленное тело неизвестного. Так можно было и рехнуться. К неизвестной голове не подходило и это туловище. Теперь в наличии было уже два туловища. Одно — пана Котика, и другое — неопознанное. И вдобавок — совершенно посторонняя голова, не имеющая к ним отношения. Вице-президент полиции тогда подал в отставку. Один детектив сошел с ума и собирался дело решать алгебраически.
— Да это же уравнение с тремя неизвестными, — упрямо объяснял он в карете сопровождавшему его санитару, — была бы у меня с собой таблица логарифмов Студнички, его можно было бы решить…
В этот ответственный момент, находясь под воздействием чего-то неизвестного и таинственного, все вспоминали и другие моменты, повлиявшие на ход расследования. В кармане неопознанного трупа найдены такие же часы, как и в кармане убитого лавочника. Это обстоятельство завело следствие в абсолютный тупик. В обоих случаях часы остановились на двенадцати. Как быть? Не доказательство ли это, что именно тогда пробил их час? А чтобы окончательно запутать это ужасное дело — в жилете неопознанного безголового господина нашли бумажку с такой математической формулой: а/2*(9n-7). Не убийца ли ее написал? Или убитый? Или же некто третий, пока неведомый? Кроме того, никто не знал даже имени неизвестной жертвы, несмотря на то, что фотографию трупа разослали по всем муниципальным учреждениям, отделениям полиции и в жандармские участки. Ответы приходили отовсюду, что раз головы на фотографии нет, то и опознать без нее ничего невозможно. Да, все было крайне запутано, все ждали магнетического сообщения из пространства четвертого измерения с не очень-то веселыми мыслями.
Молчание нарушил начальник полиции:
— Здесь ли вы, дух пана Котика, убитого лавочника, дом семьсот двадцать восемь?
На столе у самой ладони полицейского комиссара пятого отделения стукнуло: «Да».
Присутствующим кто-то пощекотал носы, видать, при жизни покойный любил пошутить.
— Возраст? — продолжал допрос начальник полиции.
Таинственный пришелец не ответил.
— Вас утомил допрос? — строго произнес начальник.
Ни с того ни с сего на столе застучало, на пианино прозвучала нота «до», и всем показалось, что угол стола чуть приподнялся.
В это мгновение полицейский комиссар пятого отделения стал ясновидящим. Он впал в прострацию, и взор его многое объял в этот миг.
Начальник полиции моментально установил, что дух убитого пана Котика вступил в контакт с полицейским комиссаром. Это было влияние волн неведомого мира, истинно магнетический доклад, фотографирование мыслей. Комиссару подали перо и чернила.
Начальник полиции задавал вопросы, а комиссар, превратившись в медиума, писал. У него выходили странные каракули, а между ними написанные латинскими буквами слова. Иногда в мебели что-то поскрипывало, в жутковатом сумраке шуршало по бумаге перо. Комиссар держал свою руку свободно, и она, ведомая непонятной силой, писала ответы на вопросы, касавшиеся всех этих загадок. Потом рука бессильно упала, а стол чуть стронулся с места. Все это видели, и в то же время стол стоял, как и до этого. Раздался стук в окно. Комиссар вздохнул и пришел в себя. Снова зазвучали клавиши пианино, и все стихло. Присутствующие догадались, что связь с неведомым миром прекратилась.
Когда зажегся свет, комиссар, с трудом приведя в порядок магнетическое сообщение неведомого мира, прочел:
— О том, кто меня убил, ничего не знаю. Я-то полагал, что вы его взяли, поэтому особенно им и не интересовался. Думаю, однако, нераскрытый убийца ничего хорошего не замышлял, когда появился в моем доме. О голове своей ничего не знаю. Не знаю, кому принадлежит найденное туловище. Я знаю не больше вашего и никогда нам не дознаться, кто убийца. Немецкого языка не знаю.
Наступила полная тишина.
— Господа, — грустно сказал начальник полиции, — нам не остается ничего другого, как попробовать погадать на картах.
В кабинете тихо тикали часы, и всему аппарату полиции было хоть плачь.
Фуражка пехотинца Трунца

1
В начале октября рекрут Трунец приступил к своей трехлетней службе в пехоте. Парень был как гора, с могучими плечами и бычьей шеей, на которой гордо возвышалась голова великана.
Когда он появился в казармах, его направили сперва в медицинскую комнату, а затем вместе с остальными отвели к унтер-офицеру, который подробно расспросил его, как и других, о домашних делах. Это делалось для того, чтобы вызвать доверие к военному начальству. После того, как доверие было внушено, всех отвели на склад подбирать себе обмундирование.
Здесь фельдфебель, бегло осмотрев рекрутов, кричал:
— Башмаки номер третий! Штаны — шестой! Гимнастерка — второй!..
Четыре капрала тут же приносили очередному рекруту ботинки, брюки, гимнастерку и фуражку, размеры которых фельдфебель определял на глазок, не очень беспокоясь о том, как все эти вещи будут сидеть.
В результате одному достались ботинки такой величины, что он мог бы всунуть в них еще две ноги, если бы их имел; другой не втиснул бы ногу в башмак, даже если б отрубил ее наполовину, у третьего были брюки, в которых вместе с ним мог бы уместиться и его старший брат, а четвертый вполне свободно натянул бы свою гимнастерку еще на двух таких же, как он.
Получив обмундирование, все перешли в другое помещение, где должны были переодеться. Вид у всех сразу стал неузнаваемый и жалкий. У одних руки терялись в рукавах, брюки волочились по полу, а фуражки закрывали лицо. У других брюки едва достигали колен, обнажая подштанники; руки по локоть торчали из рукавов, а фуражка сползала с головы. Того, что было в избытке у одних, не хватало другим.
Снисходительно оглядев эту живописную компанию, фельдфебель махнул рукой:
— Видите, ребята, какие бывают ненормальные размеры человеческого тела. У этого руки длиннее, чем положено, а у того, наоборот, короче. То же самое и с ногами. О толщине я уж не говорю. Один никак застегнуться не может, а другой болтается в гимнастерке, как божий мученик. Но в остальном все в порядке. Можете обменяться между собой одеждой. И зарубите себе на носу, что солдат должен быть, как картина, выглядеть нарядно, как барышня. Кто будет похож на чучело, получит карцер.
Рекруты начали обмениваться между собой гимнастерками, брюками, ботинками и фуражками. Остался обездоленным только один — гигант Трунец. В брюках по колено, в гимнастерке, которую он никак не мог застегнуть, с маленькой фуражечкой, которая робко притулилась на его огромной голове, он казался каким-то диковинным существом с другой планеты. Остальные тоже имели вид авантюристов, но это создание — рекрут Трунец — явно принадлежал совершенно иным мирам.
Трунец Христом-богом молил не оставлять его в таком виде. В армии подобные дела решаются просто: «Выполняй!» и «Шагом марш!» Все же Трунец обратился к капралу, и тот, тронутый его мольбами, отвел его снова на склад, где в конце концов после долгих поисков были найдены все необходимые части мундира, которые сделали Трунца немного похожим на солдата. Но вот фуражка — с ней ничего нельзя было поделать: самая большая из всех терялась на его огромной голове, как песчинка в море.
Дело дошло до того, что его фуражкой пришлось заняться даже Главному интендантскому управлению в Вене. А произошло это вот каким образом.
Первейшая обязанность солдата — научиться отдавать честь своему начальству. А фуражка рекрута Трунца подпрыгивала на его огромной голове, как мячик, и он, несмотря на все свои старания, тщетно пытался поймать край своего головного убора, к которому, согласно уставу, должен был прикоснуться, отдавая честь: при малейшем движении фуражка сползала на затылок.
Унтер был в отчаянии. Офицер сыпал проклятиями и багровел от злости, когда злосчастная фуражка при этих манипуляциях падала с головы на землю.
В полном отчаянии был и Трунец; красный от напряжения, он насадил ее наконец на одно ухо. Но это вызвало приглушенный смех у солдат и новый приступ гнева у офицера и унтера.
Что с ним делать?
В конце концов офицер велел капралу отвести рекрута Трунца в канцелярию роты. Не имея никакого представления, что его ожидает, Трунец с тоской плелся за капралом.
Дежурный унтер-офицер, выслушав рапорт капрала, доставил Трунца к капитану. Капитан отнесся к рапорту очень серьезно. Прежде всего он осведомился у Трунца, нет ли у него водянки головы. А когда тот учтиво ответил: так точно, воды в голове не имеет, — капитан приказал намочить фуражку и натянуть ее на голову Трунцу. Трунец должен будет ходить в ней целый день, и она растянется.
С этой целью его заперли на двадцать четыре часа в одиночку, чтобы он не нарушал общего порядка, разъяснив при этом, что сие отнюдь не является наказанием.
Трунец честно сидел на нарах с фуражкой на голове, пока, в конце концов, не заснул от усталости. Когда он утром проснулся, злосчастная фуражка лежала рядом на нарах, такая же маленькая, как и накануне. Пожалуй, даже еще меньше, а ведь это была самая большая фуражка в полку!
Он надел ее и пытался сохранить равновесие, чтобы удержать ее на голове. Все напрасно. Фуражка подпрыгивала на голове так же, как и накануне, и к тому же потеряла всякую форму.
Пришлось Трунцу снова идти в канцелярию роты.
На этот раз капитан был настроен еще серьезнее. Он приказал унтер-офицеру обмерить Трунцу голову. Оказалось шестьдесят два сантиметра. Затем капитан строго объяснил Трунцу, что об этом придется рапортовать в Главное интендантское управление в Вену… Как он только посмел явиться на свет с эдакой головой! После этого рекрут был отпущен. На голову ему напялили фуражку, которую портной тем временем кое-как увеличил, и Трунец мог участвовать в учениях, радуясь, что его не упрятали в крепость.
2
После его ухода господин капитан продиктовал унтеру нижеследующее:
«Главному интендантскому управлению в Вене.
В связи с тем, что пехотинец Ян Трунец, родом из Пелгржимова, округ Кадань, имеет голову ненормальной величины, нижеподписавшаяся третья рота двенадцатого полка просит Главное интендантское управление о высылке фуражки, которая соответствовала бы размеру головы вышеупомянутого пехотинца».
Затем капитан собственноручно подписал это послание, и Главное интендантское управление на другой день уже имело возможность с ним ознакомиться.
Через четырнадцать дней рекрут Трунец был вызван в канцелярию, где ему снова сняли мерку с головы, так как в этот день от Главного интендантского управления в Вене был получен ответ, который гласил:
«Третьей роте двенадцатого полка.
В ответ на рапорт № 6728/891 II аб/6721/345 г. III а 8 IV.
Главное интендантское управление имеет сообщить нижеследующее:
В рапорте третьей роты двенадцатого полка за № 6728/891 II аб/6721/345 г. III а 8 IV, содержащем просьбу к Главному интендантскому управлению в Вене о высылке фуражки пехотинцу той же роты Яну Трунцу, родом из Пелгржимова, округ Кадань, поскольку вышеназванный пехотинец имеет голову ненормальной величины, отсутствуют данные относительно размера головы вышеназванного пехотинца. Сим предлагается незамедлительно сообщить данные о размере вышеупомянутой ненормальной головы пехотинца».
— Ну и дали вы нам работенку! — проворчал унтер-офицер, обращаясь к Трунцу, и написал в Главное управление, что размер головы вышеназванного пехотинца — шестьдесят два сантиметра.
Через четырнадцать дней в канцелярию роты пришло новое отношение из Вены:
«Главное интендантское управление в Вене предлагает в дополнение к присланному сюда рапорту за № 6829/351/11 г. III д 3321 сообщить, в каком году родился пехотинец с ненормальной головой и какой год служит в армии, так как не исключена возможность, что голова вышеупомянутого пехотинца может еще увеличиться».
Унтер-офицер сообщил год рождения и службы Трунца.
Через два месяца из Вены пришла бумага следующего содержания:
«Сим предлагается безотлагательно выслать выданную вами пехотинцу Трунцу фуражку во избежание недоразумений при учете военного имущества. Просимая вами фуражка будет прислана в обмен».
Через три месяца прибыла новая бумага:
«Третьей роте двенадцатого полка.
Главное интендантское управление сообщает, что отправленная вами фуражка пехотинца Трунца прибыла в поврежденном состоянии. Сим предлагается произвести строжайшее дознание, каким путем оная фуражка была повреждена. По завершении дознания Главное интендантское управление, в соответствии с § 16 Воинского устава, выпишет требование на поставку новой фуражки размером в 62 сантиметра для ненормальной головы пехотинца Трунца».
3
Письмо третьей роты двенадцатого полка Главному интендантскому управлению в Вене:
«Произведенным расследованием было установлено, что пехотинец Ян Трунец получил фуражку, посланную затем в Вену на обмен, в полной исправности. Но вследствие того, что он не относился к ней, как это было подтверждено свидетелями, с должной аккуратностью, какая требуется по отношению к казенному имуществу, фуражка была повреждена. Поскольку вышеупомянутый пехотинец между тем умер, просим о возвращении посланной вам фуражки пехотинца Яна Трунца с ненормальной головой».
Съезд младочешской рабочей партии
Мы создадим сильную младочешскую рабочую партию.
«Ден»
Место съезда: помещение редакции газеты «Ден». Настроение торжественное. В комнату проникают младочешские солнечные лучи. Мебель изготовлена младочешским столяром; люстра, правда, выписана из Германии, зато плевательница представляет собой младочешское изделие. В глубине видны нераспроданные экземпляры газеты «Ден». Налицо все младочешские лидеры. Младочешская рабочая партия представлена каменщиком Карасом, работающим у виноградского бургомистра Вишека, убежденного младочеха. Присутствует также девица Сисова, которая по случаю съезда опять остриглась.
Съезд открывает д-р Клумпар:
— Глубокоуважаемое собрание! Милостивые государыни и милостивые государи! Когда год тому назад было сделано предложение создать младочешскую рабочую партию, я не предполагал, что наши усилия столь быстро увенчаются таким полным успехом. Скептики думали, что при нынешнем брожении умов в рядах рабочего класса не найдется никого, кто открыто и гордо встал бы под младочешское знамя.
Признаюсь, что не кто иной, как я, в младочешском клубе объявил утопией, дерзкой мыслью, безумной идеей попытку создать рабочую партию на младочешской платформе. Признаюсь также, я утверждал, будто в новую младочешскую рабочую партию никто не захочет вступить. Благодаренье судьбе, я ошибся!
Не прошло и месяца после создания партии, как в нее вступил одйн человек. Это присутствующий здесь коллега Карас, который работает у нашего дорогого друга, бургомистра Краловских Виноград пана Вишека. Под влиянием бесед с бургомистром наш друг Карас еще прошлой осенью осознал свои заблуждения (он был социал-демократом) и охотно вступил в младочешскую рабочую партию вместе с женой и бабушкой.
Однако весной его бабушка скончалась, вследствие чего число членов младочешской рабочей партии сократилось до двух. Карас поныне является единственным представителем мужского пола в младочешской рабочей партии. Но этот Адам новой рабочей партии, наш образцовый коллега и борец за ее права, решил в меру своих слабых сил содействовать успеху младочехов. Свой план, до сих пор хранимый в тайне, он представил правлению клуба, и оно этот план одобрило.
Признаюсь опять-таки, что первое время я из осторожности возражал против его предложения. При этом мной руководила исключительно забота об интересах партии, и могу вас заверить: я рад, что ошибся.
В итоге, с согласия руководства партии, наш друг Карас был выставлен в паноптикуме. Немедленно был создан финансовый комитет, раздобывший необходимые денежные средства для устройства паноптикума, который стал первоклассным зрелищным предприятием и бродячим аттракционом. Возглавил этот комитет доктор Кернер, любезно согласившийся сделать подробный доклад о деятельности нашего коммерческого предприятия — передвижного паноптикума. Доктор Кернер, будьте любезны, расскажите нам о ваших достижениях.
Д-р Кернер. Прежде всего, милостивые государыни и государи, благодарю вас за оказанное мне доверие, без которого я не мог бы ничего совершить, ибо в данном случае речь шла не только о политической деятельности: мне были доверены денежные средства партии. Доктор Клумпар уже осветил вам первые скромные шаги младочешской рабочей партии и благородное намерение нашего коллеги, рабочего Караса, поддержать существование новой партии своим выступлением. Мы с благодарностью приняли предложение коллеги Караса выставить его в паноптикуме как единственного члена новой младочешской рабочей партии и, не откладывая, приступили к организации передвижного паноптикума. Был построен деревянный балаган, приобретены фургоны и лошадка. Кроме того, куплена железная клетка для нашего коллеги, и выдающемуся младочеху Кристлику заказана вывеска. Текст ее, одобренный исполнительным комитетом младочешской партии, гласит:
ЧУДО XX ВЕКА!
Единственный член новой младочешской партии!
ЧУДО XX ВЕКА!
Удивительней сиамских близнецов и прочих анатомических достопримечательностей.
Вход 20 геллеров.
Дети и военные платят половину.
На клетке тоже была надпись, одобренная исполнительным комитетом младочешской партии:
Просьба не кормить!
Кроме того, мы организовали при паноптикуме продажу газет «Народ» и «Ден».
Финансовый комитет пользуется случаем выразить благодарность м-ль Сисовой за прекрасное стихотворение, так удачно оповестившее чешский народ об открытии паноптикума. Последний стих его, если не ошибаюсь, звучал так:
(М-ль Сисова кланяется.) Это прекрасное стихотворение создало нашему предприятию превосходную рекламу. Все оборудование вместе с лошадью обошлось в 800 гульденов. Отмечу, что лошадь была приобретена также у младочеха. И вот коллега Карас стал разъезжать в клетке по чешским землям во славу младочехов, можно сказать — в качестве нашего младочешского Бу-Гамары! (Движение в зале.) Доход от продажи входных билетов превзошел ожидания. Народ повалил в паноптикум толпой, но не было человека, который купил бы экземпляр газеты «Ден» или «Народ».
С 1 июня до конца было продано 720 000 билетов на общую сумму 108 000 крон. Через месяц количество проданных билетов возросло до миллиона и выручка достигла 150 000 крон. Коллеге Карасу выплачивалось по 200 крон в месяц, а всего за три месяца уплачено 600 крон. Содержание лошади обошлось значительно дешевле: оно составило около 200 крон. В общем, на содержание обоих израсходовано 800 крон. За вычетом этой суммы плюс 1000 крон организационных расходов и 200 крон на амортизацию инвентаря, включая коллегу Караса, остается 147 600 крон.
Пяти членам финансового комитета — ревизорам и казначеям — выплачено содержание в размере 1000 крон каждому, а всего 5000 крон. Остается 142 600 крон. Налоги и платы за аренду места составили 3700 крон; остается 138 900 крон. Эта сумма была израсходована следующим образом: 100 000 ушло на погашение десятой части задолженности, числящейся за нашей газетой «Ден». Остальные 38 900 крон утеряны.
Если не считать этого убытка, который следовало предвидеть, результат деятельности коллеги Караса бесспорно следует признать прекрасным.
Самый вид небывалого экспоната и впечатление, которое он производил на посетителей, с трудом поддаются описанию.
Представьте себе нашего коллегу Караса сидящим в клетке (движение в зале) с надписью на груди: «Единственный член младочешской рабочей партии». И на него глядят тысячи и тысячи граждан самых разнообразных профессий, возрастов, разного общественного положения. Социал-демократические и другие организации устраивали экскурсии в наш паноптикум; но при всей моей симпатии к этой народной партии я вынужден констатировать, что в таких случаях у нас в паноптикуме всегда что-нибудь пропадало.
Как-то раз пропало десять крон из кассы, в другой раз — вся касса. Однажды даже исчез обед, приготовленный для нашего коллеги. При всем том паноптикум вполне оправдал себя. Мы стремились не столько к славе, сколько к материальному успеху. Народ, сильный в финансовом отношении, одолеет всех своих врагов. В заключение мне остается только крикнуть «ура» в честь нашей младочешской рабочей партии! (Многократное «ура».)
Раздается стук в дверь. В комнату входит служитель и с важным видом подает д-ру Кернеру письмо. Лицо д-ра Кернера расплывается в блаженной улыбке. Когда среди слушателей, пришедших в движение, вновь устанавливается тишина, он произносит:
— Уважаемое собрание! Могу сообщить вам в высшей степени радостную новость. У нашего самоотверженного коллеги Караса только что родилась двойня! Нашего полку прибыло, друзья! Да здравствует новое пополнение младочешской рабочей партии!
После съезда м-ль Сисова написала для газеты «Народ» передовую о росте младочешской рабочей партии.
Д-р юриспруденции Йозеф Мысливец
Преисполненный искреннего удовольствия, берусь я за перо, дабы описать жизнь этого современного святого. Он в полной мере подтверждает слова английского лорда Маколея: «На древе католической церкви во все времена распускаются цветы, благодаря которым католическая церковь сохраняет свежесть аромата».
Подобным цветком является д-р юриспруденции Йозеф Мысливец, и ныне воистину можно сказать, что это деятель католического мира, одна из главных фигур, человек, который чтит законы и побуждает остальных делать то же. Это апостол чешского народа, поводырь стада верующих. Он имеет potesta iurisdictiones[19]. На его примере прекрасно видно, что все, что бог ни делает, — к лучшему. Из сапожника Йозеф Мысливец превратился в доктора юриспруденции и депутата имперского сейма от католического чешского люда. Впрочем, из истории церкви мы знаем, что самые известные святые поначалу также были ремесленниками и, бесспорно, со времен д-ра Мысливца слово «сапожник» утратило свой оскорбительный оттенок; бесспорно и то, что чешские сапожники после смерти д-ра Йозефа Мысливца выберут его своим патроном и в Чехии появятся фирмы вроде «Мысливец Сметана, сапожник».
Д-р Йозеф Мысливец, как он сам о себе говорит, является чешским миссионером, он устремляется в чешские области проповедовать Евангелие Христово. При этом время от времени он дает жандармам распоряжение арестовывать людей, которые на собраниях не соглашаются с его выводами, что является несомненным признаком одичания и падения нравов.
В молодости он был ревностным читателем журнала «Доминиканская роза» и уже в десятилетнем возрасте писал в «Кршиж» и «Марию» стишки. Вот один из отрывков:
Столь пылкое религиозное чувство, выраженное в этих волнующих строках, позволяет нам заглянуть в чистую душу юного Йозефа Мысливца.
Позже, водрузившись на сапожницкую треногу, он с молитвой в душе раскраивал кожу и варил сапожный клей.
Под монотонный стук молотка по подметкам разносились его религиозные песнопения. Были это времена, когда, отложив начатые ботинки, он усаживался за стол и занимался самообразованием во славу церкви католической. И вот уже перед нами д-р Мысливец, зрелый поборник церкви и веры. Кто слышал, как д-р Йозеф Мысливец выступает на собрании или читал его статьи, тому известно, сколь глубокие познания таит в себе сей муж, как известно и то, что речи его исполнены мудрости. Он растолкует вам, что почти все сведения о поверхности земли проистекают из источников католических. Величайшие изобретения и учения были созданы набожными сынами церкви. Католики изобрели ножи, тачки и прочие полезные вещи. Католики изобрели фортепиано, католики изобрели вилки. И, слушая речи д-ра Мысливца, вы убеждаетесь, что все это заслуга католической национальной партии и избирателей, голосующих за д-ра Йозефа Мысливца. Речи его весьма содержательны и остроумны. Его устами говорит находчивый святой Фома. Бок о бок с д-ром Йозефом Мысливцем стоит толпа ученых, ученых самых настоящих, в первую очередь это св. Ансельм, Александр Гальский, св. Бонавентура. Свои мысли он почерпнул из их философских трудов.
И если верно, что первый театральный бинокль, как утверждает д-р Мысливец, изобрел капуцин Ширль де Лейта, то ясно и другое: все, что по сей час еще не изобретено, изобретет д-р Йозеф Мысливец. И сколь неоспорима роль католической церкви в деле открытия северного полюса ведь прадедушка д-ра Кука был истинным католиком, — столь же значительны заслуги д-ра Мысливца перед чешским народом.
В Орлицких горах, где бедные ткачи всю жизнь гнут спину за ткацким станком и буквально валятся с ног от изнеможения, д-р Мысливец вносит новый, здоровый дух в изнуренных ткачей. Чтобы они не превратились в социалистов, д-р Мысливец объяснил, что им следует позаботиться о царствии небесном после смерти, а это возможно лишь в том случае, если они выберут его депутатом имперского сейма.
Вне сомнений, это будет первый святой, ставший депутатом. Его деятельность обширна, статьи его дышат горячей любовью к богу. Отправляясь в свой избирательный округ, он надевает сапоги. Лишнее свидетельство того, что великим людям свойственны маленькие слабости. Наполеон любил красные носовые платки, а д-р Йозеф Мысливец — сапоги.
Д-р Мысливец любит историю и особенно ту ее главу, что связана со святой инквизицией.
По ночам ему снятся испанские сапоги, колодки и прочие орудия, использовавшиеся во имя интересов церкви.
В остальном он ведет абсолютно безупречный и добродетельный образ жизни, иначе и быть не может у человека, взращенного на религиозных принципах.
Он никогда ни перед кем не заносится, а если ему кто не нравится, говорит об этом прямо в глаза. Но поскольку не все понимают латынь, ему приходится высказывать человеку в глаза все, что он о нем думает, на языке чешском.
При этом он обычно поминает скотину. А заканчивая свои выступления перед избирателями, заявляет:
— Гордитесь, что мы крепко всыпали этим парням и возложили на их спины крест покаяния, дабы отринули они гордыню и суетность и помнили, что человек не знает ни дня, ни часа, когда бог призовет его к себе.
И еще об одной важной черте его характера следует здесь напомнить: д-р Йозеф Мысливец абсолютно безгрешен. Как-то на собрании в Ческой-Тршебовой он сказал:
— Люд католический! Я безгрешен, по пятницам я пощусь, мяса не ем, а мой противник по пятницам не только ест мясо за обедом, но и ужинает жирной ветчиной.
Это было в пору первых выборов в имперский сейм на основе всеобщего избирательного права. Из Ческой-Тршебовой д-р Мысливец направился в Усти-над-Орлицей, где созвал на площади митинг и снова рассказывал о том, что его противник в страстную пятницу съел жир от ветчины.
Естественно, что в сем благословенном краю такой оскотинившийся кандидат провалился.
Последнее время д-р Йозеф Мысливец занимается составлением открытого письма, которое собирается разослать во все редакции:
«В связи с моим предложением сделать праздник св. Вацлава праздником общенациональным, злоречивые уста распространяют слухи, что, если б я жил при св. Вацлаве, патрон земли чешской отослал бы меня в Германию. Поскольку это звучит весьма двусмысленно, я с законным негодованием отвергаю подобное утверждение и заявляю, что ни при каких обстоятельствах Чехии не покину».
Это — последние сведения о деятельности д-ра Йозефа Мысливца, которого мы рекомендуем чешскому народу как любопытный экземпляр, особенно с точки зрения естественной истории.
Министры д-р Жачек и д-р Браф
Кто внимательно читает официальный орган «Пражске уржедни новины», тот не может не заметить следующих сообщений:
«Его превосходительство пан министр д-р Браф снова отбыл из Праги в Вену».
«Его превосходительство пан министр д-р Жачек отбыл из Праги в Вену».
«Его превосходительство пан министр д-р Браф прибыл из Вены в Прагу».
И так д-р Жачек и д-р Браф сменяют друг друга. Один прибывает в Прагу, другой отбывает из нее, и наоборот. Иными словами, на линии Прага — Вена постоянно курсирует один из наших чешских министров.
Однако «Пражске уржедни новины» этими сообщениями не ограничиваются. Они указывают точное время прибытия или отбытия того или иного из министров. В 9.20, в 8.10, 7.15 и в 3 часа 36 минут. И к тому же уточняют, когда это было, днем, утром или вечером, чтобы у народа не оставалось ни малейших сомнений.
Безусловно, в интересах чешского народа необходимо также указать, по какой именно железной дороге ехали наши министры.
«Пражске уржедни новины» и здесь оказываются на высоте:
«Его превосходительство пан министр д-р Жачек вновь прибыл из Вены в Прагу по железной дороге императора Франца-Иосифа в 9.20 вечера».
«Его превосходительство пан министр д-р Браф отбыл по государственной железной дороге в Вену в 3.36 пополудни».
Как видите, деятельность наших министров является весьма разносторонней. Они могли бы ездить исключительно по государственной железной дороге или по железной дороге императора Франца-Иосифа, но они этого не делают. Пока один едет в сторону Вены через Табор, другой возвращается в Прагу через Брно.
Наши министры просто-таки завладели двумя самыми крупными и самыми важными железнодорожными линиями.
Вывод можно сделать весьма глубокий. Французский государственный деятель Арман Дюфор, в остальном человек выдающихся способностей, испытывал особое отвращение к поездам и ездил из Бордо в Париж на заседания Совета министров каретой. Один из выдающихся английских государственных деятелей Гладстон также не питал доверия к железным дорогам и пользовался поездом скрепя сердце. Немецкого государственного деятеля Бисмарка, если он совершал поездку по железной дороге, не покидал страх, что поезд обязательно попадет в крушение. Тут-то образованному человеку и становится ясно, насколько выше них фигуры наших министров. Кто мужественнее и бесстрашнее, Бисмарк, Дюфор и Гладстон или д-р Жачек и д-р Браф? Вне всякого сомнения, наши люди!
«Его превосходительство пан министр д-р Браф отбыл из Праги в Вену скорым поездом по государственной железной дороге».
«Его превосходительство пан министр д-р Жачек прибыл из Вены в Прагу скорым поездом по железной дороге императора Франца-Иосифа».
Разумеется, теперь каждому понятно, почему члены депутации, прибывшие по делу, касающемуся чешских интересов, к министру Жачеку или Брафу, в министерстве их не обнаружили.
Большая ошибка со стороны депутации, что она предварительно не заглянула на вокзал. Она наверняка нашла бы обоих министров на пражском или на венском вокзале.
Итак, депутация узнаёт, что один из господ министров отбыл в Прагу. По весьма срочному делу, касающемуся наших общих чешских интересов. Депутация едет следом за паном министром в Прагу. Пан министр тем временем возвращается в Вену. Депутация едет в Вену. Министр возвращается в Прагу. Депутация — за ним. Пан министр делает пересадку и едет в Иглаву, а чешские интересы, похоже, терпят крах. Но поскольку у чешского народа в запасе еще один министр, который как раз прибывает скорым поездом в половине четвертого из Праги в Вену, депутация ближайшим поездом отправляется следом. Ждет его в министерстве. Но безуспешно, так как он, оказывается, заехал к племяннику.
У д-ра Брафа, в свою очередь, есть внуки и он, не заезжая в Вену, заворачивает к внукам, чтобы те посмотрели на дедушку-министра.
А депутация этого не учла, и газеты просто констатируют, что, когда депутация преследуемых чехов из Нижней Австрии явилась в министерство, там не оказалось ни д-ра Жачека, ни д-ра Брафа. Некоторые газеты воспользовавшись сложившейся ситуацией, осыпают наших министров упреками.
Правильно сделают оба чешских министра, если для острастки оборвут их самым решительным образом: «А собственная семья, по-вашему, ничего не значит?!»
Впрочем, согласитесь, постоянно находиться в скором поезде не так уж и приятно. Четыре часа вы сидите между Веной и Прагой в дурацком бездействии. Пейзаж за окном давно известен. Леса и полоски полей мелькают столь же быстро, как и воспоминания о политическом прошлом. И то и другое нагоняет на вас одинаковую тоску. Этим путем вы ездили в Вену в качестве депутатов, теперь возвращаетесь и вновь прибываете в качестве министров. Вспоминаете, что никогда, даже в самые трудные времена вы не уступали своих позиций, что вам давно бы уж пора отойти от всего этого, но вы не бросили на произвол судьбы барона Бинерта.
Вы продолжаете тупо и безучастно сидеть. Быть может, разок-другой вы и вспомните о протестах народа, но после этого отупеете еще больше.
Именно теперь, когда вы прочно обосновались, народ желал бы отправить вас в отставку! В Колине и в Таборе скорый стоит девять минут. Вполне достаточно, чтобы задуматься, на какие деньги вы можете рассчитывать, если вас погонят из Вены.
В Праге вы поселяетесь в отеле «У черной лошади». Там у вас просят аудиенции представители канцелярии наместника, муниципалитета и полиции. Господам из канцелярий наместника вы скажете, что у вас болит голова, господам из муниципалитета, что у вас болят зубы, а господам из полиции, что вы испытываете легкое головокружение. После чего вы отправляетесь в Национальный совет, побудете там минут десять до начала заседания и сошлетесь на недомогание.
Затем вернетесь в отель, почитаете газеты и убедитесь, что большинство из них выступает против вас с резкими нападками.
Вы тут же письменно уведомите их о том, что интересы чешского народа для вас святы.
На другой день вас посещает один из выдающихся политиков, который еще не был министром, и вы ему заявляете, что между вами и Бинертом все кончено.
Слово за слово, и в итоге вы заверяете его, что при сложившихся обстоятельствах вы сумеете остудить разгоряченные головы венских политиков, подав в отставку.
На следующий день вы едете в Вену в том же состоянии отупения и на станции Табор или Колин задумываетесь — что же, собственно, вы сказали.
Чем ближе Вена, тем невероятнее вам кажутся ваши разговоры об отставке, и, выходя в Вене из скорого поезда, вы ясно осознаете, что сейчас прежде всего необходимо сохранять спокойствие, потому что, как пишет «Тыден», «никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже», и что «после самого продолжительного ненастья снова наступают погожие дни».
Так протекает жизнь чешских министров.
У них бесплатные железнодорожные билеты первого класса по всей Австрии, они наизусть знают расписание поездов и время от времени доводят до сведения чешского народа, что, мол, великие времена требуют великих людей и правительство неизбежно должно прийти к выводу, что развитие чешской политической силы — существующая реальность и чешский народ надобно уважать.
Так говорит д-р Жачек. Д-р Браф, будучи экономистом, добавляет, что не только благодаря стоическому поведению чешской комиссии, но и в результате развития народнохозяйственной потенции мы снискали себе полное уважение правительства.
И д-р Жачек и д-р Браф заявляют официальным кругам:
— Неправда, что мы хотим подать в отставку.
— Мне и в голову не приходит подать в отставку.
— Чтоб я подал в отставку?!
— Кто это сказал, что мы собираемся подать в отставку?
Несколько дней спустя мы опять как ни в чем не бывало читаем:
«Его превосходительство пан министр д-р Браф вновь отбыл из Вены в Прагу скорым поездом по государственной железной дороге в половине четвертого пополудни».
«Его превосходительство пан министр д-р Жачек прибыл сегодня из Праги в Вену скорым поездом по железной дороге императора Франца-Иосифа в три четверти одиннадцатого».
Итак, не подлежит сомнению, что на обеих линиях Прага — Вена неустанно курсирует один из наших чешских министров, которые ни при каких обстоятельствах в отставку подавать не желают. Это, я полагаю, народ утешит.
Удивительное происшествие с Франтишеком Махулкой, практикантом магистрата
Во избежание всяких недоразумений и ложных толкований заявляем с самого начала: если в нашем рассказе и говорится о магистрате, то это ни в коем случае не касается магистрата королевского города Праги. Наоборот, все, что последует, случилось давным-давно и совсем в ином месте…
До той поры, когда произошли эти важные события, практикант магистрата Франтишек Махулка жил мирно и был доволен жизнью. От рождения человек тихий и скромный, он был старателен, почтителен к начальству — словом, образец хорошего чиновника. Он чтил любые авторитеты — светские и духовные, — был необычайно вежлив со своими коллегами, а главное, умел ценить свое место.
И не удивительно: Махулка с отличием окончил гимназию и поступил на юридический факультет. Два года он успешно изучал право, но потом понял, что за экзамены ему уплатить нечем и что по окончании он не сможет служить бесплатно несколько лет.
Тогда он расстался с юриспруденцией и перешел на философский факультет. Но когда Махулка заканчивал третий курс, в газетах появились многочисленные статьи, предостерегающие от. занятий философией, так как все соответствующие места заняты и в ближайшие двадцать лет никаких вакансий не предвидится.
Франтишек Махулка оказался в тупике. Поскольку об изучении медицины не могло быть и речи, он думал уже, что ему остается только пойти в семинарию. И вдруг в самый критический момент явилось спасение: некий колбасник, сына которого он репетировал, получая за это ужин, был избран в совет магистрата и выхлопотал бедняге место в магистрате.
Франтишек Махулка сделался писарем. Так как за его плечами были аттестат зрелости, два года юридического факультета, три года философского и экзамен по делопроизводству, он был зачислен в качестве «квалифицированного диурниста с правом на повышение» и с поденной оплатой в одну крону.
Франтишек Махулка был счастлив. Частенько по утрам перед службой он заходил в костел, благодарил господа бога и молился за своего благодетеля муниципального старшину колбасника и за весь славный магистрат, который его кормил.
В канцелярии, как уже сказано, он был одним из самых надежных работников: не ленился, не отзывался непочтительно о своем начальнике, не покупал себе еды и пива на второй завтрак (на это у него просто не хватало денег) и никогда не оставлял недоделанной работы.
Сослуживцы считали его выскочкой и карьеристом, но начальство ценило его усердие и наваливало на него в три раза больше работы, чем на других.
Его добросовестность принесла, однако, свои плоды: через три года его поденную плату повысили на десять крейцеров, еще через три года — снова на десять и, наконец, после следующих трех лет — на двадцать геллеров (тогда уже были введены геллеры и кроны). Читатель, обладающий математическими способностями, легко подсчитает, что ежедневный заработок Махулки через девять лет равнялся одной кроне шестидесяти геллерам, или сорока восьми кронам в месяц, что составляло в год пятьсот восемьдесят четыре кроны.
Франтишек Махулка был на седьмом небе. Он никому на свете не завидовал и считал себя маленьким Ротшильдом. Тем ревностнее молился он каждый вечер за своего благодетеля муниципального старшину колбасника, за господина бургомистра и за весь совет магистрата. Он говорил себе, что теперь может спокойно ждать — хотя бы это длилось еще лет десять — назначения практикантом.
Дело в том, что в магистрате, о котором мы повествуем, было точно установленное число практикантов и определенное число делопроизводителей, которое ни в коем случае не могло быть увеличено. Никто не мог продвинуться, пока кто-нибудь из вышестоящих не умер или не ушел на пенсию. Эта мудрая система была придумана в давние времена, когда город был невелик, а делопроизводство несложно. С тех пор город разросся, делопроизводство неизмеримо усложнилось, но количество чиновников осталось прежним. Поэтому просто нанимали сверх штата поденных писарей, чье продвижение было практически невозможно.
Однако с течением времени прогресс проникал всюду, выдвигались новые лозунги, все реорганизовывалось; создали свою организацию и чиновники, и писари. Членов совета засыпали петициями, они не успевали выбрасывать депутации за дверь. Противились долго, но в конце концов все-таки уступили и сказали: «Надо что-то сделать и для чиновников!» (Как раз приближались выборы.) И сделали. Рассудили мудро, что от писаря до практиканта, а от практиканта до делопроизводителя — слишком резкий скачок, и человек, ошеломленный внезапным увеличением доходов, может потерять равновесие; поэтому ввели новую шкалу различных званий, которым отвечали соответствующие земные блага.
В результате Франтишек Махулка, который пять лет спокойно проживал свои ежедневные крону и шестьдесят геллеров, был назначен аспирантом. Теперь он был уже не простой писарь, а «ожидатель» места чиновника. Радость его была неописуема. Правда, такое повышение имело и теневую сторону, ибо аспирантское жалованье исчислялось в пятьсот крон ежегодно, и Махулка лишался восьмидесяти четырех крон. Но он легко сбалансировал утрату тем, что три раза в неделю не завтракал и не ужинал.
Еще усерднее трудился он в канцелярии. Его неутомимое рвение не ускользнуло от внимания начальства и спустя пять лет было вознаграждено внеочередным повышением. Но так как за это время никто из практикантов не продвинулся выше, не умер и не ушел на пенсию, Махулку не могли сделать действительным практикантом и наименовали титулярным практикантом с жалованьем аспиранта. Таким образом, его доходы остались прежними, но он должен уплатить пятьдесят крон пошлины.
Получив приказ о назначении, Махулка чуть не сошел с ума и впервые не вышел на работу, так как целый день прикладывал к голове холодные компрессы.
Прошло семь лет, и титулярный практикант Франтишек Махулка по-прежнему трудился с неустанным рвением, и по-прежнему его ставили в пример менее добросовестным коллегам. В конце седьмого года произошло выдающееся событие: старейший делопроизводитель после шестидесятилетней службы ушел досрочно на пенсию, не пожелав выжидать еще десять лет, после которых он получал право на пенсию в размере полного оклада. В результате один из действительных практикантов стал делопроизводителем, что дало ему возможность жениться на своей невесте и узаконить своего внебрачного сына, который в том году как раз призывался в армию. А на освободившееся практикантское место был назначен наш Франтишек Махулка. Жалованье его, разумеется, не изменилось, но он должен был уплатить двести крон пошлины, которые у него милостиво вычитали ежемесячно из жалованья.
Столь частые и столь быстро следующие одно за другим повышения, видимо, укрепили нервы Махулки, так что на этот раз он уже не прикладывал к голове холодные компрессы; тем не менее радость его была безмерной. Теперь перед ним осталось всего лишь пятьдесят девять практикантов. Теперь-то уж он дождется желанного звания делопроизводителя! Тем усерднее отдавался он работе.
Шли годы, и снова Франтишеку Махулке улыбнулась фортуна: за безупречную тридцатилетнюю службу он получил персональную прибавку в сто крон ежегодно, за которые в первом году заплатил только пятьдесят крон пошлины.
Когда прошли первые приступы безумной радости, он вообразил себя барином и завел новый распорядок. Следует признать, что действовал он при этом несколько легкомысленно, так как решил, что не будет, как до сих пор, ограничиваться в обед чашкой кофе с хлебом, а разрешит себе дважды в неделю вкушать в народной столовой обед с кнедликом; сигару же, так называемую «длинную», которая раньше служила ему три дня, отныне он будет выкуривать всего за два дня.
В ту пору Франтишек Махулка регулярно раз в три года заказывал себе новые ботинки, а раз в четыре года — новый костюм. Он очень заботился о своей внешности, и это была его единственная слабость.
Его поставщиками были два старых солидных ремесленника — сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек.
Каждый новый заказ становился для Махулки настоящим событием: ведь эти два человека от него зависели, они должны были первыми здороваться с ним и говорить ему: «Ваша милость» и «Чего изволите».
И Махулка не упускал возможности напомнить обоим, что он дает им заработок, что может им приказывать — словом, что он заказчик и с ним нужно считаться. Всякий раз, когда с него снимали мерку для ботинок или для костюма, он очень важничал и говорил свысока:
— Послушайте, вы… чтоб они мне не скрипели… а то знаете, что вы натворили в прошлый раз?
Когда же почтенные мастера сдавали ему свои изделия, он не мог удержаться — даже если заказ был выполнен самым тщательным образом, — чтобы не сказать:
— Ай-ай, уважаемый… Разве это ботинок? Да это же опорок!.. Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В следующий раз я такую дрянь не приму, носите сами! (То была точная копия тона и выражения его начальника, советника Пишкота.)
Таково было единственное удовольствие Махулки — хоть на минутку да почувствовать себя барином, — удовольствие, которое он всегда заранее предвкушал и долго потом вспоминал.
Так проходили годы, без изменений — медленно и монотонно; время от времени Махулка заказывал ботинки или костюм, неизменно повторяя приведенный выше монолог, как вдруг в один прекрасный день…
Да, в один прекрасный день происходили выборы в магистрат. Огромные кричащие плакаты на углах улиц, бурные предвыборные собрания, соглашения магистратской клики с оппозицией ремесленников… И из избирательной урны игрою случая вынырнули новоиспеченные члены совета сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек, поставщики практиканта магистрата Франтишека Махулки.
Махулка, никогда не интересовавшийся политикой, узнал об этом утром в табачной лавке, покупая свою неизменную «длинную», которая должна была ему служить два дня, и, как обычно, наспех просматривая ведомственный листок.
Сначала новость не очень поразила его: впереди был рабочий день, и Махулке некогда было заниматься легкомысленными размышлениями, которые могли отвлечь его от работы и тем нанести ущерб магистрату. В дневной суете он даже забыл об этой новости, и только после ужина, когда уже собирался лечь, она вдруг всплыла в его сознаний. Махулка как раз разувался и, грустно разглядывая стоптанные, потрескавшиеся ботинки, думал, что пора заказывать новые. Тут-то впервые и дошел до него смысл этого события. В голове мелькнула тревожная мысль: как я могу заказывать ботинки у Брдички, если он теперь советник магистрата, мой кормилец? Что делать? И как быть с одеждой? Брюки внизу обтрепались, на зад нужно положить заплату. Как я могу прийти за этим к Цафоуреку, если он со вчерашнего дня городской старшина и мое непосредственное начальство?
Его начало трясти, как в лихорадке, и он, ошеломленный неслыханным оборотом дел, решил отложить размышления до завтра. Но долго не мог он уснуть в эту ночь, и временами мороз подирал его по коже.
Когда утром Махулка обувался, тяжелые мысли начали одолевать его с новой силой. Он страшился будущего и чувствовал себя беспомощным.
В канцелярии он не раз впадал в задумчивость, посадил кляксу на важный документ и испортил гербовый бланк ценою в 0,7 геллера, что побудило господина советника деликатно упрекнуть его:
— Черт побери, Махулка, нужно быть повнимательнее! Этак вы пустите по миру весь магистрат!
Это окончательно выбило его из колеи. Об обеде Махулка уж и не думал, мысли его неизменно блуждали по заколдованному кругу: «Господи, что делать? Попробуй отдать башмаки в починку муниципальному советнику! Не сочтет ли он это смертельным оскорблением со стороны жалкого практиканта? И ради всего святого, как я должен теперь к нему обращаться?»
Он начал мысленно комбинировать всевозможные титулы и от этого еще больше запутывался:
«Глубокоуважаемый господин советник, не будете ли вы так любезны поставить мне заплатку на ботинок?»
«Ваше благородие господин советник, позволю себе наипокорнейше просить, не затруднит ли вас залатать мне брюки на заднице?»
«Многоуважаемый господин советник, позволю тешить себя надеждой, что вы с обычной благожелательностью изволите починить мои ничтожные ботинки!»
Будет ли это достаточно почтительно? Не вышвырнет ли он меня за дверь? А вдруг я, не дай боже, забудусь да и ляпну муниципальному советнику, как раньше: «Послушайте, вы…» или «Эй, шут гороховый!»
С ума сойти! А если пойти к другим? Но ведь никто не возьмется шить мне ботинки и костюм в рассрочку, по кроне в месяц! Не говоря уже о заплатах и подметках! А еще, того и гляди, господин магистратский советник и господин старшина обидятся, что я перестал у них заказывать, а это хуже всего!
Отныне мрачные мысли не покидали несчастного Франтишека Махулку. Им овладела меланхолия. Как навязчивая идея, днем и ночью преследовал его призрак залатанных ботинок и брюк.
Время шло, но состояние Махулки не улучшалось. Наоборот, он все глубже погружался в задумчивость. Куда девались его прилежание и внимательность, которые всегда приводились в пример остальным? Уставившись в пространство, он тратил время на долгие размышления, сажал кляксы на важные бумаги и портил дорогие бланки.
Одновременно и вид его становился все неряшливее. Поскольку он все еще не решил, как быть, его единственный костюм пришел в полную негодность, ботинки совсем развалились, и он ходил уже на собственных подошвах, брюки протерлись, а на локтях зияли дыры, которые он безуспешно пытался прикрыть пестрыми заплатами.
В конце концов это заставило шефа, господина советника Пишкота, вызвать Махулку к себе и серьезно с ним поговорить:
— Послушайте, Махулка, что с вами, собственно, происходит? Ничего не понимаю! Вы всегда были таким примерным чиновником!.. Я уж не говорю о вашей работе — она сейчас и гроша ломаного не стоит, — но посмотрите на себя: на кого вы стали похожи! Просто ужас берет: вылитый атаман разбойничьей шайки после разгрома! Куда вы деньги-то деваете, коли даже одеться прилично не можете? Холостой человек, и с таким-то жалованьем! Или какую-нибудь балеринку содержите?
Но Франтишек Махулка вместо ответа залился истерическим плачем.
Пораженный господин советник вызвал к себе после этого старшего делопроизводителя, который приглядывал за всем персоналом канцелярии, и поделился с ним своими сомнениями:
— Не кажется ли вам, что Махулка чертовски сдал? Попробовал я сейчас отечески пожурить его, так он возьми да и разревись, словно какая-нибудь меланхолическая девица! Не иначе он алкоголик, скорее всего потихоньку пьет. Придется отправить его на пенсию.
— Осмелюсь напомнить, господин советник, — сказал старший делопроизводитель, — он служит всего тридцать лет и не имеет еще права на пенсию.
— Тем лучше, по крайней мере, сэкономим на нем, — сказал господин советник и милостиво отпустил делопроизводителя.
Но случилось все иначе…
В тот же день в ратуше происходило важное заседание совета, на котором, помимо иных вопросов, разбиралось предложение о создании особого учреждения для художественного воспитания народа. Среди прочих ораторов слово попросил новоиспеченный советник сапожник Брдичка, который так начал свою девственную речь:
— Господа, я никакой там не оратор, я честный ремесленник, и я не буду выдумывать всякие там цветистые выражения — я по-простецки ляпну, как думаю. (Превосходно!) Так я вот думаю, господа, что как… это… жили мы без этих новшеств. (Превосходно!) И наши отцы без них прожили. (Превосходно!) Так и наши дети без них отлично проживут. (Превосходно!) А долгов у нас и без того полная… а что полная, говорить неудобно. (Бурное одобрение.) Вот я и думаю, к чему еще выбрасывать деньги…
Вдруг в напряженной тишине с переполненной галереи раздался громкий выкрик, который сразу погасил красноречие господина советника:
— Эй вы, шут гороховый, разве это ботинок?! Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В башку вам его только запустить!
И какой-то человек швырнул вниз, прямо в оцепеневшего оратора, изношенный башмак и начал рвать на себе одежду. Это был несчастный практикант магистрата Франтишек Махулка, который сошел с ума.
Заседание было прервано. Беднягу вывели и вскоре отвезли в сумасшедший дом, откуда он больше не вернулся.
И живет там Франтишек Махулка за счет городской казны, которой все-таки не удалось на нем сэкономить, как надеялся господин советник Пишкот.
Это тихий, безобидный сумасшедший, который низко кланяется всем встречным и твердит просительным тоном:
— Ваша милость глубокоуважаемый господин советник, позволю себе наипочтительнейше просить, если это вас не затруднит, залатать мне смиренную задницу на брюках…
Король Румынии отправляется на медведей
В 1904 году мне выпала возможность увидеть вояж короля Румынии на охоту в Трансильванские Альпы. За день до выезда появился экстренный выпуск бухарестских правительственных газет с таким заголовком: «Король Румынии отправляется на медведей». Он и отправился. Благо сие было одобрено министерским советом и женой, румынской поэтессой Кармен Сильвой.
Была разработана программа поездки, предусматривавшая посещения королем городов, где он еще не бывал, чтобы население получило возможность полюбоваться его охотничьим нарядом и голыми коленками.
Королю предстояло побывать в Тито, Питексе, Картеа де Аргес — крохотных румынских местечках, обитатели которых все без исключения с нетерпением ожидали прибытия короля.
Весь путь был украшен флагами. Поезд останавливался на каждой станции, и король, выступив из вагона, отечески ласково отвечал на приветствия школьников:
— Да, король Румынии отправляется охотиться на медведей, ибо такова воля народа.
Так сразу оказалось, что поездка на охоту совершалась по воле народа, и это вызвало всеобщее ликование.
По прибытии в Тито король осмотрел ратушу и нашел, что у нее прочный фундамент. По двору ратуши разгуливали куры, и король поинтересовался их возрастом. Затем бросил в толпу пригоршню «баней» (медных монеток с дырочкой посередине, достоинством чуть больше двух геллеров), сел под ликующие вопли собравшихся в коляску и отбыл на вокзал.
Следующая станция была Питекса. Здесь соорудили триумфальную арку с надписью, видной издалека: «Король Румынии отправляется на медведей! Большой удачи!»
Здесь король Румынии снова спрашивал о возрасте кур, убегавших перед его королевской коляской, подивился, что бургомистр прекрасно выглядит, он обратил внимание на новую ратушу, спросил, сколько в городке жителей, и, узнав, что 3712, многозначительно заметил:
— Надеюсь, что к концу года вы округлите их число до четырех тысяч!
Следующей остановкой оказалась Дегарацу, город с деревянными домами среди лесов. Король вышел и захотел увидеть ратушу. Ему объяснили, что ратуши здесь нет. Король заявил:
— Будьте мужественны и добьетесь всего.
Его заинтересовала маленькая горная речушка тем, что она течет на запад. Короля это крайне удивило. Он справился, куда же она впадает. Отцы города этого не знали, и, огорченный, король покинул Дегарацу.
Далее путь лежал к Картеа де Аргес. На всем пути следования короля сопровождала приветственная пальба, крики «ура» и музыка.
В Картеа де Аргес король на вокзале, повелел, чтоб оркестр сыграл еще раз. Поскольку в поезде было изрядно выпито, он, растроганный горячей встречей, бросился целовать бургомистра и представителей местной власти. Затем, подарив бургомистру часы, король отбыл, оставив о себе самые приятные впечатления.
Между Картеа де Аргес и Есеро король трижды сходил с поезда. Первый раз в Башуче, где поинтересовался возрастом жены жандармского начальника, затем в Камбало, где сообщил, что ему очень нравятся мосты, и, наконец, в Югатине, где ему захотелось узнать, сколько лет тамошнему попу. Ему ответили, что попа здесь нет, так как церковь находится в Камбало. Короля ответ очень озадачил, и он, заявив, что решительно не понимает, почему церковь должна быть именно в Камбало, счел необходимым сместить городское управление.
Наконец король прибыл на конечный пункт — станцию Есеро, городок, расположенный в горах у подножия Кумполунга. Короля приветствовали самые красивые местные девушки. Не удержавшись, король расцеловал всех восемьдесят красоточек и отдал распоряжение адъютанту позаботиться о приданом для пяти самых хорошеньких из них. Оставив адъютанта в полной растерянности, король пешком отправился в город, расспрашивая, сколько лет тому или иному зданию. По пути он высказал также крайнее удивление и тем, что именно Есеро удостоилось чести расположиться у подножия Трансильванских Альп. Король пожелал ознакомиться с образцами горных пород и, слушая объяснения, недоверчиво покачивал головой.
— Повторите-ка мне это еще раз!
— Ваше королевское величество, — продолжал местный инженер, — куда бы вы ни соизволили обратить свой наияснейший взор, вы всюду заметите самый что ни на есть жалкий кварц. Ничего, кроме кварца, ваше величество!
— Выходит, у вас в окрестностях много кварца?
— Ваше королевское величество, да все Трансильванские Альпы сплошь состоят из него.
Затем король уделил час осмотру города. Спрашивал, достаточно ли быстро размножается население, и, получив утвердительный ответ, пожелал:
— Все хорошо в меру!
Пополудни король поехал в горы, где за Вагагорой триста загонщиков три дня уже гоняли ручного черного медведя, молодца под два метра ростом.
Король прибыл в условленное место. Ему подали ружье и погнали медведя из кустов.
Увидев его, король Румынии побледнел и сказал адъютанту: — Пускай живет! — сел в экипаж и немедля удалился с небезопасного места.
Спустя два дня правительственная газета сообщила, что король Румынии возвратился в Бухарест.
Здесь король осведомился, кем была организована его медвежья охота в горах Кумполунга. Узнав, что это был главный королевский лесничий, он призвал его в Бухарест и собственноручно повесил ему на грудь орден святого Георгия. А всех сановников своего двора наделил шкурами черных медведей.
Приключения школьного инспектора Калоуса
Это была одна из самых страшных гимназий в Чехии. Преподаватели, директор и законоучитель считали учеников неизбежным злом, выродками, лютыми мерзавцами, которых надо держать в ежовых рукавицах, чтоб из них не вышли разбойники.
Веселых молодых ребят, которые глядят на мир с милой наивностью, свойственной их возрасту, держали в ежовых рукавицах, как подобает, следуя испытанному методу нашей средней школы. Это были циркуляры, исходившие от дирекции гимназии, толковавшие без устали об упадке нравственности, ничего не разрешавшие и все запрещавшие во имя дисциплины.
На это же были направлены уроки закона божьего, наводившие страх.
Законоучитель, доктор богословия Губенка, рычал в жуткой тишине класса о загробной жизни, о разнузданности, об отсутствии любви к педагогическому персоналу, об испорченных молодых людях, об упадке нравов, о всеобщей развращенности.
Потом отворялись одна за другой двери классов, и, сверкая глазами, входил директор, строгий, седой. Остановившись у двери, он угрожающе сморкался в большой носовой платок.
Спрятав платок, он восклицал:
— Бесстыдники, безобразники!
И начинал вслед за законоучителем разъяснять содержание циркуляра, в составлении которого принимал участие весь педагогический совет. Вновь и вновь гремел он во всех классах об упадке нравственности:
— Вы хорошо знаете, к чему привел упадок нравов в Древнем Риме. Полное разложение римской жизни. Такое разложение наступит и среди вас.
Это было самое страшное слово, которое он швырял в лицо перепуганным гимназистам. Потом он, еще раз грозно высморкавшись, шел, сопровождаемый законоучителем, в соседний класс, а классный наставник, хранивший в течение всей этой операции унылое молчание и все время что-то записывавший в журнал, с явным сокрушением произносил вслед уходящим:
— Нет, они не станут лучше, можно поставить на них крест!
Такая же картина наблюдалась и в других классах.
Преподаватели, всюду уже приготовившиеся к этому посещению, принимали важный вид, и лица их приобретали такое же выражение, как у индийской богини смерти. И все начиналось сначала.
Входил законоучитель и грозно рычал:
— Время милосердия прошло, наступает время гибели!
И гимназисты, подготовленные к этой сцене последним циркуляром дирекции, который им только что прочел преподаватель, содрогались от ужаса. И законоучитель снова заводил речь о Содоме и Гоморре, о бесконечной благости божьей, которая имеет свои границы, об испорченности людей, о примерах добродетели, подаваемых святыми, потом опять о стремительном понижении нравственности, упадке нравов и, наконец, заслышав на лестнице сморканье директора, снова восклицал, что пришел конец жалости!
И опять, как перед тем в других классах, отворялась дверь, директор громко сморкался на пороге и снова говорил об упадке нравов в Древнем Риме и о катастрофе, которая за этим последовала.
Так шло во всех классах — до седьмого, куда законоучителю и директору входить не хотелось. Это был самый скверный класс, от которого как раз и пошел в гимназии весь разврат, до того даже, что государственному советнику, школьному инспектору Калоусу все гимназисты совокупно, без различия классов, устроили в городской купальне «нырок».
И тем не менее пан государственный советник прибыл инспектировать.
Довольно давно уже среди учеников гимназии замечалась какая-то распущенность, некоторое нравственное одичание. А ведь в четвертом классе они читали стихи Овидия Назона о золотом веке, но это не помогло. Они могли бы прилепиться всей душой к тем строкам, где идет речь о безгрешном житии. А они предпочли путь греха: засунули одному классному наставнику в карман зимнего пальто какие-то портянки.
Хоть они и качались на челнах классического образования по морям греков и римлян, но были застигнуты на реке, пробегающей через этот город, два третьеклассника, которые плыли в корыте, стибренном со двора преподавателя физики и ботаники. Корыто тихо скользило вечером по реке. Потом от противоположного берега навстречу ему отплыло другое корыто, полное персов. Само собой, персы были тоже третьеклассники.
Началась битва у Саламина, о какой не прочтешь и в прекрасных описаниях Корнелия Непота. Маневрирование военного корыта, выступавшего на стороне греков, привело к тому, что, вопреки исторической истине, выскочила затычка, служащая в нормальных условиях на суше для спуска воды. Здесь получилось как раз наоборот: корыто наполнилось водой и пошло ко дну. А поскольку оно принадлежало одному из членов педагогического совета, событие было расценено как недопустимое нарушение школьной дисциплины, хотя министерство народного просвещения до сих пор не налагало запрета на применение корыт господ преподавателей в качестве средств водного транспорта. Два виновника были исключены из учебного заведения, а два утонули, и это им еще повезло, потому что, по заявлению пана законоучителя, они получили бы скверную отметку по поведению и все равно были бы исключены.
Исключение из гимназии — кара, непрестанно висевшая над всеми в этом сумрачном здании.
Однажды был исключен ученик пятого класса Мрженко, который, вопреки ясно выраженному запрещению дирекции, играл в футбол. Директор был решительным противником вольных движений для молодежи, так как страдал застарелым ревматизмом. Предусмотренные расписанием игры он старался ограничить, разрешив в конце концов лишь купание гимназистов в купальне этого уездного городка. Запрет был вызван главным образом настоянием законоучителя, объявившего, что купание за чертой города бросает тень на моральный облик учеников.
И вот тут-то и произошел этот ужасный случай, когда пана школьного инспектора несколько раз перекувырнули головой под воду.
Думаю, всем знакомо выражение «нырок». Это невинная забава, состоящая в потоплении товарищей по купанию.
Жертвой этой забавы и стал пан государственный советник, школьный инспектор, прибывший на инспектирование.
Дело было в субботу, после полудня, когда ученики гимназии отправились в купальню освежиться.
Кончена мучительная неделя — алгебры, латыни, греческого, геометрии и всего прочего, когда они сидели в душных помещениях и под постоянной угрозой плохой успеваемости готовились к жизни при помощи склонения греческих и латинских словечек.
Но вода в реке смыла с них накопившееся за неделю сознание рабской зависимости от учебной программы. Они прыгали в воду — первоклассники, второклассники, третьеклассники, четвероклассники и старшеклассники, веселые, счастливые. Прыгали с лесенки, смеясь от наслаждения, в холодную чистую воду.
А над ними высоко в голубом небе — солнце; а вокруг — деревья, зеленый лес; а напротив — луг. Потом в купальню пришел какой-то незнакомый господин, разделся и, пыхтя, полез в воду.
А как раз около него прыгнул в реку шестиклассник Шетелик.
Вода вспенилась, плеснула высоко вверх, и незнакомец поднял крик:
— Безобразники, что вы делаете, что творите?
Бух! Прямо перед ним четвероклассник Матуха прыгнул в воду вниз головой.
— Перестаньте, негодяи! — закричал он в ярости. — Вон из воды! Марш! Все вон!
Общий смех был ответом.
— Что вам угодно? — обратился восьмиклассник Смрчка к нему с вопросом.
— Вон из воды, ступайте учиться, бездельники, радуйтесь, что выпали свободные минуты, когда вы дома можете усердно…
Он не договорил. Кто-то подшиб ему ногу, и он ушел под воду, напрасно стараясь за что-нибудь ухватиться. Он встал, захлебываясь, и крикнул:
— Мерзавцы, я государственный советник! Марш, все вон из воды, вон, головорезы!
Какое им было дело до чинов и званий? В воде все равны. Не успел государственный советник договорить, как кто-то под него нырнул. Захлебываясь, он опять выбрался на поверхность. Но тут его опрокинули сзади и устроили ему новый «нырок».
— Мерзавцы! — успел он только крикнуть. — Я школьный инспектор, покажу вам в понедельник!..
Как только он это сказал, сейчас же и первоклассники, и второклассники, и третьеклассники, и четвероклассники, и старшеклассники с невероятной быстротой все от него врассыпную — по кабинам и молниеносно одеваться. Пан школьный инспектор попробовал поймать хоть одного. С могучим напором поплыл он к кабинам, все время крича:
— Я школьный инспектор, покажу вам в понедельник!..
Наконец он догнал второклассника Шпирека, который только учился плавать и, стараясь уйти от инспектора, что есть силы греб руками, словно свалившийся за борт и преследуемый акулой пьяный матрос.
Государственный советник, школьный инспектор Калоус, подплыл к нему, ухватил его за ногу и стал подтаскивать за плавки к себе. Бедняга умолял не топить его — до такой степени он был напуган грозной фигурой рассерженного школьного инспектора. Но его потащили дальше, так что в конце концов он получил возможность ступать по мелководью. По дороге к раздевалке он, плача, признал все. Виновники есть во всех классах, он их знает. Они всегда ходят сюда купаться.
— В понедельник, — грозно объявил ему школьный инспектор, — после обеденного перерыва я тебя позову и пройду с тобой по классам… Да я их тоже узнаю. Исключенных с полкласса наберется!
Прямо из купальни он пошел в директорскую, в воскресенье был в костеле, а оттуда отправился в погребок, и с тех пор ни в воскресенье, ни в понедельник, когда по классам читался циркуляр и директор с законоучителем ходили выговаривать за безнравственность, его нигде не было видно. Некоторые видели только, как вышеописанный незнакомец направлялся в предместье Жабак, где есть два публичных дома, но где проходит также дорога к ближайшим живописным развалинам посреди леса, и это обстоятельство решило в конечном счете вопрос о том, куда шел пан государственный советник и школьный инспектор.
* * *
По странному стечению обстоятельств той же ночью появился в предместье Жабак законоучитель и вошел к Пихам, в домик с зелеными ставнями. Это было заведение для чистой публики. К своему ужасу, он увидел школьного инспектора, сидящего на диване рядом с одной девицей из Германии.
Школьный инспектор поднял на него пьяные глаза. Но законоучитель, не теряя присутствия духа, сказал:
— Простите, я пришел спросить вас, что нам делать с теми озорниками?
— Исключим кое-кого из распутников! — воскликнул государственный советник.
— Совершенно правильно, — ответил законоучитель и, повернувшись к даме, что-то ей зашептал.
Через минуту пришла Мина в роскошном ампире. Он был очень доволен, но сохранил солидный вид.
По просьбе государственного советника он добился исключения шестиклассника Шетелика, дрыгнувшего в реку прямо перед начальством, и восьмиклассника Смрчки, который спросил тогда, что ему угодно.
Так окончилось приключение государственного советника и школьного инспектора.
По следам убийцы
После публикации объявления о награде за указание следов убийцы в полицейском управлении наступил кавардак. Сотни людей, жаждущих получить обещанную тысячу, с утра до ночи штурмовали полицейское управление.
Однако полицей-президиум дал строгое распоряжение тщательно записывать все показания и представить их ему на рассмотрение. На основе этого материала президиум с помощью проверенных методов сможет установить точные приметы убийцы, после чего все данные будут должным образом сопоставлены, найдена нить и клубок распутан. Так поэтически писал полицейский официоз.
Просторные комнаты полицейского управления не смогли вместить всех добровольных свидетелей, и хозяйственный отдел уже подумывал о найме дополнительного помещения. Все показания лихорадочно записывались, и к вечеру начальник полиции получил целую пачку исписанных бумаг. На основании этих материалов государственному советнику предстояло сделать надлежащие выводы, найти нить, распутать клубок (повторяем это прекрасное выражение), чтобы затем сплести сеть для поимки злодея.
Полицейский комиссар Рейхель принялся читать начальнику полиции наиболее важные показания и письма. Это была нелегкая задача, ибо некоторые из них требовали основательных размышлений, а иные были попросту непонятны.
— Карел Выгналек, частный служащий, сообщает, — читал полицейский комиссар, — что такие же панталоны оливкового цвета он видел за три дня до убийства на незнакомце, который прикурил у него. Из этого он заключает, что убийца принадлежит к бедным слоям и наверняка был знаком с убитой, у которой взял панталоны напрокат. Видимо, при возврате их возникла ссора, которая и кончилась смертью старухи.
Вацлав Хохолатый шлет письмо:
«Уважаемые полицейские начальники! Убитую знал один мой старый товарищ по военной службе. Мы служили вместе в одиннадцатом полку, и, помнится, наш батальон был переброшен в Ровиц. Там кругом горы да скалы. На торах пасется скот, главным образом коровы, господин начальник. Мой приятель, что знал убитую, служил уже третий год, был в звании капрала, отличался хорошей памятью и слыл грубияном. Из-за слова мог человека убить. Ежели б он поссорился с убитой, то непременно пристукнул бы ее. Он всегда говорил, что терпеть не может таких баб. Два года назад он умер своей смертью в кулачной драке…»
Показания добровольного свидетеля лавочника Гофмауера с Длоугого проспекта:
«Убитой не знал. В Карлине бывал дважды. Последний раз в позапрошлом году, когда горела фабрика Крщижика. Дело было так: в воскресенье, после полудня, я отправился, как всегда, поиграть в картишки. Играю обычно в польский банчок или марьяж по мелкой и в жизни ни разу не плутовал. Иду. Вдруг под виадуком кричат: «Горит!» Гляжу — и верно! Пока добежал до фабрики, полыхало так, что мое почтение. Потом пришли солдаты и оцепили улицу. С тех пор не был в Карлине и об убийстве ничего не знаю. За потраченные здесь полдня прошу выдать пять крон».
— Я его посадил на всякий случай, — пояснил полицейский комиссар и продолжал: — Показания кузнеца Виктора Безваги:
«Видел в полиции орудие преступления — кувалду. Как знаток кузнечного дела могу присягнуть, что кувалда не кузнечная. Таким образом, убийство не бросает никакой тени на кузнечное сословие, ибо ясно, что орудие убийства не принадлежало кузнецу. Заодно просим ускорить ответ на ходатайство о разрешении открыть вечернюю школу для кузнецов. Оно подано десять лет назад в канцелярию наместника через полицейское управление и до сих пор не рассмотрено из-за обилия неотложных дел об убийствах!»
Фирма «Ал. Гинек» (письмо без штемпеля) сообщает:
«Глубокоуважаемый господин начальник полиции!
Нечестная конкуренция сильно подрывает трудное и благородное издательское дело. Предприниматели справедливо протестуют против использования труда заключенных, а закон о нечестной конкуренции запрещает пользоваться чужими фирменными знаками. Из вашего уважаемого объявления следует, что некоторые ваши уважаемые сотрудники занимаются сочинением уголовных романов и, возможно, тайно издают их. Мы решительно возражаем против того, чтобы убийство в Карлине было использовано для нечестной конкуренции и рекламы, и подчеркиваем, что талантливый писатель пан Крутиголовка уже работает над романом на эту тему. Что же касается поимки убийцы, то разрешаем себе предложить уважаемому полицей-президиуму для консультации все вышедшие тома «Клифтона», «Ника Картера» и «Шерлока Холмса» по сниженным ценам».
— Закажите, — сказал начальник полиции, — и читайте дальше.
— Вот показания бакалейного приказчика. Он заявил, что Карлин — такое местечко, где всякое злодейство в почете. Я велел его посадить за такие слова. Важные сведения, — продолжал чиновник, — получены от Крафтовой, вдовы капитана. Она убеждена, что не следует искать убийцу-мужчину. Скорее всего убийство совершено особой женского пола. Неудачное замужество, наверное, привело ее к решению найти смерть на виселице. Кроме того, вдова сообщает:
«Не имею прямых улик, но весьма подозрительна наша соседка Анна Тршехова. Она выливает помои в унитаз и способна еще и не на такое. А в последнее время что-то присмирела и в день убийства вернула мне десять крон долга, хотя еще с утра ругалась и говорила, чтоб я шла куда подальше. Кстати, эта сумма сходится с указанной в объявлении».
— Анну Тршехову я взял под стражу.
— Правильно! — кивнул начальник полиции, хватаясь за голову. — Читайте дальше.
— Вот здесь протокол, составленный по настоянию Мирослава Гофрихтера. Он явился со свидетелями, которые подтвердили его алиби. После этого он потребовал тысячу крон, ибо навел полицию на правильное заключение, что старуху убил, во всяком случае, не он… Далее показания свидетеля Матоушека. Он высказывает предположение, что несчастная лавочница сама покончила с жизнью.
— Гм, это возможно, — рассеянно пробормотал начальник полиции, прохаживаясь по комнате.
— Далее — письмо капеллана церкви святого Криштофа. Просит выслать тысячу крон, так как имеет веские подозрения против одного члена католической конгрегации, который уже два месяца не вносит доброхотных даяний на постройку храма святого Вита.
«Обращаю ваше внимание на подозрительную связь этого дела с последними злодеяниями отравителей, — пишет чиновник Муржинога — Нужно выяснить, не была ли означенная кувалда куплена в магазине, торгующем ядами, и в каком именно. Нет ли на кувалде следов цианистого калия, и не имеется ли в самом железе подозрительных примесей. Все эти обстоятельства нельзя оставлять без внимания. Они, несомненно, приведут на след преступника».
Начальник ударил себя по лбу:
— Этот человек прав! Сразу видно государственного чиновника. Вот с кого надо брать пример! Немедля распоряжусь сделать химический анализ кувалды.
На этом следствие было временно закончено. Все были довольны. Сделано немало: во-первых, найдены следы нескольких человек, которые убийства не совершали, и нескольких, которые могли его совершить. Кроме того, допрошено несколько предполагаемых скупщиков краденого. Наконец, установлена причинная связь между кувалдой, цианистым калием и возвращением долга.
В заключение начальник велел позвонить в Бргнице — узнать, не поймали ли там убийцу.
Ответ был получен тут же: «Нет».
— Мы тоже не поймали, — глубокомысленно изрек начальник.
А полицейский комиссар порылся и вытащил еще одно письмо:
«Высокочтимому полицей-президиуму.
Позволяю себе обратить ваше внимание на чернильный карандаш. Это во-первых. Арестуйте всех, у кого есть чернильные карандаши. Во-вторых, посадите всех непричастных к убийству, и таким путем преступник будет изолирован и пойман. Поступайте в этом деле по старинной загадке: «Как проще всего поймать шесть львов? Поймайте десять и четырех выпустите…»
На этом методе полиция и основала свои расследования.
Амстердамский торговец человечиной
Не имея иной возможности быть полезным чешской нации, я решил заняться ее умственным развитием. С этой целью я отыскал замечательного человека, три раза сидевшего в тюрьме Панкрац за грабеж и обладавшего изумительной фантазией.
Кроме того, этот человек ловко владел пером и умел придавать своим мыслям нужную форму — задача, непосильная для другого моего сотрудника, совершенно лишенного способности мыслить оригинально, но в то же время умевшего развить заданную тему и связать отдельные эпизоды гибкой, изобретательной, захватывающей интригой.
Потолковав с обоими уважаемыми сотрудниками, я сообщил им, что намерен основать книгоиздательство, имеющее целью снабжать чешскую публику занимательным чтением.
Я заключил с обоими договор, по которому они обязались приступить через пять месяцев к сдаче мне частями, за обычную полистную оплату, увлекательного романа.
Ровно через пять месяцев в моем издательстве вышел первый выпуск романа «Амстердамский торговец человечиной, или Таинственное убийство в Черной пещере, или Корчма «Кровавый епископ». Роман выходил четыре года подряд еженедельными выпусками, по восемьдесят геллеров за выпуск; всего вышло двести восемь выпусков общим весом восемнадцать килограммов. Об успехе, которым пользовалось это произведение, ярче всего свидетельствует случай с владелицей продуктовой лавки Возабовой, о котором я расскажу.
У поденщика Франтишека Голана было двенадцать человек детей, и он ждал тринадцатого, когда агент по распространению книг и журналов принес ему первый выпуск «Амстердамского торговца человечиной, или Таинственного убийства в Черной пещере, или Корчмы «Кровавый епископ».
Напряженно ожидая появления на свет нового члена семьи, Голан с избытком располагал свободным временем и, чтобы скоротать его, принялся жадно читать первый выпуск романа. По мере чтения интерес его возрастал. Начало было великолепное: «В одной из отдаленных улиц Амстердама, у пристани, над водой канала, в котором за год бесследно исчезали сотни чужеземцев, находился небольшой трактир с номерами. К напиткам, подаваемым новому постояльцу, подмешивали здесь снотворный порошок, а потом… потом постель с постояльцем проваливалась в подвал. Удар, страшный сдавленный крик… Рядом с трактиром была мясная лавка. Мясо отпускалось здесь по такой дешевой цене, что в лавке всегда было полно покупателей. Это мясо имело особый привкус: тут торговали человечиной! Знаете, как это делалось? В подвалах спящих постояльцев убивали ударом топора, потрошили трупы, разрубали на части и ночью доставляли человечину в мясную лавку. Одному только Роберту Клегу удалось вырваться оттуда — сверхъестественным путем…»
На этом текст первого выпуска обрывался.
С тех пор поденщик Голан стал регулярно покупать «Амстердамского торговца человечиной». Но, имея тринадцать человек детей, тратить каждую неделю по восемьдесят геллеров на книгу тяжеленько. И он каждую субботу посылал младших ребят по очереди просить милостыню, а на выпрошенные деньги покупал «Амстердамского торговца человечиной», выпуск за выпуском, и наслаждался подробным перечнем убийств, составленным так искусно, что каждый выпуск обрывался в самом начале убийства, а приканчивали жертву только в начале следующего выпуска, в конце которого происходила поимка главаря банды, причем в последней фразе сообщалось, что он бежал из тюрьмы, спустившись по громоотводу, потом перелез через стену, но упал, настигнутый пулей охраны, — для того чтобы в начале следующего выпуска, собравшись с силами, возобновить побег — на этот раз в лодке по бурному морю, — и в тот момент, когда ветер вырвал у него весла из рук, встретиться в последней фразе выпуска с шайкой контрабандистов, в главаре которой он узнает бывшую свою возлюбленную, соблазненную графом де Галуа… И так далее в том же духе.

В течение полугода расписывалась история корчмы «Кровавый епископ», и все это время по ходу действия войска и жандармерия безуспешно преследовали призрак «кровавого епископа».
Четыре года провел в упоительном чтении «Амстердамского торговца человечиной» поденщик Голан, рыдая по ночам над судьбой беглянки — принцессы де Галуа, сводной сестры главаря шайки контрабандистов (она же — переодетая и соблазненная возлюбленная главаря банды убийц, который был окружен войсками в Черной пещере, но, бросившись в водопад, спасся от врага вплавь).
Прочтя последний, 208-й выпуск и уплатив за «Амстердамского торговца человечиной» в общей сложности сто шестьдесят шесть крон сорок геллеров, Голан проплакал всю ночь напролет. При мысли о печальном конце главаря банды, которого в последнем выпуске повесили, у бедняги разорвалось сердце от жалости, и он покинул этот мир, оставив вдову с тринадцатью детьми без всяких средств К существованию. Похоронив мужа, бедная женщина продала все двести восемь выпусков владелице продуктовой лавки напротив — пани Возабовой, за одну крону сорок геллеров, то есть восемнадцать килограммов бумаги для завертывания сосисок и т. п., — по восемь геллеров за килограмм.
У почтенной пани Возабовой было два сорта покупателей: одни брали за наличные, другие на книжку. Она обращалась со всеми одинаково любезно: только дамочкам, бравшим за наличные, говорила «сударыня» и «целую ручку», а представительницам второй группы просто: «что прикажете?» и «мое почтение». Никаких других различий не делалось.
Приобретя двести восемь выпусков «Амстердамского торговца человечиной», эта уважаемая особа велела отнести бумагу к ней на дом, а после того как закрыла свое заведение на ночь, решила разрезать ее в четвертку — на фунтики. Взяла первый выпуск и принялась за дело. Вдруг в глаза ей бросилось напечатанное жирным шрифтом: «А! Они продают в мясной лавке мясо убитых людей!» Покачав головой, она отложила нож в сторону и стала знакомиться с новым видом мясоторговли. Познакомившись, задумалась. На другой день прочла второй выпуск, третий, четвертый. И так, читая в среднем по три выпуска в день, за три месяца проглотила все двести восемь. Начиная со ста восьмого она перестала следить за своей наружностью и менять белье.
На девяностый день она разослала лучшим своим покупательницам — тем, которые брали за наличные, — записки такого содержания:
«Милостивая государыня!
Не откажите в любезности зайти ко мне сегодня вечером на дом. Я должна сообщить вам важную новость!»
Когда они пришли, она порубила их всех топором. Как только весть об этом разнеслась по городу, мне пришлось пустить «Амстердамского торговца человечиной» вторым изданием.
Сочельник в приюте
В первый день рождества Христова сироту Пазоурека заперли в кладовую, где хранились мешки с мукой, а также, к радостному его удивлению, и с сушеной сливой.

Это открытие пробило брешь во мраке окружавшей Пазоурека безысходности, и он, вероятно, возблагодарил бы господа бога за ниспосланные сливы, если бы не был в таком настроении, когда любезного господа больше всего хочется проклясть.
Было совершенно очевидно, что своим заключением он обязан именно ему — господу богу милосердному. Устроившись на мешке с мукой, Пазоурек начал перебирать в памяти события вчерашнего вечера, когда по случаю сочельника к ним в приют явился новорожденный Христос, принявший на этот раз образ пана учителя закона божьего, а также директора приюта, каких-то двух толстых господ и одного тощего и длинного, который то и дело шмыгал носом и которого величали «ваше превосходительство». Потом двое самых смирных сирот принесли снизу из директорского кабинета свертки с шарфами, сложили их под елкой и поцеловали пану законоучителю руку.
После пришли еще какие-то господа и одна дама, вся в черном, которая каждого сироту потрепала по щеке и спросила про покойных родителей.
Тонда Неговых ответил, что у него их вовсе не было, все захохотали, а Калоуз крикнул:
— Выродок!
Тут пан законоучитель первый раз скрипнул зубами и сказал, что Христос, конечно, не заслужил, чтобы он, учитель закона божьего, в этот праздничный день отлупил такого вот оболтуса, но ему придется это сделать завтра, в первый день рождества.
Вашек Метцер сказал, что у длинного, которого все зовут «превосходительство», изо рта воняет.
Пивора поспорил с ним на полсигареты, что Метцер врет.
Все это было пока что в столовой. Они до сих пор ничего не ели и ждали от Христа спасения, потому что перед этим все целый день постились, кроме двоих, которые помогали на кухне и стащили кусок рождественского калача. А Пивора, с которым они не поделились, наябедничал. Он рассчитывал испортить им радость, но калач-то они все равно уже умяли, и потому пану законоучителю ничего другого не оставалось, кроме как всыпать им при всех.
— Это им от Христа в подарочек, — съязвил Пивора, пихая Пазоурека в бок. Они все еще стояли, выстроившись длинным рядом, и хихикали, глядя на толстых господ, которые все твердили:
— Бедные детки, несчастные сиротки…
Тут пан директор начал размахивать руками и уверять их, что господь не оставит своим милосердием бедных крошек. При этом он делал страшные глаза, глядя на Винтера, который показывал язык господину, что шмыгал носом. Пан директор шепнул что-то законоучителю, тот подозвал Винтера и вышел с ним в соседний зал. Винтер вскоре вернулся весь в слезах и притихший, как мышонок.
Затем пан законоучитель распорядился, чтобы все шли в соседний зал, где была высокая рождественская елка, на ней горели свечи, а наверху парил ангел, которому кто-то углем подрисовал усы, чтобы он был похож на пана директора. Там они стояли довольно долго, пока наконец не открылись двери и вошли те самые господа с дамами и приютские учителя в полном составе.
Пан законоучитель осенил себя крестом и затараторил «Отче наш». Молились все громко и торопливо, чтобы поскорее отделаться. Затем еще прочитали «Верую» и «Богородице, дево, радуйся».
Лицер сказал, что лучше б им молиться за ужином, а то еще непонятно, перепадет ли им чего, всё молятся и молятся, а животы от голода подводит.
После третьей «Богородице, дево, радуйся» пан директор, стоявший среди учителей, вышел вперед; перекрестился и сказал:
— Во веки веков, аминь!
После этого он держал речь и битых полчаса болтал о Христе. В животах сирот урчало чем дальше, тем сильнее. Пан директор хотел объяснить, какой младенец Иисус был маленький, но не смог подобрать подходящих к такому случаю слов и все показывал руками: «Во-от такой…»
Дама в черном расплакалась, а директор все говорил о скотах в хлеву и при этом многозначительно поглядывал на сироток. Напоследок он сказал еще про шарфики, после чего сел, но тут же поднялся пан законоучитель.
Он объявил, что на рождество Христово каждый из сирот получит в подарок шарфик, и призвал их к молитве, велев прочитать три раза «Отче наш», три раза «Богородице, дево, радуйся» и один раз «Царица моя, преблагая».
Пазоурек до сих пор вел себя тихо, хотя Пивора все время его задевал, но тут, услыхав снова про «Отче наш» и «Богородицу», — не сдержался и брякнул:
— Больно жирно будет за каждую тряпку молиться.
Господин с насморком что-то тихо шепнул директору, тот сперва с набожным видом кивнул головой, а потом, ринувшись в задние ряды, одной рукой схватил Пивору за ухо, а другой ткнул ему под ребра согнутыми пальцами.
Пивора, предчувствуя, что этим инцидентом ему на все рождество могут испортить настроение, громко сказал:
— Да это не я, это Пазоурек.
Пазоурек, само собой, стал оправдываться, поднялся шум, и пан законоучитель в первом же «Отче наш» споткнулся на словах: «…и остави нам долги наши…» Все смотрели на них.
Дама, которая до этого плакала, теперь захлюпала носом, стала сопеть и вздыхать. Господа в черном закатили к потолку глаза, а затем выразительно поглядывали на пана законоучителя, тот смешался и попытался как-то выйти из положения — достал из кармана синий платок, поднес к лицу и сердито затрубил носом, а Воштялек, Блюм Качер и Грегор решили, будто это трубит с улицы сторож старик Вокржил, подавая знак запевать рождественскую коляду, и дружно грянули визгливыми голосами:
— Родился Иисус Христос!..
Пан законоучитель замахал руками, чтобы они замолчали, и все решили, что он машет в такт, и согласно подхватили.
Под этот величавый рождественский рев директор схватил Пазоурека, как тигр ягненка, и уволок в кладовую.
А вы, любезный читатель, вообразите себе кладовую и в ней Пазоурека, мешки с мукой и сушеной сливой и крынку молока на полу.
Разумеется, муки Пазоурек не трогал, но что он ел и пил, можно легко догадаться. И какие это имело последствия после целого дня поста — тоже можно себе представить.
И не требуется дополнительных пояснений, почему два мешка муки оказались совершенно испорченными и почему, когда директор после полуночи выпустил наконец Пазоурека из кладовой, там стоял запах, свойственный не кладовой, а совершенно другому месту.
Акционерная фабрика по производству яиц
Некая дама, идущая в ногу со временем, сказала как-то известному ученому Кюри, открывшему радий: «Мы доживем до того, что в один прекрасный день людей станут производить искусственным способом».
Ученый с улыбкой ответил: «Не спорю, маркиза, но полагаю, что несмотря на это, мы охотно вернемся к изначальному методу».
Этот анекдот напоминает одну историю, которая вызывает у всех, знающих ее, гомерический хохот.
Дело было так. Недавно к депутату партии Кошута явился человек и под секретом сообщил ему, что изобрел средство увеличения объема и качества куриных яиц. Он не шутит. Куры, откармливаемые тыквенными семечками, откладывают яйца в два раза крупнее, чем другие куры, и яйца эти содержат только желток. Это его открытие, а поскольку ему известно, что пан депутат на хорошем счету в министерстве торговли и весьма дружен с государственным секретарем Стерени, он предлагает план создания крупной фабрики для улучшения породы несушек.
Сам он большими деньгами не располагает, но, если пан депутат готов вложить в это начинание 40 000 крон, он обязуется раздобыть такую же сумму.
Пан депутат поразмыслил и поделился тайной еще с одним депутатом; тот согласился добавить 20 000 крон, и, таким образом, лепта депутатов составила уже 60 000 крон. Изобретатель, в свою очередь, отыскал какого-то расторопного человека, который округлил его долю в 40 000 крон до 60 000 крон. Итак, какое-то время спустя акционерное общество было учреждено и неподалеку от Будапешта без излишнего шума оборудована птицеферма. Для нее купили несколько сот наседок и столько же центнеров тыквенных семечек и приступили к основному пункту всей затеи.
А именно: депутат обратился к его превосходительству, занимающемуся распределением субсидий в министерстве торговли, с просьбой выдать яичной фабрике государственную субсидию. Он мотивировал это необходимостью увеличения объема отечественной промышленности.
Выяснилось, что государственный секретарь в принципе благоволит этой затее, поскольку речь идет о венгерской курице и венгерских желтковых яйцах. Однако… хм… его превосходительство хотел бы увидеть какой-нибудь образчик, доказательства, несколько яиц, содержащих чистый желток в результате вскармливания кур тыквенными семечками, не так ли? После этого уж он найдет соответствующую субсидию, необходимую для венгерского экспорта, экспортной политики и т. д. Но, как уже было сказано, для принятия подобного решения нужно представить нечто позитивное.
— Нет ничего проще, — ответил яичный деятель, — в скором времени мы сможем ознакомить ваше превосходительство с позитивными результатами.
И началось торжественное откармливание кур тыквенными семечками. Куры чувствовали себя превосходно и исправно выделяли вещество, напоминающее тыквенные семечки. Однако обнаружились и побочные явления. Куры вообще не несли яиц. Прошу вас, будьте любезны, прочтите еще раз: вообще никаких яиц. Ничего, ничегошеньки, ровным счетом ничего! Понятно, это было весьма прискорбно: куры не несли не только желтковых яиц, но даже яиц с преобладанием белка. Страшное дело. До такой степени забыться! Как же теперь быть? Усилили кормление, куры достигали гигантских размеров, фантастически жирели, а яиц не несли, хотя выделения были бесподобными. Никакая «шаратице» и прочие слабительные не шли в сравнение с тыквенными семечками, а яиц не было ни одного…
Акционеры фабрики по производству яиц ходили с кислыми минами, поскольку при сложившихся обстоятельствах не могло быть и речи о государственной субсидии. Где это слыхано, чтобы предоставляли субсидию на неснесенные яйца!
Но кур на фабрике было видимо-невидимо, и следовало подумать о спасении акционерного капитала.
И депутату пришла в голову спасительная мысль. Он отыскал государственного секретаря и сообщил ему:
— Ваше превосходительство! С яйцами мы, похоже, оплошали, но тыквенные семечки действуют потрясающе! И потому осмеливаюсь просить ваше превосходительство о субсидии для только что созданного «Первого венгерского акционерного общества по производству куриного удобрения», ибо наши куры, откармливаемые тыквенными семечками, производят удобрение будущего.
Государственный секретарь кивнул:
— Отлично, дорогой друг! Сколько кур вы сейчас откармливаете?
— Семьсот, — послышался ответ.
— Прекрасно! На мой взгляд, правда, маловато. Давайте посчитаем: возьмем за основу… хм… корова, скажем, с точки зрения производства навоза, заменит сто кур, причем я беру заниженные данные. Семьсот кур в таком случае соответствовали бы семи коровам, не так ли? Навоза от семи коров хватит на четверть хольда земли. Сколько понадобится кур, чтобы удовлетворить спрос на удобрение всех наших венгерских земель, или, иными словами: сколько нужно кур, чтобы покрыть куриным пометом все наши венгерские земли?
— Откуда мне это знать? — испуганно сказал депутат.
— Ну хоть примерно…
— Не знаю.
— Ну так ступайте домой, — заявил государственный секретарь, — и подсчитайте, только после этого мы сможем говорить о государственной субсидии…
Спасен
Неважно, за что должны были повесить Патяла. Какие бы на его совести ни лежали преступления, он не мог не улыбнуться, когда вечером накануне казни к нему в камеру явился надзиратель с бутылкой вина и изрядным куском телячьего жаркого.
— Это все мне?
— Да, да, — соболезнующе сказал надзиратель, — покушайте хорошенько в последний раз. Сейчас принесу вам салат из огурцов, — я не мог унести все сразу. Захвачу еще и булочки и сразу вернусь.
Патял уселся поудобнее за стол и, ухмыляясь, принялся уничтожать телятину. Как видим, он был циник, но, впрочем, совершенно здравомыслящий человек, стремившийся взять от жизни все, что она может дать в эти оставшиеся ему считанные часы.
Одна только мысль портила ему аппетит: люди, сегодня утром сообщившие ему, что его ходатайство о помиловании отклонено, а выполнение приговора отложено всего на двадцать четыре часа, чтобы приговоренный мог как следует подготовиться к успешному проведению казни и привести в порядок все свои земные дела, люди, которые будут вешать его и смотреть на его смерть, — все эти люди завтра, и послезавтра, и еще много-много лет будут жить и по вечерам как ни в чем не бывало возвращаться к своим семьям, а его, Патяла, уже не будет на свете.
Размышляя таким образом, он меланхолично уплетал телячье жаркое, а когда ему принесли салат и булку, вздохнул и выразил желание покурить.
Осужденному купили табаку и глиняную трубку. Надзиратель сам поднес ему спичку и кстати напомнил о бесконечном милосердии божьем. Если на земле все потеряно, то не все потеряно на небесах…
Осужденный попросил порцию ветчины и литр вина.
— Сегодня вы получите все, что хотите, — сказал надзиратель, — для людей в вашем положении мы ничего не жалеем.
— Тогда прихватите еще двойную порцию ливерной колбасы и порцию зельца. Кроме того, я не отказался бы от литра черного пива.
— Все получите, сейчас распоряжусь, — любезно сказал надзиратель. — Отчего не порадовать вас? Жизнь слишком коротка, надо брать от нее все, что можно.
Когда надзиратель принес заказанное, Патял объявил, что вполне удовлетворен.
Однако не тут-то было.
— Черт возьми, — сказал он, очистив все тарелки, — мне что-то захотелось жареного зайца по-дебреценски, сыра — того, что называется горгонзола, сардинок в масле и еще каких-нибудь других деликатесов.
— Пожалуйста, все, что вам угодно. Честное слово, душа радуется, глядя на ваш аппетит. Надеюсь, вы до утра не повеситесь? Я вижу, вы порядочный человек. К тому же какая вам польза, Патял, вешаться раньше, чем этого хотят власти? Говорю вам как честный человек — вы на это не способны, нет. И думать об этом не стоит! Выпейте-ка лучше еще пива — кружку или, может быть, две? Пиво нынче превосходное, под горгонзолу само в глотку льется. Так я принесу вам две кружки, а сардины и жареного зайца, дорогой друг, лучше запивать вином.
Вскоре запахи всех этих лакомых яств наполнили камеру. Обставленный блюдами, Патял налегал то на сыр, то на сардины, запивая их и пивом и вином — что попадало под руку.
Ему вдруг вспомнилось, как еще на воле он вот так же сытно и приятно ужинал, сидя на веранде загородного ресторанчика. Листва деревьев поблескивала в свете луны, а против него, как сейчас надзиратель, сидел толстый ресторатор — владелец этого райского уголка, болтал без умолку и все потчевал Патяла…
— Расскажите мне что-нибудь смешное, — попросил Патял, и надзиратель принялся рассказывать ему свеженький анекдот, как он выразился, самого свинского содержания.
Потом Патял сказал, что хочет каких-нибудь фруктов и конфет или легкого печенья с чашкой черного кофе.
Его желание было исполнено.
Когда он покончил с десертом, в камеру вошел тюремный священник, чтобы принести узнику последнее утешение.
Священник был веселый, простой в обращении и приятный мужчина, как, впрочем, и все окружавшие Патяла люди, которые так заботились о нем, осудили его на смерть и завтра повесят. Лица их дышали бодростью, с ними приятно было иметь дело.
— Утешь вас бог, мой милый, — сказал тюремный пастырь, хлопая Патяла по плечу. — Завтра утром вы с этим разделаетесь, так что не впадайте в отчаяние. Исповедайтесь и смотрите весело на божий мир. Уповайте на господа, ибо он радуется каждому покаявшемуся грешнику. Бывают люди, которые всю ночь мечутся по камере и стонут, если не исповедаются: знаю, тут нет ничего приятного, и голова прямо-таки лопается. А вот тот, кто исповедался, спит последнюю ночь сном праведника. Ему-то легко! Повторяю, голубчик, и вам полегчает, если вы очистите душу от грехов.
Патял внезапно побледнел. Его тошнило, все внутренности переворачивались, а рвоты не было. Тело сводили страшные судороги, на лбу выступил холодный пот.
Священник не на шутку испугался.
Патял извивался и корчился от боли, забившись в угол.
Прибежали надзиратели и отнесли Патяла в тюремную больницу. Тюремные доктора качали головой. К вечеру у больного появился сильный жар, а после полуночи доктора объявили диагноз: острое отравление.
Тяжелобольных не казнят, поэтому в ту ночь на тюремном дворе не ставили виселицу.
Вместо этого Патялу промывали желудок, и анализ остатков непереваренной пищи показал, что ливерная колбаса была испорчена и содержала яд.
В магазин, где была куплена колбаса, нагрянула комиссия и обнаружила, что колбасник не соблюдает санитарных правил и хранит колбасу не на холоде. Комиссия составила протокол, и дело было передано прокурору, который привлек торговца к ответственности за антисанитарное хранение продуктов.
В числе тюремных врачей, лечивших Патяла, был молодой добросовестный доктор, который не отходил от постели больного и старался спасти ему жизнь, так как случай был редкий, сложный и интересный. Днем и ночью молодой врач ухаживал за Патялом и спустя две недели похлопал его по спине и сказал:
— Спасен!
На следующий день Патяла повесили по всем правилам, ибо для этого он был уже достаточно здоров.
Колбасник, по чьей вине на две недели затянулось земное существование Патяла, был приговорен к трем неделям заключения, а доктор, спасший Патялу жизнь, удостоился похвалы судебных властей.
Пепичек Новый рассказывает про обручение своей сестры
Мой отец — крупный государственный чиновник, его фамилия — Новый. Мою сестру зовут Матильда. Она вышла замуж тоже за чиновника. Его фамилия — Гандшлаг.
Сперва сестра моя гуляла с господином, служившим в градоначальстве. Мой папаша постарался, чтобы этого господина повысили по службе, но, когда его повысили, он перестал гулять с Матильдой. Мамаша с Матильдой очень плакали.
После этого к нам стал ходить один учитель. Он все время размахивал руками и через каждое слово вставлял: «Строго говоря». Однажды он подарил мне глобус, но потом перестал к нам ходить и потребовал глобус назад.
После учителя за Матильдой ухаживал инженер из земского комитета. У него была привычка постоянно спорить, и он часто говорил: «Этого требуют интересы страны». Он очень нравился Матильде, она проплакала целую неделю, когда папаша, рассердившись, выгнал его из дому, потому что инженер считал, что деньги должны оставаться в Чехии, а не отправляться в Вену.
После этого отец привел к нам одного чиновника из своего отделения. Это был очень тихий человек. Отец разговаривал с ним до поздней ночи о государственных делах.
Матильда вышивала, а папаша с этим господином говорил о политике и пил воду.
Этот тихий человек Матильде очень понравился, но потом оказалось, что у него трое детей в Моравии. Больше он не показывался, и папаша говорил, что его куда-то перевели.
Полгода к нам не ходил никто. Матильда тайком гуляла с одним офицером. Но потом об этом узнал папаша и стал кричать на нее. Мы при этом все плакали, потому что папаша говорил:
— Это позор, позор!
На другой день папаша привел бледного худого человека: это и был Гандшлаг. После его ухода папаша сказал, что это очень способный человек. После каждого слова Гандшлаг говорил: «Низко кланяюсь, сударыня», а папашу называл: «Ваше благородие, господин советник». Папаша был его начальством. На третий день Гандшлаг снова пришел и почтительно говорил: «Разрешите, сударыня», и целовал руки. Он у нас ужинал и поддакивал всему, что говорил папаша; он кивал головой, жевал и глотал почтительно и говорил: «Это, разрешите заметить, прекрасно». И еще: «Как прикажете, пан шеф».
После его ухода мне приказали идти спать, а сами начали совещаться в столовой. Я встал возле двери, начал подслушивать и услышал, как папаша говорил:
— Ты выйдешь за него замуж по моему отцовскому приказу, а он возьмет тебя по долгу службы.
А Матильда на это сказала, что жених — дурак.
Мамаша вздыхала и говорила, что Матильде нет необходимости его сейчас любить; она тоже раньше не любила папашу и только через пять лет к нему привыкла. Но этому чиновнику нельзя показывать, что она его не любит и считает дураком.
Матильда говорила, что лучше она пойдет в родильный дом, чем выйдет замуж за человека, которого не любит. Но мамаша ее всячески разубеждала и говорила, что теперь в родильном доме нет тайного отделения.
Потом папаша обещал подарить Матильде браслет, бриллиантовую брошку и другие вещи. Тогда Матильда сказала, что выйдет замуж, чтобы избежать позора своей семьи…
После этого папаша с мамашей стали ее целовать и говорить:
— Ты наша хорошая Матильда!
Затем я услышал, как они говорили о Гандшлаге. Папаша сказал, что этого дурака он повысит по службе, но только после свадьбы, чтобы он не мог увильнуть. Хотя он и глупый, но очень исполнительный.
— Возьмет ли еще он ее? — сказала мамаша.
— Я ему прикажу как начальник, — ответил папаша. — Я скажу ему все.
Когда на другой день пришел Гандшлаг, то держал себя очень робко и все время посматривал на Матильду. Перед этим Матильде сказали, чтобы она побольше ему улыбалась и разговаривала с ним. Она разговаривала, он все время ей тихо отвечал: «Да, сударыня». Затем принесли вино, он отхлебнул и сказал: «Разрешите, сударь», и начал говорить что-то о служебных назначениях. В этот день после его ухода о нем ничего не говорили.
На другой день папаша сказал так, чтобы я не слышал:
— Сегодня утром придет мой чиновник просить твоей руки, Матильда. Приколи себе розу на блузку.
Прислуга пошла покупать розу, а мамаша сердилась на то, что розу покупают за тридцать, а не за пятнадцать крейцеров. Затем Матильду надушили. Остатками духов я обрызгал нашу собаку.
Пан Гандшлаг пришел одетый в черный костюм и в белых перчатках. Он был еще бледнее и худее, чем вчера. Когда он сел, то стал говорить опять о назначении. Мамаша принесла ликеру и налила ему три рюмки. Когда она стала наливать четвертую, то он сказал: «Довольно, сударыня», и обратился к папаше:
— Я бы хотел, пан шеф, поговорить с вами по частному делу.
Папаша показал мне пальцем на дверь, а мамаша пошла к Матильде, которая зевала в соседней комнате, и сказала:
— Да, этот долго церемониться не будет.
Мамаша попудрила Матильду, и в это время раздался голос папаши: «Матильда, Матильда!»
Я подошел к дверям и услышал, как папаша говорил:
— Дорогая Матильда! Вот пан Гандшлаг просит твоей руки. Я не имею ничего против этого, теперь слово за тобой. Что ты скажешь?
Я слышал, как Матильда расплакалась и сказала: «Да-да». Затем она крикнула: «Мамочка!» Мамаша прибежала и сказала:
— Дети, я это сразу заметила, вы так подходите друг к другу!
Потом они позвали меня:
— Пепик!
Я пришел, и тут мне сказали, что пан Гандшлаг женится на Матильде. Мамаша меня спросила, буду ли я его любить. Понятно, я не решился сказать, что нет, не буду. Гандшлаг меня схватил, начал целовать и кричать:
— Пепичек пана шефа!
С тех пор он стал говорить моему отцу:
— Что изволите приказать, пан шеф-отец? — А матери:
— Целую ручки, сударыня и мамаша.
Когда он уходил, то в прихожей дал прислуге гульден, а мне крону и сказал:
— Вот тебе на гостинец, Пепичек пана шефа.
На следующий день пан Гандшлаг принес обручальные кольца, а когда подали вино, то поднял рюмку и сказал:
— За наше счастливое супружество, с разрешения пана шефа-отца и сударыни-мамаши.
— Будьте счастливы, дети! — сказала мамаша и заплакала.
Когда Матильда пошла его провожать до прихожей, то меня выслали из комнаты и мамаша сказала папаше:
— Матильде рожать в ноябре, через два месяца.
— Через месяц будет свадьба, — сказал папаша, — и тогда только я отдам приказ об его повышении.
Затем пришла Матильда и сказала, что этот дурак хотел, чтобы она его поцеловала.
— Какая дерзость! — сказала мамаша.
— Зато он исполнительный чиновник, — заметил папаша.
Неприличные календари
I
С девяти часов вечера, когда привели и пихнули в одиночку последнего пьяного, и до часу ночи начальник полицейского участка Алеш страшно скучал. Он думал о том, что до шести утра, когда его сменят, придется просидеть над протоколами и дежурным журналом, потому что, как назло, никто из полицейских его смены не играет в «козыри».
Пока что он прилег на койку, закурил трубку и начал разговор с подчиненными о политике. В такие минуты он бывал непреклонен и чужд всяким колебаниям, ну, попросту этакий австрийский Катон! Он ругнул Италию и выразил ей свое недоверие, а полицейские, лежавшие на койках, благоговейно слушали его, потому что сами отнюдь не отличались такой определенностью взглядов.
— Тройственный союз развалится, в этом можно не сомневаться. Из-за Триеста и Триента мы еще не оберемся неприятностей. — Алеш вздохнул и стал искать спички. Когда ему подали коробок, он снова закурил трубку и объявил, что в Милане, в Турине и даже в Риме итальяшки то и дело демонстративно сжигают австрийский флаг. Они еще поплатятся за такие выходки, будет им новая Кустоца.
Алеш разглагольствовал все с большим пылом, а молодой полицейский Павелка тем временем захрапел. Начальник разбудил его, крича, что Австрии грозят международные осложнения и каждый австрийский гражданин обязан…
В этот момент с улицы вошел полицейский Декл и, рапортуя, вытянулся в струнку. Алеш недовольно встал, принимая рапорт.
— Ich melde gehorsam nix Neues,[20]. — доложил Декл. — Непристойный календарь konfisziert[21]. Изъято сто двадцать экземпляров. — Тут официальное выражение исчезло с лица Декла, и, победно усмехнувшись, он продолжал: — Великая похабщина, господин вахкомендант, потеха, да и только! Такие скоромные картинки, просто загляденье!
И он положил пакет на стол. С начальника скуку как рукой сняло.
— Дайте сюда эту гадость!
Полицейский развернул пакет и подал один экземпляр начальнику. Вокруг тотчас столпились все подчиненные.
— Здорово! — сказал один, глядя на обложку. — Ишь, какие бедра!
— Вот видите, — сурово сказал Алеш, — и на такие вещи смотрит молодежь, еще не доросшая до школы. — Но тут голос его смягчился. — Ого-го, а другая-то… Ну и глазки! И совсем голая!
— Погодите, дальше еще хлестче будет, — заметил Декл.
— И эта недурна…
— Не спорьте, приятель, вон та картинка, рядом, куда забористей. У той бабы бедра покруче… а что за поза, ишь как развалилась на кушетке! Ах, негодяи, какие вещи рисуют!
— Вы, господин начальник, прочтите стишок под рисунком. Очень недурно.
— Складный стишок, да какой двусмысленный! И что за бесстыдники пишут такие вещи и дают в печать! Дети идут в школу и по дороге видят в киоске такой календарь! Как бишь это называется, черт дери?
— Порнография, господин начальник, — подсказал Павелка.
— Ужасные вещи… но до чего здорово нарисовано! — сказал полицейский Мика. — Вот, например, эти панталоны…
— И подпись неплоха: «Нравлюсь я тебе больше в панталонах или без них, мой дорогой?»
— По-моему, без них лучше. Как вы думаете? — весело обратился начальник к подчиненным. — И чего только эти похабники не выдумают!..
— Осмелюсь обратить ваше внимание, господин вахкомендант, на предпоследнюю страницу… вот, здесь… балерина в ванной. Совсем голая, и слуга подает ей простыню…
— Отлично… М-да. Я говорю, надо беспощадно конфисковывать такие вещи. Полагаю, что, если обойти все киоски, найдется еще что-нибудь подобное. То-то порадуется завтра наш комиссар Пероутка.
II
— Осмелюсь доложить, господин полицейский комиссар, вчера в киосках были конфискованы календари непристойного содержания. Вот один экземпляр. Особо обращаю ваше внимание на предпоследний рисунок «Балерина в ванной». И потом вот это: дама на кушетке… Рисунок на обложке несомненно нарушает закон об общественных приличиях… и, по-моему, понравится господину старшему комиссару. Я разрешу себе отправить ему один экземплярчик. Соблаговолите обратить внимание на непристойности, отчеркнутые красным карандашом… Странички с особо выдающейся похабщиной я заложил бумажками, чтобы вам не искать… Вопиющее неприличие вы увидите на тридцатой странице. Хороша также серия «За стенами гарема»; здесь не только порнографический текст, но и отличные рисуночки: одалиски лежат на тигровых шкурах, а бедняга евнух сторожит их.
— Послушайте, — сказал полицейский комиссар Пероутка, рассматривая календарь. — Надо показать это и господину советнику. Он на этот счет тоже любитель.
III
Календари имели успех. Два взял старший комиссар и три — советник юстиции. Делопроизводители взяли по одному, остальное разошлось среди сотрудников управления. Полицейские бдительно разыскивали и изымали из киосков пресловутые календари.
Так благодаря тому, что столь зловредное чтение не попало в ненадлежащие руки, общественная нравственность была спасена.
Его превосходительству кавалеру Билиньскому, министру финансов, Вена
Руководствуясь патриотическими убеждениями и испытывая к Вам чувство глубочайшего уважения, нижеподписавшийся осмеливается предложить на рассмотрение достославному министерству финансов проект законоположения об установлении налога на погребение и смерть. Необычайно быстрый расцвет похоронного дела открыл мне способ упрочения финансового положения отечества путем установления государственной монополии на смерть. Поскольку люди умирают постоянно, государству был бы обеспечен постоянный годовой доход, который в период эпидемий и войн отрадно повышался бы, насколько позволят обстоятельства.
Предлагаемый проект законоположения приводится ниже.
§ 1. Каждый подданный Австро-Венгерский империи независимо от пола после кончины переходит в собственность министерства финансов и обязан выплатить налог в размере от двух до двадцати четырех крон в зависимости от обстоятельств своей смерти и погребения.
§ 2. Указанный налог взимается с вышеупомянутых усопших при их жизни с учетом обстоятельств, указанных в § 6. В случае неуплаты покойным при Жизни налога на погребение и смерть, вследствие непредвиденных обстоятельств, его родственникам предоставляется право ходатайствовать перед министерством финансов о снижении установленного размера налога. Упомянутое прошение надлежит сопроводить гербовой маркой в 2 кроны.
§ 3. Обложению налогом на смерть подлежат все подданные Австро-Венгерской империи независимо от их пола и возраста, на которых не распространяются положения § 4 настоящего закона о налоге на погребение.
§ 4. Обложению налогом на погребение подлежат все подданные Австро-Венгерской империи независимо от пола и возраста, погребенные надлежащим образом. В случае погребения заживо родственникам погребенного предоставляется право на льготы, указанные в § 2.
§ 5. Всем подданным Австро-Венгерской империи предписывается уплатить налог на погребение прижизненно согласно § 9а-ж. Освобождаются от уплаты налога лица несовершеннолетние, слабоумные и состоящие под опекой, однако за них налог должен быть внесен их ближайшими родственниками, а в случае отсутствия таковых — общиной.
§ 6. Взимание налога осуществляется:
а) с лиц здоровых,
б) с лиц больных,
в) с лиц, имеющих физические недостатки, в соответствии с определяющими размер налога обстоятельствами
по пункту а) с лиц здоровых — налоговой инспекцией,
по пункту б) с лиц больных — компетентными врачами, принесшими присягу в любом месте и в любое время,
по пункту в) с лиц, имеющих физические недостатки, — полицейскими участками.
§ 7. Подлежат разграничению налог на смерть и налог на погребение, так что в случае если упомянутый налогоплательщик погребен не был, труп его не обнаружен, а местонахождение неизвестно, и если при этом налог не был внесен в соответствии с законом при жизни, то налог на погребение с его родственников, равно как и с общины, не взыскивается.
§ 8. Взимание налога на смерть является обязательным и в случае объявления отсутствующего лица без вести пропавшим.
§ 9. Установление размера налогообложения на погребение и смерть производится в соответствии с нижеследующим:
а) здоровый новорожденный до 1 года — 2 кроны,
б) от 1 года до 5 лет — 4 кроны,
в) от 5 до 14 лет — 6 крон,
г) от 14 до 20 лет — 8 крон,
д) от 20 до 30 лет — 16 крон,
е) от 30 до 40 лет — 18 крон,
ж) свыше 40 лет — 24 кроны.
Для определения размера совокупного налога на погребение и смерть указанную сумму следует удвоить.
§ 10. Обложение налогом осуществляется на всех территориях Австро-Венгерской монархии следующим образом: налог, определяемый в § 9, пункты а-ж, должен вноситься постепенно, причем общая сумма не должна превышать 24 кроны налога на погребение и 24 кроны налога на смерть.
Первый взнос делается не позднее 8 дней после рождения ребенка. Сокрытие факта рождения карается штрафом в размере от 10 до 200 крон, в зависимости от обстоятельств, а в случае необходимости и тюремным заключением на срок до 3-х недель.
§ 11. Лицо, сокрывшее факт своей смерти или погребения, подвергается штрафу в размере двухкратной суммы максимального налога, то есть 96 крон, а в случае необходимости и тюремному заключению на срок до 14 суток при четырех постных днях.
Тщу себя надеждой, что досточтимое министерство финансов благосклонно отнесется к моему верноподданнейшему предложению и тем приумножит финансовое благополучие своей империи.
С нижайшим почтением
Ярослав Гашек.
Камень жизни
В лето от рождества Христова 1460-е игумен Штальгаузенского монастыря в Баварии возносил тайные молитвы всевышнему и всемогущему подателю разума о ниспослании духа святого, который помог бы ему, игумену Леонардусу, отыскать философский камень и эликсир жизни.
Перед ним пылал огонь, нагревавший пузатую реторту, где, шипя, варилось какое-то снадобье, а рядом стояли тигли, которым предстояло принять в свои недра расплавленное вещество, чтобы можно было выпарить твердый осадок.
Игумен Леонардус умиленно взывал к милосердному господу, моля его взглянуть на своего смиренного служителя, который, не покидая путей благодати, не обращаясь за советом к дьяволу и не призывая на помощь нечистую силу, ищет философский камень и жизненный эликсир.
А из соседней трапезной доносился исступленный вопль монахов, оглашавших строгие готические своды хоровым чтением:
— Pater nosier, quiest in coelis…[22]
Дружно скандируя каждый слог, они старались перекричать друг друга, голодные и сердитые, так как игумен ради их же спасения сильно ограничил их всех, кроме самого себя, в пище и питье.
Открыв дубовые двери в трапезную, отец Леонардус с просветленным лицом произнес:
— Молитесь до захода солнца!
Потом вернулся в свою алхимическую лабораторию, преклонил колена на скамеечке перед распятием и, словно в экстазе, стал молиться:
— Господи боже, спаситель мой, ниспошли луч света на раба твоего, просвети его мысли, чтобы найти ему жизненный эликсир, во спасение христианам, и философский камень. И укажи мне, господи, не грех ли будет опустить ныне в эликсир сей пепел от сожженного еретика, который держал у себя черного кота, ходившего на двух ногах и сожженного нами вместе с его одержимым бесовской силой хозяином в честь и славу твою в день рождества Христова у ворот штальгаузенских. А я поступлю по воле твоей.
Бог не послал знамения. И отец Леонардус сварил пепел сожженного еретика-чародея вместе с пеплом его кота. Потом, тихо вторя завываниям монахов, читающих в соседней трапезной «Отче наш», вылил содержимое реторты в тигли, поставил их на таган и с благодатным умилением принялся выпаривать осадок.
Снова спустился сумрак, и отец Леонардус пошел в трапезную, предоставив огню в каменном очаге кипятить клокочущую и шипящую массу.
В трапезной он проникновенным, отечески ласковым голосом сказал монахам несколько слов о божьем милосердии, а затем отпустил их отдыхать, приказав им всем, прежде чем возлечь на свои жесткие ложа, подвергнуть грешную плоть взаимному душеспасительному бичеванию. Наконец, преклонив колени перед неугасимой лампадой, зажег факел и вышел во двор.
Он пошел осматривать монастырское хозяйство, этот славный игумен-хлопотун. Навестить поросят в хлеву: как они себя чувствуют? Вчера они выглядели очень плохо.
Отец Леонардус подозревал, что монахи, тяготясь наложенным на них постом, добрались до каши из отрубей, предназначенной свинкам, и питают ею свои грешные утробы, гневя бога и обкрадывая бедных тварей. За последнее время свинки заметно похудели. Это были уже не прежние славные круглые бочонки, такие розовые, аппетитные, что отец Леонардус пел во славу их псалмы, воздавая хвалу создателю. Этих милых божьих созданий было сорок — ровно столько, сколько монахов. Ясное дело, если сорок монахов, богохульствуя, съедали пищу, приготовленную для сорока свиней, как же можно было ждать, чтобы бедняжки весело похрюкивали на дворе святой обители, оживляя отголосками живой жизни и молодости угрюмую монастырскую тишину?
Пламя факела озарило бедные создания красным светом. Узнав своего пестуна, они захрюкали так печально, что у доброго игумена сжалось сердце…
— В каком виде, о братья, предстаете вы предо мной? — скорбно воскликнул старец, глядя на их исхудалые тела; он прослезился и вздохнул.
Потом, увидав пустые корыта, послал проклятие по адресу монахов и пошел звонить в колокол.
Когда монахи опять собрались в трапезной, он обратился к ним с такою речью:
— Вы бичуете бренные тела свои, а сами обкрадываете свиней и нарушаете посты? Бог накажет вас. На колени, негодяи!
Как бы вознесенный над толпой, с лицом, озаренным лучами неугасимой лампады, он воскликнул:
— Покайтесь, жалкие свиньи!
И под пение монахов, затянувших «Misericordia» — «Помилуй нас!», спустился в погреб, где, скрипнув зубами, испил чару вина.
Вернувшись в трапезную, он объявил монахам, что пошлет их пешком в Рим, к папе Иннокентию III — просить прощения у главы христианского мира.
Потом велел всем идти спать.
А сам пошел в темную камеру, где производил свои опыты, и, сунув факел в очаг, стал рассматривать оставшееся после выпаривания вещество. Оно было тяжелое, с металлическим блеском.
Отец Леонардус побледнел; нет, это не философский камень: в старинной книге, принадлежавшей сожженному чародею, сказано, что философский камень должен быть прозрачен и невесом. А ведь землю для своих опытов он взял с того холма возле Штальгаузена, где прежде была каменоломня и в великую пятницу, говорят, появляется светлое сияние.
Он упал на колени и заплакал. Устремив взор на распятие и ударив себя в грудь, промолвил смиренно:
— Вижу, боже, спаситель мой, что я не достоин твоих милостей!
Потом взял оказавшийся в тиглях зернистый порошок, вынес его во двор и там высыпал.
После этого монахи еще несколько дней постились и худели, так как заботливый игумен, хлопоча о душевном их спасении, следил, чтобы они не трогали каши, предназначенной свиньям.
А свиньи удивительно раздобрели. Трудно даже себе представить, чтобы можно было так быстро разъесться после такой длительной голодовки. И чем больше худели монахи, тем быстрее поправлялись свиньи. Это прямо бросалось в глаза.
И вот однажды отец Леонардус увиден, что свиньи чего-то ищут во дворе, что-то жуют. Подошел поближе: оказывается, они подлизывают получившийся вместо философского камня и выброшенный им во двор порошок.
Он вошел в часовню и пал на колени. Ему сразу стало ясно, что господь смилостивился над ним и он открыл камень жизни — не жизненный эликсир и не философский камень, а питательное средство, животворящий, бодрящий экстракт.
В тот же день он пошел с несколькими монахами на служивший лобным местом холм возле Штальгаузена — за землей, необходимой для добычи камня жизни.
Когда этого камня был приготовлен порядочный запас, игумену Леонардусу стало жаль своих бедных, исхудалых монахов. Ему захотелось, чтобы они тоже потолстели, как свиньи; он велел добавить в предназначенную для них черную кашу истолченного в порошок камня жизни и, лакомясь поросенком, с радостью наблюдал, как охотно они ее поедают.
К утру все сорок монахов померли в страшных мучениях, и отец Леонардус остался один.
Камень жизни был не что иное, как сурьма. Ее открыл в 1460 году игумен Штальгаузенского монастыря в Баварии Леонардус, назвав ее в шутку по-латыни «антимонием» (то есть средством «против монахов»).
Сам отец Леонардус и в дальнейшем всю жизнь разводил свиней, которым сурьма не только не вредит, но от которой они толстеют, — так что по желанию германского императора ему был пожалован графский титул.
Семейная драма
Из дневника маленького Франтишека
1. Как пан Фингулин использовал папину доброту, маму, служанку и собаку
Мой папа не терпит, когда его расстраивают, он любит покой, чтобы спокойно переваривать пищу. Папа толстый и очень хороший, у него лицо здорового красного цвета, и он служит в магистрате. Папа коротко по-английски подстригает свои усы, чтобы не возиться с ними и не подкручивать. Он вообще не любит напрягаться. В половине третьего папа приходит со службы домой обедать и ест почти час, потом закуривает трубку и ложится на кушетку. Трубка у него падает, а он спит до пяти. После этого папа идет в кафе и сидит там до шести часов. В кафе папа пьет черный кофе, курит сигару и смотрит, как в зале играют в карты, чтобы не утомлять себя чтением газет.
Из кафе папа идет в свой трактир на ужин, там он обычно выпивает четыре кружки пива и слушает, о чем говорят вокруг. К десяти часам вечера папа всегда возвращается домой, ложится спать и спит до утра, а утром в половине восьмого пьет кофе в постели. В восемь папа уходит в канцелярию.
Моя мама молодая и красивая. Она моложе папы на 20 лет, и, когда к нам приходит в гости молодой господин, меня с прислугой отправляют гулять. Этот господин папин знакомый, иногда по вечерам они вместе с папой ходят в трактир послушать, что люди говорят.
Однажды, когда я неожиданно вошел в комнату, где он был с мамой, я застал маму у него на коленях. Я спросил, не тяжело ли ему. Он сказал, что мама легкая, и стал рыться у себя в карманах. Тогда мама подала ему свой ридикюль, он достал крону и дал мне. Когда он ушел, мама отобрала ее у меня и объяснила, что папа будет очень сердиться, если мама ему скажет, что я взял деньги от пана Фингулина. Мне нельзя брать у него деньги и ничего нельзя просить, потому что бедный папа, у которого столько забот, очень огорчится, узнав, какой у него невоспитанный сын! Моя мама очень ласкова со всеми. Она всех гладит и целует. Гладит меня, папу и пана Фингулина и нашу собаку и всем улыбается — мне, папе, и пану Фингулину и собаке. А целует больше всех меня и пана Фингулина. Папа, как приходит домой, выпивает немного коньяку и сразу ложится спать, с нами почти не разговаривает. Зато пан Фингулин заходит к нам и по вечерам, пока папа в трактире, и они с мамой сидят в темноте. Меня посылают на кухню, потому что, если я с ними буду сидеть в темноте, у меня на носу вырастут перья. Так сказала мама, и тогда меня никто не будет любить.
Однажды я спросил у папы, когда он пришел из трактира, правда ли, что у меня на носу вырастут перья, если я буду сидеть в темноте. И папа сказал:
— Конечно, вырастут, ты же знаешь, детка.
О чем бы я его ни спросил, у папы один ответ:
— Конечно, ты же знаешь!
Я его спросил, любит ли мама пана Фингулина, и он ответил:
— Конечно, ты же знаешь!
Иногда папа приходит домой из трактира немного раньше и вместе с паном Фингулином. Они пьют у нас пиво или вино, и папа ложится спать, а пана Фингулина просит побыть с мамой и развлечь ее. Пан Фингулин никогда не отказывается. Папу мы запираем в спальне, чтоб ему не было страшно, меня тоже отправляют спать, и я молюсь за пана Фингулина.
А недавно мы вернулись с прислугой домой, как велела мама, когда уже стемнело, только мамы еще не было. Не было и пана Фингулина. Мы открыли дверь в столовую и зажгли свет, обошли все комнаты, но их нигде не нашли.
Служанка заявила, что ей это не нравится. А мне было все равно, и я начал выкидывать «свои фокусы». Сперва, пока не опротивело, играл на пианино и ждал. Никто не приходил, ни мама, ни служанка. Не было дома и нашей собаки. Наконец пришел папа и позвонил. Когда ему никто не открыл, папа, пыхтя, отпер дверь своим ключом, снял в передней зимнее пальто и вошел в столовую, где я сидел в качалке. Я подбежал к нему и сказал, что мамы нет, пана Фингулина нет и служанки и собаки тоже.
Папа сперва не понял, а потом решил:
— Подождем.
Он сел к столу и послал меня в кладовую за вином. Ключа от кладовой не оказалось, и вина я не принес. Папа расстроился:
— Этого еще не хватало в довершение всего!
Он закурил трубку, и мы снова стали ждать. Сидели, сидели, а никто не появлялся. Папа начал ходить по столовой взад-вперед и приговаривать:
— Так оно и есть, не иначе.
Он сел в качалку, покачался, набил трубку и снял ботинки.
— Подождем до двух часов ночи, а потом ляжем спать. Завтракать пойдем в кафе.
Мы подождали и легли спать. Папа вздыхал и приговаривал, ворочаясь в постели:
— Никак не укладывается в голове.
Мы заснули, но вдруг я проснулся, потому что папа сказал:
— Ну конечно! И денег, наверное, тоже нет!
В спальне у нас стоит маленький сейф. Папа вылез из постели, подошел к сейфу, открыл его, заглянул внутрь, снова лег и сказал:
— Ну конечно, денег тоже нет!
У меня там в поросенке было восемь крейцеров, я заплакал и спросил, не пропал ли и поросенок. Папа успокоил меня и сказал, что моя копилка на месте. Я обрадовался и уснул. Папин голос еще раз разбудил меня, папа говорил сам себе:
— В жизни человека случаются моменты, когда даже скотина способна сойти с ума!
Папа проговорил это, заглядывая в шкаф с мамиными платьями. Шкаф стоит как раз против моей кровати, и я увидел, что в нем пусто. Рядом с маминым был папин шкаф. Папа открыл и его, но там все висело на месте, и папа проворчал:
— Моя одежда велика ему. Фингулин против меня сморчок.
Я спросил папу:
— Папочка, правда же, пан Фингулин порядочный человек?
Папа долго смотрел на меня, а потом сказал, как всегда:
— Ну конечно, маленький, спи!
Я снова заснул, лег и папа. Утром он разбудил меня, и нам пришлось потрудиться, пока мы наносили воды. Когда мы умылись, я спросил, где мама, пан Фингулин, служанка и собака.

Папа объяснил, что они поехали погулять за город и взяли с собой собаку, и теперь мы будем их искать.
— Они ничего мне не говорили, — сказал я.
— Мне тоже, — вздохнул папа.
Потом мы пошли в кафе завтракать, и я радовался, что все так здорово получается и я тоже увижу что-нибудь интересное.
Отсюда мы пошли в какой-то большой дом, где были одни полицейские и господа в фуражках. В одной комнате все писали, а папа говорил им что-то по-немецки. Один господин погладил меня по голове. Папа перестал говорить по-немецки, а тот господин стал расспрашивать меня, как все было, когда пан Фингулин приходил к нам в отсутствие папы. Я ему объяснил, что у меня на носу выросли бы перья, если б я сидел с ними в темноте, и еще рассказал, как мама отобрала у меня крону после того, как сидела у пана Фингулина на коленях, и как он мне сказал, что мама не тяжелая, и что эту крону я получил от пана Фингулина, но больше я от него ничего не брал, потому что папа рассердился бы, что я такой невоспитанный. Они все записали и предупредили папу, что все это служебная тайна, и мы с папой пошли в кондитерскую и еще папа купил мне кубики. Обед нам принесли из трактира, а я очень радовался кубикам. Вечером пришел какой-то господин, сказал, что он из полиции и что маму поймали вместе с паном Фингулином, прислугой и собакой в Будейовицах и посылают назад. Услышав это, папа всплеснул руками:
— Слава тебе господи, что она приедет домой, у меня хоть на службе не будет неприятностей!
И мы стали дожидаться маму.
2. Возвращение пана Фингулина с собакой, мамой и служанкой
Я уже рассказывал, как мы с папой ночью ждали маму, пана Фингулина, служанку и собаку. А больше всего я ждал пана Фингулина, потому что он удрал с мамой, а папа пообещал:
— Я все ему выскажу! Так использовать мою доброту и мою жену!
Я спросил, использовал ли пан Фингулин также собаку и прислугу?
Папа ответил, что пан Фингулин на все способен, и когда я вырасту, то все пойму, а пока велел мне ложиться спать.
Я лег и уже не думал о случившемся, потому что от сладостей у меня разболелся живот. Я долго не мог уснуть и слышал, как папа ходит по столовой и разговаривает сам с собой:
— Моя золотая жена, кто мог ожидать от тебя такого?!
Потом папа сел за пианино и начал бренчать на нем, как я, когда хочу разозлить нашу собаку. Но скоро папа закрыл крышку и снова стал ходить по комнате и при этом говорил по-немецки. Затем он подошел к моей кровати и сказал:
— Вылитый Фингулин! Где были мои глаза, что я за болван!
Мне стало смешно, как папа ругает себя, и я притворился, будто сплю, а после и вправду уснул.
Меня разбудил разговор за стеной в столовой. Это мама вернулась домой. Я выбежал к ней прямо в ночной рубашке. В столовой был и пан Фингулин. Я стал обнимать пана Фингулина и маму. С ними была и собака, а служанка стояла в дверях и то и дело падала на колени, плакала и кричала:
— Ваша милость, уж вы простите меня, не могла я барыню бросить, я доглядывала за ними! Ваша милость, ради господа бога, простите, я в этом чиста и безвинна! Барыня говорила, что у пана Фингулина заболела старенькая тетя в Будейовицах, а пан Фингулин сам ничего не умеет, ни обслужить никого, ни добиться ничего и боится ехать один, чтоб я, значит, поехала с ним и помогла советом и вообще. Ваша милость, простите меня, ради бога! Пресвятая богородица, как же мы намучились с этой собакой! Всю дорогу, проклятая, выла, не переставая, и только бы ей жрать! Купили мы, уж вы простите меня, ваша, милость, копченой колбасы. Так эта тварь половину слопала и прямо в купе напустила три лужи и наложила две кучи, простите меня, бога ради, ваша милость.
И служанка поползла на коленях к стулу, какой был к ней поближе, села на него и стала вытирать нос юбкой.
Пан Фингулин все откашливался и наконец попросил у папы сигару. Папа принес сигары, но у пана Фингулина не оказалось даже спички, и папа дал ему прикурить. Они между собой не разговаривали. Пан Фингулин смотрел на папины ботинки, а папа — на ботинки Фингулина. Собака переводила взгляд с папы на маму, с мамы на пана Фингулина и радостно вертела хвостом.
Тогда я спросил пана Фингулина, как он себя чувствовал в Будейовицах.
Тут папа поскорей взял меня за руку и увел на кухню. За мной вышла и собака.
Из кухни я услышал голос пана Фингулина:
— Многоуважаемый господин! Как человек глубоко порядочный, я позволил себе подняться к вам, чтобы принести свои извинения за то, что взял вашу многоуважаемую супругу в гости к моей бедной больной тетеньке в Чешске Будейовице. Уж вы поверьте, что больше я ни за что на свете не возьму с собой в дорогу никакой собаки. Эта ваша такая противная и хитрая тварь! Когда мы по пути зашли на станции Весели в ресторан, то взяли сосиски с хреном. Отличные сосиски…
— Хрена они пожалели, правда. На два крейцера можно было и больше положить, — вмешалась мама.
— Но хрен был отменный, — возразил пан Фингулин — Иногда хрен бывает неприятный и щиплет язык. А этот не щипал, у него был приятный сладковатый вкус. Так вот, чтобы не забыть, ваша собака, пока мы ели сосиски с хреном, подкралась к столу, где стояло блюдо с холодной ливерной колбасой, огляделась по сторонам и — хвать! Стащила целых две штуки. Подобные фокусы она проделывала постоянно. Мы не знали от нее покоя даже ночью. Стоило скрипнуть, как она просыпалась и поднимала лай, будто оглашенная, и будила всю гостиницу. В Таборе, где мы ночевали первую ночь, она укусила горничную, когда та принесла нам кофе в постель. Слава богу, она успокоилась, получив пять крон.
— Ваша милость, простите, бога ради, — плаксиво отозвалась служанка, поверьте мне, собака и вправду ужасная!
Папа ходил по столовой, держался за голову и твердил:
— Это ничего не доказывает, пан Фингулин, это не оправдание!
Пан Фингулин тоже встал и заходил по столовой приговаривая:
— Таксы, поверьте, все такие. Этот пес, милостивый господин, ужасно коварный и лицемерный, где что ни увидит — тотчас сожрет и удирает. У моего брата был пес той же породы, так он, проклятый, куда ни придет, непременно нагадит или украдет что.
Папа, слушая его, только вздыхал:
— Боже мой, боже мой!
Тут мама забеспокоилась — нет ли в доме вина. У нас ведь как-никак гости!
Ну, и папа принес бутылку, а служанка принесла рюмки. Мама налила вина, пан Фингулин чокнулся с папой и сказал:
— Ваше здоровье, пан старший делопроизводитель!
Папа выпил и снова принялся ходить по столовой, только быстрее, а потом еще быстрее и все быстрее, пока не зацепил и не завернул в одном месте ковер, и мама рассердилась, потому что ковры от этого ломаются и портятся.
Наконец папа сел за стол и спросил, помнят они божью заповедь — «не пожелай жены ближнего своего»?
Кто должен был это помнить, папа не уточнил, и чего надо было пожелать у жены, он тоже не сказал, и добавил только, что ошибся в пане Фингулине, потому что считал его своим другом. Пан Фингулин на это ответил ему, что папа, конечно же, мог положиться на его дружбу, и, не будь у него в Будейовицах старой тети, они бы никуда не поехали, и этой поездкой оба сыты по горло. А пес был совершен но никчемной обузой.
— Нам всюду приходилось краснеть за него, — добавила мама. — Он самым бесстыдным и нахальным образом приставал ко всем встречным собакам в Будейовицах, а когда я хотела стукнуть его зонтиком, он отскочил, и зонтик сломался, ударившись о мостовую.
Пан Фингулин снова налил себе вина, выпил, взял шляпу, подал папе руку и пожелал доброй ночи. Прощаясь, он посоветовал:
— Извините, но если вы хотите послушаться моего совета — прогоните этого пса!
И папа велел отвести пса к живодеру, чтобы, когда пан Фингулин переселится к нам, пес не мозолил ему глаза.
3. Наш папа портится…
В один прекрасный вечер пан Фингулин снова пришел. Папы еще не было дома. Я сидел в уборной, а уборная у нас возле самой входной двери, и я слышал, как пан Фингулин целует маму и говорит ей:
— Золотая моя Фанинка!
Мама попросила его говорить потише, потому что я дома. Чтоб они не подумали, будто мне это интересно, я спустил воду. Мама воскликнула:
— Боже мой, этот мальчишка до сих пор торчит в уборной!
И они с паном Фингулином перешли в столовую. Я еще несколько раз спустил воду, а потом тоже пришел к ним. Увидев меня, пан Фингулин притворился удивленным:
— Откуда ты взялся, Франтишек?
Мама сделала мне замечание за то, что я вел себя невоспитанно и сказал, будто у меня болит живот. А я ничего не могу с собой поделать, такой уж я ребенок, и, когда у меня были глисты, я тоже всем рассказывал, кого ни встретил, потому что все меня жалели и говорили, что я хороший мальчик.
Пан Фингулин принес мне апельсин, и снова меня отругали, зачем я коркой брызгал ему в глаза.
Тут пан Фингулин спросил, как обстоят дела с клопами. Дело в том, что у нас теперь есть клопы, они завелись после того, как мама с паном Фингулином побывали в Будейовицах. Они привезли их с собой в ручном саквояже. А папа рассказал, что изгнанные из Франции гугеноты привезли клопов в Лондон, из Лондона они пришли в Данию, из Дании в Германию, а оттуда уже к нам в Чехию.
Я объяснил пану Фингулину, что клопы кусаются ночью для того, чтоб люди и по ночам не забывали о господе боге, и что я, когда они очень уж меня донимают, молюсь: «Ангелочек, мой хранитель…» — и к утру засыпаю, и клопы тоже.
Пан Фингулин погладил меня по голове и спросил, люблю ли я боженьку. И тогда я все ему рассказал, как я попаду на небо и как там буду играть спичками, отрывать мухам лапки и выкалывать глаза мышам, веселиться с ангелочками, лазить по деревьям и спать в кровати одетый. И еще сказал, что буду играть с ангелочками в разбойников и пленным отрезать носы.
Мама заметила, что я очень милый ребенок, и я стал рассказывать дальше, как буду послушным на земле и вести себя хорошо, чтобы потом в раю убивать полицейских и обманывать жандармов, и что я каждый день молюсь, чтобы господь дал мне добрые намерения и говорю «Отче наш…» и «Богородице, дево…», «Ангел божий» и «Верую». Я встал на колени и начал:
— «Йобот с допсог яирам яантадогалб ясйудар авед ацидорогоб».
Они испугались — не сошел ли я с ума, а я объяснил, что это начало молитвы «Богородице, дево», только задом наперед, и что так ужасно трудно молиться, но я иногда молюсь так по вечерам, чтобы не повторять без конца: «Отче наш, иже еси на небесех…»
Пан Фингулин осерчал и сказал, что это ненастоящая молитва. Пан Фингулин очень набожный. Вчера мама рассказывала папе, что в Будейовицах они обошли все костелы.
Я получил выговор за то, что мне — всё игрушки, а к господу богу надо обращаться с любовью и почитанием, как и подобает истинному мальчику-христианину, и тут мама начала сердиться, что уже поздно, а папы все нет. Обычно в это время он уже приходит домой!
Пан Фингулин предположил, что папа не спешит домой из-за него. Но мама возразила — мол, наоборот, папа очень ценит пана Фингулина как приятного собеседника.
Пан Фингулин улыбнулся и погладил маму по щеке, и оба стали смеяться. Но когда я тоже, несчастный ребенок, стал смеяться вместе с ними, меня тотчас увели на кухню.
На кухне прислуга делала отбивные и сказала, что когда она была в городе, то видела милостивого (то есть моего отца, папу), как он перед винным погребком вылезал из фиакра вместе с еще двумя господами. И что папа был очень веселый. Может, это был и не папа, но веселый тот господин был уже очень. И когда он выпрыгнул из фиакра, то чуть не упал. Может, тот господин был и не его милость хозяин, но что тот господин чуть не упал, она клянется головой. Милостивый господин сроду ничего такого не вытворял, по вечерам завсегда сидел дома, а уж до чего ей жалко милостивую хозяйку, как она теперь беситься-то будет!
Я пошел в столовую. Мама сидела на диване возле пана Фингулина, и пан Фингулин положил одну ногу на маму. Он всегда так делает, когда у него развязываются шнурки. Я знаю, потому что всякий раз, когда я видел это, он говорил:
— До чего мне надоели ботинки на шнуровке!
И завязывает их.
Само собой, на меня они рассердились, потому что мне следовало сидеть на кухне, и я поскорей стал рассказывать, что служанка видела очень веселого господина, как тот лез из фиакра в винный погребок, и это был наш папа и он чуть не упал.
Только я договорил, мама начала кричать, а пан Фингулин ей поддакивал.
— Хорошенькое дело! Он начинает портиться!
Мама заламывала руки, а пан Фингулин говорил:
— Это ужасно! Такое падение нравственности! Неслыханно и тлетворно! Напиться пьяным в общественном месте! Он просто позорит нас! Милостивая пани, могу вам посоветовать одно: мы не пустим его домой. Десять пробило, если до одиннадцати он не придет, конец и точка! Иначе кутежи станут для него жизненной необходимостью, и он окончательно и бесповоротно испортится! Мы решительно не пустим его домой. Пусть звонит, стучит, пусть не знаю что делает, но это переходит уже всякие границы приличий и не имеет никаких оправданий! Сколько забот он доставляет вам! Такого еще не было, чтобы в десять часов он где-то болтался! Это невыносимо!
Пан Фингулин снял сюртук, ботинки, взял папины шлепанцы, надел папин халат, закурил сигару и растянулся на диване.
— Какой ужас! — произнес он. — Куда катится эта благополучная семья — муж превращается в пьяницу и оставляет свою супругу!
На этом месте мама велела мне раздеться и идти спать. Я помолился за папу и сказал «Верую» задом наперед. Пан Фингулин тихонько говорил маме, что в 11 часов он ляжет в папину кровать, и тогда, что бы папа ни выделывал, какой бы шум ни поднимал, чтоб мама не смела впускать его. Мама согласилась в 11 часов тоже лечь, и, как бы папа ни звонил, пускай он хоть плачет под дверью, она его не впустит и отправит ночевать в гостиницу, потому что семейный дом это ему не проходной двор.
Пан Фингулин вздохнул:
— Скорее б уж пробило одиннадцать!
Я заснул и долго спал, и вдруг меня разбудили голоса в спальне. Было уже утро.
За стеной в столовой кто-то чихнул и сказал:
— С добрым утром, пан Фингулин, дай вам господи!
Голос был папин. У моего золотого папочки были свои ключи от квартиры. И папа закричал:
— С добрым утром, пан Фингулин, целую ручки, милостивая пани!
И начал чем-то колотить по пианино. Потом через приоткрытую дверь я увидел на голове папы цилиндр пана Фингулина и папа собирался лечь в постель. Цилиндр был смят, видимо, им-то папа и стучал по пианино. Я снова заснул, потому что тут уж было не до шуток. Засыпая, я услышал:
Утром служанка разбудила меня, велела умыться, одеться и разбудить папу, так как пан Фингулин желал с ним побеседовать. Я обрадовался. Раньше было наоборот — всегда папа будил меня, а теперь я его разбужу. Я постучал папе по лбу, чтоб проснулась его душа, он повернулся и промычал:
— Вино поставьте на лед.
Я залез на кровать и стащил с папы перину. Оказалось, папа был обутый и в брюках, какие носил по воскресеньям и в праздники. Манжеты и воротничок лежали в цилиндре, а цилиндр лежал под папой. Все было мятое, как в тот раз, когда я сел на коробку от модистки и провалился в нее на мамину шляпу. Папа боялся испачкать простыню грязными ботинками и подложил под ноги бархатную жилетку. Я ущипнул папу за ногу, он перевернулся лицом ко мне и пробурчал:
— Нас тут шестеро, так что принесите три бутылки!
Папа бурчал не очень разборчиво, потому что во рту у него была растрепанная сигара. Я потянул за нее, и она разломалась, половина осталась у моего золотого папочки во рту. Папочка облизнулся и проглотил ее, потом повернулся на другой бок и проворчал:
— Терпенья нет ждать, вино, видать, еще только готовят, возьмите, господа, еще по кусочку лосося, я больше не могу.
Я пошел в столовую, где у нас стоит швейная машинка, и достал из ящичка булавку. Папа лежал ко мне спиной, и я кольнул его в верхнюю часть брюк, и как следует, папа ведь большой и стерпит что угодно. Он так сильно вздрогнул, что я не смог выдернуть булавку назад, и папа перевернулся на булавку, но она его колола, и тут папа ударился выпяченными брюками о край кровати и попал, что называется, из огня да в полымя. Папа очень смешно дергался и извивался, как когда-то карп, которого я вынул из лохани с водой и бросил на пол.
Я не сразу изловчился, но все-таки выдернул булавку. Зато папа почти проснулся и тер глаза, сидя на постели. Он зевал и даже не закрывал рот руками, как должен делать я, чтобы не получить подзатыльник.
Но папа все-таки не совсем еще проснулся, потому что, глядя на меня в упор, он не узнавал меня и бормотал, что гостиница кишит клопами. Тут я сказал папе, что это я, его маленький Франтишек, что уже довольно поздно и с ним хочет говорить пан Фингулин.
Папа схватился за голову, посмотрел на свои ботинки и спустил ноги с кровати.
— Ну, что, Франтишек, здорово мы учудили, а? И девчоночка какая была! — У папы голос был хриплый-хриплый, как однажды у мамы, когда она на крестинах пила вино. А папа снова начал зевать, и глаза у него были грустные-прегрустные и будто затянутые шелковой бумагой. Потом он что-то сказал о выпивке. Это слово я не смею произносить, за него меня пороли. Я как-то позвал дедушку выпить, когда кофе был уже налит. — Франтишек, повторил папа, моргая глазами, — пьянство убивает интеллект, и, если я увижу тебя с рюмкой, я вышибу ее у тебя из рук.
Тут на папу напала икота и зевота. Папа зажал переносицу и подержался за нос. Икота прошла. Папа и меня учил зажимать нос от икоты и не дышать, пока не сосчитаю до девяти. Потом он подошел к умывальнику и напился воды из стакана, в котором держал зубную щетку, опустил голову в таз и попросил меня лить ему на нее воду, потому что мочи его больше нет. Папа поналивал кругом. Меня бы, если б я хоть чуточку набрызгал, сразу бы обругали поросенком. Папа умылся, вытерся полотенцем, сел на постель и простонал, что ему сейчас будет худо, потому что желудок его словно взвешен в воздухе. Он подошел к тазу, и ему стало так плохо, как мне один раз, когда я объелся и засунул в горло веточку, чтобы потом можно было есть дальше.
Стоило папе поднять голову и сказать:
— Фран…
Как у него все начиналось сначала.
Я подошел к папе, он стал гладить меня одной рукой по голове, а другой держался за живот и все извергал из себя:
— Фра… Фра…
Наконец он смог произнести:
— Франти… — а потом: — Франтишек, ах, просто ужасно, что твоему папочке приходится переживать!
Я подумал, а не получить ли мне крейцер, и начал плакать. Однажды у папы болели зубы, и он дал мне 2 крейцера, чтоб я только замолчал. И на этот раз папа достал кошелек, заглянул в него, сказал:
— Хе-хе, а денежки-то тю-тю, черти взяли!
И он стал ходить по комнате и приговаривал:
— Не плачь, все пройдет у твоего бедного несчастного папочки.
Потом он снял ботинки и велел достать ему из-под кровати шлепанцы. Сам он боялся наклоняться, чтобы желудок не потянул его вниз, и подошел к шкафу за халатом. Я предупредил папу, что халат еще вечером надел пан Фингулин. У папы задрожали руки, и я услышал, как он, глядя в распахнутый шкаф, сказал:
— Господи, ну что я сделал плохого пану Фингулину? Мало того что он лишил меня жены, а теперь еще и халат забрал.
Тут открылись стеклянные двери, и в комнату вошли пан Фингулин с мамой. Папа опустился на постель и посмотрел на них, как пес мясника Вейводы, когда однажды украл кусок легкого, а пани Вейводова застукала его. У пана Фингулина лицо было очень бледное, он выглядел серьезно и к тому же был в папином халате. У мамы лицо было все красное. Увидев меня, она прогнала меня в кухню. Я сделал вид, что ухожу, а сам вернулся, встал за дверью и смотрел через стекло. Пан Фингулин пододвинул к папиной кровати два стула, на один сел сам, на другой мама.
— Уважаемый господин, — торжественно начал пан Фингулин, — надеюсь, вы позволите мне, как истинному другу дома, дать вам несколько добрых советов.
Мама недовольно заметила, что папа смотрит на них зверем, но папа возразил, что совсем он и не смотрит зверем. Пан Фингулин размахивал рукой и говорил, что считает своим святым долгом заявить папе прямо в глаза, что супруг, заставляющий супругу всю ночь страдать в одиночестве с другом дома, заслуживает названия величайшего в мире мерзавца. Папа перестал смотреть, как пес мясника Вейводы, и стал смотреть, как ученик лавочника Горжейша, когда пан Горжейш таскал его за ухо по лавке и кричал:
— Я тебе поплюю в повидло!
Пан Фингулин продолжал говорить, что супруг, оставляющий супругу дома в одиночестве ради того, чтобы устраивать оргии с развратной компанией, никчемнейший человек, потерявший всякую честь, которому безразлично — страдает ли супруга по нему и беспокоится, не случилось ли чего с ним.
Я услышал, как папа сказал:
— Я не сомневался, пан Фингулин, что вы не заставите мою жену скучать в одиночестве.
Пан Фингулин подпрыгнул и закричал, что попросил бы оставить все намеки на его отношения с милостивой пани.
А мама встала перед папой и тоже закричала:
— Фу, как некрасиво, фу, это в тебе говорит алкоголь!
Папа сидел как прибитый.
— Супруг, который возвращается домой к жене пьяный, может быть уверен, что рвет все связи, еще соединявшие его с семьей, и если вы не отдаете себе отчета, что своим поведением вы лишь демонстрируете неуважение к священным супружеским узам, то мне вас искренне жаль.
— Не жалейте его, негодяя, — прервала его мама.
Папа только качал головой и говорил:
— Что вы, ну какой же я негодяй?
— Вот вам наше окончательное решение, — продолжал пан Фингулин. — Завтра же вы уедете к тестю в деревню. Возьмете на службе отпуск и еще до обеда уедете с Франтишеком. В деревне, под присмотром тестя, которому я уже отправил письмо и подробно информировал обо всем, вы в течение шести недель постараетесь забыть о пражских оргиях. Мы с супругой будем вас иногда навещать, и, если вы постараетесь хорошо вести себя, мы примем вас как исправившегося назад в лоно семьи. Обедать вы сегодня не будете, вам надо как следует проспаться к завтрашнему путешествию. А мы с милостивой пани предпримем нынче небольшую прогулку на Завист. Ей необходимо прийти в себя после этой страшной ночи, проведенной в напряженном ожидании вашего возвращения неизвестно в каком состоянии. Пойдемте, милостивая пани.
Папа тоже встал, и тут все увидели под ним на постели цилиндр пана Фингулина. Пан Фингулин снова напомнил, как самоотверженно вел он себя этой ночью, и вот в благодарность за его самоотверженность мой золотой папочка спал на его цилиндре!
Мама сказала, что от негодного человека нечего ждать благодарности и пусть пан Фингулин возьмет папин цилиндр.
Они ушли, а я притворился, будто играю в кубики за дверью. Когда они ушли совсем, я посмотрел, что делает папа. Мой золотой папочка разделся и в одних кальсонах яростно катался по цилиндру пана Фингулина, как собака на селедке, и приговаривал:
— Я вам покажу, кто в доме хозяин!
Судебный процесс по делу Хама, сына Ноя
(Отчет из зала суда, написанный доисторическим репортером)
В Арубаше, городке у подножия Арарата, вызвал необычный интерес публики судебный процесс Хама, сына Ноева, о деле которого мы в свое время подробно сообщали. Поскольку, однако, мы хотим, чтобы и те читатели, которые тогда не следили за этим делом, были в курсе событий, излагаем его вкратце повторно.
Известный меценат праотец Ной после катастрофы 1 октября, когда из-за прорыва запруд на горных водоемах возник потоп, приплыл на своем ковчеге к Арарату и приобрел у здешних властей земельный участок. Здесь он занялся разведением винограда на основе новейших агрономических достижений. 12 сентября прошлого года, в три часа дня, Ной с тремя сыновьями, Симом, Хамом и Иафетом, отправился в свои винные погреба дегустировать вино.
При этом ему пришлось выпить довольно много, и, когда он вернулся домой, вино оказало на него свое действие. День был жаркий, и Ной, выйдя в сад за домом, лег в тени грушевого дерева. Он был в одной рубашке. В этот момент появился его беспутный сын Хам и, задрав подол рубахи, принялся стаскивать ее с отца через голову. Подоспели сыновья Сим и Иафет и прогнали непутевого Хама. Тем временем за забором сада собралось много соседей, в том числе дамы, которые с негодованием наблюдали возмутительное зрелище. Был вызван полицейский, который задержал хулигана и отвел его в полицию, где после допроса Хам был подвергнут предварительному заключению и против него возбуждено дело о нарушении общественных приличий. Вчера, 7 января, он предстал перед судебной коллегией под председательством советника юстиции Мелехенеха.
Судебное заседание пришлось перенести в большой зал суда присяжных, потому что зал коллегии не вместил всю собравшуюся публику, среди которой было много дам.
Двое конвойных ввели обвиняемого Хама. Предварительное заключение никак не отразилось на нем, и, как заявил журналистам господин Ной, его беспутный сын не похудел, а скорее пополнел в тюрьме.
Председательствующий начал судебное следствие допросом подсудимого, который отвечал громким голосом.
В ходе допроса выяснилось, что Хам еще до потопа привлекался к суду за святотатство: он украл жертвенного быка и съел его с группой своих приятелей. В другой раз он был под судом год назад за оскорбление личности. Его адвокат в этой связи просил внести в протокол, что воспитанию Хама с детства не уделялось должного внимания.
Господин Ной решительно возразил против этого.
— Правда? во время потопа, когда прорвались плотины горных водоемов, у меня не было времени воспитывать сына так, как мне хотелось бы, — признал господин Ной.
Тем не менее он стрался привить Хаму высоконравственные принципы, подчас прибегая для этого даже к побоям. К сожалению, после потопа Хам попал в дурную компанию, стал дружить с уцелевшими хулиганами и уже в четырнадцать лет грубо бранился и говорил непристойности.
На вопрос, как именно он бранился, Ной ответил: такими словами, как «сволочь», «паскуда» и тому подобное. Зато Сим и Иафет были образцовыми сыновьями.
Защитник задает Ною вопрос, посылал ли он Хама в школу.
Ной отвечает отрицательно, ссылаясь на потоп: дороги еще не просохли, кроме того, при потопе утонули все учителя сельских школ, уцелел только один учитель городской школы, да и тот с перепугу помешался.
Защитник. Почему же вы, свидетель, не взяли для Хама домашнего учителя?
Ной. Домашние учителя тоже все утонули. (Волнение в зале.).
Защитник. Вы интеллигентный человек, господин Ной, и должны были внушить Хаму основы морали.
Ной (патетически). Достопочтенный суд! Всему миру известно, сколько трудов стоило мне спасти человечество от гибели, сколько ночей я бодрствовал в молитвах, сколько дней ловил зверей для своего ковчега. (Оборачивается к защитнику Хама.) Как вы думаете, господин адвокат, легко затаскивать тигров на ковчег? И одновременно еще заботиться о воспитании этого разгильдяя?
Хам (вскочив, отцу). Ты старый пропойца!
Председательствующий делает ему замечание. Цинично улыбнувшись, Хам садится.
Председательствующий (Ною). Ну, хорошо, господин Ной, но одну вещь необходимо выяснить: не замечали вы когда-либо у подсудимого признаков врожденной умственной неполноценности?
Ной. Могу заверить высокий суд, что Хам родился в совершенно здоровой семье. Его дед Мафусаил в возрасте шестисот семидесяти лет перешел через Гималаи и всегда был в здравом уме и твердой памяти. Что касается моей супруги, то она вполне здорова и родила Хама в 328 лет, тоже будучи психически вполне нормальной.
Затем продолжался допрос Хама.
Председательствующий. Послушайте, подсудимый, четвертая заповедь еще не так давно опубликована, чтобы вы могли забыть ее. Полиция повсюду расклеила плакаты с текстом всех десяти заповедей. На предварительном следствии вы показали, что умеете читать, ибо мать от нечего делать выучила вас грамоте (шум в зале), а сейчас вы отрицательно качаете головой, уверяя, что не знаете четвертой заповеди. Вообще вы запутались в ваших отговорках. Отвечайте кратко: задирали вы отцу рубашку или нет?
Хам. Да, я сделал это, потому что папаша неисправимый пропойца. (Сильное негодование в зале.)
Ной (закрывая лицо, восклицает с волнением). О мои опозоренные седины!
Председательствующий (строго). Послушайте, подсудимый, будь господин Ной даже совсем незнакомым вам человеком, и то недопустимо называть его так. А ведь он вам отец! (Волнение в зале.)
Госпожа Ной (кричит подсудимому с галереи). Негодяй!
Председательствующий (продолжает). Итак, подсудимый, расскажите нам все откровенно. С каким умыслом вы задирали отцу рубашку?
Хам. Без всякого умысла.
Председательствующий. Послушайте, подсудимый, родному отцу ни с того ни с сего не задирают рубашку. Безусловно, вы совершили это с обдуманным намерением. Расскажите нам откровенно, каков был ваш умысел, это облегчит вашу участь. Нельзя же предполагать, что вы так вдруг, не подумав, начали стаскивать с отца рубашку, воспользовавшись его глубоким сном.
Общественный обвинитель. А вы знали, что кругом было много прохожих?
Хам. Знал!
Защитник. Скажите, господин Хам, не были вы тогда тоже в состоянии опьянения?
Хам. Я-то не был, а папаша был пьян в стельку. Это случается с ним уже не в первый раз, и вот, опасаясь, чтобы ветер не задрал отцу рубашку, я предпочел совсем снять ее с него. (Веселое оживление в зале.)
Председательствующий. Воздержитесь от глупых шуток, подсудимый, здесь они совершенно неуместны. Ваш отец — человек примерного образа жизни и не заслужил такой хулы. Гордиться надо таким отцом!
Госпожа Ной (кричит подсудимому). Пропишут тебя в Библии, хулиган!
Защитник (обращается к Симу и Иафету). Скажите, господа, почему вы ушли, оставив отца под деревом? Видя, что он заснул в одной рубашке на открытом месте, вы могли бы прикрыть его… ну, хотя бы носовым платком. А вы оставили его обнаженным вплоть до прихода судебной комиссии. (Сильное волнение в зале.)
Свидетель Сим. У нас не было носовых платков. Мы тоже были в одних рубашках, как пришли с виноградников.
Защитник. Гм, странные нравы!
Иафет. Категорически возражаю против бестактных замечаний господина адвоката! Нам не по средствам купить себе еще одну пару штанов, а выходные подштанники мы не надели, потому что был день будничный.
Свидетели удаляются. Хам иронически усмехается.
Общественный обвинитель. Не смейтесь, подсудимый, дело серьезное. С несомненностью установлено, что ваши братья — хозяйственные и бережливые люди, которые живут по средствам. В отношении вас доказано обратное. У вас, например, три пары подштанников, и вы публично носите их даже в будни. Вы легкомысленны, двести пятьдесят лет нигде не работаете, отец кормит вас вот уже пятую сотню лет. Во время потопа вы тайком помогали самым худшим подонкам попасть на ковчег, и, для того чтобы им нашлось место, вы бросили за борт несколько пар редких доисторических животных, которые, таким образом, исчезли с лица земли. Полиция и местная управа дали о вас самый отрицательный отзыв. Вы ведете непристойные разговоры, пристаете к девушкам…
Зачитывается заключение судебно-медицинской экспертизы, из которого явствует, что Хам — психически неполноценная личность со склонностью к сексуальным извращениям.
Защитник. На основании заключения экспертизы ходатайствую о том, чтобы подсудимый Хам был помещен в клинику для душевнобольных.
Общественный обвинитель возражает.
Госпожа Ной (кричит с галереи). За решетку его упрячьте, подонка!
Суд удаляется на совещание и через полчаса возвращается. Председательствующий объявляет, что суд удовлетворил ходатайство защиты, и тем самым судебное разбирательство откладывается на неопределенное время.
Так пока закончился интереснейший судебный процесс, к которому мы несомненно еще вернемся.
Попутное замечание: из гигиенических соображений публике на галерее не разрешено было плевать на головы внизу сидящих. В каком положении оказываются люди, которым приходится уносить на волосах вредные микробы?! Надеемся, этого замечания будет достаточно для того, чтобы внизу были повсюду расставлены плевательницы.
Дачицкая история
I
Ночной караульщик Вачленяк, неуклюже двигаясь в час пополуночи по Водной улице в высоких сапогах и тулупе, предавался скорбным мыслям о том, что его коллега Зима тем временем допивает в их каморке на городской башне оставшийся в бутылке ром, как увидал вдруг перед домом купца Вондрака нечто, что привлекло его внимание: а) Подвал Вондрака, вернее, обитые жестью двери, выходящие на Водную улицу, были распахнуты,
в) в подвале горел свет, отбрасываемый маленьким фонариком,
с) среди бутылей, ящиков и прочего товара суетился какой-то мужчина,
И, наконец, д) этот мужчина своей конфигурацией не походил ни на кого из жителей Дачиц.
Как явствует из вышесказанного, Вачленяк был весьма наблюдателен и посему, мысленно сопоставив эти факты, пораженный, шагнул на первую ступеньку ведущей в подвал лестницы и стоял так минут пять в нерешительности, размышляя, как ему лучше поступить.
Пока он предавался наблюдению за незнакомцем, который, заметив его присутствие, приостановил свою работу, заключающуюся в том, что он складывал различные предметы в мешок.
«Будь у этого человека козлиная бородка, то это был бы, ни дать ни взять, Ружичка с Жабьей улицы», — решил Вачленяк и потому спросил:
— Вы Ружичка?
— Нет, — ответил неизвестный и задал, в свою очередь, изумленному Вачленяку такой вопрос:
— А вы ночной сторож?
— Верно.
— Тогда заходите!
Получив приглашение, Вачленяк спустился со ступенек вниз, где и остановился, все еще не понимая, что, собственно, здесь происходит.
Незнакомец предложил ему присесть на одну из бочек и доверительно сообщил:
— Я новый приказчик пана Вондрака.
— А я и не знал, — учтиво заметил Вачленяк, — что у него объявился новый приказчик, Вондрак всегда скрытничает.
— И в первую же ночь заставил надрываться, — продолжал незнакомец. — Одному приходится все готовить к отправке.
Вачленяк вожделенно впился взглядом в бутылки с вином, которые новый приказчик складывал в мешок.
— Что верно, то верно, — заметил он, — это известно, что у Вондрака все надрываются.
— Как лошади, — молвил приказчик, — прошу вас, откройте тот ящик, может быть, именно там есть сахар. Держите долото. Я еще не разбираюсь, что где.
— Тут крахмал, — сообщил Вачленяк.
— Его-то мне и надобно, — ответил приказчик и опустил продолговатую коробку в мешок.
— Должен и я отблагодарить друга, — усмехнулся он вдруг и взял из закутка бутылку рома. — Получайте-ка за ваши труды!
Манеры незнакомца пришлись Вачленяку по сердцу, и он, расчувствовавшись от его доброты, прошептал, засовывая бутылку под тулуп:
— Награди вас господь.
Ночной сторож Вачленяк постоял еще немного и послушал рассказ нового приказчика о больших магазинах в больших городах, где он работал прежде.
— Обокрасть такое заведение, — говорил приказчик, — дело трудное, там повсюду электрические звонки.
— И то верно, — кивал Вачленяк головой, — всякого напридумывали, и хорошего, и плохого. — Ну, желаю вам всего наилучшего, а мне пора. Служба есть служба.
— С богом, — простился приказчик. — Я тоже скоро закончу и пойду спать. Прощайте.
Вачленяк вышел из подвала радостный и растроганный: вот ведь есть еще на свете хорошие люди. Взять хотя бы этого нового приказчика пана Вондрака. Видит человека впервые, а преподносит ему бутылку рома.
— А Вондрак, — ворчал Вачленяк, приближаясь к городской башне, — неискренний человек. Ни словечком не обмолвился про то, что нанял нового приказчика.
Поднимаясь по скрипящим ступенькам наверх, на башню, он рассудил, что коли его коллега Зима выпил оставшуюся половину рома, то и он не станет делиться с ним презентованным. Все выпьет один, а Зима пускай пеняет на себя за свою непорядочность.
Так оно и было. Зима лежал в постели и, прикончив всю бутылку, спал сном праведника.
Вачленяк помянул некую скотину, улегся на свою постель и, осторожно раскупорив бутылку, хлебнул, потом еще несколько раз приложил горлышко бутылки к губам и уснул, благословляя в душе своего благодетеля, нового приказчика купца Вондрака. Теперь он снился ему таким, как он видел его наяву — мужчина лет тридцати пяти от роду, с маленькими черными усиками, с лицом, слегка побитым оспой. Фигура этого доброго человека покачивалась, и бутылки с ромом окружали его, словно листья лаврового венка. И Вачленяк даже во сне ощущал, до чего он мил ему, как не может он оторвать своего взгляда от его физиономии, и греющее тепло дружеского расположения горело в его душе, он все говорил что-то и улыбался, обращаясь к новому приказчику.
«Ночью обчистили лавку Вондрака», — эта новость на следующий день всколыхнула Дачице и стала предметом горячего обсуждения, всех занимал каверзный вопрос «Кто обчистил лавку». Разговоры сводились к решительному предположению, что это сделали воры и, вероятнее всего, воры чужие, ибо в Дачицах своих воров не было. Повторяю еще раз: в Дачицах не было своих воров! Их не было никогда! Так, по крайней мере, утверждали старики. Воры бывали людьми пришлыми, насколько помнят старейшие жители, ибо и в давние времена и времена нынешние не было ни единой кражи, если не считать случая, когда пять лет назад на ежегодной ярмарке бродячий точильщик с исключительной дерзостью, ровно в полдень, стащил буханку хлеба, два чулка и трубку, которую тут же набил табаком, закурил и преспокойно зашагал прочь, под взгляды изумленных горожан, не знакомых, вероятно, даже по слухам с идеями общности имущества, не говоря уж о самой глубокой из них, что «имущество есть воровство», которую бродячий точильщик осуществил на практике. Вот и все. Покой горожан нарушался, лишь когда вдруг понесут лошади или волы, взбрыкнет корова, когда на свиней нападет краснуха, если появятся цыгане и цыганки, если в праздник тела господня льет дождь или собака кого-то из местных жителей вдруг взбесится, а также если начнется пожар, если похороны или свадьба, и когда молодой человек из местных прогуливается с молодой девицей, не вселяя надежды, что имеет намерение жениться.
Лишь подобные происшествия приводили всех в смятение и вызывали волнение до тех пор, пока новые происшествия не дадут пищи для разговоров на улицах, на площади, в галереях, домах, в трактирах и в ратуше.
«Ночью обчистили Вондрака!» Эта весть превратила спокойных дачицких жителей в сангвиников.
Пан почтмейстер бегал по площади, распахивал двери лавок и кричал:
— Вы уже знаете? У Вондрака ночью обчистили склад.
А за ним семенил советник магистрата Павлоушек, известный своей невозмутимостью, который не дрогнул, даже когда прострелил родному сыну штаны на осенней охоте. Этот уравновешенный господин размахивал руками, останавливал встречных-поперечных и вопил:
— Вондарк ограблен, Вондрак ограблен!
Подробности происшествия уже облетели весь городок.
Купец Вондрак, по своему обыкновению, отправился утром в лавку и тут обнаружил, что дверь на склад открыта.
— Я испугался, — таковы были его собственные слова, — так сильно, что побелел, как полотно. Спускаюсь, дрожа, вниз и осторожно держу свечу перед собой, а сам боюсь, ибо мой дядюшка Валоушек однажды угрожал, что повесится в моем складе. Я, значит, приготовил нож, чтобы сразу обрезать веревку, потому как дядюшка своему слову хозяин и уж если что сказал, значит, сделает… Спустился я вниз, посветил фонарем вокруг и выронил фонарь из рук. Я закричал, все перед глазами сделалось красным, и я упал прямо на бочки. Так меня и нашли.
Последнее слово было, естественно, за его женой. В соответствии с рассказом своего супруга, она сообщила следующее:
— Мне показалось подозрительным (господи Иисусе, вот беда!), мне показалось подозрительным, что Франтишек так долго не возвращается из подвала. Подошла я к двери: «Франтишек, кофе стынет». (На самом деле она кричала: «Ты что думаешь, я тебе сто раз буду кофе греть?») Вондрак не откликается. Я позвала еще раз: «Ступай домой, ты же простынешь!» Опять не отвечает. Тогда я спустилась вниз, а там тьма-тьмущая. Мне это показалось подозрительным, вернулась я в лавку и говорю нашему приказчику: «Пан Войтех, ступайте поглядите, где мой старик?» Он вроде стал спускаться в подвал, но там темно. Пошли мы с ним вместе и свечу зажгли. И тут я увидала весь этот погром. Вондрак лежит без памяти на бочках: одна рука в бочке с повидлом, другая в квашеной капусте, а лицом уткнулся в смалец. «Иисус Мария, — кричу я, — муж, опомнись, Иисус Мария, что с тобой?» Войтех говорит: «Не пугайтесь, не иначе его хватил кондрашка». Стала я трясти мужа, но, только когда Войтех сообразил сбрызнуть его водой, муж пришел в себя да как закричит: «Меня ограбили!» — а как огляделся вокруг, снова повалился без памяти. Облили мы его водой, и он опять пришел в себя. Тут мы увидали, что натворили воры. Вина нету, рома нету, сахар, крахмал, все перерыто, и тогда нам пришлось Вондрака удерживать. Он вылупил глаза и орет то в один, то в другой угол: «Сдавайся, не то прикончу!» Потом кинулся душить Войтеха и, наконец, зарыдал. Он рыдает, я рыдаю, Войтех рыдает. У всех глаза покраснели. Экое разорение, пресвятая дева Мария, чтоб господь бог тех воров покарал, чтоб горели они в геенне огненной.
— А украли они того немало, — добавил Вондрак, — сотня, полторы сотни, считай, пропали.
И так и вроде того судачили люди с самого божьего утра, собирались кучками с лицами, красными от возбуждения.
— Это не наши, — убежденно твердили дачицкие жители, что звучало столь же веско, как если б они сказали: — Это не мы.
Споры становились все оживленнее, предположения все более изощренными, но факт оставался фактом, и от этого не уйдешь: купец Вондрак ограблен, грабеж имел место в его подвале, грабителей, судя по следам, оставленным в подвале, было двое, убыток составляет полторы сотни, а грабеж был совершен ночью. Больше ничего известно не было. И вдруг кто-то закричал:
— А что же караульщик-то?
Кто же еще, кроме него, мог пролить хоть немного света на тьму этого происшествия? Рассуждали следующим образом: возможно, Зима или Вачленяк видели во время своего обхода незнакомца, но не остановили из почтения, которое испытывали все дачицкие жители к чужестранцам, тем не менее хорошо запоминая их физиономии, или, услыхав незнакомые голоса, способные воспроизвести их, что может навести на след преступника, так же, как описание лиц незнакомцев, их одежды и манер.
— Это дело надо выяснить, — сказал один из дебатирующих, — обождем, что сообщит караульщик!
— Я схожу за Вачленяком, — заявил кто-то из граждан.
Он встретил Вачленяка, когда тот в превосходном настроении спускался с городской башни и насвистывал какой-то церковный мотивчик.
— Вам уже известно, какие у нас новости? — вскричал ему навстречу дачицкий гражданин.
— Вы имеете в виду нового приказчика Вондрака, пан Пелишек?
— Что это вы несете? — изумился Пелишек. — У него приказчиком все тот же Войтех. Но у Вондрака ночью обокрали склад.
— Боже праведный! — выбил Вачленяк зубами дробь и произведя движение, будто собирался за что-то ухватиться, упал со ступенек прямо на пана Пелишека, который, упав в свою очередь, катился до самого низа, где и задержался, чем помешал Вачленяку вывалиться из дверей на улицу.
Не утратив, однако, присутствия духа и поднявшись, он спросил:
— Вы ничего подозрительного не видели ночью?
— Я? — пролепетал ночной сторож Вачленяк, которого, благодаря тому, что он был чрезвычайно сообразителен, мгновенно осенило. — Нет, я ничего не видел. Поглядите, я же весь дрожу. Это просто невозможно, чтоб его обокрали.
Вачленяк стоял, потупив глаза, и вместо Пелишека видел перед собой того самого нового приказчика с черными усиками и физиономией, побитой оспой.
Страшная действительность стояла пред ним, это был его первый грех, первое пятно на его прежней безупречной репутации, он понял, что, ослепленный доверчивостью, он, дачицкий сторож, помог обокрасть своего ближнего, дачицкого же гражданина, а ведь ему, Вачленяку, жители вверили свое имущество на ночь!
Розыски воров не увенчались успехом. Жандармы не обнаружили ничего, а два городских полицейских и подавно, и потому история осталась покрыта мраком неизвестности.
Выяснили, что ни Вачленяк, ни Зима во время ночного обхода не обнаружили ничего подозрительного. Допрос обоих стражей не пролил на дело никакого света.
Пан бургомистр заявил, что хотя правосудие мирское воров не покарало, но есть инстанция превыше его. Котлы адские, смоляные.
Итак, Вондраку не оставалось ничего иного, как тешить себя благочестивой мыслью о том, как на том свете грабители горько заплатят за его ром, вино, сахар и крахмал.
А Вачленяк все тощал.
Его не оставляли мысли о «новом приказчике». Он постоянно видел его перед собой, видел его побитую оспой физиономию. Он ощущал тяжесть подаренной бутылки рома. Совесть до того истерзала его, что он даже не допил бутылку, ибо содержимое казалось ему теперь горше, нежели серная кислота.
Вачленяк спрятал бутылку под матрац своей кровати, но видел все одни и те же сны. Он видел подвал Вондрака, видел себя, как открывает ящик и говорит: «Тут крахмал», как он беседует с вором, а тот дает ему бутылку рома, огромную бутыль, он хочет выпить, засовывает в нее голову, понемногу забирается в неё весь и тонет.
Бедняга при этом потел, а проснувшись, обзывал себя именами всех полезных домашних животных, чаще другого повторяя: «Я — вол, осел, мул», и тому подобное.
А когда, задумавшись, сиживал в трактире под аркой, то посетители вокруг частенько слышали, как он твердит: «Новый приказчик, новый приказчик».
II
Дачицкие жители, как я уже заметил выше, были люди спокойные. И именно поэтому они были консервативные. Ни один новый политический лозунг не мог взволновать их, в городе был лишь один социалист, но и ему нечего было есть, о нем говорили, будто он социалист именно потому, что ему нечего было есть, хотя его убеждения ничуть не отличались от консервативного образа мыслей его сограждан. Пока что он просил милостыню возле костела.
Итак, они были консервативны. Я не хочу в связи с этим утверждать, будто они были глупы, что явствует из истории с ночным сторожем Вачленяком.
Консерватизм дачицкие жители унаследовали от отцов. Они чтили своих предков, и пиетет к старым привычкам был столь велик, что пан бургомистр угодил в яму посреди площади, ибо его предшественник тоже в ней сломал себе руку, а предыдущий бургомистр вывихнул ногу, и все это приключилось почему-то ночью.
Отец советника Матоушека, также советник, имел привычку во время заседаний магистрата выдергивать себе волосы, приятно при сем улыбаясь, и нынешний советник Матоушек улыбается так же приятно и дерет свои грубые щетинистые волосы.
Прежний бургомистр вечером хаживал по левой стороне площади, и нынешнего бургомистра Боровичку мы всегда под вечер встречаем там же.
Я мог бы привести и другие доказательства тому, как почитают здесь стародавние обычаи. Дедушка кузнеца Малого, например, повесился в городской роще на дубу в возрасте пятидесяти лет, как и сын его кузнец, а сына предыдущего пришлось вынимать из петли тоже в городской роще, он повесился, конечно, на дубу и тоже в пятидесятилетнем возрасте.
Возможно, кто-нибудь покачает головой и возразит: «тяжелая наследственность». Никоим образом! Их просто тянет к старым обычаям, одолевает уважение к предкам, иначе всем дачицким жителям можно было бы приписать тяжелую наследственность.
Это можно было бы сказать о голубятнике Кнедличке, который так же, как его отец, женился в возрасте семидесяти лет, о владельце табачной лавочки Подлоушеке, который, следуя примеру отца и деда, носил на праздник тела господня балдахин и постоянно бранился с министрантами.
И о дядюшке Кейдане, том самом, что, как его отец и дед и прадед, пропил приданое, полученное за женой, и кончил тем, что таскался от одних родственников к другим и гадал на картах.
Консерватизм проявлялся в хозяйстве, как личном, так и общественном. Речонка, огибавшая город, разливалась каждой весной и затопляла нижнюю часть Дачиц, и никому не приходило в голову, что было бы достаточно самой обыкновенной плотины, чтобы предотвратить бедствие. Не приходило это отцам, не приходило и сынам, и своенравная речонка каждую весну упорно искала новое русло, и более всего ей нравилась площадь, окруженная прилепившимися к ней старыми домиками с эркерами и галереями, где происходили знакомства между кавалерами и местными девицами, ибо их отцы заводили знакомства тоже здесь, о чем можно судить хотя бы по тому, что они стали отцами.
Объясняться в любви дачицкие жители с незапамятных времен ходили в городскую рощу. Там были сиденья из дерна, где удобно обниматься и говорить: «Я люблю вас пламенно!», что являлось обычной формулой для изъявления чувств в Дачицах, одинаково принятой как у сыновей, так и отцов, у дочерей и у матушек, формула столь же древняя, как дерновые скамейки.
И стряпали точно так же, как и встарь. Нынешний бургомистр (так его титуловали, и я тоже употребляю сей титул) любил поросячий пятачок, ибо и его отец охотно едал его, советник Пршелоучка в среду желает иметь на столе огуречную подливку, по той причине, что пани Матоушкова на нее мастерица, по той причине, ну, вы об этом и сами догадаетесь без труда… я мог бы привести столько примеров, сколько народу проживает в этом городе.
Так же консервативны здесь и животные. Следует привести лишь несколько примеров. Конь покойного возчика Мальвы был с норовом, и конь его сына тоже с норовом, собака пекаря Брадача хромает, хромал и дог старого Брадача. В доме шорника Данека с незапамятных времен родится котенок кривой на один глаз с черным пятном на голове, с незапамятных же времен оставляют в живых именно такого, в то время как остальных топят.
Поросята пана старосты весят перед убоем 200 кг, потому что поросята его отца перед убоем весили 400 фунтов и так далее…
И даже флора не меняется. Земляника огородника Пержинки достигает обычно внушительных размеров, но лишь на трех кустиках, что в углу огорода. Поглядеть на нее в мае ходят все дачицкие, а он говорит то же, что говаривал его папаша:
— Хороша, стерва.
У Прошеков виноград на беседке созревал в то время, когда у других он еще остается зеленым. И крайне странно, что там всегда находят две грозди, сросшиеся вместе, подобно тому, как издавна в сливах садовника Брзлика, среди тысячи слив находят две, а то и три с двойной косточкой; и так далее.
Принимая во внимание все эти обстоятельства, никто, вне всякого сомнения, не станет удивляться, что семейство торговца сеном Патрного, известное тем, что старший сын всегда выбирается депутатом от всего уезда, а когда сын сына уже входит в разум, отказывается от мандата на выборах, а поскольку Дачице задают тон всему уезду, то младший Патрный бывает избран всегда единогласно. Так все идет и идет издавна.
И новый депутат, как и его отец, отстаивает консервативные принципы своего родного города тем, что во время всех речей в нижней палате, противных его принципам, демонстративно спит в своем депутатском кресле. Во время голосования он никогда не голосует, о чем бы ни шла речь, никогда не волнуется, никогда никого не ругает и лишь однажды прервал заседание парламента, упав во сне с кресла, разбив себе нос и пролив таким образом свою кровь в парламенте за народ… Поведение каждого депутата из Патрных всегда безукоризненно, председателю палаты еще не случалось призывать их к порядку. Если он не спал, то сидел спокойно у стола и подсчитывал фактуры за сено на брошюрах, выданных канцелярией парламента. Он не произнес еще ни одной речи, единственно по той причине, что полагал, будто его речь может быть опубликована в газете, которые он ненавидел с тех пор, как об его отце некая газетенка написала: «Сей уважаемый депутат, преуспевающий торговец сеном, несомненно, не будет на нас в претензии, если мы повторим вопрос одного из наших читателей: «Должна ли быть у торговца сеном набита сеном также и голова?»
Короче. Отец Патрный был депутатом, сын его депутатом и сын сына был тоже слугой народа… Это разумелось само собой, как и то, что лошади покойного возчика Мальвы бывали всегда строптивы, а земляника у огородника Пержинки всегда достигала в длину пяти сантиметров, но только на трех кустах…
Следовательно, так же разумелось само собой, что коли Франтишек Патрный отказался нынче от мандата, то теперь сын его Йозеф Патрный станет после него депутатом. К нему уже обращались «пан депутат», уже должно было состояться предвыборное собрание в большой зале муниципального дома, когда вдруг общество избирателей города Дачице и округи получило следующее письмо:
«Ваше благородие! Дозвольте мне сообщить Вам, что я намерен выставить свою кандидатуру на вакантный мандат после снявшего с себя полномочия пана Франтишека Патрного и намереваюсь также произнести речь на Вашем высоком собрании избирателей, где буду иметь честь представиться.
С глубоким уважением
Ян Котларж,помещик в Мышицах».
А произошло это через три года после того, как был ограблен куцец Вондрак…
III
Послание это потрясло все слои населения. Высказывались мнения не слишком лестные, и клуб избирателей города Дачице и окрестностей в первые минуты не знал, как вести себя в отношении пана Котларжа. Председатель клуба целую неделю протаскал письмо в кармане, колеблясь, должен ли отвечать чужаку.
В клубной зале «У оленя», неподалеку от старых ворот, велись страстные дебаты, и пан Йозеф Патрный принял активное участие в общем разговоре. Он заявил, что удивлен, весьма удивлен. Это и была вся его речь, в связи с чем председатель Богачек заметил, что касается его лично, то крайне удивлен, а главный выборный агитатор шорник Жабачек заявил: «Сдается мне, что хуже некуда».
Пан же Краловец, привстав с места, сделал негодующий жест и сказал:
— Что тут долго рассуждать, хватит об этом. Будь что будет!
Часовщик Криштоф, который всегда голосовал в черном костюме с белым галстуком, изрек весьма многозначительно:
— Надо выждать, как будут развиваться события дальше. Еще не пробил последний час.
Выждать! Вот лучшее, что можно придумать! А между тем возникали разные предположения, в какой одежде, например, явится пан Котларж из Мышиц на выборное собрание, и каждый страстно желал знать, что тот скажет и как объяснит, почему выдвигает свою кандидатуру.
Пан Котларж и сам этого толком не знал.
Он поступал так не из честолюбия, ибо был человеком скромным, и не по причине недовольства господами Патрными, а точнее, тем, как они защищают интересы всего уезда, и уж никак не по той причине, что внезапно изменил свои политические убеждения.
Ничуть не бывало — он такой же консерватор, как и все дачицкие жители, и политические его убеждения ничем не отличаются от политических убеждений господ Патрных, чьими принципами, чистыми и безупречными, было: «Отдайте богу — богово, а кесарю — кесарево!» Что явствовало из надписи над входом в их лавку.
Как и все они, Котларж почитал все черное и желтое, обожал уездного начальника и выписывал немецкую газету, хотя языка немецкого не знал.
Пан Патрный и он, Котларж, были идейными близнецами. Почему-то ему вдруг взбрело в голову, что он может баллотироваться. Дело тут, видимо, в том, что однажды ночью ему приснилось, будто приходит к нему жандармский вахмистр, а его Котларж уважает, и говорит: «Пан Котларж, а вы не хотели бы стать депутатом?»
Целый день Котларж обдумывал свой сон, а когда на следующую ночь ему приснилось, что пришел к нему уездный вахмистр и с улыбкой, шлепая его по брюшку, молвил: «Пан коллега, сделайте такую милость, баллотируйтесь», Котларж счел сии смелые сны за перст божий и заказал в городе визитные карточки: «Кандидат в депутаты».
Отправляясь в город, он намеревался, если говорить честно, убить одним выстрелом двух зайцев. Дело в том, что пана Котларжа вызывали в суд, ибо некая мышицкая батрачка подала на него жалобу о признании отцовства, впрочем, это к делу не относится…
Итак, пан Котларж собирался на избирательное собрание в Дачице, где уже вовсю шла подготовка: убирали большую залу, чистили люстры и потолок чистили тоже, употребив для этого хлебный мякиш из двух буханок, пол драили жесткой щеткой, а окно, выдавленное на последнем собрании избирателями, не взяв ничего за работу и за стекло, вставил стекольщик Лаштовик. Нынче таких людей уже не встретишь.
И когда в городе стало известно, что зала уже готова к столь важному событию, люди стали чертить на дверях своих домов палочки мелом, с заходом солнца стирая одну за другой, и когда в нетерпеливом ожидании стирали третью, то уже знали, что завтра, в воскресенье, в три часа пополудни состоится собрание, где объявится тот настырный чужак, о существовании которого хотя и было известно, но с которым, исключая двух-трех человек из дачицких, никто не сказал и слова, потому как Мышице находятся на расстоянии шести часов от Дачиц, а шестичасовой путь для дачицких граждан все равно как если бы кто-то заявил: «Я иду пешком из Праги в Венгрию».
IV
Все три предшествующие главы могут служить лишь введением, ибо имеют только косвенное отношение к тому, что стряслось позднее, и почему по всей необозримой округе репутация Дачиц и дачицких жителей после собрания избирателей погибла безвозвратно, и почему их стали называть варварами, и никто окрест не мог о них даже слышать, именуя болванами и тому подобное!
Исключительно это обстоятельство вдохновило меня, и я, взяв в руки перо, изобразил все достопамятные события, случившиеся в Дачицах. События, сто́ящие того, чтобы о них написать, о них прочитать и усомниться.
Sit venia verbo![23]
V
В один прекрасный летний полдень дачицкие граждане сидели в саду Стршельнице вместе со своими женами, сыновьями и дочерьми и за кружками пива местного пивоваренного завода слушали композицию, точнее, сочинение капельмейстера своей капеллы.
Местоимение «свое» вообще играло большую роль в их жизни. Стршельнице был их, ресторатор был их, все, что они видели вокруг, принадлежало им.
Сидели они у себя, за круглыми столами, над ними шумела листва деревьев, сквозь листву голубело небо, и, поглядывая на небо, они удовлетворенно улыбались, словно бы и это небо над Дачицами тоже принадлежало им.
Птицы в кронах деревьев пели, их птицы, ибо они, дачицкие жители, кормили и пеклись о них, о чем свидетельствовали деревянные строеньица, белеющие среди зеленой листвы.
Официант, который их обслуживал, был тоже свой, родом из Дачиц, в будние дни он портняжил, а по воскресеньям и праздникам — подрабатывал в местной загородной ресторации «Стршельнице».
Столы, за которыми они сидели, были делом рук городского столяра Рамилека, кружки, из которых пили, поставлял сюда дачицкий стеклодув Колечек, скатерти на столе были из полотняной лавки дачицкого торговца полотном Малены, а сигары, которые они курили, из дачицкой табачной лавочки, так же как и табак, который они нюхали.
Рогалики, которыми они похрустывали, выпекал дачицкий пекарь Брадач. Если кто-то заказывал паприкаш, то мог быть уверен, что это блюдо изготовлено из говядины собственного откорма.
А глянув вниз с косогора, на котором раскинулись Стршельнице, они видели Дачице, свои дома и старые строения под красными черепичными крышами, эркеры, подворотни, арки, статую святого Иосифа на площади. На шпиле их костела сверкал крест, на городской башне можно было разглядеть выщербленные бойницы и дырявую крышу, а вокруг, куда ни кинь взгляд, одни красные крыши, до самой речки, за ней уже начинаются Пшары, предместье с хибарами, крытыми дранкой и соломой. Здесь заканчиваются Дачице. А вокруг их города раскинулись их поля, зеленеют их луга, темнеют рощи, леса и посадки с их охотничьими угодьями, где водятся их зайцы, куропатки, перепела, кролики и воробьи.
Поэтому и сидели они такие довольные в окружении всего своего. Капелла играла, они кричали «бис», яростно хлопали в ладоши, и снова вокруг разносилась мелодия, сочиненная дачицким капельмейстером, который хоть и был каменщиком, но тем не менее человеком преотличнейшим, он сложил уже шесть музыкальных пьес, никуда, правда, не годных, но которые дачицким нравились, ибо они сложены их земляком.
— Повторить!
Сегодня в двадцатый раз исполнял им капельмейстер свою пьесу, а они сопровождали ее деликатным посвистыванием и мурлыканьем, пиво сегодня было замечательно крепким, воздух спокойным и приятным, на небе ни облачка, и сиделось им здесь преотменно, отменно пилось, и беседовалось, и кричалось «Бис!», «Повторить, пан Змрзлик!».
Возле самой веранды, где играла капелла талантливого каменщика, состоящая из одного портного, одного меховщика, трех приказчиков и одного полицейского, стояли два составленных вместе круглых стола, а за ними сидели сливки дачицкого общества, проходя мимо которых, каждый дачицкий горожанин не преминул отвесить поклон и пожелать «Доброго здоровьичка!».
Здесь сидел пан Йозеф Патрный, ныне уже действительно депутат, вместе с женой Анной, оба достойно тучные и выбритые, что, если говорить о его супруге, могло бы где-нибудь дать пищу для шуток, но никак не в Дачицах. Рядом с пани Анной сидела их дочь Анежка, которую нежно называли Нежей. Возле Анежки примостился двадцативосьмилетний сын советника Матоушека, наследник своего отца, а тот с лицом, красным от счастья, сидел возле пана Патрного, ибо всегда заливался краской, увидав своего Франтишека рядышком с барышней Нежей, потому как сие являлось для него не только большой честью, но и давало повод для счастливых мыслей относительно того, что эта парочка станет однажды добрыми супругами, о чем он, уже частенько беседовали с паном Патрным.
Рядом с советником Матоушеком восседал заросший волосами пан староста Боуржичек, то и дело заправлявший нос щепоткой нюхательного табаку и утирающий физиономию своим большим красным платком. К пану Боуржичку жался советник Пршелоучка, весьма смешливый старый господин, который все время хохотал и поводил плечами.
Затем доктор Велишка, тоже старый господин, который, между прочим, все хвори лечил водой и заявлял пациенту: «Без воли божьей и волос с головы не упадет!» Он был старой школы и, если умирал его больной, в день похорон постился и не курил.
Сейчас он беседует с почтмейстером Бертиком, бывшим жандармским вахмистром, у которого была привычка, слушая кого-нибудь, почесывать нос, поначалу медленно, а потом все быстрее.
Пан Бертик говорит:
— Jawohl, mein Freund[24], — и достает щепотку табаку из берестяной табакерки сидящего рядом с ним советника Павлоусека, который сидит смирно и по своей привычке работает челюстями, чем приводит свои уши в движение и преспокойно шевелит ими, над чем тихонько хихикает сидящая напротив блондинка барышня Нежа и подталкивает локтем бледного Матоушека, который деликатно кашляет, прикрывая рот ломтиком хлеба.
Пан Пршелоучка поддерживал все общество в состоянии веселья. Он рассказывал анекдоты, которые никого не оскорбляли и над которыми могли посмеяться и дамы тоже, что они и делали беспрерывно и громко. Нежа от смеха присвистывала, а пани Анна, басовито хохоча, хлопала мужа толстой рукой по спине.
Почтмейстер Бертик смеялся «ха-ха», пан доктор «хе-хе» и чихал, пан депутат смеялся «хо-хо», а пан Матоушек «хи-хи». Это были, ничего не скажешь, превосходные анекдоты. Может, где-нибудь в другом месте они и не понравятся, но в Дачицах их почитают за истинно золотые россыпи юмора, и никому не мешает, если кто-то из сидящих перебивает пана Пршелоучку, дачицкого короля острословов, замечаниями и репликами, которые бывают иногда не менее остроумны, нежели сами анекдоты.
— Я расскажу вам, — сказал Пршелоучка, когда капельмейстер объявил, что сейчас будет перерыв, чтобы музыканты могли подкрепиться, — я расскажу вам отличную историю про лису.
— Про лису, говорите, ах вы, старый лис, — хохотал поддерживаемый всем обществом пан бургомистр, — ну, рассказывайте про лисичку, старый лис!
Новый взрыв смеха.
Пан Пршелоучка отхлебнул и заговорил:
— Отправился я однажды в гости к своему дядюшке-леснику.
— А у вас еще и дядюшка имеется? — невинно вопросил пан Патрный среди бурного веселья.
— К этому дядюшке я, значит, и пошел.
— На своих на двоих? — спросил советник Матоушек, весело подмаргивая сыну.
— Да, на своих на двоих, и когда я пришел к дядюшке-леснику…
— …то собрались два плута вместе, — провозгласил ко всеобщему веселью почтмейстер.
— Дядюшка-лесник встретил меня весьма сердечно…
— Но надеюсь, обошлось без поцелуев, — усмехнулся пан доктор.
Новый взрыв хохота.
— И говорит: «У нас здесь развелось множество лисичек…»
— А лисов? — не упустил случая староста, чтобы повторить под общий смех городских тузов свою шутку.
— Они причиняют нам такой урон, что приходится подбрасывать им сардельки, отравленные стрихнином.
— Стрихнин, — заметил пан почтмейстер. — Когда я был еще жандармом, я разбирал одно дельце. Некая краля отравила своего мужа, история была путаная, потому что сама она повесилась.
Барышню Нежу развеселило и это.
— Значит, так: дядюшка приказал сардельки сварить, нашпиговал их стрихнином и разбросал вокруг дома.
— Приятного аппетита, — зашелся от смеха советник Матоушек, — а сарделек много?
— Много, — ответил рассказчик. — И вот пошли мы как-то за дом поглядеть. И что же мы там видим…
— Сардельки со стрихнином, — изрек староста.
— Их тоже, но и лисицу, которая стоит прямо перед нами. Дядюшка снимает с плеча ружье и стреляет. Бац! Лиса все стоит, как пень. Он снова заряжает и — бац! Лисица ни с места, все стоит. Сами понимаете, нам это показалось странным, бежим к ней поглядеть. И знаете, в чем дело?
Пан Пршелоучка смолк, улыбнулся и в напряженной тишине произнес: «Эта лисица, скажу я вам, до того нажралась отравленных сарделек, что у нее не было сил свалиться…»
— Ха-ха! Хе-хе! Кха-кха, апчхи.
— Будьте здоровы.
— Хо-хо! Хи-хи!
Смеялись все. И у других столов, услыхав, как смеются городские тузы, хохотали тоже. Смех не утихал долго.
— Ох, и хитрый же вы лис, — кричал пан староста, — ну и удружили!
Музыканты опять объявились на веранде, послышалось бурное «браво!», и капельмейстер сегодня уже в двадцать третий раз заиграл свое новое произведение «Кошачья свадьба».
Барышня Нежа шепнула маменьке:
— Я хотела бы прогуляться с паном Матоушеком, ты нам позволишь?
Пани Анна улыбнулась и кивнула головой. Молодые люди поднялись и удалились под смех оставшихся, весьма многозначительно указывавших на них пальцами.
А музыка играла, птицы пели, и посыпанная песком дорога, ведущая в городскую рощу, была столь заманчива, как и ее тень, и приглушенная тишина над дерновыми сиденьями в зарослях.
Барышня Нежа шествовала рядом с молодым Матоушеком, который двигался, словно агнец, не глядя ни влево, ни вправо, уставившись лишь вперед, где находилась городская роща, и было ему почему-то страшно.
Он говорил с Нежей о лисах, о пане почтмейстере и о ценах на сахар, которые все росли.
А барышня Нежа переводила разговор на другую тему. На тему о том, как Пепичек Кейгак целовал за воротами Маржку Лойковых, и Матоушек-младший, полный ужаса, как только оказался в городской роще, сразу же опустился на дерновое сиденье.
Он хотел сказать Неже, что любит ее, что унаследует после отца лавку, что тоже будет советником. Сколько раз он уже хотел сказать ей это именно здесь, но и сейчас, как и две недели назад, оробев, перевел разговор на керосиновые лампы.
А было здесь восхитительно. Доносилась приятная музыка, тень от деревьев и кустов была чрезвычайно нежна, яркая зелень вокруг благоухала. Прелестная Нежа в своем платье из ситчика была так близко…
Ну, а Нежа? Та была грустна. Уже два года водит она молодого Матоушека в городскую рощу, дает ему понять, что ему надобно только выдавить из себя объяснение, но каждый раз он заводит речь про цены на товар, которые либо растут, либо падают.
— Пан Матоушек, вы очень рассеянны, — молвила Нежа, в то время как он задумчиво покусывал веточку дикой сирени.
— Да, это так, — ответствовал Матоушек, — вчера опять уронил две бутылки на пол. Одна разбилась вдребезги, — добавил он со вздохом.
— Почему ж вы так рассеянны?
— Зачем вы меня мучите? — печально произнес Матоушек. — Я поскользнулся и все тут.
— А почему вы поскользнулись?
— Потому что я кой о чем думал.
— А о чем вы думали?
Матоушек зарделся:
— О том, что надо переставлять полки, а еще… — он умолк.
— О чем же еще, пан Матоушек?
— О сегодняшнем дне, барышня Нежа. Я радовался. Пан Пршелоучка весьма забавный человек…
Нежа вздохнула, умолкла, а потом заявила:
— Маржка Лойковых сказала мне такую странную вещь. Говорят, если мужчина наступит барышне на ногу, значит, он объясняется ей в любви. Что вы на это скажете?
Молодой Матоушек встал, потом сел и вдруг быстро влез ногой барышне Неже на туфельку, она же воскликнула:
— Нет, не на эту, на левую, на правой у меня мозоль!
И Матоушек наступил Неже на левую ногу, заливаясь краской от радости…
Как мы видим, воскресный день окончился ко всеобщему удовольствию, ведь со Стршельнице неслось бурное требование, чтобы капельмейстер в двадцать четвертый раз сыграл свое новое произведение…
VI
Это была преочаровательнейшая идиллия, тем более прекрасная, если вспомнить, что в Дачицах жили столь счастливые люди, которые любили друг друга, конечно же, в меру и спокойно. Здесь никто еще не повесился от несчастной любви, никто никого из-за несчастной любви не убил, ибо влюблялись друг в друга всегда лишь те, которые могли влюбиться и которые знали, что у их любви ни с какой стороны не будет возникать препятствий.
Ежели в Дачицах молодой человек либо, можёт статься, человек пожилой объяснился в любви барышне, то лишь тогда смел с ней публично появляться, и таким образом объявить согражданам, что уже решился вступить в брачный союз, который в Дачицах вызывал необычайное уважение, и только на окраине города, в Пшарах, среди мелких домовладельцев, случался иногда семейный скандал, который заканчивался тем, что муж обращался к пану старосте и глава города вызывал жену в ратушу, где и пенял ей.
И любовь в Дачицах была безупречной. Дети никогда не рождались ни до свадьбы, ни через месяц после свадьбы…
О свободной любви здесь даже не слыхали, не то чтобы о ней помышлять, потому что супруги взаимно уважали друг друга и никто не прегрешил против заповеди божьей: «Не пожелай жены ближнего своего!» Раздоры были весьма редкими, о чем я уже упоминал. В доказательство мне удалось составить некую статистическую таблицу наиболее известных супружеских распрей за последние десять лет.
| Год | Имя жены или мужа, который другого обругал и т. д. | Причина скандала между супругами | Ругательства, которые были произнесены и под. |
|---|---|---|---|
| 1894 | Пани старостиха | Возвращение с вечеринки после дебатов | Осел! (затрещина) |
| Она же | Возвращение из трактира в 4 часа утра | Осел! Скот! Радуйся, что я в тебя не попала | |
| 1895 | Ничего | Ничего | Ничего |
| 1896 | Малоземельная крестьянка Машкова (Пшары) | Съел ее порцию гороха | Вывихнула большой палец |
| Мясничиха Коларжикова | Продал теленка, а деньги пропил | Ты скотина! Осел, остолоп! | |
| Она же | Продал борова, а деньги пропил | Dtto[25] | |
| 1897 | Ничего | Ничего | Ничего |
| 1898 | Йозеф Енда, столяр (Пшары) | Сожгла муку для заправки похлебки и опрокинула в нее кипящий клей | Таскал за волосы и приговаривал: «Эх, жена, жена!» |
| Они же | Не пожелала нюхнуть табаку у кума | Угрожал заткнуть ей табаком рот | |
| 1899 | Ничего | Ничего | Ничего |
| 1900 | Пани старостиха | Обзывала его | С меня хватит, не то я за себя не ручаюсь! |
| Йозеф Патрный | Не получил в пятницу к обеду пышек | Ну и порядки, чтоб тебе голову снесли! | |
| 1901 | Ничего | Ничего | Ничего |
| 1902 | Вондракова | Трижды подряд икнул | Можно ли с тобой куда-нибудь ходить, коли ты такой дурак! |
| 1903 | Ганка из Пшар | Хотел ее поцеловать в три часа ночи | Катись ты, не то такую залеплю! |
| 1904 | Ничего | Ничего | Ничего |
Настал тот самый знаменательный день. Два дачицких полицейских встали пред муниципалитетом, куда потянулись толпы горожан, бурно обсуждающих происходящее и горящих нетерпением.
У окна была установлена трибуна, длинный стол и несколько стульев. На столе стоял знакомый стакан и графин с водой, из которого пивали все господа депутаты Патрные.
И сейчас, когда столпившиеся взирали на стакан, им было грустно. Ведь из него после произнесенной речи теперь, будет, очевидно, пить кандидат-чужак.
Зала гудела, словно улей. Все смотрели на колокольчик, которым председатель клуба избирателей всегда открывал собрание. С почтением взирали они на мягкий стул, где обычно сиживает чиновник уездного управления, и вдруг, словно волна, прокатилась весть:
— Приехал!
Пан Котларж явился в бричке, имея при себе бургомистра из Мышиц и двух наиболее уважаемых мышицких граждан.
И одновременно с его вступлением в залу, из других дверей медленно, дрожа от возмущения и клацая зубами, стал пробираться к столу пан Йозеф Патрный вместе с чиновником уездного управления.
Функционеры заняли свои места. Мышицкие граждане и отцы города выстроились под трибуной, зазвенел колокольчик, и председатель клуба избирателей от Дачиц и уезда среди гробового молчания сообщил:
— Представляю слово пану Котларжу. — Тем самым проявив уважение к иноземцам, хотя бы и враждебным.
Пан Котларж вскочил, оперся ладонью о стол, поклонился, вторую руку прижал к груди и начал говорить, как раз в тот момент, когда ночной стражник Вачленяк вошел в залу.
— Уважаемое собрание! Я позволю себе представиться почтенным избирателям. Я Йозеф Котларж, помещик из Мышиц.
Мышицкие граждане внизу согласно кивали головами.
— Я осмеливаюсь выставить свою кандидатуру на освободившееся место депутата пана Франтишека Патрного, чьи принципы я всегда уважал и с принципами которого мои принципы полностью совпадают.
Позади, где стоял ночной стражник Вачленяк, возникло оживленное движение. Как только Вачленяк взглянул на физиономию оратора, ему тут же показалось, что эту физиономию он уже где-то видел несколько лет назад. Она сдавалась ему столь знакомой, что он начал продвигаться вперед и ближе, чтобы иметь возможность в этом убедиться.
— Уважаемое собрание, — ораторствовал далее пан Котларж, — эти принципы, исключительные и прекрасные, вдохновили меня до такой степени, что я осмеливаюсь просить вашего доверия…
Вачленяк, пробираясь сквозь толпу, чтобы взглянуть вблизи на знакомое лицо, вдруг застыл на месте и побледнел. Он видел лишь маленькие черные усики под носом и физиономию, побитую оспой. Колени у Вачленяка задрожали, а когда оратор продолжил:
— …Доверия, на которое вы с уверенностью можете опереться, — подтверждаемого моими убеждениями, всей моей личностью, моим безупречным поведением, — тут бледный Вачленяк уже не сомневался: «Да это же тот самый новый приказчик из подвала пана Вондрака, который являлся мне во сне со своими черными усиками под носом и физиономией, побитой оспой».
Вачленяк уже не слышал слов оратора: «Я буду за вас драться, обещаю, клянусь!» И не видел ничего, только эти черные усики и физиономию.
Вачленяк подскочил к столу, схватил пана Котларжа за горло и закричал:
— Я-то вас знаю! Вон отсюда! Не то велю арестовать, вон!
Ночной стражник Вачленяк тряс пана Котларжа и пытался вытащить из-за стола.
В зале поднялся страшный шум, среди которого был слышен лишь жалобный голос оратора:
— Помогите, ради бога, что это со мной делают, держите его, ради бога.
И голос Вачленяка:
— Я тебе покажу, как выставлять свою кандидатуру, я тебя проучу…
И прочие голоса.
Мышицкие граждане и начальство кинулись на помощь помещику и опрокинули стол, чиновник уездного управления свалился со стула, облился водой из графина и заорал на обеспамятевшего от испуга секретаря:
— Именем закона закрываю собрание! — чем спровоцировал всеобщую свалку вокруг оратора, вокруг мышицкой четверки, вокруг Вачленяка, которого начальство из Мышиц лягало ногами, принуждая отпустить господина кандидата.
Дачицкие в этой суматохе сочли, что Вачленяк действует, как патриот, обороняющий их интересы от чужеземного агрессора, и потому устремились к дерущимся и общими усилиями потащили помещика Котларжа и трех прочих мышицких, под брань и проклятья, прочь из залы. Геройский поступок ночного сторожа Вачленяка пробудил патриотический дух у защитников города, хранителей семейства депутатов Патрных.
Они одолели оратора и мышицких чужаков, и те, поспешно усевшись в бричку, помчались прочь, причем изумленный и сбитый с толку пан Котларж стоял столбом и, не ведая, что несет, кричал в негодующую толпу, бегущую за бричкой:
— Уважаемое собрание, принципы эти, исключительные и прекрасные принципы, вдохновили меня до такой степени, что я осмеливаюсь просить вашего доверия…
И вдруг, упав на сиденье, заорал:
— Варвары!
И горько зарыдал, в то время как пан Йозеф Патрный в дверях муниципалитета протягивал бледному Вачленяку правую руку вместе с золотой монетой и говорил:
— Таким вы мне нравитесь, Вачленяк!
И Вачленяк, к которому возвращалось благоразумие, прошептал:
— В башке что-то сдвинулось, пан депутат…
Первое апреля пана Фабианека
Гордиан Матей Фабианек был старым холостяком, а Убальда Енофефа Третерова, его экономка, — старой девой.
Так они и жили в страхе божьем долгие годы, он курил трубку и, где бы ни сидел со своей трубкой, везде сыпал пепел. Она этот пепел самоотверженно собирала и все двадцать пять лет говорила с отчаянием:
— Нет, вы только посмотрите, что он опять вытворяет с этим пеплом! Где сядет, там и выбивает свою трубку!
И все двадцать пять лет пан Гордиан Матей отвечал ей на это:
— Что поделаешь, мадемуазель Енофефа Третерова, меня уже не переделаешь. Все равно господь бог скоро призовет меня к себе, чтобы на небесах вознаградить меня за чистилище в этом доме. И все это из-за вашей трескотни, мадемуазель Убальда!
Но пеплом дело не кончалось. Тут же заводилась целая канитель:
— Уж если вас не отучить пепел сыпать куда попало, что уж тут говорить про ботинки! Ведь когда на улице самая грязь, вы столько ее натащите в кухню, в комнату, не приведи господи! А мне, бедной, только и ходи за вами с совком да щеткой! Прости меня господи, но ведь я, пан Гордиан Матей, порой и проклинать начинаю, грех беру на свою бедную душу, смертный грех, потому что нет-нет, да и вырвется: «Проклятая грязь! Ну неужто он не может вытереть ноги на пороге дома!» Да ведь вы их не вытираете, вы всю слякоть с улицы в дом несете, разве что платком ноги оботрете! А я, несчастная, только и делаю, что платки эти стираю! А когда катаю их у лавочника вместе с бельем, так он мне говорит: «Это ж надо уметь так обращаться с платками, как этот ваш дед! Дождь идет, а он в воротах ботинки платком вытирает!»
— Ну уж если я дед, — восклицал в сердцах пан Гордиан Матей, сплевывая, — то вы — старая баба!
— Господи помилуй! Да я хоть сейчас могу выйти замуж! А вы бы еще посмотрели, как меня муж на руках бы носил!
— Разве что к речке, чтобы вас там утопить! То ли дело я! Иду по улице, а вокруг меня так и вьются девушки да дамочки, стройненькие, пухленькие, тоненькие. И все в один голос: «Ах, какой красивый мужчина!..» Вы не смейтесь, не смейтесь, Енофефа Третерова! На вас-то если кто и оглянется, то только чтобы сказать: «Э, да ведь это старая Убальда, старуха Енофефа, старое пугало Тре-те-те-те-терова!»
Этого уже ее сердце не выдерживало. Она упирала руки в боки, и пошло-поехало:
— Ах, так я для вас какая-то Тре-тете? За то, что служу вам честно не первый десяток лет, какая-то «старая Убальда, старая Енофефа, пугало»? Все! Утоплюсь! Повешусь! Выброшусь из окна! Ах вы Фабиан, ах вы Матей, ах вы Гордиан бессердечный! Это на вас-то кто-то засматривается? Да ведь вы богохульствуете, спасителя поносите, сами не знаете, что говорите! Это при вашей-то лысине да ногах заплетающихся, с вашими-то привычками плевать куда вздумается, ботинки не чистить да грязь платком вытирать?! Изверг вы! Похуже царя Ирода, что невинных младенцев вифлеемских приказал передушить! И вы еще воображаете, что можете на кого-то произвести впечатление? Что из-за вас какая-нибудь там обезьяна с ума сойдет? Это вам-то бегать за женщинами? Да вы ж до Вацлавской площади не добредете… Да будь у вас хоть восемьдесят аэропланов, вам не подцепить ни одной женщины, разве что какую-нибудь, с позволения сказать, сову, которая ваши денежки по ветру пустит, а вас отправит на Ольшаны!
Девица Убальда начинала горько рыдать, хлопала дверьми и запиралась в кухне.
Пан Гордиан Матей Фабианек обычно глубоко вздохнув, выпивал чего-нибудь (только не воды), прохаживался взад и вперед по комнате, а потом стучал в дверь кухни и плаксивым голосом звал:
— Ах, господи боже мой, милая, золотая мадемуазель Убальда, у меня опять паралич начинается! Ноги стынут, круги перед глазами вертятся — синие, зеленые, красные, желтые, фиолетовые… Я вас прощаю… Я на вас больше не сержусь… бог с вами. Я уж совсем ничего не вижу, в глазах одна чернота, туман и гробы…
Через минуту дверь кухни открывалась и выходила девица Убальда, заплаканная и озабоченная, устраивала пана Фабианека в кресле, зажигала ему трубку, и ссоре был конец.
В остальном жизнь их протекала спокойно. Но вдруг нынче перед первым апреля на пана Фабианека что-то накатило. Девица Убальда с ужасом стала замечать, что пан Фабианек слегка «того́».
Уже который день он разговаривал как влюбленный, сидя у раскрытого окна, через которое проникал в квартиру весенний воздух.
Он говорил только о женщинах, и с небывалым воодушевлением. Говорил о созданиях со вздернутыми прелестными головками на чудных шейках, о существах с чистой и белой кожей, с карими глазками, в которых искрится веселость. О созданиях нежных, с высокой грудью и прелестными ножками, о молодых существах, щебечущих весело и без устали. Да! Вот если бы мадемуазель Убальда хоть на что-нибудь годилась, она познакомила бы его с таким кареглазым созданием, ангельски белым, щебечущим и веселым…
Снова и снова твердил он мечтательно, что оно должно быть молоденьким, с алебастровой шейкой, с прелестной головкой и с клювиком, который все время щебетал бы: «Мой золотой Гордиан, Матейчик, Фабианчик!»
Мадемуазель Убальда была в полном отчаянье и, когда в канун первого апреля пан Фабианек снова описывал ей свой идеал, она наконец откликнулась:
— Знаете что, завтра утром я вам точно такую одну доставлю!
* * *
Было утро первого апреля. Пан Фабианек нетерпеливо поглядывал на двери. Наконец-то увидит он свой идеал, который он создал в своем воображении и который вот-вот появится у него перед глазами. Он уже слышал шаги в коридоре, и тут… Дверь отворилась, вошла мадемуазель Убальда Енофефа Третерова, на руке у нее была корзинка, из которой виднелась голова, шея, грудка… — прекрасная, белая, живая гусочка, ласково кивающая пану Фабианеку…
А девица Убальда с ехидной улыбкой обратилась к пану Фабианеку:
— Вот вам, пан Фабианек, это ангельское создание! Вы только извольте глянуть на эту белую шейку, на эти милые ножки, на это юное существо… Вы только гляньте на эту головку, на этот клювик, на белое тельце! Вот это кожа, а, пан Фабианек?! На эти карие глазки, а как сладко она выговаривает: «Мой золотой Гордиан, Матейчик, Фабианчик…»
«Ангельское создание» пан Гордиан Матей Фабианек съел с мрачным наслаждением и до вечера не разговаривал с девицей Убальдой.
В Гавличковых садах
I
Йозеф Павлоусек, судя по вывеске над дверью — колорист, а говоря проще, обыкновенный маляр, большую часть недели благоухающий клеем, по случаю праздника вознесения приводил себя в порядок; время было послеобеденное, и он ждал гостей.
Его жена Мария, толстоватая особа грубого вида, выливала в отхожее место помои, что знаменовало наступление большого праздника, ибо в будние дни она выливала их просто в раковину и скандалила по этой причине с соседом-пенсионером, по праздникам же его не бывало дома.
Свояченица пана Павлоусека, девица Брейхова тридцати лет, сушила на протянутой над плитой веревке свои белые перчатки и с безмерно сентиментальным выражением на бледном лице тихо напевала лишенным приятности голосом:
Маляр, который в это время брился, положил лезвие на кухонный стол, где уже лежали расческа и платяная щетка, и хихикнул:
— Да дождешься ты своего Гонзу, так что нечего скулить. И замечу кстати…
Но не нашелся, что бы это такое заметить, и снова прыснул:
— Дождешься Гонзу, дождешься!
Тут вошла с лоханью его супруга и принялась наряжаться, проявляя при этом свойственное определенным слоям общества полное отсутствие вкуса.
«Краски должны кричать»; — таков был принцип самого маляра, но расцветки платьев его супруги даже не кричали — они в буквальном смысле вопили.
Свояченица же отдавала предпочтение голубому цвету, хотя возможность носить голубые наряды стоила ей немалых жертв, в том числе и пощечин, с помощью которых пани Павлоускова пыталась внушить своей сестре любовь к платьям вопиюще красного цвета с желтым бантом на юбке. Вот и сегодня, стоило Брейховой облачиться в свое голубое платье, как тут же разразилась гроза.
— Опять чучело из себя изображаешь! — орала Павлоускова, пока маляр прилаживал ей сзади на красную юбку желтый бант.
— А ты вообще на ненормальную похожа, — парировала сестра. — От твоего вида и индюк обалдеет.
— Дай-ка ей разок, чтобы язык прикусила! — подзуживала Павлоускова супруга.
— Дождетесь вы у меня, сейчас обеих взгрею, если не прекратите эту ругань, — подал голос маляр, — вот балаболки неотесанные, недели им мало было, чтобы собачиться, так они еще в праздник цапаются, будто с цепи сорвались. Всю жизнь мне поганите, — заорал он, злобно сплюнув на пол, — надрываешься тут на вас, на прогулки с собой таскаешь, сегодня хотел вот Гавличковы сады показать, ведьмы проклятые, хоть бы минуту покоя дали!
— Видали такого, надрывается он ради нас! — окрысилась Павлоускова. — Только к утру и заявляется с этой самой «работы» «У Флеков». Слышала, Маржка, он, оказывается, из-за нас перетрудился!
Брейхова отвечать не стала, а кивнув головой, отошла к окну и выпила воды из кувшина.
Павлоусек вышел покурить трубку, ворча себе под нос:
— Ну и стервы!
Брейхова застелила скатертью стол и достала из шкафа зонтик от солнца.
— Что, лень было заодно и мой вытащить? — напустилась на сестру Павлоускова, — все бы тебе бездельничать да жрать задарма!
— Это я-то? Я разве не хожу шить и деньги в дом не приношу?
— Да уж, много ты за последние полгода принесла! А до этого, когда ты полгода болела, кто тебя кормил-пойл? А на доктора сколько денег извели и на лекарства?
— Если не перестанете лаяться, я с вами ни в какие Гавличковы сады не пойду! — вмешался в их перебранку маляр.
Тут в дверь постучали, и вошли гости.
Один из них был пан Ян Боусек, мужчина сорока лет, с забавной плешью, кругленький, как бочонок. Боусек снес от судьбы немало тяжелых ударов: торговал, да обанкротился и угодил за решетку, затем открыл справочное бюро, но получил срок за подлог, после чего какое-то время служил посыльным, а теперь заделался коммивояжером, поскольку обладал несомненным даром красноречия, а также чувством юмора — он знал бесчисленное множество неприличных анекдотов и бесподобно их рассказывал; все знакомые его очень за это любили.
Он и был тот самый Еничек девицы Брейховой, которая обычно краснела, когда он жал ей руку и шептал, но так, чтобы слышали и остальные, что она выглядит как настоящая молодая пани.
Гости смеются, это — мясник пан Кареш со своей юной супругой Фанинкой, у которых снимает комнату пан Боусек, — пара, дополняющая своими топорными повадками все это невежественное общество.
Женщины целуются и заливаются смехом, словно горничные, когда приходят в трактир на танцы или за пивом.
— Так, так, милые мои, — изрекает пан Боусек и присаживается на стол. Женщины начинают его сталкивать, и под общий смех и радостные крики он вместе со скатертью оказывается на полу.
— Ну чем не привидение, — Боусек со смехом обматывает свое тучное тело скатертью и при этом уморительно хрюкает.
— Лучше вы похрюкайте для нас в пещере в Гавличковых садах, — говорит пани Карешова.
— Нет, — важно отвечает пан Боусек, — там я буду изображать тигра.
— А как вы его изображаете? — любопытствует девица Брейхова.
— Вот так! — и он издает такой мощный рык, что все затыкают уши и смеются.
Ну и затейник этот пан Боусек!
— И будем за это с публики собирать… — добавляет Павлоусек, прослезившись от смеха и утирая глаза.
— В пользу отощавшего тигра, — острит Боусек и медленно поднимается с пола. — Ну что, пора бы уж и двигаться потихоньку в этот новый Риграк.
— Новый Риграк! — веселится пани Павлоускова. — И где это вы только такие сравнения откапываете?
— Да в себе самом, уважаемая, этот божий дар не продается, — он похлопал себя по животу. — Одному господь дает деньги, другого произведет на свет слепым или худым…
— А вы каким родились? — осведомляется пани Карешова.
— Лохматым, — и Боусек показывает на свою плешь.
— Господа, пойдем, что ли, наконец, в Гавличковы сады, — предлагает маляр.
— Пойдем, уж коли там мог бывать князь Виндишгрец и миллионер Гребе, то и нам грех не сходить, — мясник ухмыльнулся, — всем назло пойдем.
— Поменьше болтай, — и супруга шлепает его по лицу.
— Пошли, господа, — говорит Боусек. — Я ничего не забыл? Ага, деньги, спички, — ключ, живот — все при мне.
— Ой, не могу! — захлебывается от смеха девица Брейхова.
Веселая компания выходит в коридор и спускается вниз по лестнице.
— Высоко тут у вас, вот уж откуда загреметь было бы неохота, — задрав голову, орет пан Боусек и обращается к какой-то даме на улице:
— Целую ручку!
— Вы что, знакомы с ней?
— Не хватало еще с такой знакомиться! — смеется Боусек и в конце улицы повторяет свою «шутку».
— Без вас нам было бы скучно, — говорит ему девица Брейхова.
— Еще бы! — самоуверенно отвечает он и обращается к парнишке, который пускает по тротуару волчок: — Послушай, какого пола твоя штуковина — мужского или женского?
Коротка дорога, если веселье и смех спешат рядом.
II
На окраине Виноградов, ближе к Вршовицам, и расположились те самые удивительные Гавличковы сады — бывшее владение немца Гребе, который вложил высосанные из чешского народа деньги в свое блестящее начинание и создал на склоне Нусельской долины самый прелестный парк в Праге. Сотни тысяч истратил он на это дело, чтобы потом его виллу и роскошные сады арендовала княжеская чета Виндишгрецов, и наконец виноградский магистрат выкупил этот парк у их наследников и сделал общественным достоянием, дабы всяк желающий мог вдоволь надышаться чудесным воздухом, погулять здесь, где ароматы цветов, запахи хвои и лиственных деревьев в разнообразнейших его уголках как бы переносят посетителя в мир настоящей природы, прочь от городского шума в сельскую тишь, чтобы каждый налюбовался (какое же это в общем невыразительное слово: налюбовался) тем, что сильнее всего действует на душу: зеленью деревьев, изумрудной травой, короче, тем, что находит отзвук в сердцах истинных любителей природы, для которых лес — не сажени древесины, а луг — не центнеры сена.
Чтобы люди могли послушать пение птиц, посмотреть на скалы, пещеры, фонтаны и пруды, хоть и искусственные, но выполненные так умело, что повторяют капризы природы в мельчайших подробностях.
Перед входом стайками крутились ребятишки, которых без взрослых в парк не пускали на том основании, что нравы нашей золотой молодежи раз и навсегда были определены как грубые.
— Дяденька, возьмите меня с собой! Дяденька, меня проведите! Не берите Франту, меня возьмите, дяденька!
Сколько стонов и униженных просьб, и все только для того, чтобы проскочить через заветный вход, охраняемый строгим сторожем.
— Порадую ребят, — произнес пан Боусек, когда наша компания влилась в толпу прибывающей публики, толпу громадную, потому что по воскресеньям за вход брали по 20 геллеров в пользу неимущих подростков, — прихватим с собой ребятишек, чтобы они им тут все разорили, раз их по-хорошему не пускают.
— Дяденька, возьмите меня с собой!
— Проведите, дяденька!
— За мной, ребята, — позвал их пан Боусек, и трое мальчишек из стоявших поблизости с благовоспитанным видом двинулись следом.
— Эти с вами? — осведомился контролер при входе.
— А то как же! — с достоинством ответил пан Боусек под хихиканье своих спутников, и все проследовали в парк.
— Ну, ребятки, — скомандовал коммивояжер, — поломайте им тут что-нибудь, а сейчас — проваливайте.
Ребятня бросилась врассыпную, боязливо оглядываясь по сторонам, не видит ли сторож, что они без провожатых.
Обездоленные существа…
— В случае чего скажете, что потеряли папочку! — прокричал маляр им вдогонку.
— Ну и народищу, — заметил пан Кареш.
Они подошли к щиту с расписанием работы парка.
— Ме-сяц май, — прочла по складам Фанинка, — от шести ут-ра до девяти ве-че-ра.
— Вот и побудем тут до девяти, — сказал маляр.
— Глядите-ка, — обратилась ко всем Павлоускова, — какие тут у них шикарные скамейки с гнутыми спинками.
— Вот бы сейчас сюда постельку постелить… — добавил пан Кареш.
— А если кого блоха сзади укусит, об такую спинку даже не почешешься, — изощрялся пан Боусек во всеуслышанье, чтобы и посторонние могли восторгаться его ярким остроумием.
И действительно, некто с челкой, судя по всему приказчик, засмеялся.
— Ну и как вам в новом Риграке? — окликнул его Боусек. — Батюшки, красота-то какая! А народу больше, чем у нас в церкви на обедне. Эх, видела бы наша бабушка, как тут красиво. А скамеек сколько! Пошли посидим.
— Хочешь посидеть на них — пожертвуй на одежку для неимущих школьников, — заменил маляр в надежде, что кто-нибудь по этому поводу сострит.
— Ну и пошли, глядишь, и мне перепадут ботинки и штаны, — горланил коммивояжер.
— А вон там жили князь с княгиней, — вставила Брейхова.
— Да ну? Господин князь с княгиней? — наигранно изумился Боусек. — И это все его было? Так он же прямо как в раю жил.
Они вышли на террасу и увидели внизу виноградники.
— Вот бы куда на гулянки ходить, — шепнул маляру мясник. — Неплохо эти господа устраивались.
Услыхав их, Боусек вставил:
— Да таких, как они, ничего на свете уже не радовало, — и громко добавил: — Придем сюда на виноград.
— А Градчан почему-то отсюда не видать, — глядя на долину, произнесла Павлоускова.
— Градчаны совсем в другой стороне, дура, — сказал маляр, — поглядите-ка, что там, внизу, вот это сад!
— Удивительно, чего это они не разделили его на участки под застройку, — заметил мясник, — все бы какую ни на есть выгоду имели, а так на эти сады незачем и тратиться.
— Ой, глядите! — завопила Карешова, тыча пальцем в сторону какой-то точки Нусельской долины за Ботичем. — Мы там в прошлом году редиску покупали, целую тележку за две кроны.
— Ничего тут нет интересного, — провозгласил Боусек, — деревья да деревья, пошли лучше в пещеры.
— А мне страшно, — заявила Брейхова, — там темно.
— А когда в подвал ходите, вам тоже страшно? — оскалился Боусек.
— То подвал, а это ведь пещера!
Они двинулись вниз, чтобы выйти на дорогу к пещерам, и немного постояли на лестнице, ведущей к проволочной изгороди, за которой раньше держали косуль.
— Во дров-то! — показал мясник на раскинувшуюся перед ними рощицу.
— А вид такой, будто где в деревенской глухомани, — фыркнул Боусек.
И все побрели вниз, не преминув срезать угол газона, и так уже сильно затоптанного сегодня гуляющей публикой.
Сторож с зеленой повязкой на рукаве рассердился:
— Вы что, ослепли?
— Да я тебе сейчас как… — огрызнулся мясник.
— Ну его, рабскую душу, — урезонивал мясника маляр, — он от своей службы одурел совсем.
— Было бы из-за чего, а то просто трава какая-то… — оскорбилась Фанинка.
— А это вот плевательницы, — продолжал острить Боусек, указывая на прекрасно сделанные питьевые фонтанчики.
— Этот Гребе тоже небось не в своем уме был, — разъяснила Павлоускова, — говорят, одни только пещеры и все эти каменные штуки влетели ему в несколько тысяч.
Они подошли к бассейну у искусственных скал и принялись колотить тростями и зонтиками по черепахам, извергающим водяные струи.
Посреди бассейна стояла скульптура, при виде которой дамы начали шептаться, давясь от смеха.
— Удивляюсь, как только этот парень не простудится, — захохотал Боусек, — совсем голый и все время у воды!
— Там сзади еще какие-то девки кривляются, — предупредил мясник девицу Брейхову.
— Ну что, полезли наверх!
По винтовой лестнице они стали подниматься на верхнюю площадку, и Боусек при этом вопил:
— Не надо меня щипать! Что это вы себе позволяете?
— Отсюда тоже Градчаны не видны, — были первые слова жены мясника, когда они добрались до верха.
— Ну, а теперь в пещеры!
Компания начала взбираться по каменной лестнице между скалами под громкие стоны пана Боусека:
— Ой, бедный мой живот!
В конце концов они достигли пещеры. Женщинам было страшновато, но они все же позволили себя уговорить и проследовали внутрь, смеясь над паном Боусеком, — он уселся на мраморную скамью, чтобы вывести на мраморном же столике свой автограф.
— Подпишитесь и за нас тоже, — попросила Брейхова, сбивая зонтиком сталактит, пока мясник объяснял, что это камни с морского дна.
— А тут плотник дыру оставил, — указал Боусек на отверстие в скале.
Они заметили еще одно отверстие, ведущее вниз и затянутое проволокой наподобие паутины.
— Там господин князь кроликов разводил, — серьезно сообщил коммивояжер.
— Тоскливо чего-то, пошли отсюда, — сказала Брейхова, и все вышли наружу, только Боусек ненадолго задержался, а когда появился, то объяснил сквозь смех, что там есть резервуарчик, и что-то прошептал мяснику, который тоже залился смехом и назвал Боусека проказником.
В следующей пещере они с удивлением уставились на женскую фигуру над маленьким бассейном.
Боусек засунул ей в рот окурок сигары и зарычал, изображая тигра.
— А при Гребе-то здесь вода была, — показал мясник на бассейн.
Напоследок маляр отколупал кусок штукатурки, и в веселом расположении духа все направились к маленьким озерам, подойдя к которым Боусек воскликнул: «Привет!», вызвав всеобщее беспричинное веселье.
— Ну что за дурь такая, — сказала Карешова, — провести сюда, наверх, воду, чтобы посадить в нее эти вот листы.
— Это водяной лук, — махнул на кувшинки Боусек.
— Гребе ходил сюда ноги мыть, — заметил маляр, сорвал папоротник и бросил его в воду.
Оказавшись внизу, они снова прошлись по газону, чтоб позлить сторожа.
Отсюда главная аллея вела в нижнюю часть парка — фруктовый сад.
— Туда я не ходок, — заявил Боусек, — там и подавно ничего путного, одни груши да яблони.
— Говорят, там клубника растет, — сказала Павлоускова, на что мясник возразил, что она еще неспелая.
— Что-то мне пить захотелось, — произнес Павлоусек, — бегаешь тут невесть зачем, лучше бы пойти куда пивка выпить.
— Уговорили, — заулыбался Боусек, — а то здешними глупостями жажду не утолишь.
— Пошли во Вршовице на Коварную улицу, — закончил мясник, — дамы хоть потанцуют, нынче как-никак праздник…
Пробираясь к выходу из парка, Боусек глубокомысленно изрек, показывая на кишевший вокруг народ:
— И чего они тут не видели? Хоть бы пиво смиховское было, а то…
И вся компания с чинным видом покинула Гавличковы сады, где пели птицы и благоухали деревья. Уставшие дамы волочили за собой шлейфы юбок, поднимая пыль…
Монастырь в Бецкове
С господами монахами из монастыря в Бецкове я познакомился четыре года назад. Это были приветливые францисканцы, и мне хочется рассказать, как они меня приняли.
В Бецков-на-Ваге я пришел в поисках потомков куманов среди тамошних жителей. Нет необходимости рассказывать все подробности: правдой здесь было только то, что именно под этим предлогом я проник в монастырь. Короче говоря, почтенного настоятеля я попросту разыграл.
Подойдя к монастырю, я постучал в калитку и подал свою визитную карточку, на обратной стороне которой было написано: «Обращаюсь к Вам, Ваше преподобие, по поводу куманов, следы которых я разыскиваю в Поважье». Под этим скромно стояло: «Прошу о ночлеге и о разрешении познакомиться с монастырским архивом».
Привратник пригласил меня войти и пошел доложить настоятелю Эусебиусу.
Вскоре пришел настоятель. Он подал мне руку и растерянно заявил, что о куманах ему ничего не известно (то есть он знал о них ровно столько же, сколько и я), что же касается архива, то он в полном моем распоряжении. А в монастыре я могу находиться, сколько захочу.
Затем мы направились в трапезную, где господа монахи играли в шахматы. Настоятель представил меня святым отцам, и один из них, отец Либерат, отвел меня в предоставленную мне комнату с восхитительным видом на Ваг.
Отец Либерат открыл окно и, указывая вокруг, произнес:
— Это все наше!
Внизу простирались плодородные равнины, на которых золотились хлеба, и все это, а также зеленые луга и леса, принадлежало францисканцам из Бецкова.
Отец Либерат заговорил о благословении господнем. При этом глаза его пылали вдохновением, а лицо лоснилось от сала.
Затем он пригласил меня в свою келью, где на окнах благоухали роза и базилик. Он открыл какой-то шкаф, вынул оттуда банку сардинок, открыл ее и предложил мне. Из другого шкафчика была извлечена бутылка коньяку.
Некоторое время мы мирно попивали коньяк, курили сигары и беседовали о самых различных вещах: о половодье, которого напрасно опасались, ибо оно было предотвращено молитвами; о благодатном лете, об урожае, о том, какие хлеба даст всемогущий бог, какие будут нынче замечательные сено и клевер…
Потом он позвал меня наверх, на монастырскую колокольню, и, указывая на группу строений внизу, сообщил, что все это монастырские скотные дворы, где содержится четыреста голов крупного скота и триста свиней; а немного подальше — птичий двор. За ним — овчарня с четырьмястами голов овец. А у самого леса — фазанник.
Монастырские леса охраняют восемь лесников и два лесничих. Зверя там не счесть: косули, благородные олени, дикие кабаны, куропатки, зайцы…
С воодушевлением описав все это, любезный отец Либерат сложил молитвенно руки и воскликнул:
— Велико милосердие божье!
Между тем нас уже искали, чтобы пригласить к ужину.
Вокруг длинного стола сидело двенадцать человек. И пока мы, встав, читали краткую молитву, чтобы бог милостиво послал нам хороший аппетит, монахи уже начали носить кушанья.
Воздадим же честь и хвалу монастырской кухне! Всемогущий бог, счастливо направляя руку монахов-кухарей в Бецковском монастыре, в своей бесконечной доброте послал нам куриный суп с мелко нарезанными желудочками и сердечками, по рюмочке мадеры и затем фазана, начиненного каштанами.
Милосердие божье проявилось еще ощутимее, когда были принесены гусята с салатом.
Радость светилась в глазах святых отцов, и перед появлением жареной форели мы поблагодарили еще раз в краткой молитве милосердного бога. Форель была превосходна. Мы в полной мере оценили неисчерпаемую доброту господа, который сотворил все эти прекрасные вещи, чтобы францисканцам в Бецкове жилось хорошо.
Бог создал также и вино. Ах, что за вино водилось в Бецковском монастыре!.. Мы не успевали себе подливать.
В дружеском разговоре незаметно летело время. Мы покуривали сигары, а отец настоятель стал рассказывать забавные истории.
Слово за слово… Тут вступил в беседу отец Фортунат и буквально засыпал нас солеными анекдотами. Причем каждый начинал с предисловия:
— До чего испорчен этот свет, сказать невозможно. Вот рассказывал мне кучер, когда я ехал на праздник в Тренчинскую канонию, будто слышал от одного проезжего господина это бесстыдство. Негодник так сквернословил… А содержание таково…
И пошел, и пошел… Кое-что для наглядности дополнялось жестами. Тут принесли роскошнейший коньяк.
Солнце уже поднималось над Тренчином.
Черт знает почему, но мне не хотелось спать. И когда господа монахи начали расходиться по своим кельям, я вышел из монастыря и направился в поле.
На лугах уже кипела жизнь. В утреннем полумраке крестьяне косили траву для монастырского скота. На опушке леса какой-то старичок отбивал косу.
— Дай бог здоровья! — приветствовал он меня.
— Как живется? — спросил я его.
— Эх, не хочу грешить! Как мне может житься хорошо? — отвечал крестьянин. — Как может житься хорошо? — тоскливо повторил он. — Целый день батрачу на благородных панов из монастыря. А паны платят мне двадцать крейцеров в день без харчей, потому как им, дескать, нужно еще выкроить долю для папы римского.
Он перекрестился и продолжал отбивать косу в утренней тишине, когда туман поднимался над Вагом, а в Бецковском монастыре сладко храпели двенадцать францисканцев.
На разведку
Незадолго до поездки государя императора по вновь приобретенным территориям чиновник отделения политической полиции при боснийском земском управлении Войович был направлен в Шибак, лежащий на отрезке маршрута Боснийский Брод — Мостар, с целью прощупать политические взгляды тамошнего старосты, слывшего оппозиционером.
Войович переоделся крестьянином и, разузнав, в какую корчму имеет обыкновение ходить староста Божетич, чтобы пропустить стаканчик-другой винца, направился туда.
Усевшись против Божетича, он выпил пол-литра вина и попросил у старосты табачку.
— Сказывают, будто император Франц-Иосиф в Герцеговину собирается, — произнес он неспешно.
— Верно, — отвечал староста Божетич, — вот и Исмаил-бей про то же сказывал, когда мы с ним кофе пили у турка Говариво.
— Дай бог ему здоровья, — сказал Войович.
— Храни его господь, — откликнулся Божетич, — говорят, поседел наш государь.
— Поседел. А перед войной-то, — продолжал Войович, — слышь, братья наши в Сербии…
— Ну нет, неправда твоя, нет у меня в Сербии никаких братьев, вот у Йовановича, шибакского шорника, точно братья в Сербии есть. Один, тоже шорник, в Крагуеваце, а другой в Белграде — кондитер.
Войович прикусил губу.
— Нет, я хотел сказать, родные братья, потому что говорят по-нашему…
— Да нет же, — отмахнулся Божетич, — еще раз тебе говорю, во всем сербском королевстве нет у меня родных братьев. Один только двоюродный от неродной тети, Сава Милетич. Косит парень на один глаз, а служит в гостинице в Белграде у одного шваба.
Войович на минуту примолк.
— Но ведь геворят, что у нашей Боснии и Герцеговины с сербами единые душа и тело, да и язык один.
— Какой-такой один, — возразил Божетич, — сербы говорят «што» или «шта», вместо «чо», «ча», и потом, у них «дж» вместо «д». Ну и дурак ты. Швабы, вот кто наши братья. Построили нам железные дороги, коз тут развели.
— И налоги заставили платить, — не терял надежды Войович.
— Да что это за налоги, дубина! Коли правительство порядочное, так я с удовольствием заплачу, — разглагольствовал Божетич, — а если даже у меня ничего не останется, погляжу на свои руки и подумаю: ведь вот дает же мне господь столько сил, чтобы на налоги заработать. И если б довелось мне с голоду помереть, то, коли налоги уплачены, — умру с радостью. Одни негодяи налоги не платят.
Войович вздохнул.
— А говорят, будто правительство притесняет народ.
— Ничего я такого не слышал. Да и быть того не может. Ведь швабы — наши братья, и не притесняют они нас вовсе. Вот и школы для нас швабские построили, чтобы мы за них по-швабски молились. Сидишь себе спокойно в такой школе, это разве угнетение? Кто это тебе, болвану, набрехал, что правительство народ угнетает?
Войович смущенно откашлялся.
— Они у тебя сыновей на войну забирают, — вымолвил он, сохраняя слабую надежду, что Божетич проболтается.
— Вот теперь уж по всему видно, что ты дурак и есть, — ответил староста Божетич, — как это они у меня могут сыновей забрать на войну, когда у меня одна только дочка, что замужем в Мостаре. И у той никаких сыновей нет, дурак!
На следующий день чиновник Войович не солоно хлебавши возвратился в Сараево и доложил о результатах своей доездки следующее:
— У старосты Божетича братьев в Сербии нет, братья там только у Йовановича, шорника из Шибака: один в Крагу еваце шорником, а другой в Белграде… А сам староста все время только и говорил о том, как счастливо ему живется при таком порядочном правительстве.
— Значит, сказал «при порядочном правительстве»? — осведомился старший комиссар.
— Так точно, ваше превосходительство, — ответил Войович, — вот его доподлинные слова: «Я счастлив жить при таком порядочном правительстве!»
— По всему видно, издевался он над вами, — заметил старший комиссар…
И недовольное начальство освободило чиновника вышеупомянутого правительства Войовича от подачи рапорта.
Фонд пана Каубле на благотворительные цели
В третьем квартале пан Каубле был отцом родным для бедняков. В течение последних двадцати лет он всецело посвятил себя благотворительной деятельности. Прежде он ведал распределением бесплатных талонов на уголь беднякам, затем состоял членом муниципалитета и попечительской комиссии.
На всех трех дверях его квартиры были прибиты таблички с надписью:
ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ МЕСТНОЙ БЕДНОТЕ!
Таблички эти не стоили ему ни геллера, потому что дома у него их был полный склад, и он выдавал их всем, кто платил ежегодный взнос на благотворительные цели в сумме 20 крон. Нищим из этой суммы никогда не перепадало ни геллера — все съедали административные расходы комиссии. Референт, ведающий вопросами нищеты, имел жалованье 2400 крон в год, помимо того, был еще чиновник, получавший 1600 крон, и рассыльный, которому платили сто крон в месяц. Остатки уходили на различные расходы, вроде поездок членов попечительской комиссии на съезды в защиту бедноты. Нищим, таким образом, не оставалось ничего.
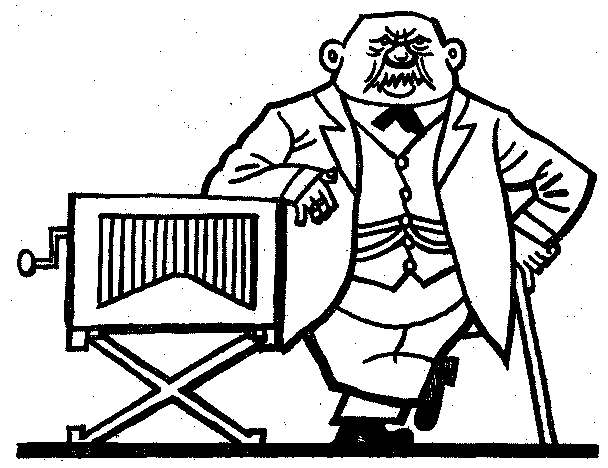
В домах же, где прежде подавали милостыню, теперь им предлагали полюбоваться табличкой у входа:
ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ МЕСТНОЙ БЕДНОТЕ!
Но положение тем самым не улучшилось. Была созвана конференция по борьбе с уличным попрошайничеством. Местная газета предварительно провела анкету на тему: «Как сократить нищенство».
В редакцию поступило множество писем, в которых сообщалось о размахе нищенства в других городах. Стало ясно: не остается ничего иного, как созвать конференцию по борьбе с попрошайничеством.
За неделю до конференции благодетель бедняков пан Каубле начал ходить по всему кварталу, останавливать нищих и убеждать их бросить свое занятие. На некоторых нищих он даже указал полиции. В плодотворной деятельности провел он всю неделю, размышляя, с каким проектом по ограничению или искоренению нищенства выступить ему на конференции.
В конференции принимал участие представитель из полиции, занимающийся этими вопросами. Прибыл и окружной начальник, который во время речи бургомистра уснул. Полицейский чиновник в продолжение всей речи старательно чистил и полировал ногти; представитель городского прихода капеллан Блага уже в пятый раз перечитывал устав какого-то общества пожарников, подвернувшийся ему под руку.
Речь пана бургомистра производила тягостное впечатление. Он то и дело повторял:
— Мы, значит, стремимся уничтожить нищенство. Мы, значит, стараемся не допускать нищенства. Мы, значит, боремся с ним. Я, значит, исхожу из того принципа, что ему следует дать решительный отпор. — Он говорил уже более получаса и под конец заключил: — Кто из присутствующих имеет какое-либо конкретное предложение, прошу выступить.
Поднялся благодетель бедноты из третьего квартала пан Каубле. Лицо его, когда он окинул взором озабоченные физиономии участников конференции, просияло.
Он готовился выложить им все, что накопилось у него на душе за последнюю неделю и о чем он размышлял ночами, лежа в постели. Когда покоишься на мягких перинах, так приятно поразмышлять о нищете ближних.
До начала конференции пан Каубле выпил литр вина, и теперь приятное тепло разлилось по всему телу, коснувшись и его души. Он проникновенно заговорил о судьбе вдов и сирот.
Окружной начальник продолжал спать, представитель из полиции зевнул.
— Вдов и сирот надобно защищать, — отчаянно взывал отец для бедняков пан Каубле, — берегите сирот и вдов от погибели. Господа, — его голос зазвучал так громко, что стены ратуши задрожали, — господа, мы должны что-то сделать для них. Разом избавить их от нищеты. Господа, я твердо намерен учредить фонд на благотворительные цели.
Окружной начальник проснулся. Шестьдесят вопрошающих и восторженных глаз устремились на пана Каубле.
— Лучший наш человек, — прошептал пан бургомистр соседям.
— Да, именно фонд, — еще громче воскликнул отец бедняков, — фонд, благодаря которому пусть хоть одной вдове, да будет оказана помощь! Жертвую в фонд шарманку.
В помещенье воцарилась тишина.
— Наш лучший человек спятил, — прошептал пан бургомистр, а пан Каубле с сияющим взором продолжал, извлекая из кармана лист бумаги:
— «Я, Антонин Каубле, отец родной для бедняков третьего квартала, владелец домов и недвижимости, председатель благотворительного общества «Антонин Каубле» и т. д., имею честь довести до сведения общественности, что жертвую в передвижной фонд для бедняков нашего города одну шарманку системы «Гаррадай». На вспомоществование может претендовать слепая вдова гражданина города в возрасте не моложе шестидесяти лет, представившая доказательства абсолютной безупречности, набожности, честности и полной неспособности к тяжелой работе. Документ, подтверждающий возраст, свидетельство о смерти мужа, его приписное свидетельство, справка о прививках принимается вместе с ходатайством местным городским попечительским отделом или учредителем фонда, благодетелем бедняков паном Каубле. Шарманка предоставляется в пожизненное пользование, а облагодетельствованная особа обязана раз в неделю молиться во время утренней мессы за семью пожертвователя».
Когда отец родной для бедняков умолк, вновь наступила тишина, нарушенная наконец бургомистром.
— Разрешите, пан Каубле? — Бургомистр встал. — От имени всего попечительского отдела благодарю пана Каубле за его самоотверженный поступок, преследующий цель сократить нищету бедняков. Выражаю вам благодарность от имени всего города, от имени бедствующих сограждан наших. Благодарю вас, горячо благодарю!
Он закончил весьма сердечно, а окружной начальник, подойдя к пану Каубле, демонстративно протянул ему руку со словами:
— Я тоже должен поблагодарить вас, уважаемый пан Каубле. На вашем примере я убедился, что самоотверженность здешних членов муниципалитета безгранична. Будьте уверены, я не забуду вашего благородного выступления в пользу местной бедноты.
Для благородного пана Каубле наступили дни истинного блаженства. Сообщение о его благодеянии было обнародовано в газетах, а несколько дней спустя на главной улице в витрине торговца музыкальными инструментами появилась шарманка, снабженная четкой надписью:
«Фонд отца бедняков пана Антонина Каубле».
Затем пан Каубле сфотографировался рядом с шарманкой — он стоял, опираясь на нее рукой. По его заказу с этой фотографии была сделана открытка, и популярность его возросла еще больше. Он был совершенно счастлив, и самоуверенность его увеличивалась. Окружной начальник приятно улыбался ему. Не оставалось сомнений, что при ближайшем удобном случае он выхлопочет ему награду.
Все это происходило незадолго до того, как город почтила своим присутствием царственная особа. Пан Каубле с чувством сознания собственного достоинства отправился на общую аудиенцию.
«Преподнесу свою открытку с шарманкой на память царственной особе», — последнее, что он успел подумать, входя в зал для аудиенции.
У него закружилась голова: перед ним, улыбаясь, стояла царственная особа.
— Антонин Каубле, hochgnädigster Herr[26], — смущенно пролепетал он, как верноподданный чех, по-немецки и, протягивая открытку, добавил: — Антонин Каубле, mit dem Flaschinet, Vater der Armen[27].
— Я всегда был отцом для самых бедных, — благосклонно произнесла царственная особа, подошла к адъютанту и сказала ему что-то.
И адъютант приблизился к пану Каубле и, подавая ему гульден, объявил официальным тоном:
— Аудиенция окончена!
А царственная особа добавила приветливо:
— Только не отчаиваться, шарманка тоже может прокормить человека, старый солдат!
Отец родной для бедняков, пошатываясь, вышел из двери, а через час по всему кварталу разнеслась весть, что пан Каубле палкой вдребезги разбил свое пожертвование в пользу бедняков.
Бунт братьев Безкочек в 1901 году
1
В девять вечера Антонин Безкочка, точильщик, нарушил покой примерных граждан, проживающих по Водной улице, откуда он двинулся по Душному переулку, и, взбудоражив население этого грязного закутка, объявился на площади, где под аркадой его бунту положил конец городской полицейский, добродушный Козиняк, он осадил точильщика, велел утихомириться и отправляться домой. Услышав в ответ, что он осел, лошак и тому подобное, полицейский предупредил вторично, чтоб он отправлялся в свое предместье Жабьи Горки, на что Безкочка некрасиво ответил безобразнейшими ругательствами и был предупрежден в третий раз, тем более что вокруг стал собираться народ, обращаясь к которому точильщик философски заметил:
— Ну, врежу я ему по башке — меня посадят, лягну в брюхо — тоже посадят, так что лучше всего разойтись нам в разные стороны.
И он собрался было уйти, но тут добродушный Козиняк заметил:
— Правильно, Безкочка, ступайте домой и проспитесь как следует, я вам советую.
— Да что б вы мне советовали, Козиняк?.. Я сам себе советую, идол безмозглый, сам себе приказываю, я сам себе хозяин, не воображайте, будто можете мне приказывать, вот возьму и не пойду домой.
И, сопровождаемый толпой, он вернулся в Душный переулок, вызывающе выкрикивая:
— Долой квартирную плату!
В результате столь демонстративного поведения в Душном переулке произошли бурные события. Три местных полицейских после упорной схватки уже не выпустили его из своих «объятий» и, блестящим захватом за шиворот и под руки принудив его сдаться, потащили к ратуше, где, прежде чем за ним захлопнулись ворота, Антонин Безкочка, обращаясь к провожающей его толпе, гласом поверженного героя заявил:
— Сдаюсь, идолы…
И врата инквизиторского дома тут же поглотили свою добычу.
А в местной газете (счастье, что вышла она через четыре дня после всех этих событий), в разделе происшествий под заметкой «Деревья в опасности. На Гробовой улице колья, поддерживающие деревья, расшатались, и есть опасение, как бы при сильном ветре ветер деревья не поломал. Приняты меры безопасности», — появилось: «Неслыханное в нашем городе бесчинство учинил во вторник Антонин Безкочка, двадцативосьмилетний точильщик, проживающий в предместье Жабьи Горки, д. 2. В нетрезвом виде он слонялся по тротуарам и мостовой, горланя и угрожающе крича: «Долой квартирную плату!» Будучи остановлен, оскорбил пана Козиняка и, не подчинившись его приказу, следовал по избранному им пути[28]. Естественно, дорогу ему преградили трое полицейских, которым сверхчеловеческим усилием удалось обезвредить бунтовщика и препроводить в ратушу. Их имена: Йозеф Умелец, Ян Прашек, Йозеф Гейра. Доставленный в лоно ратуши[29], точильщик в свое оправдание заявил, что задолжал своему хозяину за квартиру в общем размере 19 золотых 50 крейцеров, и это перед самой свадьбой!!! На вопрос, откуда у него деньги на вино, точильщик без колебаний ответил, что, взяв у своего брата, тридцатилетнего печника Войтеха Безкочки, бритву, продал ее Яну Пеликану, каменщику из дома 12, двадцати пяти лет, указав в свое оправдание, что оную бритву брат собирался подарить ему на свадьбу. Дело направлено в уездный суд в Младой Болеславе, о решении которого мы обязательно проинформируем наших подписчиков сообщением по возможности более подробным. Как это все-таки печально, что наш город превратился в эльдорадо разнузданных элементов, которые не почитают господа бога, не уважают законы и что ни день нарушают общественный порядок, оскорбляя нравственность и целомудрие нашего города, доставляя ему только лишние заботы. Словом как написанным, так и устным, мы намереваемся беспощадно бичевать всех, кто не видит, какую гибельную опасность они несут нашей мирной жизни. Мало того что магистрат до сих пор не удосужился должным образом осветить Душный переулок, а на Водной улице не очистил зловонные стоки (иначе в какой мутной воде ловили бы они рыбку), он терпит в стенах нашего исстари славного города распоясавшиеся элементы, которые скоро сядут магистрату на голову. Мало того, что наш коллега из редакции год назад сломал себе ногу в яме, и по сю пору обезображивающей площадь, пан бургомистр убивает вечера за картами в «Коруне», не желая и слышать о всех наших бедах. Или вам, пан бургомистр, бубновый валет дороже спокойствия и безопасности наших улиц? Жалкие слепцы! Сколь жалко выглядите вы в пору, когда приближаются выборы в магистрат. Вот так, пан бургомистр!»
— Где Безкочка? — вскричал взбешенный бургомистр, прочитав этот номер газеты.
— Сидит еще.
— Гнать его в шею, мы не пойдем у них на пойоду, пусть все следует своим чередом.
2
Знаете ли вы, чем обычно начинаются романы? Вот чем: испокон веков принадлежал старинному дворянскому роду панов Высоковских замок Высоков. Он был возведен на отвесной скале, и сверху было можно обозревать равнину далеко вокруг, с одной стороны ее полукругом огибала серебристая лента реки, терявшаяся в лоне могучего бора, с другой стороны замок примыкал к дремучему заповедному лесу, и так далее.
Читатели, я слыхал, любят, когда рассказ начинается с описания обиталища героев, я тоже начну свой рассказ так, чтоб понравиться.
Старый дом номер два на Жабьих Горках испокон веков принадлежал благородному семейству пана Браблены, торговца свиньями. Он был возведен на самой высокой точке Жабьих Горок, и сверху можно было обозревать весь город, и жены панов Брабленов этим и занимались, яростно высматривая, не идут ли уже их мужья из трактира; любовались этим видом и квартиранты, к чести панов Брабленов будь сказано, что желание всем добра издавна жило в их сердцах и они всегда готовы были предоставить возможность пользоваться видом кому-либо из тех, кто нуждался в дешевом жилище. И были готовы милостиво ждать от своих жильцов неуплату за два квартала, правда, в случае неуплаты за три квартала они грозили выселением, а уж если не платили за весь год, то выкидывали на улицу любого вместе с его мебелью, которая, ударяясь о землю, превращалась в обломки, немыслимое скопище щепок и дощечек, поскольку дом панов Брабленов стоял на возвышенности и к нему вели ступеньки.
Да, ступеньки, высеченные в скале. А куда ведут ступени? Высоко, куда иной раз человеку без усилий и не подняться или же не подняться вообще. Так что это значило немало — быть квартирантом нынешнего пана Браблены, пани Брабленовой и их дочки Фанды. Память жителей городка хранила воспоминание, как выбрасывали на улицу веревочника Кличку. Вспоминали не столько самого Кличку, сколько его имущество, совершавшее на крутых ступеньках поразительные сальто-мортале.
Первой полетела кровать, за ней стол, потом два стула, приятное зрелище дополнил портрет маршала Радецкого, который так и не долетел вниз, где стояли дети и взрослые, выражая восхищение криком. На своем пути портрет разлетелся на кусочки. Больше лететь вниз было нечему, но народ не расходился: ожидали, когда же полетит веревочник Кличка. Хитрец! Он лишь издали любовался бесчинством буйного семейства Брабленов. Он оказался настолько умным, что, когда пан хозяин сказал ему подняться наверх за тюфяком, он взял и не пошел. Так ведь и не пошел, хитрец!
За это взрослые и дети вознаграждены были сказочным зрелищем: какое-то время спустя, вечером, пан Браблена поджег тюфяк позади дома. Огонь и дым вызвали восторженный рев зрителей, они веселились, слушая громогласные выкрики хозяина, который кричал стоявшим внизу, что он это делает потому лишь, чтобы мерзавец веревочник Кличка не подумал, будто он собирается оставить себе то, что ему не принадлежит.
Долго потом не мог найти себе бесхитростный, прямодушный пан Браблена квартиранта, пока, наконец, не появились точильщик Безкочка с братом Войтехом, печником, и беззаботно поселились в доме, беззаботно два раза в день шастали вниз и вверх по лестнице, беззаботно не платили, ибо ничего они не боялись, братья Безкочки.
И тут иронией судьбы полюбил Антонин Фанду, хозяйскую дочку, которая на любовь его ответила так горячо, что следовало бы подумать о свадьбе, дабы единственное Брабленово дитя не стало предметом людских пересудов, навсегда опозорив и чистое имя, и добрую славу брабленовского семейства.
По этой причине пан Браблена и не покусился выкурить достопочтенных братцев, которые уже больше года ничего ему не платили. Он успокаивал свою хозяйскую душу частыми намеками на долг в 19 зол. 50 кр. и многозначительно добавлял:
— Тонда, пора бы тебе уже жениться на Фанде, знаешь ведь… заодно и от долга избавитесь.
Дело и впрямь шло к свадьбе, когда Антонин выкинул коленце, дав повод местной газете вывалять его имя в грязи да еще назвать рядом с его именем самого бургомистра и тем самым опозорить будущих тестя и тещу и будущую супругу, но, с другой стороны, сослужить добрую службу на благо общества, так как уже в понедельник, после изощренных нападок газеты, занялись освещением в Душном переулке, засыпали яму на площади и начали осушать Водную улицу, в то время как Антонин выслушивал замечания в свой адрес на заседании семейного совета, здесь, наверху, в котором приняло участие все семейство Брабленов, и его брат Войтех, яростно сверкая глазами, в крепких выражениях припомнил ему бритву, свой свадебный дар.
3
Семейный совет обрушил на Антонина ворох жалоб. Самым подробным образом была разобрана его жизнь, и как из него получился прохвост, и как не осталось ни капли надежды на то, что из него выйдет порядочный человек. И зачем он выбрал себе такое занятие, которое само по себе заставляет ловчить? Разве это серьезное дело — точить ножи и чинить всякую мелочь? Поучился бы у своего брата-печника, который честно зарабатывает тем, что выкладывает изразцы. И ладно уж он точильщик, так еще и позорит весь род Безкочек. Мало ли ему, что их покойный отец безвинно попал в тюрьму, ограбив с голодухи того торговца в Старой Болеславе? Но он-то не голодает, так чего ж красть-то, зачем пропил бритву своего брата, зачем творит мерзости, позволил забрать себя полиции?
А за что страдает Фанда, невинная девушка? Их отношения зашли так далеко, что семья ее обесчещена. Ладно там семья, но Браблена сыт всем этим по горло. Что за жизнь у нее была бы с таким негодяем, как Тонда? Так что, когда он выставит Тонду за дверь, наступит хотя бы покой. Он, Браблена, прокормит всех, и ему незачем сажать себе на шею Антонина Безкочку.
Поток его красноречия вопреки всяким ожиданиям нарушил печник:
— Пожалуй, наговорились уже, хозяин, надо и со мной считаться. Тонда и вправду негодяй, но чтоб выгонять его — не позволю, не бывать этому, черт возьми, запомните, никогда, пан хозяин. Вы нас еще не знаете, мы так просто не дадим себя выгнать. Мы свет повидали. Я бывал и в Германии, и в Венгрии, служил в Кошицах, и в вашем городе мы с братом разнесли трактир, правда, Тонда, а вы говорите, что прогоните и свадьбы не бывать. Этим вы нас не возьмете. А захотите его выгнать, придется выгнать и меня, но я вам наперед скажу — этому не бывать, я долго молчал, но я вам гарантирую, что сначала мы сами вас вышвырнем, ясно? Нас так просто не возьмешь. Мы уже подготовились к свадьбе, так что уж как-нибудь мы себе это, черт возьми, возместим.
И стал трясти перепуганного пана Браблену, крича:
— Тонда, помоги мне его вытряхнуть отсюда!
Пани Брабленова и Фанда сочли за лучшее убраться и на высеченных в скале ступеньках дожидались, чем дело кончится, надеясь, что их папочка сохранит верность древним традициям и выкинет отвратительных должников, которые свалятся к их ногам.
Однако они ужасно ошиблись. Их гордость, папочка Браблена, безуспешно противостоял Безкочкам, хотя и мужественно защищал каждую пядь своей территории пинками, дрался кулаками и стульями. Он сдавал одну позицию за другой. Он уже не прикрывал свой тыл и вскоре оказался на кирпичном полу, его поволокли к дверям, по коридору, затем он потерял и эту последнюю позицию и, оказавшись снаружи, полетел по ступенькам в скале и упал в объятия супруги и дочери, чтоб вместе с ними скатиться вниз. А вслед им свистели камни, с громким стуком отскакивая от скалы. Камни швыряли выигравшие бой Безкочки, которые оказались суверенными властителями этого замка, небольшого домика на Жабьих Горках, номер два.
Затем они укрепились. Входную дверь на лестницу забаррикадировали шкафом, столом и стульями и победоносно взирали вниз, где собирался народ не только с Жабьих Горок, но и со всего городка, как только туда долетала весть, что Безкочки взбунтовались. Толпа во главе с семейством Брабленов держалась от баррикады на почтительном удалении, ввиду того что камни, бросаемые братьями, заставляли сохранять необходимую дистанцию от укрепленной лестницы.
Бунт братьев разразился в пять часов, в шесть появилось трое полицейских, которые среди гробовой тишины крикнули:
— Именем закона, сдавайтесь!
В ответ на них посыпался дождь камней; попытка взять баррикаду штурмом не удалась: навстречу летели камни, и каска полицейского Яна Умельца была разбита.
Полицейские отошли на недосягаемое камням расстояние и, обнажив сабли, пригрозили братьям пожизненным заключением и виселицей.
В половине седьмого под укреплением появился бургомистр и крикнул братьям:
— Люди добрые, да что ж это вы собрались делать?
И тотчас вернулся, прихрамывая, к толпе с воплем:
— Эти прохвосты камнями кидаются!
Без четверти семь Фанда начала стонать, и ее поспешили отвести в город к родственникам. В четверть восьмого послали за повивальной бабкой, а уже в половине восьмого стал несчастный пан Браблена дедом и рысцой побежал на Жабьи Горки, где ситуация оставалась прежней, тоскливым голосом взывая к бунтовщикам:
— Тонда, Фанда родила девочку, у тебя девочка, Тонда!
И тут же услышал в ответ:
— А мне-то какое до всего этого дело, пан домохозяин?
Толпа, услышав «пан домохозяин», захохотала. Ничего себе домохозяин! Чего хозяин? Дома-то нет.
Не выдержав испытаний судьбы, пан Браблена ненадолго потерял сознание. В восемь часов Безкочки крепко держались на своей баррикаде.
В четверть девятого заходящее солнце осветило багровым светом бунтовщиков, мгновенно реагирующих на любое движение радостной толпы, которая непринужденно развлекалась необычным зрелищем.
В половине девятого явились два жандарма с примкнутыми штыками, к которым пан Браблена обратился с такой речью:
— Тонда, Фанда, Фанда, Тонда, Войта, Фанда, Тонда, Войта.
А жандармы закричали тем наверху:
— Именем закона, сдавайтесь!
Братья Безкочки, отступив в дом, заперлись. Жандармы забрались на укрепление, толпа ринулась на баррикаду, жандармы и полицейские сквозь окна проникли внутрь. После короткой борьбы на руки взбунтовавшимся Безкочкам надели кандалы. Пан Браблена опять вступил во владение домом своих предков, понося на чем свет стоит Тонду и Войту.
Пленных повели в окружной суд, откуда на следующий день их отослали в земский суд.
4
Событие это произошло в моем родном городе пять лет назад, и когда, спустя пять лет, я сюда заглянул, трактирщик Кратоушек, которого я встретил под аркой на площади, на мой вопрос, что новенького, торжественно отвечал:
— Да, не состоялась-таки свадьба точильщика Безкочки и Фанды, дочери пана домохозяина Браблены.
5
И вот что еще приходит мне в голову, когда пишу об этом событии. Может, через пятьсот лет, то есть в 2401 году, отыщется писатель, который, роясь в древних источниках, мог бы на их основе создать исторический роман, быть может, и в рассказе моем он увидит серьезный документ жизни, памятник времени странных, непонятных ему столкновений. Поэтому прошу читателей: вырежьте этот рассказ из газеты, скатайте его трубочкой и не пожалейте пару грошей, купите свинцовый ящик, уложите в него свиток с моим рассказом и закопайте его в таком месте, куда, как думается, через пятьсот лет сможет прийти тот, кто сделает из него большой исторический роман под названием «Бунт братьев Безкочек в 1901 году».
Заранее благодарю вас за это…
На родине
Государственный прокурор Норберт Попелец после долгого отсутствия возвращался на родину. Он расчувствовался и почти на каждой станции с печальным видом выпивал по кружке пива. Он решил высадиться в Противине, откуда намеревался пройти пешком через Скочице, Ражице, Водняны, Тын над Влтавою — места, дорогие ему по воспоминаниям детства.
Он представлял себе всех тех добрых людей, которых он знал в этих местечках в молодости, и заранее радовался тому разговору, который он поведет с ними, если застанет их еще в живых.
Поезд подошел к Писеку; отсюда и до самого Противина он хорошо знал всю окрестность. Там скрывается в зелени Гержмань, туда школьниками они ходили за орехами, а через Ражице он всегда ходил к дядюшке, любившему играть в карты.
Неожиданно ему стали припоминаться и другие подробности. У Ражице когда-то был пруд, где однажды браконьеры убили лесника Мркву.
Из задумчивости его неожиданно вывел сидевший против него господин, воскликнувший:
— А пруда уже нет!
Государственный прокурор посмотрел в окно и увидел, что пруд действительно исчез. Чтобы скрыть свое волнение, он принялся громко сморкаться.
Вплоть до самого Противина он держал носовой платок у лица: слезы щекотали ему горло. Он представил себе тетушку Гобзикову: она часто держала его на коленях, и от нее пахло навозом; затем вспомнил о мяснике Пиштольке, который под песню «Прийди, святая душа» связывал и резал телят.
В Противине он вышел из вагона, сел в буфете и стал размышлять о том, с кого начнет свои посещения. Наконец он решил сперва узнать, жив ли его дядя Кодейш, который раньше имел дом подле речушки Бланице. Ему сказали, что Кодейши теперь арендуют небольшую лавочку и что жена его ослепла; Вскоре государственный прокурор уже разговаривал со своим дядей.
— Вы меня помните?
— Нет.
— Я Норберт Попелец, государственный прокурор из Праги.
— Простите, я ничего не знаю.
— Я Попелец, сын Попельца, того, который содержал пивную, а вы — мой дядя.
— Попелец… пивную… а, вспомнил… А что ты тут делаешь?
— Иду посмотреть старых знакомых, может быть, в последний раз.
— Гм, а ты выглядишь неважно, — сказал старый дядюшка. — Твой отец был на вид получше, а трахнули его по голове пивным кувшином — и крышка… Так ты останешься здесь на всю ночь? Но у нас негде тебя положить. У нас всего две комнатушки, и в одной мы сами спим. А когда ты едешь?
Государственный прокурор прикусил губу и ничего не ответил.
— Не стоит заходить к тете. Она слепая, не увидит тебя и еще, чего доброго, выругает.
— Ну, так всего хорошего, — с огорчением сказал государственный прокурор.
— Прощай, я руку тебе не подам, она у меня в повидле: с прилавка у меня упали в него деньги, — сказал дядюшка.
Когда государственный прокурор вышел на улицу, то чувствовал себя так, будто кто-то ударил его по лицу в грязной лавке.
Он повернулся и стал раздумывать о том, куда бы пойти. Вспомнил, что здесь живет его двоюродная сестра Овсаржка, которую выдали замуж за содержателя пивной — той самой пивной, которая принадлежала его покойному отцу.
Он прошел Бланицу и налево от шоссе вошел в простенький дом с надписью: «Противинское пиво».
Войдя в пивную, он сейчас же узнал свою сестру, полную, большого роста женщину; он заказал себе кружку пива и стал думать о том, как бы сказать ей, что он ее двоюродный брат.
— Вы меня не узнаете? — спросил он после длительного размышления.
— В первый раз вижу. Может быть, я встречала вас когда-нибудь на базарной площади в Будейовицах… Да, помню… Вы покупали воздушный шарик.
— Нет, нет. Вы же ведь Овсаржка, урожденная Попельцова?
— Да. А вы не писарь из Розводовиц? Тот тоже как-то так странно смотрит.
— Нет, нет… Я — государственный прокурор Норберт Попелец, сын Йозефа Попельца, того, которому принадлежала эта пивная; я — ваш двоюродный брат.
— Ах, как жалко, что моего старика нет дома. Он поехал купить корову, и сегодня мы не варим обеда. Обед можно достать в другой пивной, подальше.
Она ушла и оставила прокурора одного. Он, конечно, понял, зачем она все это говорит. Она боится, чтобы ей не пришлось его угощать обедом.
Наконец она снова появилась и сказала, что придет ее муж и начнет новую бочку пива, а то уже все продано, и опять убежала. Через минуту она пришла вновь с ведром воды, засучила рукава и, не говоря ни слова, принялась мыть пол.
Государственный, прокурор расплатился, и, когда он уже уходил, его двоюродная сестра сказала ему на прощанье:
— В той пивной вы наверняка получите обед.
Итак, он снова в своем родном селе на улице. Все ему казалось столь холодным, чужим, грязным и раздражающим, что государственный прокурор ударил палкою по мостовой. Потом совершенно машинально направился в ту, «другую» пивную.
Над дверью он прочитал вывеску: «Пивная Яна Волешника».
— Волешник… Волешник… — повторял про себя государственный прокурор. — Волешник ведь уж был пожилой человек, и его называли «прилиза», потому что он делал себе пробор. Не может быть, чтобы это был он.
В углу сидел старик; это и был тот самый «прилиза», с пробором на седой голове. «Ему лет девяносто», — подумал про себя государственный прокурор.
— Дедушка, вы помните старого Попельца, сын которого учился в Праге?
— Как же не помнить такого подлеца, — сказал дедушка. — А его сын, говорят, непрерывно судится. Тоже хорош гусь. С Марженой Гроссовой, с еврейкой из Гержмани, прижил ребенка. Теперь мальчишка у старого Леви в Писеке приказчиком.
— Но позвольте, кто вам это сказал, дедушка? — смущенно проговорил государственный прокурор.
— Об этом все говорили несколько лет тому назад; я все знаю. Ченка Мазовеца я знал тоже; тот крутил с одной дамочкой из замка; я знаю все. Да, да, а Мазовец был родственником с Попельцами. Две семейки — одна подлее другой. Старик Попелец злился на меня за то, что я на три гектолитра продаю пива больше, так он донес на меня, будто я укрываю воров. И чего на меня этот мерзавец не наговорил, а тот, его сын, что потом учился в Праге, тоже был босяк порядочный. Однажды его видел наш мясник Кратохвил в суде. Двое полицейских, а посредине стоял сам молодой Попелец. Бог грехов не прощает.
Государственного прокурора бросало то в жар, то в холод. Он лихорадочно пил пиво и усиленно боролся с желанием что-нибудь разбить.
Старикашка тем временем продолжал:
— Вся семья Попельцев такая. Один из них, двоюродный брат того, что учился в Праге, недавно был пойман жандармами за кражу дров в лесу, и позавчера его арестовали. А Кодейш, старый бездельник, дядюшка Попельца, скупает краденые дрова.
Вокруг сидело несколько человек гостей, пожилых людей, которые стали смотреть подозрительно на прокурора.
— Послушайте, — обратился к нему один из них, — кто вы будете, уж не тот ли Попелец из Праги?
— Что вы, что вы… — заговорил господин Норберт Попелец. — Я… я торговец Гекса из Будейовиц.
Он расплатился и вышел.
— Тоже хороша птица, — сказал один из гостей после его ухода. — Это тот, который несколько лет тому назад подделывал деньги и получил пять лет.
Государственный прокурор, даже не заметив, что он назвался именем своего последнего подсудимого, отчаянно зашагал по грязным уличкам родного села на вокзал, и, когда уезжал обратно в Писек, к Праге, его лицо уже не носило выражения сентиментальности, и первую купленную им кружку пива он швырнул со злостью по направлению к родному селу.
Солитер княгини
У добрейшей княгини Мехлинской завелся паразит. Пока еще не было установлено, поселился ли в теле этого ангела ленточный солитер или цепень невооруженный: вид определится, как только паразит из нее выйдет.
Хуже то, что домашний врач Мелихар до сих пор тщетно ломал голову, как бы объяснить княгине, хотя бы по-французски, чем страдает ее светлость.
Как сказать об этом ангелу с прелестными аристократическими ручками, которые никогда туфельки не развязали, которые оттого и были аристократическими, что никогда ничего не делали? Княгиня была из чистокровной англосаксонской семьи и выделялась непомерно высоким ростом, рыжими волосами и бледностью, а также ангельской добротой, так как устроила приют для четырех княжеских слуг, которые отличились особой почтительностью за время службы у княгини и, ввиду недостаточной пенсии, померли бы с голоду.
И вот добросердечная княгиня устроила для них приют, где эти старики теперь жили, одетые в больничную форму, состоящую из ужасного белого суконного халата с ярко-голубым воротником. Говорили, будто на красных суконных штанах у них сзади вышит княжеский герб. Но это неправда. Княжеский герб был только на плоских фуражках с розовым козырьком. Как только эти люди появлялись на деревне, с ребятами приключался родимчик.
Ангел-княгиня сама часто спускалась вниз, в деревню, и наделяла бедных детей розами. Побуждаемая своим нежным и чутким сердцем, она никогда не ограничивалась одним благодеянием, и ежели послала какой-нибудь бедной больной женщине букетик роскошных орхидей, то можно было быть уверенным, что при случае опять пошлет орхидеи в деревню.
Вся округа знала о ее добрых делах.
Когда умирала старая беззубая батрачка Пешлова со скотного двора, княгиня послала ей пять килограммов грецких орехов. Как Пешлова увидала лакея с орехами, икнула и отдала богу душу.
В другой раз княгиня решила как-нибудь особенно одарить пастуха Тонду, пасшего общинных свиней. Она послала к нему двух лакеев, которые совсем сбились с ног, пока его нашли. Но в конце концов поймали, притащили, несмотря на его отчаянные вопли, в замок, где его умыли, и княгиня подарила ему набор красок для рисования. Тонда съел три краски, а остальные бросил: не понравилось.
Услышав однажды, что старый Клабец, живя в пастушьей хижине, страшно нуждается, княгиня послала ему целый ананас.
Клабец променял у шинкаря-еврея ананас на водку, но это нисколько не отвратило княгиню от благотворения. Наоборот, когда в результате ливней снесло в реку два домика, она велела лакею отнести лишившимся крова два блюда клубники со сливками. Когда умер пономарь, она не поленилась — послала жене его коробку конфет, настоящих итальянских «освежающих», чтоб бедной вдове было чем освежиться.
Никто не уходил из замка с пустыми руками. Кто уносил крыжовник, кто смородину, кто финики — так горячо старалась княгиня смягчить их нужду. И всякий раз, как кому-нибудь совсем уж нечего было есть, он мог быть уверен, что помощь близка. Если великодушная княгиня не пошлет ему пять бутылок керосину, то, уж конечно, пошлет спиртовку.
Для школьной библиотеки она выписала «Sport im Bild»[30], а так как деревня была чешской, она соблаговолила выписать для тамошней читальни журнал «Bosnische Post»[31], выходящий в Сараеве. А первый ученик получил от нее книгу «Horses, dogs, birds, cattle. Accidents and Ailments». Published by Ellman, sons and Co. Slough, England»[32].
Короче говоря, сущий ангел, хоть, к сожалению, с солитером.
«Как ей об этом сказать?» — ломал себе голову доктор Мелихар, когда очаровательная княгиня спросила, считает ли он ее положение серьезным.
— Отнюдь нет, ваша светлость, — ответил он. — Речь идет о довольно незначительном нарушении… Ваша светлость, вы когда-нибудь обращали внимание на пруды, где подымаются со дна и плавают по поверхности водяные лилии? Ну хоть на прудок в замковом парке?.. Там находятся особого рода плоские личинки, от которых происходят ленточные черви (Plathelminthes).
Княгиня уставилась на него с испугом.
— Да, ленточные, или так называемые «паренхиматозные». Они делятся на три вида: цестодозы, трематодозы и акантоцефалезы… Это маленькие созданьица, расселяющиеся повсюду без разбора в виде солитеров, вертячек и обыкновенных глистов. Если ваша светлость изволит пройти к замковому пруду, то, как я уже сказал, увидит там исходную форму своего паразита.
Добрая княгиня не поняла, так как в невинности своей не представляла себе, что такое солитер.
— Я не совсем вас понимаю, милый доктор!
— Ваша светлость, — сказал доктор, умиленный наивностью княгини, — соблаговолите принять во внимание, что солитеры встречаются исключительно в аристократических кругах. Я знал графов, князей и даже одного герцога, которые имели удовольствие, подобно вашей светлости, растить солитера, но после надлежащего ухода тот выходил вон.
— Как это — вон? — наивно спросила княгиня.
Доктор откашлялся.
— Чистым все чистое… — торжественно промолвил он. — Выходил совершенно так же, как выходит драгоценный страсбургский паштет вместе с содержимым желудка, сопровождаемый — как это было в случае с герцогом — нежным паштетом из бекасов и речных раков. Я знаю случаи, когда солитер имели кардиналы, следившие за его выходом из тела, держа молитвенник в руке. Один европейский государь каждый год растит в своих внутренностях солитера, который пользуется необычайным почетом среди населения. Оскорбление солитера карается там, как оскорбление величества… Чтобы не упустить момент выхода солитера из тела вашей светлости, я дам специальные инструкции вашим горничным.
Когда доктор ушел, добрая княгиня велела позвать своего исповедника.
— Ваше преподобие, — благоговейно сообщила она, — у меня солитер.
Лысый старичок всплеснул руками.
— Быть не может, княгиня! Вы — сама невинность, вы — роза. При чем же тут солитер? Но если он все же есть у вас, княгиня, значит, он вам послан богом для вашего испытания. Верьте в милость божию, в бесконечную доброту господню — и с солитером будет покончено. Богу угодно посетить вас крестом любви своей, и он же избавит вас от сего испытания.
— Ваше преподобие, я слышала, что солитеры бывают у кардиналов.
— И у архиепископов, и у папы, княгиня. Святой Иоанн боролся с солитером в пустыне, а папа Иоанн Тринадцатый перевез его в Авиньон. Он — эмблема смирения, и, как сказано в Писании, грешники его лишены.
Между тем солитер производил в теле доброй княгини свои чудеса.
Каждый день доктор заливал его отваром папоротникова корня (polynodium filix mas), отваром коры гранатового дерева, крепким резедовым чаем. Каждый день княгине приходилось глотать от трех до пяти тыквенных зернышек, потом она глотала нафталин и, наконец, пила касторку.
Все это — отличные, превосходные слабительные, и добрая княгиня чем дальше, тем больше укреплялась в убеждении, что бог любит ее, раз послал ей такое испытание.
Наконец через две недели розовый солитер очутился в элегантном сосуде со спиртом.
Как констатировал доктор, это был именно солитер. Княгиня радовалась его длине, так как эта длина доказывала, что бог очень любит ее.
Теперь княгиня опять получила возможность творить добро — занятие, которое в последнее время запустила из-за борьбы с солитером.
И вот в один прекрасный день она снова отправилась в деревню.
Она ехала в карете, заботливо оглядывая окрестность. Остановилась перед избой старосты, спросила его, нет ли в деревне больных.
Тот назвал старого Матея, дом № 132, передавшего имущество своим детям и жившего на их иждивении… Княгиня велела лакею спросить, что со стариком. Лакей доложил, что Матей страдает солитером.
Это сообщение потрясло княгиню. Как это может быть? Самый обыкновенный человек, вроде вот этого Матея, имеет солитера, составляющего удел возвышенных душ?!
Дома княгиня опустилась на колени в часовне и воскликнула:
— Боже мой, возможно ли, возможно ли?
С этого дня она стала чахнуть, и кончилось тем, что золотое сердце ее перестало биться. Перед смертью она завещала передать своего солитера, заспиртованного, в школьную коллекцию, а самому старому служащему в имении отказала флакончик дорогих духов. Кроме того, распорядилась, чтобы каждый раз в годовщину ее смерти всех бедных детей деревни наделяли крыжовником и чтобы бедноте позволяли в этот день безвозбранно собирать в княжеских лесах землянику и грибы. И 3 января добрая княгиня скончалась.
Царство ей небесное и вечный покой! Но как будет с крыжовником, земляникой и грибами в день ее смерти — 3 января, — этого не могу сказать.
«Пражске уржедни новины»
Всякий раз, когда я беру в руки «Пражске новины», официальный правительственный орган, меня все больше и больше радуют его эстетические достоинства. О внешнем оформлении я не говорю, оно оставляет желать лучшего, но зато внутреннее содержание пропитано такими нравоучительными сентенциями и остроумными мыслями, что просто одно наслаждение читать статьи журналистов этой правительственной газеты, среди которых особенно выделяется мужественная фигура О. Филипа. Здесь всегда найдешь сообщения, кажущиеся на первый взгляд порядочной ахинеей. Я говорю — на первый взгляд, потому что вскоре вы понимаете, что вас просто-напросто остроумно разыграли. К примеру, читаете вы о несчастье, происшедшем возле Лузина в Швейцарии, во время которого утонуло десять местных жителей вместе с капитаном китайцем Лионгом. Вы задаете себе вопрос, как бедняга попал в качестве капитана в Швейцарию, а после смерти еще и в «Пражске уржедни новины»? Потом ищете на карте Лузин. Вам известно, что в Швейцарии есть Люцерн, а вовсе не Лузин; что Лузин — уездный город в Витебской губернии России, и, наконец, вспоминаете о Лусоне, самом большом острове Филиппин, где китайцев тьма-тьмущая. Это уже похоже на правду, и капитан Лионг мог утонуть там. Читаете далее и констатируете, что он был пиратом, правительственная газета и впрямь обстоятельно рассказывает нам об этом в статье «Разгул пиратов в Швейцарии». Через две недели вы сможете прочесть об этом в правительственной газете еще раз.
Весьма похвально стремление «Пражских новин» повысить культурный уровень народа! Читателю «Пражских уржедних новин» не следует принимать на веру даже сообщений местной хроники, ему предстоит провести изыскания и добраться до сути загадки, которую «Пражске новины» преподносят ему в форме невинной заметки. Таким образом читатели пополняют свое образование. Этим-то и определяются эстетические достоинства данной газеты. Читатель идет в читальню и уточняет там по энциклопедии названия рек, стран и городов, упоминаемых в «Пражских уржедних новинах». Таким образом ему прививают вкус к познанию; работа с энциклопедией после прочтения «Пражских уржедних новин» становится для него ежедневной потребностью, и, вне сомнения, есть надежда, что в своем стремлении к просвещению он изучит в конце концов всю энциклопедию, обратив внимание и на другие вещи, которые необходимо знать интеллигентному человеку, душа его сделается мягкой и нежной, он начнет размышлять об искусстве, о художественном воспитании, станет ходить в оперу и всюду рекомендовать «Пражске уржедни новины», превратившие его в интеллигента и привившие ему чувство прекрасного.
А какие успехи у «Пражских новин» в деле разоблачения негодяев, грабителей, воров и поручителей за должников! Именно эта газета постоянно помогала полиции разыскивать грабителей и убийц, публикуя подробнейшие описания того, как преступники не выглядели: «Есть мнение, что преступник не носил черного пиджака и серых брюк». Полиция провела в этом направлении решительный розыск, который был сильно облегчен тем, что арестовали всех, кто носил черный пиджак и серые брюки, ибо, поверьте, со стороны газеты «Пражске уржедни новины», сообщавшей, что преступник не носил черного пиджака и серых брюк, это был всего лишь трюк. Расчет строился на том, что преступник, прочитав данное сообщение, наденет именно черный пиджак и серые брюки, дабы замести следы.
Именно «Пражске уржедни новины» до таких мельчайших подробностей описали убийцу Магды Новотной, словно тот носил статьи в воскресное юмористическое приложение правительственной газеты и в редакции его знали лично.
Но есть выражение, играющее большую роль в такого рода сообщениях правительственной газеты — «к сожалению». Изо дня в день мы читаем: «К сожалению, он убежал», «К сожалению, он прыгнул в реку», «Когда хозяйка лавки отвернулась, он, к сожалению, украл ветчину стоимостью в 10 крон», «После этих слов он ее, к сожалению, изнасиловал…», «К сожалению, он напился».
Содержание статей «Пражских новин» пестрое и увлекательное. В газете два раздела. «Официальные сообщения» и «Неофициальные сообщения». Из официального раздела вы узнаете то, что обязан знать каждый порядочный человек: там, например, написано, что «принцесса из Шаумбург-Липпе произвела на свет младенца принца», или о том, что наместник (боюсь, цензура мне это не пропустит), что, стало быть, пан наместник выехал на автомобиле в Кладно, а оттуда пешком направился в Вену, и тому подобные официальные сообщения. К ним относятся и сообщения о погоде. Если погода хорошая, это, разумеется, дело рук властей, если идет дождь, это опять-таки официально санкционировано, и тот, кто раскрывает зонтик, вмешивается, по сути дела, в действия властей. Позволю себе обратить на это внимание уважаемой редакции «Пражских новин». Ты с удовольствием читаешь эти сообщения. Узнаешь, что коммерческий советник Гахфельд из Мёдлинга был назначен государственным советником. Вы только представьте, как приятно, когда тебя спросят, что слышно нового, ответить:
— Как, разве вы еще не знаете, что коммерческий советник Гахфельд из Мёдлинга бы назначен государственным советником?
И вы спешите дальше, чтобы успеть и другим сообщить это приятное и важное известие.
И не успели вы повеселиться, читая официальные сообщения, вас начинают веселить сообщения неофициальные. Читаете там, к примеру: «Послабление в смертной казни. Как нам стало известно из достоверных источников, реформой свода законов предусмотрено и послабление в смертной казни. Послабление это будет весьма ощутимым и мы не забудем своевременно информировать наших читателей обо всех подробностях». Что нас ждет, судя по сообщению правительственной газеты, которая своевременно проинформирует читателей о подробностях послабления в смертной казни? Быть может, данное послабление коснется лишь подписчиков «Пражских уржедних новин»? А как же остальные, кто на них не подписался?
Напоследок вас порадует сообщение, помещенное далее, что 312 паломников со слезами на глазах отбыло из Брно в Палестину. Сообщение это столь важно, что правительственная газета напечатала его вразрядку.
А если уж и это вас не развлечет, то повеселит очерк Яна Йозефа Сватека, в котором он описывает свои приключения среди арабов в Тунисе. Приключения захватывающие. В каждом выпуске он пьет мокко и отдает себя на съедение клопам. И так продолжается, начиная с апреля.
У газеты «Пражске новины» есть одно большое преимущество перед другими изданиями. Это, бесспорно, ее бумага; она не жесткая, а тонкая и мягкая.
Бумагу эту хвалят жандармы всех участков, куда, «Пражске уржедни новины» посылают бесплатно, в целях просвещения жандармов.
«Пражске новины» висят там. И делают свое дело. Доставив духовное удовольствие, газета выполняет и другое свое предназначение с той деликатностью, на какую только способна железная жандармская рука. И выполнив свое предназначение, она падает, прикрывая своей официальной поверхностью последствия неофициальных действий органов безопасности,
Как у нас варили картофельный суп для бедных детей
Князь Роберт был очень гуманный человек. Он решил устроить в деревне, находившейся возле его замка, бесплатную раздачу супа для бедных школьников, не пожалел средств на постройку павильона и выписал из Вены походную кухню. Когда ее доставили, княгиня на коленях умоляла мужа отказаться от своей затеи. Но князь ответил:
— Ни в коем случае, княгиня… Я сам буду варить этой голытьбе картофельный суп.
Отговаривал его и брат княгини, граф Менгард, доказывая, что это — занятие, недостойное князя.
Но князь Роберт закричал, что будет во что бы то ни стало сам варить картофельный суп и выкинет за дверь всякого, кто вздумает лезть к нему со своими советами.
Князь Роберт был очень гуманный, но в то же время очень вспыльчивый человек.
И вот в один прекрасный день павильон и походную кухню убрали свежими сосновыми ветвями, вход в павильон украсили надписью: «Награди, господь!», в сосновые ветви вплели флажки, двухцветные ленточки, и дворецкий во фраке и цилиндре подошел к походной кухне и принялся ее растапливать. Таково было желание князя Роберта.
Сам он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда дворецкий снимет цилиндр — в знак того, что вода закипела и пора его светлости чистить картошку. Это было тоже предусмотрено составленной князем программой.
Наконец князь вышел из замка и важно, торжественно проследовал к павильону, возле которого стояла походная кухня. Там был и сельский староста, занятый тем, что тыкал кулаками под ребра бедных ребят, которые даже в это мгновенье, не обращая внимания на его светлость, продолжали ковырять в носу.
Староста знал порядок. Он велел всем двадцати трем бедным школьникам деревни кричать князю «ура», кинул на них быстрый взгляд — умыты ли — и дал знак стражнику Пазоуреку; тот зажег фитиль у одной мортиры и перебежал к другой. Грянули два выстрела, и князь выступил из заклубившихся над мортирой облаков дыма. Дети оглушительно заорали, Князь приветливо махнул рукой и сел перед походной кухней. Два лакея подали ему картофелину. Взяв ее руками в белых перчатках, он очистил ее и бросил в котел с кипятком. Дети не могли кричать от радости, так как охрипли. Его светлость приступил к чистке второй картофелины. Когда он бросил и ее в котел, снова раздался радостный рев. Князь Роберт встал и промолвил:
— Ви, детка, имейт радост, кушайт суп и радовайтеся, что я вас варил. Ви, детка, должна помнийт, что я дал вам к нас, я быть ваш мать, я вас…
Раздался новый радостный рев — в знак того, что прекрасная речь его светлости доставляет юным слушателям искреннее удовольствие.
— Ви, детка, знайт: то есть лучший монумент вам, что я варю, — торжественно продолжал князь. — Ви делайт ам-ам хорошего суп, а я вас сам картошить. Молийтс богу об мэйне!
Вслед за тем каждый из двадцати трех бедных учеников получил от его светлости крону. В заключение князь подошел к старосте, снял перчатки и отдал их ему со словами:
— На памейт о первый ам-ам хорошего суп, который я картошил. Молийтс богу об мэйне!
Егерь подвел князю коня, и его светлость отбыл рысью в заповедник, а дворецкий и лакеи гордо удалились в замок.
Староста сунул перчатки в карман, посмотрел на бедных ребят, потом на сельского стражника Пазоурека, потом опять на перчатки — нет ли тут чего, — наконец обратился к члену общинного управления Вержине с такими словами:
— Ну, а кто ж теперь суп-то для этих голодранцев доварит?
— Пазоурек с ребятами пускай дочистят картошку, — ответил Вержина.
— Вари суп, Пазоурек, а вы, девчата, принимайтесь чистить картошку, — распорядился староста и ушел с первым и вторым членами общинного управления.
Стояла невероятная жара. Пазоурек стал ругать детей, свирепо вращая глазами:
— Показал бы я вам, как ходить сюда за супом! Балует вас его милость!
С основательностью старого солдата он, не вынимая трубки изо рта, опустил в кипящую воду разложенные на столе продукты. Тем временем девочки уже почистили вою картошку, и он принялся хлопотать вокруг котла, стирая рукавом обильный пот со лба. Вдруг он перестал мешать в котле; его озарила какая-то мысль. Поглядев на кувыркающихся в траве перед павильоном ребят, он крикнул одному из них:
— Эй, Малина, пойди сюда!
Ничего не подозревающий Малина подошел.
— Слушай, сорванец! — заявил ему Пазоурек. — Я видел, ты вчера на общинном поле горох воровал. За это полагается гульден штрафа. Давай сюда крону и позови брата своего Пепика… Пепик, паршивец, ты знаешь, что брата твоего Карела чуть в тюрьму не посадили? Он вчера горох воровал… За это — штраф. Он крону от князя получил и ты тоже. Благодарите бога, что у нас князь такой добрый. А то кто бы за вас, прохвостов, штрафы платил? Так вот, крона с Карела да крона с тебя, Пепик, — как раз и выйдет гульден. Только смотрите: коли я вас опять в горохе увижу, сейчас же запру в хлев при управлении. Штаны долой — и задам трепку! Воровать — великий грех, дети! Но я вас прощаю. А теперь, Пепик, сбегай за бутылкой житной, а Карел пускай суп помешает.
И, довольный, расположился возле котла на лужайке. Вскоре Пепик принес поллитровку. Выпив как следует, Пазоурек собрал вокруг себя ребят и долго беседовал с ними о необходимости уважать начальство.
— Потому оно — от самого императора, сукины дети! — сказал он в заключение и послал за второй поллитровкой.
Солнце стояло уже высоко, и Пазоурек снял сапоги, потом, привольно раскинувшись на траве, уснул, между тем как ожидающие княжеского угощения занялись игрой в «разбойники».
Крик их не будил Пазоурека. К тому же скоро вокруг все затихло, так как «разбойники» убежали в заповедник.
В полдень князь, возвращаясь с прогулки домой в замок, увидел всеми оставленную походную кухню и пустой павильон.
Из котла валил пар, слышалось клокотанье, и на поверхность время от времени всплывали сапоги общинного стражника Пазоурека. Князь разбудил его пинком, так как хотя был человеком гуманным, но очень вспыльчивым.
А с дороги над косогором, укрывшись в кустах терновника, братья Малина, ликуя, любовались сапогами и всей картиной в целом, как художник любуется своим, произведением, удостоенным первой премии.
По-видимому, это зрелище возместило им потерю двух крон.
Князь тотчас отменил бесплатную выдачу супа. А когда его шурин, граф Менгард, человек исключительно добросердечный, встретил в лесу общинного стражника Пазоурека и с любопытством осведомился, как они варили в первый и последний раз картофельный суп, Пазоурек откровенно признался:
— Ах, ваша милость! Это ужас что было! Не приведи господи, ежели бы вы там побывали, не выдержали б!..
Забастовка преступников
Само собой разумеется, во всем виноваты были социал-демократы. Это их газеты непрестанно твердили о классовом правосудии! Это их ораторы требовали, чтобы признанное теоретически равенство граждан перед законом осуществлялось на практике! Их претензии временами заходили так далеко, что, когда одна баронесса в ювелирном магазине по ошибке сунула себе в карман несколько драгоценных камней, они выступили в своей газете с требованием, чтобы ее судили, как обыкновенную воровку! Как будто баронессы не могут страдать клептоманией!
Их органы не только не вступились за одного графа, когда тот объявил себя банкротом, облегчив тем самым карманы своих кредиторов и служащих на парочку миллионов, но, наоборот, осмелились потребовать, чтобы его сиятельство посадили на скамью подсудимых. Когда же этого не произошло, начали подстрекать народ против юстиции и судов.
И все кончилось тем, чем и должно было кончиться. Преступники вообразили, что суды к ним несправедливы, что они поступают с ними не так, как следовало бы. Тогда-то и произошло событие, которое оказалось уникальным в мировой истории и которое имело для государства, как увидят читатели, весьма серьезные последствия.
В один прекрасный день, или, вернее, в одну прекрасную ночь, без ведома и разрешения полиции на перекрестках появились огромные плакаты, в которых преступники объявляли всеобщую забастовку. Это было их последним незаконным актом. После него — ни единого. Забастовка должна была продолжаться до тех пор, пока законы, устанавливающие равенство граждан, не будут проведены в жизнь до последней буковки.
Лояльного гражданина должно было больно задеть, что власти на первых порах недооценили этого движения. Полицейские и судебные чиновники отправлялись на каникулы и, радостно потирая руки, заявляли, что они уж будут начеку и постараются, чтобы требования забастовщиков не удовлетворялись. Ведь такого чудесного времени не дождешься до самой смерти. Чиновники прокуратуры целыми днями сидели в кофейнях и от нечего делать читали газеты. Но на газетах на первых отразились последствия забастовки: журналисты, эти прирожденные преступники, оказались солидарными с прочими злоумышленниками и не погрешили даже против самого невинного параграфа закона.
Господин верховный прокурор, прочитав социал-демократические «Право лиду», «Зарже», и «Копршивы», в сердцах хлопнул ими об стол и проворчал:
— Они стали такими же скучными, как «Пражске уржедни листы».
С той поры он начал страдать тяжелым неврозом. Когда же кончился квартал и он, составляя отчет, должен был в рубрику «количество обвиняемых» написать нуль, в рубрику «количество поданных жалоб» — опять нуль и в рубрику «количество осужденных» — снова нуль, он всплеснул руками и… повесился.
Невроз начал быстро прогрессировать — невроз на почве скуки и бездействия. Здание уголовного суда опустело, вход в него затянуло паутиной. Стали происходить ужасные вещи. Все репортеры ежедневных газет, ведущие рубрику «Из зала суда», были уволены. Они решили прибегнуть к взаимопомощи — создали «Общество поддержки семей арестантов» и приступили к публичному сбору средств. Согласно уставу, семья заключенного имела право в течение всего времени его заключения получать пособие в размере двойного дохода арестанта. Читатели рубрики «Из зала суда» засыпали новое общество своими пожертвованиями; их примеру последовали издатели газет. Вскоре Общество смогло сообщить, что будет выплачивать пособие не в двукратном, а в десятикратном размере. Но даже это не могло разрушить сплоченную организацию преступников.
Наибольшее же несчастье обрушилось на «Народни политику». Поскольку сия газета, как известно, никогда не печатала ничего иного, кроме сообщений о преступлениях, она стала выходить совсем без текста, с одними объявлениями. Когда же стало ясно, что тираж из-за этого катастрофически падает, издатели решились на великий гуманный акт, провозгласив, что, если где-нибудь совершится преступление и преступник будет осужден, они выплатят невинной несчастной семье осужденного пособие в размере 100 000 крон. Но это тоже не помогло.
Наконец один крупный чиновник прокуратуры напал на мысль, которая, по его мнению, должна была выручить из беды. Он запросил в епархии список всех епископов и по алфавиту начал проводить у них домашние обыски, а также строгие ревизии всех книг и касс их предприятий. Но результат оказался прямо удручающим: епископы и те перестали воровать!
Адвокаты по уголовным делам оказались без работы: не было клиентов. Заботясь о будущем и понимая, что на каждый случай газеты набросились бы, как хищники, и что это была бы великолепная реклама, самые прославленные и самые дорогие из них известили, что впредь будут защищать своих доверителей совершенно бесплатно. Начинающие адвокаты, которые только еще собирались прославиться, оповестили через газеты, что будут выдавать денежную награду всем, кто обратится к ним за помощью. Но денег у начинающих адвокатов было маловато, поэтому предлагаемая ими премия была весьма незначительна. Организация же преступников оказалась весьма крепкой, в итоге их попытка провалилась.
В полицейском управлении царило беспросветное отчаяние. Дирекция плевала в потолок, а полицейским специальным решением директора управления было приказано заняться ловлей мух, чтобы не утратить профессиональных навыков.
Господин директор пытался и иным путем выправить положение. Газеты принесли известие, что он провел важное Совещание с руководителями немецкого клуба. На другой день должны были начаться выступления немецких националистов. Предполагалось, что в связи с этим удастся арестовать парочку-другую членов национально-социальной партии и дело будет в шляпе.
Демонстрации состоялись. Но на них никто не обратил внимания. Все срывалось! Дирекция была в отчаянии. Если говорить правду, это отчаяние имело еще и другую причину. В полицейском управлении было решено отдавать под суд и тех полицейских, которые, в нарушение закона, с излишней суровостью обращались с населением или рукоприкладствовали без достаточных оснований. А полицейское управление города, о котором идет речь, имело уже опыт, что такого рода случаев в неспокойные времена может набраться, по крайней мере, сотня. Но все надежды оказались напрасными, и у господина директора зародилось даже ужасное подозрение, что все его подчиненные сами принадлежат к организации преступников.
Тогда его осенила спасительная мысль — обвинить полицейских в том, что они вошли в контакт с преступниками. Увы, доказательств не было. Единственный довод, который он мог привести, сводился к тому, что раньше преступления совершались, а теперь вдруг прекратились. Но за это нельзя все-таки привлекать к суду.
Авторитет чиновников уголовного суда стремительно падал. Все знали, что жалованье-то они получают, а делать ничего не делают. И если кто-нибудь из них, заходя в трактир, говорил, что он советник уголовного суда, люди шарахались от него, и на лицах всех посетителей бедняга читал: еще один из тех дармоедов, которые обжирают нас, налогоплательщиков, и ничего не делают. Чиновники прокуратуры, так те вовсе не отваживались показываться на улице.
В парламент между тем был подан настоятельный запрос с требованием ликвидировать все упомянутые учреждения, поскольку им просто нечего делать.
Это было последней каплей, переполнившей чашу. За дело взялось правительство. Все арестованные, осужденные на длительные сроки заключения, получили амнистию и были выпущены на свободу. Так как они ничего не знали о забастовке, была надежда, что они невольно станут штрейкбрехерами. Но у забастовщиков около всех тюрем были расставлены свои пикеты, которые ввели освобожденных в курс дела и предупредили против штрейкбрехерства. Правительство потерпело полное фиаско, больше того, ситуация стала еще более напряженной, так как оказались ненужными и все тюрьмы с их смотрителями, надзирателями и охранниками.
Одно время серьезно подумывали даже о том, чтобы выплачивать преступникам государственную пенсию; аграрники предложили даже установить для этой цели специальную государственную дотацию, но по зрелом размышлении эта идея была отвергнута.
Между тем приближалось роковое заседание парламента, на котором должен был обсуждаться законопроект о ликвидации уголовных судов, государственной прокуратуры, полиции, тюрем и тюремных управлений.
Но за день до этого перед дворцом наместника уже с утра стояла неизвестно откуда взявшаяся огромная толпа, которую возглавляли четыре персоны. Господин президент уголовного суда нес на длинном шесте невероятных размеров щит с надписью: «Дайте нам работу!» Возле него, подобный мрачному богу подземного царства шел господин верховный прокурор, который воздвигал над толпой гигантский транспарант «Долой безработицу!» Выразительная голова господина директора полиции была затенена лозунгом «Только труд облагораживает человека!». Господин президент коллегии защитников вытирал потный лоб, сгибаясь под тяжестью плаката «Верните нам наших преступников!». Следом за этой четверкой катилась волна судебных советников, секретарей, следователей, прокуроров, полицейских чиновников, адвокатов — короче говоря, представителей всех званий, пострадавших от забастовки преступников.
Указанные четыре господина сложили свои транспаранты и направились во дворец наместника. Стоящие на посту полицейские, которые не участвовали в шествии, поскольку нынешнее положение их вполне устраивало, с нескрываемым любопытством разглядывали необычных демонстрантов.
Наконец на крыльце дворца появилась депутация. Президент верховного суда поднял свой щит и замахал им в знак того, что хочет сообщить присутствующим результаты переговоров. Наступила гробовая тишина. Яростно жестикулируя, прерывающимся от бешенства голосом господин президент провозгласил:
— Он нас не принял!!!
— Не принял! Этот!.. — закричали в толпе, и тысячи сжатых кулаков поднялись к окнам наместника.
Грянул гром угрожающих криков и ругани. Несколько камней полетело прямо в окна его превосходительства.
Полицейские поняли, что не вмешаться сейчас было бы преступлением, но поскольку преступления теперь не совершались, они начали принимать меры… Такой свалки не видывала даже Прага! Верховный прокурор сломал свой щит с плакатом о головы полицейских, господин директор полиции принялся выдергивать перья из султанов на полицейских касках, как какой-нибудь член национально-социальной партии… Позорное побоище завершилось арестом пятисот человек — сплошь крупных государственных чиновников и известных адвокатов.
Полосы «Пародии политики» были на другой день заполнены, суды снова оказались по горло завалены работой.
В подавляющем большинстве нарушители были оправданы, как «действовавшие в состоянии аффекта». И лишь несколько менее значительных персон были присуждены к денежному штрафу от пяти до десяти крон.
В тот же день закончилась и забастовка преступников. Они поняли, что очень легко могут быть заменены другими. А приговоры тем, кто их заменил, убедительно показали, что равенства всех граждан они так и не добьются. Забастовка была проиграна.
Вот так и случилось, что в той стране, где все это произошло; равенство всех граждан перед законом и в дальнейшем осталось только на бумаге.
Финансовый кризис
Старый Шима, прослуживший в банкирской конторе «Прохазка и К°» пятнадцать лет, набрался наконец смелости и постучался в кабинет банкира Прохазки, чтобы попросить с нового года прибавки в двадцать крон.
И вот Шима сидит перед господином Прохазкой, потому что тот, выслушав просьбу, предложил ему стул. Шеф ходит по кабинету, жестикулирует и говорит:
— Я мог бы немедленно выставить вас вон после такой наглой просьбы, но у меня есть с полчаса свободного времени, и я хочу дружески поговорить с вами. Вы просите увеличить вам жалованье на двадцать крон в месяц, то есть на двести сорок крон в год. И вы отваживаетесь просить меня об этом в такое время, когда над денежным рынком навис дамоклов меч всеобщего финансового краха?! Разве вам неизвестно, что акции Альпине-Монтан упали с 772 до 759,60, а акции Бедржиховских заводов котируются не по 940, а по 938? Акции «Зброевки» тоже катятся вниз, дорогой Шима. С 728 они упали до 716,40. Это поистине ужасно, а вы хотите двадцать крон прибавки!

Прохазка всплеснул руками и взволнованно продолжал:
— Ценные бумаги на бирже крайне неустойчивы. Даже наиболее надежные из них — акции австрийского кредитного банка — в последние дни упали; в итоге вместо 664,90 они котируются на пять крон ниже, а вы требуете двадцать крон прибавки. На акции транспортных компаний регистрируются только мелкие сделки, акции государственных дорог упали на целых двенадцать крон! Венгерскому правительству не удалось получить во Франции заем в сто миллионов, а вы требуете двадцать крон прибавки! Германия собирается продавать металлургические заводы, идут разговоры о распродаже австрийских государственных имений, а вы приходите ко мне и говорите, как о чем-то само собой разумеющемся: «Я пятнадцать лет служил вам верой и правдой, господин шеф, и, принимая во внимание финансовые затруднения, всеобщую дороговизну, слабое здоровье, десять человек детей и дырявые сапоги, осмелюсь просить двадцать крон прибавки ежемесячно».
Несчастный, вы сами не знаете, насколько вы правы. Финансовые затруднения действительно приняли угрожающий характер. Акции Южной дороги понизились на целых пять крон, а у меня их… впрочем, не мне говорить вам об этом, дружище. Не забывайте, что даже на акции Буштеградской железной дороги и то не предвидится солидных дивидендов: курс литеры А Буштеградской дороги уже упал с 2515 до 2426, а литеры Б — с 1004 до 976. Да вы, голубчик, просто спятили, прося прибавки! Ведь это же прямо безумие! Побывайте-ка на пражской бирже! Продается уйма ценностей, а чего они стоят? И спросу никакого. Курсы всех акций катятся вниз! Устойчивых бумаг нет! Акции кредитного банка, на которые я раньше заключил сделки по 760, теперь котируются по 750,75. Что вы на это скажете, а? Вы все еще хотите прибавки, старина? Вы все еще настаиваете на своей просьбе, несмотря на то, что даже швейцарское правительство не может рассчитывать на заем в два миллиона, необходимый ему до зарезу? Да, друг мой! Биржевые бюллетени свидетельствуют о близком крахе, можно с ума сойти от баланса этого года! Румыния, Турция, Болгария, Греция не могут получить ни гроша в кредит, а вы хотите, чтобы я прибавил вам жалованье!
Испания, Португалия и Италия нигде не могут разместить займы. Банкирский дом «Франс-Фрер» в Лионе вследствие конфликта в Марокко потерпел сто пятьдесят миллионов франков убытка, а вы как ни в чем не бывало приходите и говорите мне: «Господин шеф, прошу прибавить мне двадцать крон!» Друг мой, а вы знаете, что поговаривают о слиянии Росицких угольных шахт с Бедржиховскими заводами? А вы знаете, что покупка паев рудника «Анна-Мария» приведет к снижению годового оборота на двадцать тысяч крон? Нигде нет никаких возможностей для биржевых спекуляций. Купите-ка себе акции Подольского цементного завода, и вы увидите, как вы возгордитесь. А попробуйте суньтесь с ними на биржу! Ага, вы качаете головой, — не пойдете, мол. Пока еще крепкий курс у акций Колинского завода искусственных удобрений, за них вы заплатите 379, а я покупал их по 382, значит, я теряю по три кроны на каждой. Вы просто удивляете меня, дружище! Сидите как чурбан! Черт вас возьми — и вместе с акциями сахарных компаний! Я утверждаю, что у них слабый курс, — вы можете разбиться в лепешку, но не получите за них больше 261,50. Мне их никто не посмеет предложить, как и акции завода доктора Кольбена. Смею вас уверить! Я выгоню вон такого человека! А вы знаете, что Винебергское строительное общество накануне краха, что люблянские лотерейные билеты упали в цене? А вы знаете, что американский миллиардер Браун застрелился? А вы знаете, что финансисты Мюллер, Скалат, Ковнер, Гюбнер покончили с собой, что Реше, Кине, Мэн, Бюльшар повесились, что Карелт, Моррисон и Коммот и банкир Гаммерл с компаньоном утопились? А вы знаете, что повсюду банкрот на банкроте, что горят угольные Шахты на Аляске и в одну из них бросился американский угольный король? А вы знаете, что залежи серы на Урале уничтожены землетрясением? А вы знаете, что ольденбургские пятидесятиталеровые паи понизились в цене на пятьдесят процентов, что Зальцбургская железнодорожная и трамвайная компания обанкротилась? Нет, вы не знаете этого, иначе вы не стали бы просить у меня прибавки в двадцать крон…
Банкир Прохазка хлопнул по плечу неподвижно сидящего Шиму, и тот повалился со стула на пол; конечности у бядняги уже похолодели.
От всех этих финансовых катастроф у него сделался разрыв сердца.
Проблема любви
В компании зашел разговор о том, как любовь делает безвольными даже сильные натуры и как она действует на душу. Этакая вертеровщина, сентиментальность — явление довольно обычное. Влюбленный плачет и утирает слезы, хотя чаще всего в его отношениях с милой нет никакой трагедии. Влюбленный роняет слезы, даже когда любовь омрачена только в его воображении. Я знал один такой поучительный случай и рассказал, как однажды под Черховом, на Шумаве, встретил под сенью могучей сосны молодого сильного мужчину, который сидел на поваленном стволе и горько плакал. Этот молодой человек проникся таким доверием ко мне, что поведал о своем горе, и рассказ его я передаю здесь дословно.
«Звали ее Ирма Траутенштейн. Я не видывал более хорошенькой немки. Каждый день ходил я из Кубице через границу в баварский Фурт-ам-Вальд, где был ресторанчик ее отца. Могу сказать, что я любил Ирму. Она была образовванная, интересная собеседница, и при всем том, поверьте, сущее дитя. А как она готовила кнедлики с копченым мясом, а сама была такая пухленькая, прелестная и соблазнительная! У отца ее было замечательное баварское пиво, а тут еще окрестные виды! Шумава со своими великолепными лесами! Набродившись по лесу, насытившись его красотой, я шел к пухленькой Ирме, поджидавшей меня с кнедликами и кружкой черного пива. Потом она провожала меня до дороги к границе, в лесу мы прощались, и я один отправлялся к заставе, где карманы мои осматривали австрийские пограничные таможенники. Эти парни подозревали, что я что-то такое проношу. А я нес с собой только любящее сердце, потому что кнедлики переваривались во мне до того, как я достигал границы.
Раз как-то забыл я дома носовой платок, а может, потерял его в лесу, во всяком случае, я не помню, чтобы вытирал им нос за границей. Короче, пришел я в Фурт-ам-Вальд к Ирме без платка. Я сказал ей об этом, и она дала мне платок своего отца, а потом принесла еще один, кружевной платочек.
— Возьмите его на память, только нос им не вытирайте! — сказала она, но как сказала!
Этот платочек с тонкими кружевами я спрятал в нагрудный карман. И он согревал меня, хотите верьте, хотите нет. Согревал до самой заставы, где, как всегда, на меня набросились таможенники.
— Видите, ничего у меня нет, — сказал я, когда они меня обыскивали.
— Вот и неправда! — возразил один таможенник. — А это что?
Тут он вытащил столь дорогой мне платочек.
— Ага, — сказал он еще, — мы все-таки не ошиблись, вы проносите из Баварии в Австрию кружева. Знаете ли вы, что этим вы нарушили параграф третий инструкции за номером сорок шесть — сорок восемь о вышивках, кружевах и прочем рукоделии?
Я стоял перед ними, как грешник…
— Господа, — говорю, взяв себя в руки. — Вы отлично понимаете, что этот кружевной платок — мой личный предмет, не подлежащий обложению пошлиной.
— По платку этого не видно, — возразил таможенник. — Платок еще не был в употреблении, он совершенно новый, и, кроме того, при вас есть еще один, вот этот большой платок, который, я вижу, вы употребили уже не раз.
— Ах, делу легко помочь, — мужественно ответил, я. — Сейчас я высморкаюсь в кружевной платочек.
И я дважды громко сделал это, чтоб доказать им, что вовсе их не боюсь.
— Можете идти, — сказали они мне тогда, и я пошел через черный шумавский лес по белой дороге, ведущей втору, к Кубице. Но, очутившись в лесу, я вдруг подумал: «Что я натворил?! Ах я несчастный, зачем я высморкался в этот платок, зачем осквернил ее рукоделие!» Поверьте, чем дольше я об этом думаю, тем мучительнее становится мне эта мысль. Вот уже два часа сижу под сосной и смотрю в ту сторону, где живет она, где она своими мелкими шажками ходит по старому дому, куда я уже не имею права вернуться, потому что запятнал наши чистые, целомудренные отношения на этой проклятой заставе, облегчив свой нос в милый платочек, который она сама сшила и подарила мне со своей детской улыбкой. Я испытываю отвращение к себе, презираю себя, мне кажется, что я недостоин этого ангела…
Через год после этого я встретил молодого человека в Праге. Он подошел ко мне, как только меня увидел, и сказал:
— Слыхали новость? Она судится со мной на предмет установления отцовства!
Больше я его не встречал.
Трагическое фиаско певицы Карневаль
В кабинет начальника полиции впорхнула, окутанная облаком парфюмерных ароматов и великолепным туалетом, знаменитая итальянская певица Карневаль, которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции не очень-то обрадовался такому визиту: если с этой бабой произошло какое-нибудь происшествие и полиция не сможет ничего раскрыть — а что она не сможет, это начальнику было ясно, — неизбежен крупный скандал.
Но по виду певицы не похоже было, что с ней что-то случилось. Она премило улыбалась и без долгих околичностей заговорила о цели своего визита.
— Господин начальник, — сказала она с ужасным произношением и множеством грамматических ошибок, — я пришла предложить вам сделку, которая для нас обоих…
— Сожалею, сударыня, но я, как государственный чиновник, никакой торговлей не…
— Дайте мне договорить, господин начальник, вы меня не поняли. Поскольку я уже довольно долго живу в вашем городе и, естественно, проявляю интерес к местным делам, магу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация…
— Уверяю вас, сударыня, злословие всегда…
— Знаю, знаю, все это очень мило. Я не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация, мне до этого нет дела. Меня интересует не полиция, а сделка…
— Но, сударыня, я не понимаю…
— Сейчас поймете, только не прерывайте! Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама, понимаете, какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль?
— Ясна, мадемуазель, вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать, а потом арестовывать самих себя?
— Вздор! Итак, вы признаете, что вам пригодилась бы сенсация и реклама? Согласны? А думаете, мне она не нужна? Певица без рекламы просто немыслима. И вот, я придумала, как помочь себе и вам.
Начальник полиции не сводил глаз с заезжей дивы.
— Понимаете, — продолжала она, — у меня с собой на двести тысяч крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены? Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство. Все газеты ухватятся за сообщение о неслыханно дерзкой краже и начнут всячески склонять мое имя. Это будет моей прибылью от сделки…
— А нашей? — осведомился начальник.
— Сейчас скажу. Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет…
— Но я полагаю…
— Ничего не полагайте, господин начальник. Если вор не оставит никаких следов, тем великолепнее проявит себя полиция. Ибо на третий день вам удастся найти драгоценности и вернуть их мне. И тогда газеты и публика снова будут писать обо мне, но на сей раз уже. и о вас и вашей славной полиции. За три дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в четверть миллиона, да к тому ж принадлежащие знаменитой Карневаль, — это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят всюду. Учтите, что вам для этого даже не придется приложить никаких усилий. Ну, по рукам?
— Да, — ответил начальник полиции несколько неуверенно, потом продолжал торопливо: — Но перед тем, как заявлять нам о пропаже драгоценностей, спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскать вашу квартиру.
— Ах, милый начальник, я вижу, вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши полицейские в самом деле способны найти драгоценности? Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я объявлю о пропаже, а уже днем все газеты раструбят о ней. Всего хорошего, милый начальник!
— Целую ручку, мадемуазель! Само собой разумеется, никто не должен знать…
— Не беспокойтесь. От этого было бы еще хуже мне, чем вам.
— Всего хорошего, сударыня!
Наутро певица Карневаль против обыкновения встала в шесть часов утра: в восемь ей нужно было быть у начальника полиции для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она причесалась и оделась, потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу.
— Надо соблюдать уговор. Уберу-ка я драгоценности, — сказала она себе. — Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут, но все-таки…
Она взяла ключик, наклонилась к большому саквояжу, открыла его и начала рыться там.
Вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении, глаза расширились, она стала яростно выкидывать из саквояжа платья, белье и разные предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль: драгоценностей нет, они в самом деле украдены!
Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все сошли с ума: беготня, суматоха, у входа двое полицейских, которые сначала даже не хотели впустить ее. Дива лежала в обмороке, двое врачей тщетно старались привести ее в чувство.
Наконец она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая руки, в отчаяний клялся, что никогда еще ничего подобного не случалось в его отеле. Не слушая его, не заботясь даже о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. Тому уже все было известно. Карневаль вела себя, как обезумевшая. Начальник вызвал чиновника, которому она продиктовала страшно длинные показания и наконец немного успокоилась. Когда чиновник ушел, начальник с любезной улыбкой подошел к певице.
— Должен отдать вам должное, сударыня. Я в восхищении! Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство чуть ли не превосходит вокальное!
Дива взглянула на него так, словно с луны свалилась.
— Что вы имеете в виду?
— Вы так блестяще разыграли свою роль! Это возбуждение, бледность лица…
Певица, которая из-за всех треволнений совсем забыла о сделке с начальником, теперь поняла, о чем речь.
— О боже мой, господин начальник, не думаете ли вы, что я разыгрываю комедию? Драгоценности в самом деле украдены! О господи, он мне не верит!
И она расплакалась.
Начальник в восторге захлопал в ладоши.
— Превосходно, мадемуазель, превосходно! Никогда не видел такой блестящей игры…
— Да поймите же наконец, господин начальник, что я в отчаянии! Драгоценности в самом деле исчезли, ваши люди все обыскали и не нашли их.
— Ну, понятное дело, ведь вы последовали моему совету!
— Великий боже, он все еще не понимает! Клянусь вам, драгоценности украдены!
— Сударыня, не трудитесь, здесь, кроме нас, никого нет, можно не притворяться.
— Какое там притворство! Сколько раз надо вам повторять, что я не играю комедии! Драгоценности похищены!
Начальник взял певицу за руку.
— Сударыня, позвольте поцеловать вашу ручку. Я уверен, что до сих пор никто не имел такой возможности оценить ваше актерское дарование, как я. Какая естественность!..
Певица оттолкнула его и, как безумная, выбежала вон.
Все газеты поместили сенсацию о краже, некоторые замечали при этом, что, конечно, драгоценности утрачены навеки, полиция их никогда не найдет. На сей раз начальник полиции не злился, а усмехался.
На третий день утром город был поражен новой сенсацией: драгоценности найдены! Газеты выражали надежду, что гастрольные выступления дивы, прерванные пережитыми треволнениями, будут возобновлены. Прочитав газету, певица удивилась, что узнает об этом последней, и, уверенная в том, что драгоценности найдены, отправилась в полицию.
— Поздравляю, мадемуазель, поздравляю, — встретил ее начальник. — Все удалось превосходно!
— Так отдайте мне мои драгоценности.
— Мадемуазель, видимо, расположена шутить?
— Какие могут быть шутки! Давайте мои драгоценности!
— Вы лучше меня знаете, где они.
— Если я тотчас не получу драгоценностей, вы пожалеете об этом, господин начальник.
Физиономия начальника окаменела.
— Можете быть уверены, я сумею найти выход.
Жителям города казалось, что они сошли с ума. Газеты опубликовали заявление Карневаль, что полиция не нашла драгоценностей. Никто не понимал, что это значит, но к вечеру все стало ясно. Вечерние газеты вышли с заголовками на всю страницу:
СЕНСАЦИОННЫЙ УСПЕХ НАШЕЙ ПОЛИЦИИ!
ЗНАМЕНИТАЯ ПЕВИЦА КАРНЕВАЛЬ — МЕЖДУНАРОДНАЯ АФЕРИСТКА!
ОНА АРЕСТОВАНА.
И другие заголовки помельче:
ФИКТИВНАЯ КРАЖА.
КУДА ОБМАЩИЦА СПРЯТАЛА ДРАГОЦЕННОСТИ?
НАГЛОСТЬ АФЕРИСТКИ.
МНИМЫЕ ПОДАРКИ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ АРЕСТЕ.
Репутация певицы Карневаль была погублена навсегда. А начальник полиции получил крупный орден.
Вот что бывает с человеком, когда он попытается убедить публику, что полиция на что-то способна.
Падение кабинета Бинерта
Ничто так не взволновало служащего частной конторы пана Юречка, как падение кабинета Бинерта, ибо он, Юречек, был политик и любил перемены как во внутренней, так и во внешней политике, В последнее время его волновали положение греческого государственного деятеля Венизелоса, мексиканская революция, военные суды в Македонии, ситуация в Аргентине и позиция либералов в Англии. И вдруг к этой международной политической смеси приплелось еще сообщение об отношении поляков к Бинерту.
— Бинерт падет, — сказал пан Юречек, когда был в гостях у своей невесты барышни Блажены.
Дело было около пяти часов дня, когда декабрьский туман, подобно морю, затоплял улицы, а свет керосиновой дампы, затененной красным бумажным абажуром, подчеркивал интимность девичьей комнатки барышни Блажены.
Маменька отправилась на базар купить гуся, да заглянула по дороге к тетушке, поляки в своем клубе дискутировали о водных путях, Гломбиньский требовал, чтоб поляки заняли оппозицию, а пан Юречек гладил колено барышни Блажены.
В ту пору положение Бинерта и всего его кабинета, правда, пошатнулось, тем не менее барышня Блажена осталась девой, поскольку решению вопроса о перестройке правительства, о котором пан Юречек толковал барышне Блажене, помешало появление маменьки.
Теплая рука пана Юречка была снята сначала с Гломбиньского, затем с фессалийских гор, где покушались на Венизелоса, честь барышни Блажены осталась нетронутой, и правительственный кризис был предотвращен.
Затем в этом государственном совете был поднят вопрос о носках, и перестало быть политическим секретом, что пану Юречку подарят к рождеству дюжину пар длинных шерстяных носков.
Пан Юречек поблагодарил маменьку, а когда домой пришел его будущий тесть, он поговорил с ним о международном положении и о позиции доктора Крамаржа.
Говоря о последнем, пан Юречек многозначительно подмигивал барышне Блажене, которая нежно толкала его ногой под столом. После этого он ушел, обещав барышне Блажене явиться завтра непременно, если маменьки не будет дома.
Ее вправду не было дома в час, назначенный барышней Блаженой.
Пан Юречек был встречен вопросом, как дела кабинета Бинерта.
— Плохи, — отвечал он. — Поляки непреклонно стоят на своем.
Сам он тоже настаивал, чтоб барышня Блажена села к нему на колени.
— Значит, правительство пошатнулось? — спросила барышня.
— Несомненно, — отвечал пан Юречек, тяжело дыша, как если бы был на месте Бинерта. — Ожидают смены кабинета.
Тем временем поляки решили участь правительства. Начались переговоры о водных путях, а пан Юречек великодушно позволил барышне Блажене не зажигать лампу.
Затем произошло то, о чем потом растрезвонили нескромные газеты. Около пяти часов дня министерство Бинерта пало, и барышня Блажена ждет теперь смены кабинета, потому как с момента этого падения пан Юречек к ним носу не казал.
Если Бинерту поручат составить новый кабинет, может быть, явится и пан Юречек…
1911
Смерть старого Фенека
Венгерская зарисовка
Это было накануне праздника короля святого Иштвана, когда по всей Венгрии в городах и деревнях поют песни, разносится запах вина, а в трактирах подмастерья вытаскивают из-за голенищ ножи, чтобы дракой закончить торжество во славу первого христианского государя венгерского королевства.
Фокоши — секирки на длинной рукоятке — надраивались еще за неделю, потому, что в день святого Иштвана идти на драку с неначищенным топором — все равно что не, побелить свой дом к этому празднику и не обновить свежей краской синие полосы, идущие по низу фасада.
Что бы сказал на это патрон венгерской короны? Что бы сказал Сент-Иштван, если бы в его праздник люди не объелись, не перепились и не передрались?
Если хотя бы чего-то одного из этого недостает, то и праздник не в праздник.
Даже господа нотариусы и судьи принимают участие во всеобщем веселье, а цыгане в этот день не боятся жандармов и, как водится, жмурятся от обилия выпитого вина, ибо блаженство всеобщего праздника ударяет им в ноги.
И всего этого не суждено было дождаться нынче старому Фенеку, потому что лежал он смертельно больной в своей хатенке на краю деревни Бокор. Все ждали, что он помрет как раз накануне праздника короля святого Иштвана.
Он лежал на тулупе и только просил пить, и домашние готовы были зажечь свечку, как только он впадет в забытье.
В обед соседи, ранним утром ушедшие в поле, возвращались уверенные, что за это время он успел умереть; и дивились, услышав, как он расспрашивает сына, сколько вина и дрянного пива заказал трактирщик на завтрашнее торжество.
— Ну и что, — слышался голос Фенека, — побелили вы дом и покрасили внизу синим?!
В это мгновение в комнату вошел сосед Арок, личный враг старого Фенека, и все услышали, как Фенек зарычал:
— Barom! — Скотина!
Что не могло относиться ни к кому другому, кроме Арока.
Арок прошел прямо к лавке, где лежал больной, и приветствовал его:
— Dicsértessék a Jézus Krisztust! — Слава Иисусу Христу!
— Mind orokké amen! — Во веки веков! — ответил смертельно больной и еще раз прорычал: — Barom!
— Гляди-ка, — сказал Арок, усаживаясь рядом, — кто бы подумал, что в прошлом году ты отгулял на празднике святого Иштвана в последний раз!
Фенек отвернулся к стене.
— До вечера не протянешь, — проникновенно продолжал сосед. — Я только сейчас встретил его преподобие священника, и он мне сказал: «Старый Фенек уже готов предстать пред очами господними, так что завтрашний праздник справим без него».
Фенек молчал.
— Парни из Корома, — не унимался Арок, — завтра снаряжаются к нам, мол, будут танцевать с нашими девчатами. Мне об этом толковал Тёльдь, да еще добавил: «Старый Фенек уже не будет разгонять их топором, как бывало».
— Подайте воды, — попросил Фенек. И, смочив губы, заметил: — Ну, это мы еще поглядим…
— До чего мне жаль тебя, Фенек, — продолжал Арок. — Случалось, мы не ладили, да бог с тобой! Жалко мне тебя. Такой человек, а помирает на тулупе у печки, как баба, перед самым праздником святого Иштвана.
Тут все в комнате напугались, потому что никто из них никогда не слышал, чтобы умирающий так громко закричал:
— Фокош! Подайте мне фокош!
Фенек поднялся, и глаза его засверкали, а Арок при этом испуганно отскочил в сторону.
— Фокош мне, кому говорят! — раскричался Фенек. Когда ему принесли секирку, он внимательно оглядел ее и потребовал: — Дайте сюда брусок.
И это его желание было исполнено. Женщины у дверей тихо молились, шептали «Отче наш», не зная, что же будет дальше.
Фенек прошелся бруском по острию вниз-вверх, поплевал на брусок и он стал точить и надраивать фокош.
Все, кто был в хате, перекрестились. Сомнений не было! Умирающий явно собирался принять завтра участие в празднике короля Иштвана.
— Портки! — крикнул он вдруг снова.
Принесли широкие штаны, и Фенек всунул в них свои тощие ноги, встал и, опираясь на фокош, достал из-за печки праздничную шляпу, которая вот уже три воскресенья не покрывала его седую голову. Он сплюнул и смерил Арока взглядом, в котором горели одновременно ненависть и лихорадка. Потом вышел из дома, немного прошелся по деревне и пошел к дому священника, провожаемый удивленными взглядами всего села.
— Nagyságos, — ваше преподобие, — сказал он хрипло испуганному священнику, — старый Фенек готов предстать перед господом богом, но только после праздника святого Иштвана!
От священника он зашел к Тёльдю и сказал удивленному хозяину, размахивая фокошем:
— Завтра парням из Корома несдобровать!
Оттуда он направился в поле, на перекресток дорог, и стал поджидать, не проедет ли кто из коромчан.
Ждал он до самого вечера. Из города ехал Сен. Фенек махнул ему, чтобы тот остановился, и, когда кони стали, сказал:
— Передай коромским ребятам, пусть на завтра готовятся, потому что старый Фенек напоследок отпразднует святого Иштвана!
Он повернулся и, тяжело ступая, поплёлся в село, но в деревне собрался с духом и шел, выпрямившись, до самого своего двора.
И всю ночь просидел перед домом, попивая вино и покуривая трубку…
День святого Иштвана… Запах еды из дворов мешался с ароматом вина, ибо с утра в каждом доме ели и пили; красно-бело-зеленые флаги развевались на крышах муниципалитета и школы. Парни из Корома еще с утра пришли в Бокор с ножами за голенищами высоких сапог, со сверкающими фокошами и прямиком направились в корчму, откуда уже неслась музыка, огненная, цыганская, и гремели песни разбойничьи, такие простые и притом такие веселые:
А едва дозвучало «a szép Lány Debrecenben», снова загремело «Lányok, Lányok, Lányok, a faluba — девки, девки, девки, на деревню!».
И были здесь девчонки — красивые, загорелые, с бусами на шее, в широких юбках и облегающих жилетках, мужики и парни в широких белых штанах, в черных сюртуках с блестящими пуговицами и кудрявые цыгане-музыканты. И все это грохотало, кричало, смеялось и топало.
А посреди этого грохота сидел Фенек. Глаза его лихорадочно горели, его трясло, когда жар внезапно сменялся ознобом.
И тут появились коромские парни, как раз когда начался чардаш.
Глаза Фенека запылали еще ярче, и он крепко сжал фокош, на который опирался, сидя за столом. Поколебавшись мгновение, он взглянул на Арока, сидящего у другого стола, встал и подошел к группе коромских парней, которые стояли у двери, вызывающе посматривая вокруг.
— Что ж, ребята, — сказал он сурово, — разве в Короме не празднуют святого Иштвана?
— Коромские, дедушка, — отвечал один из парней, — празднуют его в Бокоре.
— Ребята! — разгорячился Фенек, размахивая фокошем, — если кого-то побьют, так он говорит, что был на празднике святого Иштвана в Бокоре, а?
Музыка смолкла, и бокорские парни окружили Фенека.
— Тебе-то, дед, какое дело, — выкрикнул один из коромских, — в прошлом году еще ладно, а нынче-то чего пристал?!
— Azembadta, — выругался Фенек, взмахнул фокошем и опустил его в гущу коромских парней. Это был его ответ.
Поднялся крик, в воздухе засверкали топоры и ножи, и бокорчане бились с коромчанами.
Впереди размахивал топором старый Фенек, о котором вчера утром все думали, что он не доживет до сегодняшнего праздника.
Из трактира дерущиеся вывалились на улицу, и отовсюду было видно, как впереди всех машет своим топориком Фенек. Вдруг его фокош исчез в груде дерущихся, а седая голова поникла и стала заливаться кровью.
Коромчане пустились наутек.
На земле, затоптанной и покрытой переломанными рукоятками фокошей, лежал Фенек с пробитой головой, вокруг стояли соседи и ближе всех Арок.
— Арок, — сказал с усилием Фенек, — в день святого Иштвана я не помер на тулупе… я не…
И верно. Когда его подняли с земли, он был мертв.
Так умер старый Фенек из села Бокор.
Дело государственной важности
Его высочество владетельный князь Оксенгаузенский впал в слабоумие, настолько явное, что это заметили даже его министры, которые и сами отнюдь не были титанами ума. Не станем рассказывать о том, как долго кабинет министров, обсуждая этот вопрос, ходил, как говорится, вокруг да около, пока решился признать, что его высочество князя Аладара XXI постигло умственное расстройство, которое нельзя характеризовать иначе, как полный маразм, и что вследствие этого он больше не способен управлять княжеством.
Только министр двора был в душе не согласен с этим заключением, но не стал возражать, опасаясь, как бы коллеги чего доброго не объявили идиотом и его — в доказательствах не было бы недостатка, — и потому проголосовал вместе со всеми; решение было вынесено единогласно. Но для того, чтобы установить регентство, нужно было подкрепить свидетельством врача-специалиста то, что было уже ясно любому профану.
Премьер-министр взял на себя нелегкую миссию поговорить с придворным лейб-медиком его высочества. Вызвав медика к себе, он сказал:
— Дорогой господин медицинский советник, я пригласил вас, чтобы обсудить состояние здоровья его высочества, мои коллеги того мнения, что несомненные и богатые душевные дарования нашего высокородного князя в последнее время…
— …развиваются сверх всяких ожиданий?.. Вы совершенно правы, ваше превосходительство!..
— Вы угадали мою мысль, господин медицинский советник. Эти редкостные дарования его высочества развиваются не только сверх всяких ожиданий… но и в совершенно неожиданном направлении… гм… гм… Одним словом, все это просто поразительно. Вчера я имел честь сопровождать его высочество на прогулке. По дороге нам попались силки, расставленные птицеловом. Его высочество стал расспрашивать меня об их устройстве. Я объяснил ему, что птицы прилипают к веткам, намазанным клеем, и так попадают в руки птицелову. Его высочество со свойственной ему благосклонностью выслушал мои объяснения, а потом соизволил осведомиться: «А что, если прилипнет сам птицелов? Тогда он попадет в лапки к птичкам?»
— Гени-аль-ная острота! Гениальная! — смеясь, воскликнул лейб-медик. — Вот видите, ваше превосходительство, его высочество становится все остроумней.
«Этот тип тоже впал в слабоумие», — подумал премьер-министр и не стал больше задерживать лейб-медика.
Неторопливо шагая восвояси, лейб-медик размышлял о том, что означает этот разговор. Премьер-министр как будто недоволен его ответом… Что же нужно премьеру? Лейб-медика вдруг осенило: да, да, несомненно! Эти люди замышляют что-то против его высочества. Они хотят, чтобы он, лейб-медик, дал неблагоприятное заключение о повелителе. Кто знает, что здесь готовится! А что, если после Турции и Португалии пришел черед княжества Оксенгаузен? И это министры его высочества! Но он, лейб-медик, раскроет их гнусный заговор. Он изобличит их!
На другой день лейб-медик узнал, что в Оксенгаузен прибыл из Берлина знаменитый невропатолог профессор Гшейдтле и был принят лично князем, а после этого имел долгую беседу с премьер-министром. Лейб-медик решил идти ва-банк. Он надел парадную форму и отправился с визитом к приезжей знаменитости.
— Как жаль, — сказал он после нескольких приветственных фраз, — что знакомством с вами, уважаемый профессор, мы обязаны такому прискорбному обстоятельству.
Профессор посмотрел на лейб-медика с удивлением, но йотом сказал:
— Ах да, вы ведь личный врач его высочества и, конечно, в курсе событий. Поистине это весьма огорчительно. Но что поделаешь! Его высочество безнадежен. Я полагаю, что ваш и мой диагноз совпадают: о выздоровлении не может быть и речи. Его высочество по воле божией навсегда останется слабоумным. Править княжеством он, конечно, не способен. Или вы иного мнения?
— О нет, отнюдь нет, уважаемый профессор, — ответил лейб-медик, у которого даже дыхание перехватило. — А как долго наша столица будет иметь честь видеть вас в своих стенах?
— Я уезжаю сегодня вечером, господин медицинский советник.
Но вечером профессор не уехал. Когда он уже садился в экипаж, кто-то положил ему руку на плечо и арестовал именем закона.
— За что? — недоумевал профессор.
— За оскорбление достоинства его княжеского высочества, которое вы допустили в разговоре с лейб-медиком.
И бедняга профессор был посажен в тюрьму. Прокуратура, восхищенная своей распорядительностью, растрезвонила о случившемся по всему городу. Прокурор явился к министру юстиции с докладом. Когда он повторил злополучную фразу профессора о слабоумии князя, министр прервал его гневным возгласом:
— Скажи он это о вас и о лейб-медике, это была бы самая бесспорная истина в мире!
Прокурор вернулся от премьера в полном недоумении.
Кабинет министров собрался на экстренное заседание и констатировал, что внутриполитическая обстановка сильно осложнилась.
— Не можем же мы на основании отзыва одного профессора отправить его высочество на покой, — сказал премьер. — Нужны заключения других ученых. Но если они признают, что князь здоров, то оскандалимся мы. Если же они решат, что его высочество — идиот, придется упечь в тюрьму другого осла — лейб-медика, а иначе весть о его диагнозе распространится по всей стране. Что же, спрашивается, делать?
— Надо избавиться от лейб-медика.
— Легко сказать. А как?
— Давайте посадим его в тюрьму, — предложил министр юстиции.
— За что?
— Вот еще! Уж если нам надо кого-нибудь посадить, повод всегда найдется.
— Вызовем его сюда.
— Это идея!
Но посланный вернулся ни с чем. Лейб-медик велел передать, что считает кабинет министров сборищем заговорщиков и государственных изменников и не желает с ними разговаривать.
Министра юстиции это привело в восторг.
— Вот он и попался! — воскликнул он. — Этого мне и нужно. Разве не оскорбление его высочества — утверждать, будто князь может почтить своим доверием изменников и заговорщиков?
В тот же день лейб-медик был посажен в тюрьму и даже оказался в камере по соседству с берлинским коллегой.
Само собой разумеется, что эти два ареста стали величайшей сенсацией в столице. Кабинет министров развил бешеную деятельность: он разослал телеграфные приглашения различным медицинским светилам, которые могли бы дать заключение об умственных способностях Аладара XXI. Но светила, прочтя в газетах о том, что произошло в княжестве Оксенгаузен, воздержались от поездки, решив, что это попросту ловушка, чтобы заманить людей и арестовать их под предлогом оскорбления его высочества.
Кабинет министров был в отчаянии, а князь день ото дня дурел. Прошла неделя. Его высочество уже нельзя было выпускать из тесного круга самых близких людей, ибо и постороннему стало бы ясно, в каком он состоянии.
Спустя две недели кабинет министров снова собрался обсудить положение. Министр иностранных дел доложил о безуспешных переговорах с заграничными медицинскими светилами, присовокупив, что таким путем ничего сделать не удастся.
Премьер-министр подумал и сказал:
— А нужно ли, собственно, что-нибудь делать?
— То есть как так?
— Наш венценосный князь впал в слабоумие, это факт, но этот факт уже не нов, а в княжестве все идет своим порядком. Разница лишь в том, что его высочество не занимается государственными делами. А разве так уж нужно, чтобы он занимался?
Никаких светил в Оксенгаузен больше не приглашали. Его высочество Аладар XXI остался князем Оксенгаузенским.
Заседание верхней палаты
Председатель, князь Виндишгрец, открывает заседание в одиннадцать часов двадцать пять минут.
Барон Габерсдорфер предлагает решить сегодня судьбу законопроекта о борьбе с дороговизной. Предложение принимается.
Катшалер Ян, зальцбургский кардинал, выражает удивление, почему столь ничтожный вопрос, как законопроект о борьбе с дороговизной, должен обсуждаться именно сегодня, когда более уместно было бы утвердить закон против новшеств в католической церкви.
Граф Волькенштейн-Тройсбург, тайный советник, камергер, бывший посланник, кавалер ордена Золотого руна, владелец огромного имения Тройсбург и родового поместья Волькенштейн, считает вопрос о дороговизне несвоевременным. Как он убедился при покупке персидских ковров, предметы роскоши ничуть не вздорожали. Куда важнее было бы утвердить закон, запрещающий всякие сокращения в титулах членов верхней палаты. Допустимо ли, чтобы в газетах рядом с его именем стояли какие-то т. с., к., б. п., и к. о., З. р., в. и. Тр. и р. п. В.? «Т. с.» может означать не только тайный советник, но также и «тупая скотина».
Барон Прандау-Хиллебрандт, тайный советник и председатель сената верховного придворного суда, присоединяется к предложению предыдущего оратора и выражает свое возмущение беспрестанными жалобами на дороговизну.
Т. Грасбёк, аббат Вильхерингского монастыря в Верхней Австрии, заявляет, что ему ничего не известно о дороговизне. Окрестные селяне и по сей день приводят в монастырь телят как дар христианской любви и посылают своих детей в монастырскую школу.
Граф Ян Стадницкий, землевладелец, тоже ничего не знает о дороговизне. Он ежегодно проводит пять месяцев в Париже; устрицы в этом году там даже подешевели на один франк за гросс. Шампанское в той же цене, что и в прошлом году.
Бен. Корчиан, аббат райградский, полагает, что в дороговизне виноваты неимущие, совращенные социалистами и желающие все получать бесплатно.
Князь Квенмюллер-Метш, тайный советник, камергер и посол в Париже, присоединяется к мнению графа Яна Стадницкого, что устрицы в Париже в этом году подешевели.
Доктор Грабмауер, заместитель председателя имперского суда (с места). Фазаны тоже подешевели!
Граф Кюфштейн. Простите, господин доктор, вы, очевидно, говорите о ваших фазанах, но ни в коем случае не о трансильванских. Те в этом году подорожали.
Председательствующий, князь Виндишгрец, подтверждает, что действительно в этом году трансильванские фазаны вследствие дождливой погоды поднялись в цене.
Граф Лео Пининский, бывший галицийский наместник. Наилучшие фазаны водятся под Магурой.
Гильберт Хельмер, аббат в Теплой (с места). У них мясо белее!
Председательствующий, князь Виндишгрец, подтверждает, что у них мясо действительно белее, чем у трансильванских.
Барон Гахельберг-Лаудон, каноник из Вены. И вкуснее!
Князь Траутсмандорф-Вейнсберг, камергер и тайный советник (полемизирует с предыдущим оратором). Самые вкусные фазаны — это чешские, из его заповедника в Горшовом Тыне, фаршированные трюфелями.
Барон Мариус Пасетти. Позвольте, excelence, фазанов с ветчиной и шампиньонами под соусом из мадеры подают на стол при дворе!
Князь Траутсмансдорф-Вейнсберг охотно соглашается, что фазан, приготовленный по этому рецепту, — самый вкусный, и требует, чтобы члены верхней палаты выразили доверие правительству вставанием.
Дебаты о дороговизне продолжаются.
Князь Альфред Монтенуово, обер-гофмейстер, как главный оратор, высказывает опасение, что нынешняя дороговизна для неблагонадежных, беспокойных элементов есть только предлог пограбить. Порядочный человек никогда не жалуется на то, что цены на продовольствие растут. Для порядочного человека не существует самого понятия дороговизны. У кого не хватает денег, тому не обязательно есть три раза в день.
Ф. Марат, генерал, великий магистр Ордена крестоносцев в Праге, считает, что общая дороговизна — выдумка, рассчитанная на то, чтобы служащие требовали увеличения жалованья. В экономиях Ордена крестоносцев людям, работающим в усадьбе, платят по восемьдесят геллеров в день. Если означенные люди не в состоянии содержать на эти деньги семью в пять человек, то это их личное дело, в которое правительство предпочитает не вмешиваться, ибо уважает гражданскую свободу. (Аплодисменты.)
Принц Фридрих Шаумбург-Липпе удивлен утверждениями о существовании дороговизны. Фирма Бенц, имеющая автомобильный завод в Маннгейме, снизила цены на автомобили на пять процентов.
Барон Фр. Молль. Марка «мерседес» лучше и дешевле!
Граф Фринтс фон Фалькештейн. «Бенц» выиграл пробег Париж — Лион — Брюссель — Страсбург — Ницца — Париж!
Барон Фр. Молль. Господин граф, марка «мерседес» победила в состязании Бирмингем — Лондон!
Председательствующий, князь Виндишгрец, говорит, что прежде всего нужно поддержать отечественную промышленность. Заинтересованные лица пусть обращаются в министерство торговли, где они получат проспекты лучших отечественных фирм. Он подтверждает, что автомобили упомянутых марок действительно подешевели.
Дворянин Горайский. Скаковые лошади тоже подешевели, Я купил за двадцать тысяч крон чистокровного арабского скакуна.
Доктор К. Маттуш, главный управляющий Земского банка, говорит, что слухи относительно общей дороговизны преувеличены, потому что даже деньги подешевели. Сегодня землевладельцу дают меньшую ссуду под землю.
Граф Гардегг. Сильно вздорожали только старые испанские вина.
Пробст Шмольн. И черепахи.
Князь Роган. Создадим комиссию, чтобы выработать предложение об отмене пошлины на старые испанские вина и на черепах, и представим его правительству!
Предложение принимается. Затем производятся выборы. В комиссию по вопросу об импорте черепах и испанских вин избираются граф Голуховский, барон Шей и. граф Веттер фон Лилие.
Законопроект о борьбе с общей дороговизной отклоняется во втором и третьем чтении.
Доисторическая обезьяна
— Да! Именно так! Человек не был создан, а получился в результате длительной эволюции! — с негодованием произнес известный палеонтолог Калиста, повторяя слова Окена, когда, не очень твердо держась на ногах, покидал ресторан, где остались его коллеги.
Дело происходило в новогоднюю ночь.
Палеонтолог был крайне уязвлен невниманием собеседников, не пожелавших дослушать до конца его глубоко аргументированное мнение о новых находках останков доисторического человека в американских пампасах. А ведь он всю ночь так убедительно излагал им новейшие факты о том, что, судя по обнаруженной челюсти, — это не обезьяна, а доисторический человек!
И, уже стоя на улице перед рестораном, он громко повторил:
— Да, несомненно, человек не был создан, а произошел в результате эволюции.
Проходящий мимо приличный господин воскликнул:
— Вот и прекрасно!
И поспешил своей дорогой.
«Я просто обязан просветить его!» — подумал ученый муж, догоняя прохожего.
— Прошу прощенья, — доверительно обратился он, приноравливая свой шаг к шагам незнакомца, — шейные позвонки индейцев из Монте Гермозо служат неоспоримым доказательством того, что с человеком за время его развития произошли значительные метаморфозы.
— Но позвольте, я вас не знаю! — возразил незнакомый господин.
— Неважно, — не дал сбить себя с толку Калиста — О доисторической эре мы вообще мало что знаем, и если б не последние раскопки при строительстве гавани в Буэнос-Айресе, у нас не было б никаких свидетельств о поселениях человека в бассейне реки Ла Плата в третичном периоде!
— Прошу вас, господин, не приставайте ко мне.
— Да кто же к вам пристает, дорогой друг! Вы только вообразите себе, пожалуйста, дно реки Ла Плата и поставьте себя на место счастливого открывателя, чиновника Снуора, который под песчаными наносами в русле реки вдруг обнаружил обломки черепа, причем совершенно окаменевшие. И вот вы, полагая, что перед вами — череп доисторической обезьяны, звоните известному аргентинскому ученому Амегино. А коллега Амегино, лишь мельком глянув на кости, говорит вам:
— Это обломок черепа доисторического человека, а вовсе не обезьяны, дорогой друг!
— Прошу вас, оставьте меня в покое и ступайте своей дорогой!
— Я с удовольствием последовал бы вашему совету, но палеонтология охватывает такой колоссальный объем знаний, что в течение пяти минут я просто не в состоянии изложить вам все известное науке о доисторических обезьянах! Удовлетворитесь, по крайней мере, уверением, что против Амегино выступил опасный оппонент по имени Дюбуа, который заявил: «Обнаруженный череп принадлежит не человеку, а доисторической обезьяне, и мы дадим ей научное название «питекантроп». Что вы на это скажете?
— Чтоб вы отпустили хлястик моего пальто.
— Прошу прощенья, но это отнюдь не доказывает правоту господина Дюбуа.
— Я в последний раз прошу отпустить меня.
— Так же энергично на Дюбуа ополчился весь научный мир и торжественно назвал предполагаемую доисторическую обезьяну «тетрапротомо аргентинус».
— Вы отпустите меня или нет?
— Дорогой коллега, резкие нападки на Дюбуа и его единомышленников завершились пересмотром и всех остальных археологических находок последнего времени, а именно: новым пристальным исследованием верхней и нижней челюсти из Спа, Манер, Крапины и Тринила. А потом поступили черепа из Ле Мостье и череп ископаемого человека из Ля Шапей ау Сентс.
— Караул! Караул!
— И все эти черепа и челюсти, как верхние, так и нижние, сходны с черепом ископаемого человека из Никошеи, что подтвердят вам и Леман и Велькер.
— Караул! Караул! Караул!
— И вот двадцать шестого августа тысяча девятьсот девятого года теории о доисторических обезьянах были опрокинуты благодаря находке Гаузера, обнаружившего останки доисторического человека на Гибралтаре.
— Карау-у-ул!
— Все эти черепа — на Яве, в Южной Америке, в Германии и в Хорватии имеют идентичную форму, О доисторической обезьяне ученые мужи просто забыли, ее место в спорах заняло племя из долины Неандер.
Из переулка выбежал полицейский патруль.
— Что происходит, господа?
— Этот господин пристал ко мне, и я вас очень прошу, прикажите ему идти своей дорогой!
— Я к нему пристал?! Да я же объясняю ему теорию неандертальского открытия!
Незнакомец воспользовался коротким диалогом палеонтолога с полицейскими и поспешил скрыться в боковой улице.
Расстроенный профессор остался один на один с патрулем.
— Человек не был создан, а произошел в результате эволюции, — назидательно сообщил он полицейским. — Вы только представьте себе радость, охватившую весь просвещенный мир, когда Гекель обнаружил останки человека, которому дал название «гомо ступидус», что по-чешски значит «человек неразвитый», а попросту дурак, господа.
Полицейские переглянулись, и старший из них произнес:
— Именем закона, следуйте за нами.
— С удовольствием, сказанное мной вам подтвердят крупнейшие специалисты Ройер, Уоррен, Польдиг, Сержи, Амегино, Швальбе, Кинг и другие. Вот скажите, пожалуйста, к примеру, почему если вас бросить в воду, вы невольно делаете руками движение, словно взбираетесь по шесту? Почему? Да потому, что ваши предки лазили по деревьям!
— Вам хочется сбросить нас в воду? — с презрением проговорил младший из полицейских. — Да вы же еле держитесь на ногах.
— Запомните, господа, с тех пор, что человек ходил на четвереньках, прошло сто тысяч лет, и логично, что он еще не привык твердо держаться на двух ногах.
В полицейском участке ученый муж снова заговорил о доисторической обезьяне, и оскорбленный вахмистр, приняв обезьяну на свой счет, распорядился поместить палеонтолога в одиночку.
Утром его отпустили. Вероятно, ему придется предстать перед судом присяжных за оскорбление должностных лиц при исполнении обязанностей, поскольку в протоколе, составленном в ту новогоднюю ночь в участке, записано, что задержанный пытался доказать, будто стражи порядка каким-то образом превратились из обезьян в «гомо ступидус» и затем уже в «гомо сапиенс»[33], ну а у полиции на каждое из этих оскорблений есть соответствующий параграф.
Мятеж в австрийском флоте
Не стану отрицать, у меня есть кое-какие дела с полицией; соседи считают меня удалившимся на покой коммерсантом, тогда как в действительности я давно разыскиваемый мошенник.
В ресторане, где я постоянный гость, ко мне относятся с почтением, а одного полицейского комиссара, который когда-то усердно меня выслеживал, я даже ссужаю деньгами для игры в карты. В этом же ресторане бывает сыщик из политической полиции. Мы трое — я и эти двое господ из полиции — хорошие друзья, видимся каждый день, и у нас нет секретов друг от друга.
Недавно агент политической полиции не пришел на обычную партию в карты. На другой вечер он явился, но поздно и был явно чем-то расстроен.
Он сказал, что полиция напала на след антимилитаристически-социалистически-коммунистически-анархистского заговора, и они производили обыск у одного человека.
— Дело очень серьезное, господа! — заметил он и, вздохнув, продолжал: — В последнее время определенные органы в Вене получили сообщение, что моряки военного флота совершили в Португалии переворот. Потом пришло сообщение, что и в Бразилии моряки военного флота пытались поднять мятеж. Начали с артиллерийского обстрела — и порядок полетел ко всем чертям. А там пришла и третья бумага — с приказом взять под наблюдение австро-венгерский — флот гордость нашей монархии. Я твердо верю, что недалек тот час, когда этот флот завоюет нам колонии на Южном полюсе, как когда-то австрийские мореплаватели открыли в Арктике Шпицберген и Землю Франца-Иосифа. Однако присоединение Южного полюса к Австро-Венгрии потребует от нашего флота высокой дисциплины. И вот представьте себе; господа: на юге нашей монархии, под Триестом; матросы с одной канонерки… — наш приятель наклонился и продолжал шепотом: — …ходили пить вино к трактирщику, у которого был брат, а у брата приятель, который породнился с человеком, чья сестра встречалась с другим молодым человеком, живущим в одном коридоре с социалистическим агитатором!
Сыщик перевел дух и продолжал:
— Дело, в сущности, очень простое: ведь тот молодой человек безусловно встречался со своим соседом, социалистическим агитатором; знаете, как это бывает, — слово за слово, то да се… А потом сестра этого молодого человека… виноват, сестра того человека вышла замуж за молодого человека и тем самым породнилась с приятелем того, первого человека… виноват, я хотел сказать, с братом приятеля первого человека… к которому, — закончил он уже шепотом, — ходили выпивать матросы с канонерки.
Как видите, политическая полиция до всего доберется, — передохнув, продолжал сыщик. — Итак, первый человек, поскольку сестра молодого человека вышла замуж за социалистического агитатора, теперь тесно связан с противозаконным движением, так как его приятель, чей брат породнился с первым человеком, живет в одном коридоре… э-э, нет, я кажется, сбился. В коридоре живет не он, а приятель его брата… нет, опять не так… Извините, господа, я сегодня слишком устал, лучше завтра докончу эту историю.
Он пожал нам руки и ушел, все еще взволнованный. На следующий вечер он продолжал:
— Вчера, господа, я рано ушел, потому что очень утомился за день. Сегодня опишу вам дальнейшие обстоятельства этого дела… Я забыл упомянуть, что у арестованного хозяина трактира, куда ходили матросы, было семь сыновей и один из них женился на дочери пражского привратника, с которой познакомился в Вене. Это обстоятельство играет важнейшую роль во всем деле.
У снохи арестованного есть кузен в Праге. К этому кузену мы и нагрянули с обыском, о котором я еще расскажу. Все это дело кажется страшно запутанным, но на самом деле оно проще простого: налицо злостный умысел — внести разложение в наш флот. Это видно из того, что арестованный в Праге кузен снохи арестованного трактирщика, собираясь проникнуть в военный флот, поддерживал знакомство с матросами пражского пригородного пароходства. Но я разгадал его зловещие замыслы!
Мы обнаружили, что он втерся в доверие к капитану «Збраслава» и — представьте себе, какова дерзость! — ездил на этом судне до самых Давлен. Подчеркиваю также, что он пытался подкупить рулевых на пароходах «Хухле» и «Браник» и расспрашивал у них об устройстве штурвала. Его знали все машинисты и кочегары пражского пароходства, потому что он угощал их пивом с единственной целью — выведать, как устроен пароходный винт.
И разве не подозрительны, например, его вопросы о численности команды на отдельных пароходах, таких, как «Вышеград» и другие! Не ясно ли, что этот человек готовился к антивоенной пропаганде в военном флоте? Зачем бы ему иначе ходить в кино, где показывали хронику «Парад военно-морского флота»? И почему, скажите на милость, этому подозрительному субъекту понадобилось породниться с тем самым арестованным трактирщиком?.. Вернее, наоборот: почему у трактирщика оказалось семь сыновей и одному из них вздумалось жениться на кузине человека, который разъезжал на судах пражского пригородного пароходства, готовясь к подрывной деятельности в военно-морском флоте? Человек, который не гнушается за литр пива выманивать у рулевого на «Збраславе» секрет управления рулем, — что стал бы делать такой человек, доведись ему попасть на дредноут флота его императорского величества? Уж он бы не пожалел всего своего состояния, чтобы, например, узнать, как на наших кораблях дают задний ход. Состояния у него, правда, нет, но все же хватает денег угощать сигарами машинистов винтовых пароходов на Влтаве, лишь бы они ему растолковали, как приводится в движение судовой двигатель.
И не важно в принципе, о чем идет речь: о миноносце, канонерке или пригородном пароходе «Пршемысл». Важно то, что этот злоумышленник разлагает команду, осматривает винты и рули и даже учится плавать!
Сыщик сделал значительную паузу, перевел дух и продолжал:
— Все это мы точно установили, прежде чем арестовать этого субъекта. Двое сыщиков задержали его, как раз когда он ступил на палубу «Збраслава», чтобы отправиться в Модржаны. Заметьте, что Модржаны лежат на том же меридиане, что и австрийский морской порт Пулье… Итак, его задерживают и доставляют в полицию. При нем находят три письма. Он, конечно, уверяет, что ни в чем не виноват. Но это ему не помогло; мы взялись за письма. И вы подумайте, каков негодяй! Внешне невинные заказы на цыплят, масло и сушеные овощи. При этом он заявляет, что у него нет никаких родственников в Триесте, а на вопрос о местожительстве дает адрес и объясняет, как пройти, — квартира, мол, на третьем этаже, дверь без визитной карточки. И все это так спокойно и нахально, смотрит прямо в глаза, просто ужас!
Мы его для виду отпустили домой, а мне было приказано рано утром явиться к нему на квартиру с обыском. Ладно, взял я с собой еще двух сыщиков, и мы пошли. Адрес сходится, дом номер такой-то, третий этаж, дверь без визитной карточки. «Хозяина нет дома», — отвечает прислуга. «Ага, — говорю я, — упорхнула пташка!» Вскрываем письменный стол, забираем письма, вытаскиваем все платье из гардероба, связываем в узлы, и инспектор Шпачек уже собирается их унести, как вдруг пташка возвращается в гнездо… Шпачек потянул нас за полы и говорит: «Господи боже мой! Это же не та квартира, коллеги, мы попали к его милости судье!» Скандал! Ну, мы с извинениями ретируемся — мол, ошиблись дверью! И что бы вы думали? Настоящий-то виновник, оказывается, живет рядом!
Политический сыщик утер пот с лица и закончил:
— А теперь, господа, вы ясно видите, как тяжела полицейская служба. Все наши старания пошли прахом. Изъяли мы у него корреспонденцию и продолжаем розыск. И вот как раз сегодня из Вены приходит телеграмма: дело временно прекратить на том основании, что к арестованному не могли ходить моряки, потому что он вовсе не трактирщик, а приказчик в овощной лавке, к тому же глух от рождения… А тот тип, чью корреспонденцию мы изъяли, тоже не имеет прямого отношения к делу, потому что человек, который ходил вынюхивать на пароходы, оказывается, умер десять лет назад.
Полицейский агент мрачно выпил пиво и утер усы. Мятеж во флоте австрийской империи был полностью подавлен!
Пятидесятилетний юбилей газеты «Народни листы»
Пятьдесят лет получал Фенцл «Народни листы», с самых первых дней ее издания, но денег не платил. Газета приходила в городишко на его адрес целых пятьдесят лет.
Впервые, когда «Народни листы» попали в его руки, Фенцлу было сорок девять. Ныне это старец девяноста девяти лет, самый старый младочех на земном шаре, теперь он просит правнука читать ему вслух статьи о Крамарже, и газета «Народни листы» все приходит на его адрес, и дирекция до сих пор не присылает ему повестки о неуплате. Может, это случайность, а может, ошибка в списках абонентов. Нам в этом разобраться трудно.
Однако правда побеждает и в дирекции «Народних листов». И вот наконец стало известно, что некий пан Фенцл в течение долгих пятидесяти лет является должником газеты «Народни листы».
И это выплыло наружу именно сейчас, когда только-только отметили пятидесятилетний юбилей «Народних листов», который был отпразднован благодаря неутомимости пана Кочи — с истинно американским размахом.
Пан Фенцл читал или, точнее, слушал, как ему читают все эти изъявления недоумения относительно того, что «Народни листы» до сих пор еще выходят, хвалебные письма; под которыми гордо подписываются люди, завербованные администрацией газеты «Народни листы», в которых изъясняются в чувствах и думают, читая пятидесятилетний юбилейный номер «Народних листов».
— Милый Тоник, — говорил пан Фенцл своему правнуку, — мы тоже должны им что-нибудь написать.
Правнук со дня на день откладывал, пока наконец этот девяностодевятилетний младочех не продиктовал ему следующее:
«Славная редакция!
Я старый, стоящий одной ногой в могиле, искренний, девяностодевятилетний приверженец младочешской партии. Пятьдесят лет, изо дня в день, я получаю «Народни листы». Я потерял жену и детей, но у меня остались «Народни листы». Искренне поздравляю вас и желаю себе и впредь получать от вас еще пятьдесят лет «Народни листы». Передаю сердечный привет д-ру Крамаржу и прошу выслать один календарь. Остаюсь девяностодевятилетний старец, подписчик газеты «Народни листы» в течение пятидесяти лет,
Якуб Фенцл,бывший звонарь в Бытоухове».
Само собой разумеется, это письмо было опубликовано в «Народних листах». Редакция передала письмо в дирекцию, чтобы те удовлетворили просьбу насчет календаря и одновременно оформили пану Фенцлу подписку на газету «Народни листы» еще на пятьдесят лет.
И лишь тогда в конторе дирекции обнаружили, что этот несгибаемый девяностодевятилетний младочех в течение пятидесяти лет получал «Народни листы» и ни гроша за них не платил пятьдесят лет.
И в то время как читатели «Народних листов» читали сообщение, напечатанное жирным шрифтом:
!!!Девяностодевятилетний старец в течение пятидесяти лет является подписчиком «Народних листов»!!!
в конторе подсчитывали, сколько задолжал им за пятьдесят лет этот несгибаемый младочех.
И подсчитали: 8 геллеров в день за пятьдесят лет, что составляет 18 250 дней по 8 г. = 14 600, то есть вышеозначенный старейший младочех остался должен «Народним листам» на сегодняшний день 1460 крон.
Вы понимаете, что такое 1460 крон, когда дирекция «Народних листов» нуждается в каждом геллере?
Но это еще не все! За двадцать лет вклад удваивается. Следовательно, долг составил до 1880 года 584 к., от 1880 до 1900 еще 584, опять же вдвое, итак, дважды по 584 к. и еще столько же, то есть 2336 — за такую сумму человек вполне может сделаться идеальным младочехом! Далее, с 1900 года он задолжал до конца 1911 года «Народним листам» за свои политические убеждения 292 к. Но за это пану Фенцлу проценты за просрочку скостили, ибо в течение пятидесяти лет он, не дрогнув, грудью стоял за «Народни листы». Таким образом, долг возрос с 1460 к. до 2628 к., и то в связи с юбилеем д-ра Крамаржа ему, простили проценты с процентов, чего этот добрый человек несомненно заслуживает, если в девяносто девять лет он столь боек.
— За календарь, — сказал директор и владелец «Народних листов» пан Кочи, — мы, учитывая его искреннее пребывание в младочехах, положим ему всего лишь крону, итого 2628 к. + 1 к. = 2629 к. пишите счет на 2629 крон!
Таким образом искренний девяностодевятилетний младочех получил письмо, в котором дирекция «Народних листов» деликатно предупреждала, что с пана Фенцла причитается 2629 к. за «Народни листы» и посланный календарь, и одновременно рекомендовала столь же ревностно распространять «Народни листы», так как за каждого нового подписчика пан Фенцл получит 50 г.
К счастью, письмо перехватил его правнук пан Антонин Миржичка и как будто между прочим спросил старого Фенцла:
— Скажите, дедушка, вы когда-нибудь платили за подписку на «Народни листы»?
— Никогда, сыночек, мне присылали, я читал и, как был младочех, так младочехом и останусь. Я читал, и это помогало моему бренному здоровью, золотой ты мой сынок. Поддерживало дух и очищало тело, Тоничек!
И правнук девяностодевятилетнего младочеха отправился в Прагу, поговорить с д-ром Крамаржем.
Но допущен к нему не был, а был отослан в дирекцию.
Пан Кочи терпеливо выслушал сообщение о том, что у старого пана Фенцла нет никаких денег, но он тем не менее искренний младочех и что он, правнук, тоже истинный младочех.
В умной голове пана Кочи родилась замечательная идея.
— Послушайте, пан Миржичка, 2629 крон капитал значительный, мы его пану Фенцлу спишем, если он приедет в Прагу. Он одним своим видом может послужить делу нашей партии. Как только пришлем вам телеграмму: «Везите пана Фенцла», вы его к нам привезете и скажете, что его желает видеть народ.
Под председательством пана д-ра Крамаржа собрался совет, на котором по предложению пана Кочи постановили: неподалеку от редакции «Ческого слова» на Вацлавской площади снять помещение и оборудовать большую застекленную витрину. Над помещением прибить надпись: «Паноптикум «Народних листов».
За большой застекленной витриной разместить подшивки «Народних листов», стул и пана Фенцла, а на витрине сделать надпись:
«Пражское чудо!
Девяностодевятилетний старец Якуб Фенцл пятьдесят лет подписывается на газету «Народни листы». Старейший звонарь в Чехии и старейший читатель «Народних листов». Не пьет, не курит, читает исключительно «Народни листы»! Знает все выпуски наизусть! Подписался еще на пятьдесят лет! Чехи! Следуйте примеру старейшего младочеха! Подписка принимается здесь!»
Снаружи решено было расклеить плакаты того же содержания с указанием стоимости билетов: вход 20 геллеров с подписчиков «Народних листов», 40 геллеров с неподписчиков. Те, кто, побывав, подпишется, получают деньги обратно плюс фотографию доктора Крамаржа!
Все было подготовлено. Паноптикум «Народних листов» сооружен, послана телеграмма: «Везите пана Фенцла. Кочи».
И правнук повез его, раз уж народ пожелал видеть пана Фенцла, который спал возле пана Миржички в железнодорожном вагоне, но, когда на станции Лысая-над-Лабой его стали будить, чтобы сделать пересадку, пан Фенцл не двинулся с места, ибо от страшной гордости, что его желает видеть народ, он помер, не доехав до Лысой-над-Лабой между третьей и второй станциями. Пан Кочи закрыл паноптикум «Народних листов», но в «Народних листах» появилось следующее сообщение: «Вчера в железнодорожном вагоне неподалеку от станции Лысая-над-Лабой скончался девяностодевятилетний искренний приверженец нашей партии, пан Якуб Фенцл из Бытоухова, который в течение пятидесяти лет состоял подписчиком газеты «Народни листы». Он ехал в Прагу, чтобы сделать подписку на пятьдесят первый год на «Народни листы». Вот пример, достойный подражания!»
«Впрочем, ведь за ним остались 2629 крон», — вздохнул про себя неутомимый пан Кочи.
Несчастный гондольер Витторе
Гондольер Витторе стоял со своей гондолой на том месте, где Понте-ди-Риальто перегораживает Большой канал, и поджидал иностранцев. Близился вечер, и, чтобы заманить кого-нибудь на свою лодку, он пел со своеобразным мягким, присущим гондольерам выговором:
(«Милый парень, мой красавчик; я скажу тебе: сам целуй свою руку. Ты хорош собою, да не про меня…»)
Я наблюдал за ним с моста Понте-ди-Риальто довольно долго, но ни одного иностранца песня в его гондолу так и не заманила.
Тогда он запел громче:
(«Давай расстанемся и разойдемся, пусть каждый живет сам по себе…»)
Но и это не производило на иностранцев, спешащих мимо него к святому Сальваторе, никакого впечатления. Он спел довольно много песен, а под конец уже перешел на самые грустные, потом до меня донеслись проклятия, и вдруг он с удивлением воскликнул:
— Мадонна миа![34]
Это относилось ко мне; стоя перед ним, я осведомился, за сколько он довезет меня до мола Рива-делли-Скьявони у Дворца дожей.
— Пять лир, синьор, — заявил он с бесстыдством, обычным для гондольеров.
— Даю лиру, — невозмутимо ответил я. Тогда он поднялся в гондоле и запел:
— Лиру, — прервал я его, — иначе destachemose, мы разойдемся, дорогой Витторе!
Витторе выразил удивление:
— Синьор иностранец меня знает?
— Да. Позавчера у святого Сильвестра возле Домо Туполо я видел, как вас сбросила в Большой канал одна красивая синьора, И не стыдно вам, что вас женщина спустила в Большой канал? Так вот, повезете меня за лиру, а по дороге расскажете про этот случай подробнее.
— Ну хотя бы две лиры, синьор иностранец!
— Полторы, Витторе.
— Мадонна миа, по рукам!
И мы поплыли по Каналоццо, как называют его венецианцы, этой водной променаде длиной в три тысячи восемьсот метров, по улице дворцов, из которых тридцать, знаменитых своей архитектурой, и сейчас еще обращают к водам Большого канала свои колонны, окрашенные в геральдические цвета патрицианских родов.
Мы оставили позади Понте-ди-Риальто, единственный вплоть до последнего времени каменный мост через Большой канал. С моста капала грязь.
Слева располагалось здание интендантства, а напротив него палаццо Мании, ныне — национальный банк, два здания, объединенные, кроме славного исторического прошлого, еще одной общей чертой — глубоким безденежьем.
А вот и палаццо Гримани! Именно здесь и сбросила гондольера Витторе в Большой канал его собственная жена.
Разговор об этом он начал сам.
— Мадонна миа, — сказал он, когда на другом берегу показался Домо Туполо, — вон там родная жена Марта швырнула меня в воду. Грустная история, синьор. Я расскажу ее вам, только помолюсь сначала святой деве.
Он достал из кармана четки и вознес мадонне молитву. Наша гондола пробиралась среди других лодок, вокруг пели гондольеры, и воды Большого канала бессовестно воняли. Женщины выливали в него помои прямо с берега. Снулые рыбины и дохлая кошка, которую несло за нами течением, служили достойным завершением вида на Каналоццо. В нем вовсе не было ничего поэтического. В окнах некоторых дворцов сушилось белье, а на прилегающих улицах шатались грязные нищие, отнюдь не благопристойного поведения. Одному из них не хватало только освободиться от остатков драных матросских штанов, чтобы в полном комфорте, то есть в совершенно голом виде, горланить над каналом похабщину. Витторе закончил вечернюю молитву, обругал какого-то подвыпившего гондольера, чуть было не налетевшего на нас зазубренным носом своей лодки, и начал рассказывать:
— Если синьор уже побывал на острове Сан-Микеле, то он должен знать, что я, как и всякий другой венецианец, после смерти попаду на этот остров, а если он еще не знает, что там находится венецианское кладбище, то я мог бы свозить его туда за три лиры. Но раз синьор знает про кладбище на Сан-Микеле, то я расскажу ему о том, чего он еще не знает. Если синьора водил по кладбищу старый Бартоломео, то синьор должен сплюнуть, потому что моя жена Марта — дочка старого Бартоломео, который водит по острову иностранцев.
Знакомы мы с Мартой были уже порядочно. Она приезжала к нам на Риво-делли-Скьявони покупать дыни и финики, из которых старый Бартоломео, бог ему этого никогда не простит, делал отвар и добавлял его в вино. Посмотрите, сейчас мы проплываем мимо палаццо Контарини-делла-Фигуре, палаццо Бальби, палаццо Фоскари. Этот отвар — а вон там палаццо Джустиниани — он кипятил, и крепость получалась такая, что десяти литров хватило, чтобы напоить все семейство Нацони, приехавшее хоронить старого Нацони. Однажды привез я к нему иностранцев, и он пригласил меня распить с ним бутылочку. Сидим болтаем, и вот дернуло же меня похвастаться, что я могу пять раз проплыть вокруг острова Ла-Джудекка. Мы поспорили… Справа от нас дворец Реццонико, напротив палаццо Грасси, палаццо Контарини Корфу… знаете, на что мы поспорили? Я поставил гондолу, а старый Бартоломео — свою дочь Марту. Тотчас же пошли мы в Капелла Эмилия и там попросили святого Антонио благословить наш спор. Это вино, настоянное на финиках, синьор, творит чудеса! Налево под цепным мостом — Академия, за ней палаццо Манцони, а напротив моста — палаццо, который раньше назывался Кавалли, а теперь Франкетти. Синьор! Я пять раз проплыл кругом Ла-Джудеккй, пять раз проплыл Трагетто пер Кьёжо, и не на гондоле, синьор, такого уговора не было, я плыл как рыба, плыл как иностранцы, которые купаются на острове Лидо. Как жаль, что я тогда не утонул, мадонна миа!
Он явно был взволнован и погрозил в сторону острова Сан-Микеле.
— Синьор, Марту я выиграл, да не больно этому обрадовался. В те времена гондольер зарабатывал вполне прилично, вот Марта и захотела за меня выйти. И знаете, синьор, святой Антонио пожелал, чтобы я на ней женился. Как-то раз на Спьяджа-ди-Санта-Марта мы с утра выпивали в остерии моего двоюродного брата Массари, и там же, на Пунта-ди-Санта-Мария, улегся я на набережной, чтобы проспаться. И кто же явился ко мне во сне? Святой Антонио! «Поскольку ты, — вещал мне святой, — пьянствовал на Спьяджа-ди-Санта-Марта, то на Марте ты и должен жениться, иначе исчезнет моя статуя из храма Санта-Мария-делла-Пьета, а знаешь, что предвещает это венецианцам? Смерть!» И как бы вы, синьор иностранец, поступили на моем месте? Да точно так же: женились бы на Марте. Но поглядите, что из этого вышло! Через три дня после свадьбы подарил я ей украшения и дал денег, так она эти украшения продала, а деньги отдала этой свинье Маньено, чтобы тот купил себе гондолу.
Слева, синьор, палаццо Корнер-делла-Канале-Гранде, теперь там префектура, а дальше, надеюсь, у синьора хорошее зрение, палаццо Дарио.
И эта свинья, Маньено, стал любовником моей жены. Он катал ее на гондоле, купленной за мои деньги. Правда, так мне обходилось подешевле, потому что теперь украшения для нее покупал он. Наконец Маньено она бросила, но связалась с Якопо Совино.
Если синьор захочет купить дешевую мозаику, то, видите, слева от «Гранд-отеля» — склад мозаики Сальвати. Стало быть, обольстила Марта Совино, а мы с ее бывшим любовником Маньено, малость возмущенные тем, что она позволила ему обнять себя при народе, отправились на розыски Совино, чтобы потребовать у него объяснений. Тот сперва решил, что мы пришли его прирезать, но потом, когда мы велели ему спрятать нож, стал просить у нас прощения. Он, мол, не знал, что у Марты есть и муж и любовник. Пригласил нас на бутылочку вина и угощал «Лакрима Кристи»[35] до тех пор, пока мы его не простили. — Напротив того парохода стоит храм Сан Грегорио, синьор, а как раз под ним находится тот трактир, где мы простили Совино. — Я думал, что теперь узнаю хоть немного счастья, потому что, синьор, если у венецианки есть один любовник, это не так уж и плохо, но Марта, синьор, за три недели приобрела трех сверх дюжины, мадонна миа!
У нее были Джованни, Антонио, Флориано, Джироламо, были Байамонтео, Алессандро, Пьетро, Джульельмо, она соблазнила Джорджоне и Леонардо, а любила Паоло, клялась в любви Катанео, а свидание в городском парке назначила Тинторетто. Привозил ее туда лодочник Оливоло, а вечером того же дня она встречалась с Николо Геттелем. Скажите на милость, кого из этих людей я должен был убивать? Их уже набралось не меньше, чем рыб в лагунах. А в конце концов я и сам влюбился в свою жену и сочинил о ней песню, которую пел в гондоле:
(«Вы, Марта, милая моя, дражайшая, любимая моя!»)
И представляете, синьор иностранец, ее любовники запретили мне петь о Марте. А подбила их на это сама Марта, которой было неприятно, что собственный муж распевает о ней песни, будто она его милая. Через полгода, если бы я захотел прикончить ее любовника, мне пришлось бы перебить всех гондольеров.
Мы свернули в канал Святого Марка.
— Мадонна миа, — продолжал Витторе, — за этот год она изменила мне со столькими, что я и имен всех не упомню, во всем календаре не сыскать такого количества святых мужского пола, сколько людей она соблазнила. — Ну а позавчера встретил я ее у святого Сильвестра возле Домо Туполо. Целый год я с ней не разговаривал, целый год ее не было у меня, но, знаете, синьор, я любил ее все сильнее и сильнее. Подхожу я, значит, к ней и говорю:
— Ты бы постыдилась, Марта, вернулась бы наконец к своему мужу.
И, к несчастью, сказал я это слишком громко, так что могли слышать женщины, торговавшие дынями, лимонами, апельсинами, финиками и кукурузными лепешками.
— Ты разве не знаешь, — ответила Марта сконфузившись, — что муж не имеет права попрекать свою жену любовниками перед другими женщинами.
О таком правиле, синьор, я не слышал и потому опять сказал:
— Стыдись!
Едва я это вымолвил, как она обхватила меня, а силища ей в наследство от папаши досталась как у парохода, — и вот уже лечу я в Каналоццо, мадонна миа. — Смотрите, мы уже на молу Рива-делли-Скьявони, синьор, добавьте пол-лиры, пожалуйста!
Тронутый его горем, я добавил пол-лиры и пожал ему руку.
— Синьор, — донесся до меня на берег крик гондольера, — если захотите куда-нибудь поехать, не забудьте о несчастном Витторе под Понте-ди-Риальто.
Уходя, я услышал позади себя песню Витторе, который заманивал иностранцев на свою гондолу:
А через минуту послышалось:
И тут я позволил себе рассмеяться над несчастьем гондольера Витторе…
Смерть сатаны
Я шел в половине седьмого утра с маскарада. Был туман, резкий холод пронизывал до костей. Но, несмотря на это, я решил пройтись несколько раз взад и вперед по острову. Это называется — полезная прогулка. В то же время я порядочно клевал носом. Прагу, постепенно выступавшую из паров и туманов, видел смежающимися глазами, как сквозь сон. Вдруг я стукнулся обо что-то головой — как мне показалось, о сук. Я сердито взглянул вверх. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Я наткнулся шляпой не на сук, а на лакированный ботинок, штиблету. Выше виднелись черные брюки. Сомнений не было: передо мной повесившийся! На мгновение мне стало плохо. Но я собрался с духом и посмотрел на самоубийцу внимательней. Прежде всего я заметил, что у него только один ботинок. Вторая штанина кончалась не лакированным ботинком, а копытом. Я посмотрел еще выше. Вывалившийся наружу длинный темно-красный язык, на голове пара могучих рогов, между фалдами элегантного фрака ниспадает косматый хвост. Да, сомнений не было: висящий передо мной самоубийца — не кто иной, как черт!
На скамейке, стоявшей у ног самоубийцы, лежал толстый конверт с надписью: «Тем, кто найдет мой труп».
Нашел труп я. Так что я взял пакет, вскрыл его и прочел:
«Прежде всего должен поблагодарить пражскую полицию. Где бы ни случилось убийство или какое-нибудь другое преступление, она всегда заботилась о том, чтобы виновный не понес наказания от властей, а попал бы в мои руки. Свидетельствую ей свою признательность. Знаю, что если она найдет (найдет ли только!) мой труп, то не сумеет установить мою личность до скончания веков. Поэтому сразу заявляю: я — черт! А относительно моей смерти: я совершил самоубийство.
Что же касается мотивов, то достаточно будет перечислить события последней ночи. Чтобы проверить, насколько пражане до сих пор меня боятся, я отправился в маскарад, где, как я слышал, представлены все слои пражского населения. Надел фрачный костюм, но в остальном сохранил свой обычный облик, чтоб посмотреть, какое буду производить впечатление.
Как только я вошел в зал, все схватились за животики.
— Отличная маска! — сказал кто-то.
Я думал, что всёх испугаю, а они засмеялись.
«Напрасно я не замаскировался», — пришла мне мысль Но я все-таки надеялся, что кто-нибудь меня испугается и убежит. Не тут-то было. Все открыто выражали мне свою симпатию, полагая, что я замаскирован.
В конце концов я подошел к одной старой даме, видимо, страшно набожной и явившейся в маскарад просто потому, что не подцепила ни любовника, ни женишка в другом месте.
Между нами произошел довольно оригинальный разговор.
— Мадемуазель, — сказал я, заметив, что моя маска нравится ей, — я должен разъяснить одно недоразумение: вы ошибаетесь во мне.
— Ничуть не бывало, — нежно промолвила она в ответ. — Я ошиблась только в одном человеке. Это был юрист-практикант Штёвичек, который обручился со мной и был таков. А больше ни в ком.
— Но во мне вы все-таки ошибаетесь, — сказал я.
— Нет, нет, — возразила она, кинув на меня огненный взгляд. — Я сразу увидела, что у вас есть характер.
— И все-таки, мадемуазель. Маска моя — вовсе не маска, а действительность. Я в самом деле черт.
— Я не принадлежу к тем, кто придает значение званиям. У меня приличное состояние, и если ты хочешь, милый, чтоб я была твоя…
Я убежал. Мне стало страшно. Даже люди набожные больше не боятся меня, и эта монахиня 3-го ордена святого Франциска уже готова взять меня в мужья.
Но через некоторое время успокоился. Она не боится меня именно благодаря своей набожности. Наверняка дома у нее — святая вода, ладанки и всякое такое. Я обратился не по тому адресу. Я создан не для того, чтобы меня боялись люди добродетельные, а на страх грешникам. К ним мне и надо обратиться. Тогда посмотрим.
Вскоре я нашел подходящего субъекта. Он сидел за столиком с двумя девицами, с которыми обращался более чем непринужденно. Можно даже сказать: бесстыдно. Это было то, что нужно.
— Скверные безбожники! — грозно загремел я. — Неужто вы не боитесь, что я возьму вас?
— Сделайте одолжение, — ответила одна из девушек. — Возьмите нас ужинать.
— Не напоминайте о суете, находясь перед князем ада! — сказал я.
Взрыв смеха был мне ответом.
— Это вы ловко! — заметил мужчина.
— А в аду, наверное, очень славно. По крайней мере, нет стариков и старух, которые все время отравляют жизнь.
— Вот как? — опешил я.
— Ну, конечно, — ответила она. — Что там, в аду? Скрежет зубовный… А у стариков и старух нету зубов. Верно?
Я был изумлен, но еще хранил кое-какую надежду.
Ну, конечно, таким людям море по колено. Как же им меня бояться? Они просто не верят в меня. Что ж удивительного, что я им не импонирую? Надо найти человека грешного, но чтоб он верил в мое существование и в муки ада.
Долго ходил я по залу напрасно. Но в конце концов нашел-таки, что искал. Там был — но, конечно, замаскированный — один из высших сановников церкви и в то же время человек светский. Я подошел к нему и сказал:
— Достойнейший монсеньер!
Он сделал вид, что не слышит.
Я, недолго думая, потянул его за рукав.
— Я обращаюсь к вам, монсеньер.
— Вы, очевидно, принимаете меня за кого-то другого.
— Нет, нет, — ответил я. — Ошибки быть не может. Я хорошо вас знаю.
Я назвал его имя, а также имя той, которую он искал.
— Кто вы такой? — спросил он с удивлением и не без испуга.
— Вы видите, ваше преосвященство. Я не надевал маски. Это моя действительная наружность. Я черт.
Прелат громко засмеялся.
— Вы забываете, сударь, с кем говорите. Очень рад, что есть люди, которые верят в ваше существование. Но если я живу за ваш счет, это еще не значит, что я тоже верю в вас. Однако если нас приходит пугать пугало, которое мы сами выдумали, то это уж дерзость…
— Достойнейший монсеньер! — воскликнул я почти в отчаянии. — Вы не верите в меня?
— Даже в голову не приходит, — ответил веселый священнослужитель.
— Осмелюсь спросить: почему? — простонал я.
Монсеньер приступил к объяснению. В свое врёмя я читал брошюры, где доказывается, что меня, в сущности, нет, но тут я увидел, что писанием атеистических произведений должны бы заняться именно сановники церкви. Он так убедительно и подробно доказывал мне невозможность моего существования, что мне самому начало казаться, будто я не существую. Напрасно я всего себя ощупывал, мне не удалось увериться в том, что я не только призрак. Душевное состояние мое после этой беседы не поддается описанию. Словно колючий шип, терзал мне сердце мучительный вопрос: «Существую я или не существую?» И в конце концов я решил: если вся моя жизнь — только мечта, только сон, так лучше разом с ней покончить. Пусть я даже в самом деле существую, но вижу одно: в настоящее время я себя изжил. Я никому не импонирую, никто меня не боится. Никто в меня ни чуточки не верит. Кончено. Как только выйду отсюда, так повешусь. О смерти своей не жалею: она — логический вывод из всего, что я в последнее время испытал».
Я дочитал до конца и еще раз взглянул вверх. Мне показалось, что на лице повесившегося застыла гримаса глубокого разочарования.
Происшествие в аду
Среди наидостойнейших душ в пятом отделении для неисправимых грешников числилась и душа начальника полиции пана Гофбауэра.
Заведующий этим отделением, ротмистр черт Такихотельский, не мог ею нахвалиться на дьявольских конференциях. Благодаря этому душе предоставлялись даже и некоторые поблажки, а в котел с серой ее бросали всего раз в месяц. Остальные дни душа носилась над котлами и следила, чтоб грешные души не высовывали из котла ни голову, ни руку или ногу, желая хоть чуточку остудить их.
О столь предосудительном их поведении немедленно докладывалось дежурным по котлам, которые тут же отлавливали вышеупомянутые души раскаленной сеткой, сделанной из платиновой проволоки, и переправляли под электрический молот, доводящий их до белого каления.
Затем к ним подключали оголенный электрический провод, обмазывали навозной жижей, натекшей с доминиканцев, и спихивали в котел, где жалобно вопили иезуиты.
В награду за доносы душе начальника полиции целую минуту разрешалось взирать на грамм родниковой воды в запаянной пробирке над дверью, ведущей к котлам с кипящей серой.
Души других грешников ее не любили и, когда душа Гофбауэра порхала над котлами, брызгали на нее расплавленной серой и даже пожаловались Вельзевулу, когда тот раз в тысячу лет объявился с инспекцией и осведомился у них, выдается ли им положенная дневная норма сулемы с мышьяком.
Но Вельзевул, которому понравилось поведение души-доносчицы, отличил ее долгим разговором, посулив ей дать полизать кусочек льда, если следующие десять тысяч лет та будет вести себя столь же примерно.
Жалобщиков же распорядился кинуть в котел, где бултыхались каноники. Вот и получилось, что больше ни одна грешная душа не хотела разговаривать с душой начальника полиции, кроме души грешного профессора естественных наук Нарцисса.
Последний оказался здесь из-за какого-то химического соединения, благодаря которому на воздух взлетели полгорода вместе с самим изобретателем.
Черти побаивались души профессора ввиду ее наклонности к разговорам на научные темы, она сблизилась с душой пана Гофбауэра, которая хотя и посматривала на нее свысока, однако позволяла ей болтать о чем угодно.
К тому же и она пользовалась льготами, так как была уполномочена составлять легкоплавкие сплавы, в которых купали мелких грешников.
Обе души развлекались как придется, последнее же время таинственно между собой шушукались и перешептывались.
Дело в том, что душу профессора естественных наук озарила гениальнейшая идея: как втихомолку изготовить несколько капель воды.
Своей подружке она сообщила, что опирается на изречение блаженного Августина, будто грешники оказываются в аду абсолютно такими, какими были при жизни. А вот адское начальство швыряет их тут же в кипящую серу и смолу — а последнее время и в расплавленный асфальт.
А что, если их дистиллировать? Неужто не набралось бы хоть чуточку воды? Молот электрический в аду имеется, отчего бы не соорудить дистилляционный аппарат для грешников?
Теперь самое главное — вдохновить этой мыслью ротмистра черта Такихотельского, остальное приложится само собой.
Душа начальника полиции преисполнилась решимости поговорить обо всем с ротмистром как с заведующим отделением. Что она и сделала.
— Ваше высокопревосходительетво, — тонким голоском произнесла душа, — мне кажется, будто вновь прибывшие грешники терпят неизмеримо малые муки.
Его высокопревосходительство омрачилось.
— В этом никто не посмеет нас упрекнуть, — строго произнес заведующий, обмахиваясь расшитым хвостом. — Наказываем их согласно старым правилам и обычаям.
— Ваше высокопревосходительство, — продолжила душа-доносчица, — не следовало ли бы поступающих грешников подвергать дистилляции? Душа профессора Нарцисса утверждает, будто это очень хорошее наказание, и вы еще лучше позабавитесь с грешниками, потому что воплей будет куда больше, чем от всех котлов Папена с серой, смолой или асфальтом. Свеженькие грешники лучше прочувствуют, что такое адские муки, понемногу дистиллируясь, и реветь и причитать будут громче.
Заведующий похвалил душу за столь внимательную заботу о своих новых коллегах и велел позвать душу профессора, которая и изложила ему устройство дистилляционного аппарата.
План заведующему понравился, и он поручил изготовить аппарат для новоиспеченных грешников, причем помощь оказывали души грешных монтеров.
Первую пробу провели с толстым испанским епископом.
Этот парень заговорил о святой инквизиции, но на это не обратили внимания и, засунув его в аппарат, завинтили крышку. Потом под ним развели огонь, и испанский епископ начал дистиллироваться.
Сквозь грохот из котла жалобно донеслось: «Miserere mei domine, sicut magnam misericordiam tuam»[36].
— Тут тебе это не поможет, — иронически обронила душа профессора, а душа начальника полиции нетерпеливо вглядывалась: скоро ли из дистилляционного аппарата закапает долгожданная жидкость.
Черти-надзиратели в это время лупили по щекам какую-то глупую душу, когда из стока аппарата крупными каплями медленно закапала жидкость. Обе души уже подставили ладони, как вдруг примчался заведующий отделением. С перепугу обе души разбрызгали жидкость вокруг себя, несколько капель попало на черта-ротмистра, который с диким воплем превратился в фосфорную свечу. Раздался страшный грохот, и пекло рухнуло.
Из испанского епископа они получили дистиллированную святую воду!
Бошилецкий священник проснулся на кушетке, экономка совала ему под нос склянку с нашатырем, восклицая:
— Очнитесь же, ваше преподобие!
Из соседней комнаты донеслось пение других священников близлежащих приходов.
Экономка принялась разъяснять его преподобию, что собратья допивали последнюю бутылку из тех, что оставались от торжественного обеда в честь освящения храма, когда он свалился под стол.
Вот его и принесли сюда.
Священник понял все это не слишком отчетливо и снова уснул.
Кирилло-мефодиевское братство в Морушове
Приходским священником в Морушово был назначен капеллан Линек, человек молодой, ярый сторонник католическо-национальной партии.
Прежде всего он объединил местных валахов на католическо-национальной основе.
Это великолепное начинание принесло замечательные плоды.
Валахи подстерегли тамошнего учителя-прогрессиста — и избили его.
Капеллан Линек вознес благодарственную молитву богу за то, что ему удалось просветить души прихожан и что Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове так хорошо себя проявило.
Это первое выступление Кирилло-Мефодиевского братства вызвало горячее сочувствие в католической печати Моравии, и капеллан Линек прославился там как бич неверующих.
И он с новым рвением ринулся в бой. Прежде всего он решил, что гораздо лучше, если деньги, находящиеся на руках у жителей села, будут собраны под его охранную длань, и им перестанет грозить опасность быть потраченными на греховные цели. Созвав в трактире сельский сход, он объяснил радостно-взволнованному многолюдному собранию, какое значение имеет для народного благополучия экономия, бережливость и каким сильным станет население Моравии, если поймет, что лучшими хранителями его собственности являются духовные особы, которые, имея доступ к богу, способны обеспечить сбережениям более надежную неприкосновенность, чем несгораемые шкафы и стальные сейфы крупных банков.
Там сбережения хранят просто под замками, а здесь их охраняет господь бог — через ближайших своих служителей.
Таким путем Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове превратилось в организацию, куда жители Морушова и округи начали усердно сносить все свои сбережения, как пчелки мед в ульи. И какие же это были прекрасные собрания, когда капеллан Линек публично докладывал, сколько кто передал в его руки! Как вдохновенно, с какой горячей благочестивой верой говорил он:
— Милые прихожане и друзья мои! Святые просветители наши — Кирилл и Мефодий первые распространили здесь, в Моравии, святую веру, и наша организация — Кирилло-Мефодиевское братство — с честью несет их знамя, и вы, мужи и жены морушовские, следуйте по стопам наших первоучителей. Стойте непоколебимо против врагов святой веры. Матушек вложил 20 гульденов. В священном Сионе ангелы ликуют над Качареком: он вложил 25 гульденов. Радость на небесах над Бзекотой: он дал 30 гульденоз. Растет вера в сердцах ваших, душа моя ликует. Непршела дает 35 гульденов, и супостаты веры святой дрожат и трепещут… Понучкова вложила 18 гульденов. И все мы, в гордом сознании, стоим за веру первоучителей наших, у всех одна мысль, один порыв: всё — за веру в святой Сион! А Чамбула дал 13 рейнских гульденов. Пусть каждый «рейнский», который он вкладывает в руку мою — под охрану божью, звонко звенит серебряным гласом своим, подобно колоколам храма, которые сзывают верующих на молитву.
Каждый «рейнский», мне вручаемый, — прекраснейшее доказательство того, что не погибла вера кирилло-мефодиевская и что вы, к досаде врагов веры святой, гордо противитесь дьяволу-искусителю, гоня его от себя во тьму кромешную, где стоит плач и скрежет зубовный и куда адские силы утащат Жежулу, который до сих пор не вступил еще с радостным сердцем в Кирилло-Мефодиевское братство.
Когда у капеллана в сундучке скопилось в общем 2000 крон, он поехал в Брно, чтобы положить их там на книжку.
Но благочестивую душу всюду подстерегает дьявол — под самыми разнообразными видами. Святой Иоанн Златоуст прекрасно выразил это, сказав:
— В вине — дьявол.
Да, сатана рыскает в мире, стремясь губить души и особенно точа зубы на благочестивых представителей духовенства, о чем говорят сообщения из зала суда, публикуемые в газетах, непосредственно связанных с сатаной.
Напротив, сатана не имеет доступа в редакции газет католических, о чем говорит тот факт, что в католических газетах до сих пор никогда не сообщалось, что вот, мол, этот священнослужитель осужден за то-то и за то-то.
И в том случае, о котором мы говорим, дьявол так и вился вокруг капеллана Линека всю дорогу до Брно, а в Брно спрятался от него в бутылку вина, которую капеллан Линек заказал себе в одном погребке, куда сатана заманил его.
Само собой разумеется, капеллан Линек мужественно контратаковал коварного врага. Но дьявол перепрыгнул в другую бутылку, а потом в третью.
Какая это была страшная борьба!.. И вдруг он из вина превращается в девицу и среди ночной тишины на улице берет служителя божьего под руку и ведет его к себе.
И продолжает борьбу с капелланом под видом этой девицы, и в конце концов вытаскивает из кармана капеллановой сутаны, когда тот, утомленный боем, заснул, целых 2000 крон, а потом исчезает, оставив поверженного капеллана в одиночестве.
Утром капеллан увидел, что дьявол совершил свое адское дело, и, не постигая благочестивой душой своей, как могло это произойти, пошел в полицию и заявил там, что дьявол украл у него ночью 2000 крон.
Он с такой уверенностью твердил об этом полицейским и комиссару, что на другой день в газетах появилась заметка о несчастном случае со священником, который в остром припадке религиозного помешательства был отправлен в Брненский сумасшедший дом.
Осиротело Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове, и морушовские валахи хотят отправиться в Брно, чтобы, не останавливаясь даже перед насилием, освободить из тамошней больницы своего капеллана, у которого дьявол украл 2000 крон.
Группа католическо-национальных депутатов по поводу этого случая готовит интерпелляцию в парламенте — со ссылкой на факты, установленные церковной историей, в которых дьявол играет большую роль.
Триумфальный въезд бухарского эмира
Восточное предание
Эмир бухарский Сеид Абдул Ахад-хан имел обыкновение раз в десять лет посещать одну из провинций своего государства. Когда-то она не принадлежала Бухаре, и каждый, кто хоть немного помнит историю Средней Азии, хорошо знает, что прежде эта страна обладала независимостью, а вот родоначальник ныне правящей бухарской династии некогда был самым что ни на есть обыкновенным ханом-разбойником, потому что в пору, когда в Средней Европе разбойники-рыцари основывали дворянские роды, в Средней Азии тем же самым занимались разбойники-ханы.
Прикрываясь тем, что распространяют-де истинную веру — ислам, они заполучили и вышеупомянутую землю, в столице ее срубили головы местной знати, край присоединили к Бухаре, а бухарский язык объявили официальным государственным языком.
На бедных людей свалилось еще одно несчастье. Сердца за триста лет поработительства стали мягче, а речь, изобилующая изысканными оборотами, приобрела гибкость, так что бухарских властителей стали именовать собственными отцами, а себя называли не иначе как детьми, живущими под охранительной дланью правителя.
И нынешний бухарский эмир не знал для них лучшей награды, нежели навещать раз в десять лет эту провинцию.
Простой народ по такому случаю также раз в десять лет терял голову, безумствовал, а больше всего — из-за орденов. Все мечтали об орденах афганского тельца. Эмир бухарский, афганский телец и его орден — эти три вещи у простого народа сливались в единое целое, конечно, при этом они сохраняли добропорядочность, своего рода благоговейную лояльность, не покидавшую сердца этих простых людей даже тогда, когда клевреты возлюбленнейшего эмира изымали у них последнюю рубашку, а соплеменники всесильного Сеид Абдул Ахад-хана отрубали этим простым людям головы.
Но ничто не занимало их так сильно, как самочувствие возлюбленного государя. Когда однажды Сеид Абдул Ахад-хан страдал запором, он получил из этой провинции не одну сотню изъявлений верноподданнической преданности.
А когда аллах всемилостивейше привел эмирово пищеварение в порядок, по всей провинции только и слышно было:
— Хвала аллаху! Вчера в пять часов девятнадцать минут.
И муэдзины с минаретов взывали к правоверным:
— Аллах иль аллах! Молитесь, чтобы это удалось его величеству еще раз.
Когда же теперь по Мархапе, столице провинции, разнеслась весть о прибытии Сеида Абдул Ахад-хана, радость переполнила сердца его жителей, и при въезде в город народ с воодушевлением воздвигал гигантскую триумфальную арку, под которой и должен был проехать отец своих славных подданных.
Но их радость по поводу приезда государя была омрачена, ибо лояльные чувства граждан неслыханным образом оказались оскорблены в тот прекраснейший день.
Не утихли еще ликующие клики, возвещавшие о прибытии Сеида Абдул Ахад-хана и приближении всей процессии к арке, как прямо перед эмиром под триумфальной аркой промчалась свинья! Свинья эта, столь неслыханным образом оскорбившая чистейшую радость народа, принадлежала мяснику Ахмеду и, быть может, в глубине души лелеяла страстную надежду каким-либо образом выступить публично.
Не одолев этого низменного желания, она вообразила, будто все эти приветствия предназначаются именно ей, а не какому-то там высокому гостю, следовавшему за ней в золоченой карете.
Бедная свинья мясника Ахмеда! Посверкивая глазками, она оглядывала изумленным взглядом ряды приодетых, чисто вымытых школьников, директоров школ, облачившихся в форму, смущенно салютующих ей стражников, потому что прямо за ней следовала и карета высокородного эмира.
А свинья продолжала нестись дальше между шпалерами встречающих, веселясь и похрюкивая. Пробегала мимо государственных чиновников, мимо представителей мусульманского духовенства, и все приветствовали ее, чиновники же кричали: «Ура!», потому что Сеид Абдул Ахад-хан, сопровождавший свинью в карете, помахивал рукой и отдавал честь.
И в то время, как впереди кричали «ура», после того как свита миновала встречающих, полицейская стража и народ рыдали, ужасаясь столь неслыханному оскорблению, которое нанесено было Сеид Абдул Ахад-хану.
А свинья мясника Ахмеда весело трусила дальше — перед эмиром, все больше утверждаясь в мысли, что все эти восторги предназначаются ей. Она пробегала мимо выстроившегося дворянства, отвечала на поздравления эмиру и задорно вертела хвостиком.
И тут простой человек из толпы, стоявший в первом ряду и издали понявший, что случилось, член какого-то общества бухарских ветеранов, спас Сеид Абдул Ахад-хана от дальнейшего позора.
Он быстро набросал карандашом на клочке бумаги несколько слов и, когда государь проезжал мимо него, кинул бумажку в карету.
Его тут же схватили, карета остановилась, а затем, когда все кругом продолжали славить государя, эмир прочел на записке следующее: «Ваше величество! Впереди вашего величества бежит свинья!»
Сеид Абдул Ахад-хан приподнялся в экипаже и убедился, что меж шпалерами бухарцев и вправду бежит свинья.
Тут и произнес Сеид Абдул Ахад-хан те самые замечательные слова, которые мы и сегодня имеем возможность прочесть, так как они вошли во все бухарские буквари и золотыми буквами записаны в сердцах людей:
— Гм, гм! — Затем, обратившись к мужественному ветерану, спросил:
— Имя?
— Мирза, ваше величество!
— Это хорошо, — отвечал Сеид Абдул Ахад-хан. — В армии служил?
— В роте гималайских верблюдов, ваше величество!
Сеид Абдул Ахад-хан поручил тогда своему адъютанту выплатить мужественному ветерану один тикал (что-то около одной кроны 44 геллеров), похлопал его по плечу и сказал:
— Отныне будешь именоваться Свинячий Мирза.
И сегодня потомки Мирзы Свинячего — один из самых уважаемых и влиятельных дворянских родов в Бухаре. Мясника Ахмеда, обладавшего столь неравнодушной к почестям свиньей, на веки вечные выслали из страны.
А сумасбродку свинью повесили затем на триумфальной арке.
Дредноуты
Чтобы экспортировать изюм в восточные страны, государству понадобились дредноуты, и в связи с этим произошла такая история.
Министр финансов вспомнил, что у некоего Яна Лухи после визита, нанесенного ему экзекутором, остался все-таки вполне приличный костюм, хотя экзекутор уже сумел содрать с него кое-что во имя столь высоких интересов, как огромные гордые дредноуты.
В интересах государства необходимо было этот костюм с него снять. За него, правда, дредноута не купишь, но это неважно. Коль не льет, то хоть каплет!
И с Яна Лухи сняли пиджак. Потом Австрии понадобился еще один дредноут, тогда налоговое управление продало его штаны и жилет.
Но появилась необходимость купить еще три дредноута. Однако на Яне Лухе не осталось ничего, кроме рубахи да исподников.
Продали исподники. Осталась рубаха. Вы не ошиблись, добрались и до нее.
И Ян Луха остался абсолютно голым.
В налоговом управлении этому не поверили, и Ян Луха получил повестку явиться в суд и клятвенно присягнуть, что больше у него ничего нету.
Ян Луха пошел. В том виде, как сотворил его господь бог и в чем оставило налоговое управление. Но едва он вышел из дому, его схватили и препроводили в суд за нарушение правил нравственности.
Как пан Мазуха мстил за поруганную супружескую честь
Пан Мазуха был господин чрезвычайно рассудительный. Догадавшись наконец, что супруга изменяет ему с неким паном Хаберой с Черной улицы, дом номер восемь, он решил отомстить за поруганную супружескую честь.
В силу своей рассудительности он обдумывал этот шаг две недели и пришел к выводу, что удовлетворение следует получить без пролития крови и как можно более деликатным способом. Еще две недели он обдумывал, употребить ли ему благородно хлыст или положиться только на собственные руки. В конце концов он решил публично, на улице, дать пощечину пану Хабере, что было бы самым дешевым способом получить удовлетворение, так как не требовало никаких финансовых жертв, что имело бы место, если бы он вздумал покупать кавалерийский хлыст.
Еще неделя протекла в наблюдениях за тем, куда пан Хабера ходит гулять. Пан Мазуха установил, что пан Хабера — если у него не было назначено свидание с пани Мазуховой — в четыре часа ходит в кафе «Унион» на проспекте Фердинанда, где сидит до половины седьмого, а потом, прогулявшись по променаду, отправляется в ресторан Глаубицев на Малой Стране.
Итак, седьмого февраля пан Мазуха вышел мстить за поруганную супружескую честь. Он отправился прямиком в кафе и, расспросив, где сидит пан Хабера, подсел к его столику напротив и стал со смущением рассматривать атлетическую фигуру соперника. Он не предвидел таких широких плеч. «И мускулы же у него», — грустно подумал он и как можно любезнее обратился к пану Хабере, когда тот отложил какой-то французский журнал:
— Простите, журнал вам больше не нужен?
— О, пожалуйста.
«Ах ты мерзавец, — подумал пан Мазуха. — Знал бы ты, кто сидит перед тобой!»
«Но если б он это знал, — продолжал он рассуждать, прикрывшись журналом, — то, пожалуй, еще рассердился бы. А такой верзила, если уж он посмел разбить мое супружеское счастье, способен разбить об мою голову поднос с графином и стаканами. Но я не могу этого так оставить, я должен хоть морально унизить подлеца!»
С наигранным презрением пан Мазуха положил журнал на свободный стул и громко произнес:
— В этих французских журналах сплошь супружеские измены. Маркиза де Белло имеет связь со скульптором Вайо. И чего этот маркиз не отхлещет голубчика по физиономии! Фу! Я бы схватил негодяя на бульваре и дал бы ему пару затрещин. Так следует наказывать прелюбодеяния! Зачем покупать револьвер!
Посетители начали оглядываться, пан Мазуха умолк, зато заговорил пан Хабера:
— Незачем ходить за примерами в Париж, в самой Праге делаются вещи, от которых волосы дыбом встают. Я бы мог порассказать!
— Я тоже, — многозначительно заявил пан Мазуха, не совладав с собой. Однако его рассудительность тотчас взяла верх, и он прибавил: — Я тоже не сомневаюсь в этом. Тем не менее мне это кажется весьма неприятным обстоятельством, милостивый государь, наши законы недостаточно строги. Лучше всего расквитаться лично… — Тут он опять заволновался. — Встать лицом к лицу с таким мерзавцем, публично дать пощечину и сказать: «Вы. разбили мое супружеское счастье и теперь ставьте себе холодный компресс на щеку».
— Это не так просто, — серьезно возразил пан Хабера. — У меня большой опыт в этом деле. Когда я был в Брно, в меня влюбилась жена одного директора. Позже она сбежала от мужа с кем-то другим в Румынию. Но этот директор, еще когда у нас с ней была связь, застал нас однажды на загородной прогулке в Бланско. Он завязал ссору, полез было ко мне, но жена его спасла, бросилась передо мной на колени, и я дал ему уйти с миром. Между нами говоря, он был человек глупый, ограниченный в самом широком смысле слова. Потом я разыскал его в Брно, он держался кротким барашком. Я принес ему пенсне, которое сшиб у него тогда с носа. Но, поверьте, если бы не жена, которая так молила меня, ему пришлось бы худо. Я бы отделал его как следует. Так-то… А вы женаты?
— Я не женат, — нетвердо сказал пан Мазуха.
— Простите, — приветливо сказал пан Хабера, — я еще не представился: тенор Хабера.
— А я… я… — выдавил из себя пан Мазуха, — меня зовут Войтех Славичек.
Расплачиваясь за чашку кофе с молоком и рогалик, пан Мазуха уронил слезу на монету достоинством в крону и растерянно вышел, пожав руку пану Хабере.
Наследство Шафранека
После всех необходимых формальностей выяснилось, что наследство Франтишека Шафранека составляет ровно семь геллеров. Вот и все богатство, оставшееся после этого доброго человека. Но самым неприятным было то, что у Шафранека не оказалось наследников и государству пришлось принять эту сумму на хранение. Семь геллеров положили в государственный депозит, и власти принялись за усиленные поиски наследников.
Нотариат развил бешеную деятельность. Прежде всего был назначен управляющий наследством. На основании своих полномочий он составил ясное, исчерпывающее извещение и напечатал его во всех газетах и журналах, запла тив за это по тарифу объявлений. Позаботился он и о том, чтобы сообщение о Шафранеке появилось в хронике местных газет.
Объявление гласило:
«Семнадцатого июня с. г. в городской больнице скончался подмастерье печника Франтишек Шафранек, шестидесяти семи лет от роду, по имеющимся сведениям, холостой. Лица, претендующие на наследство покойного, приглашаются в нотариат окружного суда».
Словом, управляющий наследством пан Камейка рьяно взялся за дело. Поиски неизвестных родственников Шафранека он начал со всей обстоятельностью, на какую только способны австрийские учреждения.
Мелкий судейский чиновник Камейка уже зарекомендовал себя кое-чем, однако ему еще никогда не выпадала честь быть управляющим наследством. «Сделаю все возможное, — решил он. — Черт меня подери, если я не закончу это дело самым успешным образом».
Пока Камейка трудился не покладая рук, семь геллеров, положенные в депозит, покоились вместе с другими суммами в сейфе государственного банка, около которого прохаживался солдат с ружьем.
Камейка не дремал. За короткий срок он поместил до пятидесяти объявлений в пражских и провинциальных газетах, что обошлось казне в шестьсот крон. Писарь Шмидт был завален работой по отправке повесток всевозможным Шафранекам, которые нежданно-негаданно получали вызов в суд. В одной только Праге оказалось пятьдесят восемь Шафранеков.
С таким материалом уже можно работать. Наблюдать трепет этих бедняг, вызванных в суд, где их допрашивали со всей строгостью и обстоятельностью, было истинным удовольствием.
Впрочем, Камейка немало намучился с Шафранеками! Некоторых приходилось чуть ли не за шиворот тащить в суд, или, выражаясь официальным слогом, доставлять туда под конвоем. Так было с Алоисом, Беноном, Артуром, Вилемом, Карлом, Антонином Шафранеками и с Филоменой Шафранковой. (Эта баба страшно скандалила, когда полицейские подняли ее в шесть часов утра.) Двум Шафранекам — Михалу и Богуславу — эта история стоила должности, ибо полицейские явились за ними на службу, чем наниматель был весьма шокирован.
Впрочем, все это пустяки, лишь бы была соблюдена юридическая процедура.
Когда с Прагой было покончено, Камейка вооружился адресной книгой и взялся за Пльзень. Там оказалось двадцать Шафранеков. В Клатовах их набралось десять.
Короче говоря, судебные учреждения по всей Чехии были завалены делами одних Шафранеков. В Младой Болеславе было допрошено четверо, в Колине — восемь, в Горжицах — один. «В Высоком Мыте — ни одного Шафранека», — констатировал Камейка. А спустя несколько дней он, придя домой, торжествующе объявил жене: «В Будапеште — восемь!» Все Шафранеки были допрошены в местных судах, и Камейка потирал руки:
— Черт меня подери, если я не доведу это дело до успешного конца!
За лето в окружном суде было заведено шестьсот двадцать девять новых папок. Для литеры «Ш» пришлось приобрести новый шкаф и нанять дополнительно специального писаря. К осени неутомимый Камейка переключился на Моравию.
— Нельзя терять ни минуты, — говорил он своим подчиненным. — Сперва Брно, за ним Оломоуц — и все пойдет как по-писаному. Строжайший порядок: один округ за другим. Потом на очереди Силезия. Да, господа, рука судебных органов достигает далеко!
В шкафу под литерой «Ш» прибавилось еще пятьсот шестьдесят шесть дел. Писарям ночью мерещились Шафранеки.
В один прекрасный день Камейка объявил с видом победителя:
— А теперь возьмемся за Вену. Надо заручиться содействием тамошних полицейских властей. Дорога каждая минута. Телеграфируйте, нет ли там Шафранеков.
Шафранеки нашлись. Венская полиция препроводила в распоряжение пражского суда одного Шафранека, одного Шаффранека и одного Шафрана. Волею судеб это оказались почтенные коммерсанты, которые не знали, что и думать, когда их ночью схватили и отвезли в Прагу. По этому поводу был даже запрос в парламенте.
Камейка сиял.
— Все идет как по-писаному, — повторял он. — Вот увидите, я отыщу этих наследников. Пора, однако, обратиться за помощью в наши консульства за границей.
В канцелярии окружного суда прибавилось еще сто семьдесят два дела. Консульства проявили не меньшее рвение, и через полгода Камейка мог похвастаться поистине замечательными результатами. В Германий нашлось триста четырнадцать Шафранеков, во Франций — два, в Англии — девять, в России — тринадцать, в Турции — один Шафранек-бей. В Испании не оказалось ни одного, зато в Америке — восемьдесят человек. Из Австралии не поступило ответа, из Пекина ответ был отрицательный. Токио с энтузиазмом сообщало, что о таком имени там и не слыхали.
— Господа, — с удовлетворением заявил Камейка своим подчиненным, — все идет как нельзя лучше. Не пройдет и двух лет, как мы отыщем наследников. А до тех пор я прошу вашего неослабного внимания! Писать во все суды, расследовать, искать, не давая себе ни минуты отдыха. Расходы пока что составляют всего лишь одиннадцать тысяч крон — это сущий пустяк по сравнению с важностью юридической процедуры.
Розыски продолжались. Но однажды Камейка торжественно вошел в канцелярию и обратился к писарю Шмидту:
— Прощу официально зарегистрировать мою претензию на наследство Франтишека Шафранека. Не улыбайтесь, господа, я в своем уме. Будьте любезны допросить меня по всем правилам. Имя и фамилия? Отвечаю: Ян Камейка. Состояли ли в родственных отношениях с покойным Франтишеком Шафранеком? Отвечаю, господа: состоял. Я вижу, вы удивлены… Да, господа, мы наконец достигли желанной цели. Мамаша моя носила в девичестве фамилию Шафранек. Я обнаружил это вчера, перебирая наши семейные документы. Ее младший брат, которому не повезло в жизни, работал в Унетицах печником. Это лицо и есть покойный Франтишек Шафранек, оставивший наследство. Заявляю о своих правах и прошу завести дело.
Прошло около пяти лет, пока были выполнены некоторые мелкие формальности, и Камейка вступил во владение наследством. Из государственного депозита ему были выданы семь геллеров, он их позолотил и стал носить в виде брелока к часам.
Анонимное письмо
Князь Фридрих, властитель Вальдецкого княжества, ехал в карете, окруженный ликующей толпой. Вдруг на его колени упало письмо, ловко брошенное чьей-то рукой.
Князь Фридрих любезно улыбнулся и принялся читать: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!»
Князь Фридрих перестал улыбаться.
Как писали на другой день газеты, его светлость почувствовал недомогание, торжества были тотчас прекращены; князь Фридрих вернулся к себе во дворец.
Там он проследовал в кабинет и стал внимательно изучать оскорбительное послание. Прочитав по меньшей мере в пятидесятый раз: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!» — и затвердив это наизусть, изумленно воскликнул: «Этот негодяй даже не подписался!»
Он шагал по кабинету и повторял: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!»
Через полчаса князь приказал созвать государственный совет.
— Господа, — взволнованно заявил он четырем тайным советникам, — сегодня, в день празднования тридцатилетия моего правления, неизвестный злоумышленник бросил в мор коляску следующее послание: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!»
Тайные советники побледнели, а барон Карл пробормотал:
— Ваша светлость, это письмо предназначалось не вашей светлости!
Князь Фридрих рассердился.
— Любезный барон, — воскликнул он, — я полагаю, вам известно, что титул «светлость» во всем княжестве ношу только я один, и нет никого, кто мог бы претендовать на титул «светлость»! А так как в записке сказано: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!» — значит, письмо адресовано мне! Я думаю, что все мы сойдемся в этом мнении. Разыскать злодея, который отважился оскорбить меня, дело государственной важности, ибо я считаю это государственной изменой. Я передаю это дело в ваши руки и надеюсь, что и сейм выразит мне сочувствие и осудит на завтрашнем заседании постыдный поступок субъекта, не постеснявшегося нарушить покой своего князя…
До глубокой ночи длилось заседание сейма, куда был приглашен и шеф полиции.
На следующий день в сейме председатель с трепетом огласил собственноручное послание князя Фридриха, апеллировавшего к верности своего народа.
Сейм незамедлительно выработал адрес с изъявлением преданности князю, хотя никто не понимал, что же, собственно, происходит.
Смутная тоска носилась в воздухе. Шеф полиции между тем не дремал: он потребовал аудиенции и получил из государственного архива сие мерзостное письмо.
— Что вы собираетесь предпринять? — спросил его канцлер.
Шеф полиции только потирал руки.
— Терпение, вы будете изумлены моей методой расследования!
Письмо отправили в государственную типографию, и уже после полудня по всей столице были расклеены плакаты, выпущенные полицейским управлением:
НАГРАДУ В 1000 МАРОК ПОЛУЧИТ ТОТ, КТО УКАЖЕТ СЛЕДЫ ЗЛОДЕЯ, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ И БРОСИЛ В КАРЕТУ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ПИСЬМО.
А под этим уведомлением была помещена точная репродукция письма:
«Ваше высочество!
Вы величайший дурак на свете!»
К вечеру каждый житель Вальдецкого княжества знал, что князь Фридрих — величайший дурак на свете.
На следующий день шефу полиции пришлось уйти в отставку.
Сердечное поздравление с именинами
Дня за два до именин Алоиса Гольдшмида, владельца экспедиторской фирмы, в укромном уголке кабачка «У мозоли» встретились два бухгалтера и конторщик фирмы, дабы составить текст поздравительной телеграммы. Именинник, развернув рано поутру свою любимую газету, должен был там прочесть:
«Многоуважаемого шефа, пана Алоиса Гольдшмйда, домовладельца и главу экспедиторской фирмы Гольдшмид и К0…»
Поздравители заказали уже по третьей кружке пива, а бумага, лежавшая перед ними, все еще оставалась чистой.
— Я тут припомнил одно старое пожелание, — проговорил бухгалтер Дуфек:
Бухгалтер Миховский возразил, что в этом «тихо пусть струится» старик наверняка углядит намек на свою привычку кричать в канцелярии: он ведь тупица и в поэзии ничего не смыслит.
Конторщик Рыбарж робко заикнулся, что он где-то списал для себя такое приветствие: «Да цветет, как вешний цвет, ваше предприятье, вам желаем многих лет — свежести и счастья».
— Не пойдет, — оборвал Дуфек, — старикашка обозлится на эту «свежесть». Всякий знает, что не везет ему у баб, стар стал, мошенник. Ни одна теперь за ним не бегает.
— Можно бы дать в газеты такое объявление, — прервал его пан Миховский: — «Много счастья вам при жизни, дай господь здоровья вам; что в мечтах лелеет сердце, мы того желаем вам». Да ведь в мечтах у него, бесстыжего, только прелести пани Вольфовой.
— Говорят, он даже бывает у нее, — скромно вставил конторщик.
— Бывает! Как не бывать! Вы, голубчик, его еще не знаете, а уж мы с Дуфеком могли бы кой-чего о нем порассказать. Он ведь и за моей покойницей женой ухлестывал. Однажды я, как честный человек, возьми да и скажи ему с глазу на глаз, что моя оскорбленная честь требует удовлетворения. Так знаете, что он сделал? Подкинул к жалованью четыре сотенных и назначил меня главным.
— Я слышал, что он и с дочерью кладовщика шуры-муры крутил.
— И крутил — что правда, то правда. Все время сережки дарил ей. Одни сережки, ничего больше. А кладовщик эти сережки своим знакомым перепродавал… Два года тянулась эта канитель, а потом девка получила отставку. Да, что ни говори, у нашего шефа губа не дура.
— Зато больше он ни в чем ни бельмеса не смыслит, — вмешался Дуфек, — лишь книжками об стол трахать умеет.
— Намедни подходит он ко мне, — вздохнул конторщик. — «Вы, — говорит, — осел, Рыбарж, ну, сознайтесь, разве я не прав?» — А сам смотрит на меня, будто забодать хочет. Что тут поделаешь, скажи на милость, пан бухгалтер? Я и поддакнул. Да, дескать, вы совершенно правы, господин начальник. Тут он похлопал меня по плечу и добавил: «Вот и славно, что соглашаетесь». Выпивши был.
— Да, это он с перепою, — кивнул пан Миховский. — А что, если нам так написать: «Мир, здоровье вашей чести, грусть обходит ваш порог, пусть вам счастье не изменит, хворь не знает к вам дорог».
— Со здоровьем этим тоже можно впросак попасть, — рассудил пан Дуфек. — Он вон как десяток сигар в день выкурит да налижется винища, — кто тут поручится, что его кондрат не хватит? Коли помрет, шефом станет поверенный Домек. А Домек — просто золотой человек.
— И то сказать, в семье ведь тоже покой нужен, пан Дуфек. А у шефа не семейная жизнь, а марокканская война. Старуха с детьми против него стоит, дома он и пикнуть не смеет. Вот и отводит душу в канцелярии. Тут ему ничем не потрафишь, все у него дармоеды, а сам-то… Эх!..
Пан Миховский махнул рукой и повернулся к конторщику.
— Так, давай шевели мозгами, голубчик. Я в вашем возрасте такие стихи закатывал — любо-дорого. Теперь уж не то: давно не упражнялся. А в стихах, как на бильярде, руку набить надо. Э, да вы что-то уж и пить перестали? А ну-ка, поднесите ему еще кружечку, да и нам заодно. Глядишь, поздравленьице душевней получится.
Конторщик взял карандаш, придвинул бумагу и с отчаянием уставился на нее. И вдруг вскричал: «А ну-ка, найдите мне рифму к слову «конкуренция». Я хочу начать так: «Пусть злоба конкуренции…»
— Голубчик, ну кто же начинает с конкуренции! Старец наш тут же спятит! И так уж, между нами говоря, дела у нашей фирмы — швах. Пристрастился старикан к картишкам, не доведут они его до добра.
— Нет, лучше все-таки с лесного родничка начать, — решительно заявил пан Дуфек, обращаясь к конторщику.
После пятой кружки пива поэтическое воображение пана Миховского разыгралось, и, устремив отсутствующий взгляд в пространство, он забормотал:
— Сегодня — того дня — нас — вас.
А конторщик не сдавался:
В сильном смущении он прочел стихи всей комиссии, после чего пан Дуфек изрек:
— Перечеркните весь этот бред. И не смейте тыкать господину шефу. Воткните куда-нибудь розы. Неужто нет у вас ни капли поэтического таланта, голубчик? Спросите себе еще пива.
На носу у молодого человека выступили капельки пота; дрожащей рукой он начертал:
— Ну, с меня хватит! — взорвался пан Дуфек. — Давайте сюда бумагу, осел несчастный!
И пан Дуфек вывел крупными буквами:
МНОГОУВАЖАЕМОГО ШЕФА, ПАНА АЛОИСА ГОЛЬДШМИДА, ДОМОВЛАДЕЛЬЦА И ГЛАВУ ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ГОЛЬДШМИД И К0, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ АНГЕЛА И ЖЕЛАЮТ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО ГЛУБОЧАЙШЕ ПРЕДАННЫЕ СОСЛУЖИВЦЫ.
— Ну, а теперь, коли со старцем покончено, махнем-ка еще по кружечке, — с чувством глубокого удовлетворения провозгласил Миховский. От тягостного настроения не осталось и следа, его сменило буйное веселье, закончившееся тем, что конторщик, с трудом добравшись средь ночи домой, выпалил дворнику, открывшему дверь:
Служебное рвение Штепана Брыха, сборщика пошлины на пражском мосту
Каждый, кому когда-либо приходилось вступать на пражский мост, наверняка сознавал всю значительность этого момента.
Строго официальные лица чиновников в будке и перед ней; осанистая, полная достоинства фигура полицейского у проезжей дороги; наконец, таблица, бесстрастно перечисляющая пошлины, взимаемые как с людей, так и со скотины, — все это уже приводит вас в священный трепет.
А стоит чуть-чуть повнимательнее вглядеться в лица неподкупных блюстителей порядка, перед которыми бессильно даже женское очарование, и у вас возникает непреодолимое желание поцеловать руку, протянутую за крейцером.
Самоотверженная любовь, преданность магистрату, служебное рвение и неподкупность сначала умиляют вас. Но когда вы вспомните, что этих людей в плоских фуражках охраняет закон, строго карающий за всякое оскорбление должностного лица, вы не выдержите и, сняв шляпу перед неумолимыми Брутами города Праги, сунете им в руку крейцер.
Одно время среди этих Брутов выделялся Штепан Брых, сборщик пошлины на мосту Франца-Иосифа. Как ястреб, оглядывал он неусыпным оком всех, кто желал перейти через мост. Брых не ведал ни шуток, ни проволочек. Стоило кому-нибудь из этих болванов штатских (с военных чинов не брали пошлины) высунуть хотя бы кончик носа за черту, обозначенную простертой рукой Штепана Брыха, — к нему не было никакого снисхождения и никакие оправдания не могли помочь. Или он платил крейцер, или его попросту можно было считать погибшим.
Штепан Брых делал знак рукой, и дежурному полицейскому уже все было ясно.
Он приближался, положив руку на кобуру револьвера, а Штепан Брых, указывая на смельчака, не пожелавшего сразу заплатить пошлину, произносил всего лишь два слова:
— Взять его!
Полицейский хватал ослушника за шиворот и деловито осведомлялся:
— По-хорошему пойдешь или со скандалом?
Обычно провинившийся избирал первый способ.
В полицейском участке его просили раздеться, а потом долго обыскивали, обмеривали, фотографировали, допрашивали и, наконец, отводили в камеру. После этого день, самое большее — неделю устанавливали, проживает ли такой-то там-то, как он сказал, не водится ли за ним каких-нибудь грешков.
В конце концов задержанного отпускали или, если он выражал недовольство этой законной процедурой, отправляли в уголовное отделение на Карловой площади.
Оттуда злоумышленника по этапу пересылали на место жительства. Это считалось сравнительно легким наказанием за преступление, которое несчастный попытался совершить против финансового отдела пражского магистрата.
И на все это с удовлетворением взирал Марат пражских мостов — сборщик налогов Штепан Брых.
Однажды к будке сборщика подошел советник магистрата, член финансового отдела Пойзл и попросил:
— Приятель, пропустите меня бесплатно! Я спешу на Смихов, а бумажник забыл дома!
Ну, разве Штепан Брых не знал своего начальства? Знал, любил и почитал, и вот любовь к начальству пришла в столкновение со служебным долгом.
Как только советник магистрата переступил границу, обозначенную протянутой вперед рукой Брыха, последний поймал господина Пойзла за полы пиджака.
— Вернитесь или заплатите крейцер, — сухим, официальным тоном сказал Штепан Брых.
— И не подумаю! — обозлился советник.
Тогда Щтепан Брых кивнул полицейскому, поджидавшему жертву, как паук муху, и произнес только два слова:
— Взять его!
Когда после обычного своего присловья: «По-хорошему или со скандалом?» — полицейский повел советника в тюрьму, на глазах нашего Брута показались слезы, и Штепан Брых впервые за всю свою жизнь заплакал.
Спустя две недели в помещении финансового отдела магистрата отмечалось скромное, но славное торжество.
По требованию самого господина советника Пойзла — его-таки пощадили и не отправили домой по этапу — магистрат за верную службу наградил Штепана Брыха бронзовой медалью.
Получив награду, Штепан Брых стал еще бдительнее.
В ночь на 3 мая сего года он спокойно стоял на пражской стороне у Национального театра. Вдруг какой-то человек мелькнул в окне будки и быстро побежал через мост.
Полицейский куда-то ушел с поста — должно быть, сопровождал в участок очередного правонарушителя. Не растерявшись, Штепан Брых бросился вслед за негодяем, крича:
— Стой! Плати крейцер!
Неизвестный, словно не слыша, мчался вперед. Штепан Брых ринулся за ним, нарушая ночную тишину воплем.
— Патруль, держи его! Пусть уплатит крейцер!
Так добежали они до Малой Страны, миновали Уезд, площадь Радецкого, Вальдштейнскую улицу, обогнули Хотковы сады — впереди трусил выбившийся из сил незнакомец, и только немного позади сопел Штепан Брых, не перестававший вопить:
— Уплатите крейцер или буду стрелять!
Они были уже за Дейвицкими воротами, на пути к Подбабе.
Когда взошла луна, убегавший оглянулся и вдруг увидел плоскую форменную фуражку, перекошенный рот и выпученные глаза чиновника магистрата.
В смертельном страхе свернул он к реке и, спасая свою жизнь, прыгнул в воду. Еще один всплеск — и Щтепан Брых уже плыл за беглецом.
С криком: «Уплатите крейцер!» — он настиг незнакомца на середине реки и мертвой хваткой вцепился в его одежду. Большая волна накрыла обоих…
Спустя три дня из Влтавы около Клецан выловили двух утопленников, сжимавших друг друга в страстных объятиях. В судорожно сведенном кулаке одного из них был зажат крейцер. Это был Штепан Брых, который успел-таки за секунду до смерти вытащить крейцер из кармана своей жертвы.
С тех пор жутко бывает по ночам на берегах Влтавы между Подбабой и Подгорьем. Едва пробьет полночь, из воды то и дело доносится:
— Уплатите крейцер!
Это и на дне реки не унимается дух Штепана Брыха.
Торжество справедливости
В том, что в мире происходят разные удивительные случай и что рано или поздно правда и справедливость побеждают, пан Вачкарж был убежден давно, а последнее событие — по правде сказать, не из приятных — только подтвердило правильность его взгляда.
Вот почему теперь пан Вачкарж всюду, где только случается ему бывать, провозглашает, что справедливость, несмотря ни на какие стоящие перед нею препятствия, рано или поздно выходит победительницей.
Каждый человек знает, что для обеспечения победы справедливости существует весьма тонкий механизм в виде системы полицейского управления, завершающийся судом, тюрьмой, виселицей и т. п.
Под справедливостью обычно понимается то, что в худшем случае находит глухой отзвук в газетной заметке.
Пан Вачкарж с удовольствием размышляет теперь на эту тему и с сияющим лицом изрекает вышеприведенные истины, доказывая их следующим волнующим повествованием.
Несколько лет тому назад у него была лавчонка на одной глухой улице, куда полицейский патруль заглядывал весьма редко. В то время стали учащаться случаи кражи в магазинах по ночам, так что не проходило ни одной ночи без того, чтобы не было обворовано какое-либо торговое предприятие. Когда таких случаев накопилось столько, что полицейское управление вынуждено было для составления протоколов обзавестись подсобными силами, было решено принять радикальные меры, а именно: полицейским патрулям было предписано обращать строгое внимание на воров. Это простое и довольно практическое мероприятие, как это видно из дела пана Вачкаржа, увенчалось полным успехом.
Однажды пан Вачкарж решил переписать весь товар в своей лавочке и заработался до полуночи, а в полночь отправился домой со свертком канифаса, который он должен был рано утром передать одному из своих заказчиков. Само собой разумеется, что на улице, как только он вышел из своей лавочки, весьма тщательно заперев ее, он был схвачен двумя полицейскими, спокойно выжидавшими выхода того, кто сидит ночью в лавке при огне.
Когда он им заявил, что является хозяином этой лавки, полицейские дружно рассмеялись столь неудачной аргументации и потащили его в ближайший полицейский участок. Полицейский вахмистр тоже нашел объяснение по поводу позднего пребывания пана Вачкаржа в лавке весьма забавным и счел нужным заметить, что пойманный вор не отличается большой опытностью. Затем пришел полицейский комиссар, который на объяснение Вачкаржа язвительно заметил:
— Вы составляли список товаров. Вот поди ж ты! Все говорят одно и то же, когда им надо что-либо украсть.
— Да, но я в самом деле составлял опись! — со страхом воскликнул пан Вачкарж.
— А поэтому вас в самом деле посадят куда следует, — спокойно возразил на это комиссар.
Так как имелся приказ о том, чтобы всех пойманных преступников немедленно же отправляли в полицейское управление для выполнения разных формальностей, как-то: обмера, фотографирования, дактилоскопических снимков и т. п., то на пана Вачкаржа надели кандалы, скрепили их с левой рукой другого бродяги (как его титуловали) и погнали в полицейское управление.
— Только ты там смотри не сдрейфь и не вздумай признаваться! — сказал ему спутник.
— Не буду, — малодушно ответил пан Вачкарж (что позже ему было поставлено в вину).
Когда его стали фотографировать, он расплакался; три раза из-за него портили негатив. Измерение черепа, согласно таблицам, составленным по теории Ломброзо, показывало резко выраженную преступность. Наклон лба и форма носа, согласно другой таблице Ломброзо, показывали совершенную дегенеративность, идиотизм и склонность к садизму. Отпечатки пальцев совпадали с отпечатками известного бандита Кенига из Мангейма (в черной рамочке, так как его казнили пять лет тому назад). Эти отпечатки совпадали с оттисками пальцев известного международного преступника Рубинштейна, карманного вора Футерки, взломщика Залинского, аферистки Семерадовой и фрау Зинк, отравительницы детей.
Когда все это прочли пану Вачкаржу, то он снова принялся судорожно плакать и всячески уверять, что он ни мадам Семерадова, ни фрау Зинк.
— Это мне неизвестно, — строго сказал ему на это комиссар, после чего у пана Вачкаржа начался припадок, вроде пляски святого Витта.
Утром его увезли в тюремную больницу, так как этот старый симулянт заболел воспалением мозговых оболочек. И в то время как в больнице в течение двух дней его организм находился на грани между жизнью и смертью, в полицию явилась хозяйка пана Вачкаржа и заявила о загадочном исчезновении своего жильца. Ей предъявили для опознания одну из фотографий, на которой пан Вачкарж выглядел заплаканным, похудевшим и несчастным.
— Это не он, — заявила хозяйка и свое заявление подтвердила подписью на протоколе, не изъявив желания даже взглянуть на преступника.
Когда пан Вачкарж несколько оправился и стал связно мыслить, в больницу приехал судебный следователь и начал его допрашивать:
— Скажите, куда вы спрятали труп убитого вами пана Вачкаржа?
— Я ни о чем не помню, — тупо ответил пан Вачкарж.
— Как ваша фамилия?
— Теперь я не знаю. Говорят, что я не Вачкарж.
— Это верно, — подтвердил следователь. — Ну, а сколько вы забрали денег в кассе?
— Приблизительно тридцать золотых.
Следователь ушел. Указанная обвиняемым сумма в точности соответствовала количеству найденных при нем в день ареста денег. Между тем общественность с неослабевающим вниманием следила за ежедневными сообщениями о таинственном убийстве человека, который еще недавно для нее ничего не значил и имя которого теперь стало известным всюду, где получались газеты.
Странно было то, что обвиняемый временами, когда на него находили минуты просветления, рассказывал судебному следователю много таких подробностей из жизни исчезнувшего торговца, которые с несомненностью указывали на существовавшую связь между обвиняемым и убитым.
Наконец пан Вачкарж выздоровел настолько, что ему решили устроить очную ставку с квартирной хозяйкой, которая, осмотрев его, заявила, что этого человека она уже где-то видела, а именно видела его стоящим у лавки пана Вачкаржа. Другие вызванные свидетели говорили то же самое.
С течением времени следователь все чаще и чаще замечал, что обвиняемым овладевает навязчивая идея, будто он и есть не кто иной, как тот самый пан Вачкарж, в убийстве которого его обвиняют. Чтобы сбить его с толку, следователь предложил ему написать следующее:
«Я Йозеф Вачкарж с Новой улицы».
Его почерк был изучен судебными экспертами-графологами, которые, сравнив его с почерком пана Вачкаржа, заявили, что между ними нет ничего общего и что почерк обвиняемого выдает в нем заядлого алкоголика.
Чем дальше, тем обвиняемый все более тупел, и следователь с радостью убеждался, что у него начинают появляться признаки раскаяния в совершенном им преступлении. На вопрос, кому принадлежит находившееся на нем в день ареста платье, обвиняемый ответил:
— Пану Йозефу Вачкаржу.
Сомнение в том, что он говорил неправду, исчезло после того, как то же самое подтвердила и квартирная хозяйка пана Вачкаржа.
Однажды преступник сознался, что у пана Вачкаржа есть брат, работающий в Нитре, в Словакии, по лесоводству.
— Имейте в виду, — многозначительно сказал судебный следователь, — что я его вызову по телеграфу и устрою вам очную ставку.
— Делайте со мною все, что хотите, — ответил с безнадежностью в голосе обвиняемый, — мы с ним не виделись уже двадцать лет.
Через три дня перед ним предстал его брат, который смотрел на него с удивлением около пяти минут, а затем раскрыл объятия и воскликнул:
— Йозеф, в каком месте мы с тобой встречаемся!
Но обвиняемый печально улыбнулся, пожал плечами и покорно ответил:
— Нет, нет, я не ваш брат, я уже не Вачкарж.
Однако брат поклялся, что этот человек — не кто иной, как Йозеф Вачкарж; кроме того, судебные врачи выяснили, что душевное состояние обвиняемого не в порядке, а власти в результате весьма кропотливого исследования всего дела все же пришли к выводу, что обвиняемый именно Йозеф Вачкарж, тот самый, который в памятную ночь исчез из своей лавочки и который уже три месяца как сидит в тюрьме, находясь под судебным следствием.
Хозяйка и другие свидетели, которые с течением времени стали понимать сущность происшедшего маленького недоразумения, совершившегося в интересах справедливости, тоже подтвердили, что обвиняемый не кто иной, как исчезнувший лавочник. В результате такого поворота следствие по делу об убийстве отпало и осталось только дело о краже того самого свертка, который находился в руках у пана Вачкаржа во время ареста.
Однако следствие и по этому делу ввиду отсутствия улик было прекращено. Все же психиатрам потребовалось около двух лет, пока они не разубедили пана Вачкаржа в том, будто он перестал быть паном Вачкаржем и будто он где-то спрятал труп ограбленного лавочника.
А когда, после двух лет, пан Вачкарж выздоровел и его выпустили из больницы, он понял, что справедливость рано или поздно, несмотря ни на какие препятствия, восторжествует, о чем он теперь провозглашает всюду, куда бы ни пришел, и каждому, с кем бы ни разговаривал.
Исповедь государственного изменника, или Тайна Петршинского бастиона
Лет пятнадцать назад на Петршине, за калиткой номер два, находился пороховой склад.
Позднее склад был ликвидирован. Теперь во всем бастионе не найти ни крупинки взрывчатки, поэтому спустя двадцать лет после ликвидации склада военное ведомство милостиво разрешило гражданским лицам ходить через калитку номер два по дороге, ведущей через принадлежавшую, им территорию к Страгову.
Разумеется, военные власти приняли ряд мер к тому, чтобы ни один непосвященный не узнал тайны Петршинского бастиона и при случае не выдал этой тайны какой-нибудь иностранной державе.
А если шпион и пройдет но дороге, связывающей Петршин со Страговом, то он может не сомневаться, что за ним наблюдают со всех сторон, — на этой дороге всегда прогуливаются шестеро патрульных.
Дело в том, что это место чрезвычайно важно в стратегическом отношении. Если сюда проникнут вражеские войска, в их руках окажутся фуникулер на Петршин и лифт обозревательной вышки.
Если бы они, конечно, осмелились сюда проникнуть. Но этого не случится, потому что под крепостными стенами, над стенами, у ворот на будках часовых — короче говоря, всюду — висят таблички: «Rauchen strengst verboten» — «Курить строго воспрещается» Ни один солдат враждебного государства не отважится войти на эту территорию: ведь подобные таблички красноречиво свидетельствуют о том, что здесь хранятся взрывчатые материалы. Вражеские войска отступили бы через Коширже, и фуникулер с вышкой остались бы в руках славной австрийской армии.
Почему я все это рассказываю? Потому что меня мучают угрызения совести, ибо я открыл иностранной державе тайну бастиона номер шесть.
Я, австрийский подданный, открыл иностранной державе, что за калиткой номер два на Петршине уже двадцать лет нет порохового склада и что таблички «Курить строго воспрещается» — всего лишь военная хитрость.
Ах, если бы на этом все и кончилось!
Так нет же! Я выдал иностранной державе, что на этом стратегически важном объекте находятся два сломанных пожарных насоса и три расшатанных лестницы, что там есть склад, где лежит восемь килограммов овса и два дырявых соломенных матраца, и что все это охраняют две роты солдат и часовые с заряженными ружьями.
Да, все это я предательски сообщил Италии.
Угрызения совести не дают мне спать. Столь позорно изменив своему гражданству, совершив государственную измену, я считаю себя извергом человечества.
Я начертил также, где офицеры играют в теннис, и нарисовал карту, из которой можно понять, что будка, у которой стоит часовой, таит в себе не крепостное орудие, а писсуар, и что труба, мрачно обращенная на вас, — не жерло пушки, а просто труба для стока нечистот.
Если б я еще сделал это невольно, но ведь я поступил сознательно!
Эти сведения выпытал у меня во время прогулки по Петршину синьор Бамбино Витторе из Милана, который учил меня итальянским выражениям.
— Друг мой, — доверительно осведомился он, — а что там, за крепостными стенами?
Я посмотрел ему в глаза и, словно загипнотизированный его железной волей, рассказал все.
Рассказал о пороховом погребе без пороха, о двух сломанных пожарных насосах и трех расшатанных лестницах, о складе с двумя дырявыми соломенными матрацами и восемью килограммами овса. О том, как день за днем, год за годом все это охраняют солдаты с заряженными ружьями. Я нарисовал ему карту бастиона. И наконец… наконец я заявил, что бастион является ключом к фуникулеру и вышке.
— Зачем вы это записываете? — спросил я его, видя, что он делает какие-то пометки в записной книжке.
— Просто так, синьор, — ответил он и дьявольски усмехнулся.
На другой день я пришел к нему на урок, но его хозяйка сообщила, что синьор Бамбино Витторе внезапно уехал. Сердце у меня екнуло. Я вспомнил, как он странно вел себя, и почувствовал первые угрызения совести.
Через неделю я получил от него письмо из Милана, которое повергло меня в смятение, ибо в письме говорилось: «Grazzie molto, signore!» — «Премного благодарен, сударь!»
Через две недели, сидя в кафе, я прочел в «Трибуне», что работник итальянского генерального штаба Витторе Бамбино по возвращении из-за границы был назначен в военное министерство.
В последнее время ходят слухи о возможной войне между Австрией и Италией.
Что ж, дела Италии не так уж плохи! У Бамбино есть мои планы бастиона номер шесть на Небозизеке.
Италия владеет ключом к фуникулеру на Петршине, а мне остается, подобно Иуде, печально скитаться по Австрийской империи, пока меня не повесят.
Добросовестный цензор Свобода
На цензора Свободу опять накатило. Утром у него разболелись мозоли, и после полудня он принялся запрещать все без разбору. Наконец вечером начался дождь и лил весь день. И раз уж сама природа гневалась на чешские газеты, цензора Свободу подавно не отпускала «delirium confiscationicum canonicum» — болезненная страсть все запрещать.
Вникая в тайный смысл текста, он всюду находил покушение на общественный порядок и спокойствие, на религию — на все, что призван охранять цензорский карандаш.
И, памятуя о том, что его собственная фамилия — Свобода, ожесточенно черкал, черкал, черкал, черкал.
Черкал, черкал, черкал, черкал, сплевывал и черкал, черкал, черкал, и черкал, и черкал, и черкал, и снова… черкал и черкал…
Ведь за это черкание, черкание, черкание, черкание и еще раз черкание он получал шесть тысяч крон жалованья в год. Что ж, люди добывают средства к жизни всякими способами — честными и нечестными…
Это была страшная борьба с печатным текстом.
Он выбирал отдельные слова из целого номера и запрещал их. Брал подряд «но», «не», «нисколько» — и на все это налагал запрет: словно «но» наводит на всякие мысли об известных учреждениях, а «не» и «нисколько» представляют собой открытое нарушение спокойствия и порядка.
Покончив с текстом журналов, он перешел к объявлениям. Тут ему бросилось в глаза: «Покупайте трости фирмы Тулка!»
«Эге! — подумал он. — Знаю я вас, приятели! Трости, демонстрации…»
Он это объявление изъял.
Потом изъял объявление о сербской лотерее, а также объявление «Чешская первосортная мука́ победит», поскольку в нем содержался вызов по адресу других наций.
Дальше стояло: «Солдатик! Приходи нынче на вечеринку в «Каплуны».
Само собой разумеется, и это объявление подверглось запрету: ведь оно касалось армий.
Дальше взгляд его привлекло большое объявление:
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ КИРПИЧ
отпускает Центральное правление
товарищества
«КИРПИЧНИК»
Прейскурант высылается по первому требованию
Адрес для телеграмм: Ц. п. т. К.
Что такое «Ц. п. т. К.»?
За этим что-то кроется! Склонившись над объявлением, он целых полчаса прикидывал так и этак, наконец взял листок бумаги и написал:
«Ц — цензор,
п — подлец (или паразит, пьяница, потаскун),
т — тупица (или трус, тряпка, тюфяк),
К — каналья (или кляча, крыса)».
«Так они тоже против меня? — решил он. — Ну, покажу я им Ц. п. т. К! Дорого они мне за это заплатят!»
И, взяв карандаш, перечеркнул целиком все объявление Центрального правления товарищества «Кирпичник» — Ц. п. т. К.
Это был последний взмах его цензорского карандаша, так как тут номер журнала кончался.
Он с гордостью поглядел на дело рук своих: истреблено три тысячи слов, конфисковано за три часа двадцать восемь номеров журналов, запрещено пять театральных пьес, дюжина плакатов, шестьдесят два извещения о браке и девять заметок о школе.
Он сидел, довольный, окруженный трупами врагов, как вдруг страшная мысль пронизала его мозг: а ведь в газетах, наверно, будут писать, что все это конфисковано «Свободой»!
И слово «Свобода» запестрит в газетах и проникнет в самые отдаленные лачуги, и он не сможет наложить на него запрет. Не сможет запретить Свободу!
Какой ужас! При одной мысли об этом у него захватило дыхание, голова закружилась. И он, твердо решившись, позвал служащего Петрасека.
Послушайте, Петрасек! Вот вам пять крон. Сходите купите мне бритву.
Через четверть часа Петрасек принес отличную бритву.
Цензор Свобода заперся в кабинете. Когда через два часа, после тщетных попыток достучаться, дверь была взломана, глазам вошедших представилось страшное зрелище.
На груде конфискованных журналов валялась голова, которую добросовестный цензор оттяпал сам себе бритвой, а рядом лежал лист бумаги, на котором было написано:
«ЗАПРЕЩАЮ СВОБОДУ»
Ему были устроены прекрасные похороны за счет государства.
Чаган-куренский рассказ
У монгола Сакаджи из племени халхасов в Чаган-Курене было пять верблюдов, двенадцать лошадей, восемнадцать быков и пятнадцать баранов. Был у него также свой бог — Уисон-Тамба. Он стоял у него перед кибиткой на деревянной подставке. У бога была физиономия пьяницы. По обе стороны от истукана стояли два маленьких истуканчика с высунутыми в знак почтения языками. Однажды с севера пришла большая вода и унесла бога Уисон-Тамбу, двух верблюдов, трех лошадей, пятерых быков и четырех баранов.
Сакаджа остался на некоторое время без бога. И, прекрасно обходясь без него, сам съедал чашку жареного проса, которую до того ежедневно приносил в жертву Уисон-Тамбе. Прежде ее съедал старичок лама, нищенствующий служитель Уисон-Тамбы, ходивший по кибиткам и кравший просо у господа бога, пользуясь при этом всеобщим уважением.
В то время по Чаган-Курену странствовал миссионер Пике. В одежде монгольского пастуха, с желтой шишечкой на шапке, он ездил по долине реки Пага-Гола, проповедуя католическую веру и страдая от насекомых под названием «ту-лакци», то есть красных вшей, сильно докучавших ему в его миссионерских трудах.
При этом он принимал от всех, кому проповедовал новое учение, не только сапеки — мелкую монету грубой чеканки, но и унции серебра; кроме того, вел бойкую меновую торговлю, приобретая собольи шкурки по поручению крупных торговцев в Пекине, и выполнял функции «яочанг-ти», то есть «вымогателя налогов».
На доходы от молитв он откупал долги пастухов в этом богатом травой крае и на основании императорских законов наживал проценты с процентов, а также весьма успешно спекулируя чем придется, умело сочетая спекуляцию с истинной верой и западными молитвами.
В то время как даже самым крупным хищникам, грабившим монгольский народ, не удавалось содрать со своих жертв более трехсот процентов, достопочтенный отец Пике брал не меньше пятисот, так как кроме долговых обязательств пускал в ход и нового бога, во славу которого позвякивали слитки.
Пике отличался необычайным красноречием. За несколько лет перед тем в стране ортушей на него напали разбойники. Достопочтенный отец Пике обратил их в христианство и обобрал до последней сапеки, собственноручно повесив на шею каждому медный крестик. С тех пор ортушские разбойники стали нападать на караваны во имя нового бога.
Позже, когда миссионер Пике, покинув долину реки Пага-Гола, перенес свою деятельность в страну халхасов, торговые операции его пошли менее удачно. Он вернулся бы на прежнее место, если бы река, разлившись, не отрезала его от страны обетованной, принудив остаться там, где уже до его прихода царила бешеная конкуренция между служителями культа. Китайские священники и ламы из Со-по-ми обчистили страну на год вперед, и в ней, кажется, не осталось кибитки, где можно было получить хоть сапеку. Только в скрытой холмами долине Гобильхану не появлялись посланцы бога Фо и бога Самчимичебату. Там-то как раз и жил Сакаджа — без бога.
Когда достопочтенный отец Пике явился в эту долину, гостеприимный Сакаджа пригласил его к себе в кибитку и угостил чаем с овсяными лепешками, печенными в золе.
— Храни тебя бог, — сказал миссионер, утолив голод. — Пошли он тебе мир и счастье!
— У меня нет бога, — ответил Сакаджа. — Мой бог Уисон-Тамба уплыл от меня во время дождей. Но я продам коней и куплю себе в Голубом городе нового бога.
— Сын мой, — возразил отец Пике. — Уисон-Тамба не был истинным богом, и потому его унесла вода. Так повелел всевышний, предвечный и всемогущий. Но без бога тебе быть нельзя, и ты поступишь правильно, если продашь не одного, а трех коней и приобретешь бога, втрое более могущественного, чем Уисон-Тамба, ибо предвечному угодны такие жертвы…
И долго, до поздней ночи, пока на озере не крикнула ночная птица юэн, беседовал достопочтенный отец Пике с Сакаджой о презрении к суете мирской.
Когда же они утром встали с верблюжьих войлочных подстилок и Сакаджа совершил преклонение перед предвечным, то есть Солнцем, отец Пике начал так:
— Сын мой милый, ты вчера говорил мне, что у тебя после наводнения осталось девять коней. Какой тебе толк от этих девяти коней, если ты не имеешь смирения и усердия к единому истинному богу, пославшему тебе знамение и предостережение в виде наводнения, которое унесло ложного бога? Будь у тебя хоть тысяча коней, какой в этом толк, если нет над тобой милости господней?! Но у тебя только девять коней. Продай их, сын мой, и полученное серебро вручи мне. Ибо суетно алкать призрачного богатства. Отврати сердце свое от любви к мирскому, прилепись душой к вещам невидимым, готовься со своими конями в дорогу. Я поеду с тобой в Голубой город и сам обращу их в наличные, чтобы удержать тебя от греха суетности.
Продав в городе коней, отец Пике сунул деньги к себе в пояс, и Сакаджа по возвращении попросил его поставить на пустой столб нового бога.
— Еще не время, сын мой, — возразил достопочтенный муж. — Ибо ты еще потакаешь своим мирским желаниям и держишь трех верблюдов. Собирайся завтра в дорогу, ибо я продам их, милый сын мой. Пусть не насыщается око твое их лицезрением и не наполняется слух звуками их шагов.
И продали они верблюдов в Голубом городе, и ответил, пряча унции серебра к себе в пояс, отец Пике Сакадже на вопрос о том, поставит ли он ему сегодня бога на пустой столб:
— Воздержись от чрезмерного любопытства, ибо этим можно прогневить бога. Знай, милый сын, что еще не пришло время: ты хвалился в харчевне «Трех совершенств», что держишь еще тринадцать быков. А ведь даже самые прекрасные быки — суета и тщеславие. Ты холишь их, пася в степи и невоздержанно стремясь к тому, чтобы они тучнели и благоденствовали. В душе твоей дремлет столько низменных влечений, что тебе необходимо покаяться. Покаяние примирит тебя с богом. Не возлагай надежд на предметы земные, сын мой. Продай быков своих, ибо, кто питает истинную любовь к богу, тот равнодушен ко всем житейским радостям.
И продал он быков, и осталось у Сакаджи только одиннадцать баранов.
— Я окрещу тебя, милый сын мой, — сказал торжественно отец Пике, — и, как только мы съедим этих баранов, пойду дальше проповедовать истинную веру.
Сакаджа был окрещен, и они стали каждый день кушать баранину, беседуя о новом учении.
— Святой отец, — сказал как-то Сакаджа, указывая на деревянный крест, сделанный отцом Пике после обряда крещения и установленный им на пустом столбе. — Ты говоришь, что это только знамение, которое ты, как посланник божий, поставил мне на столб. Я великий грешник, и мне мало этих двух сколоченных крест-накрест досок. Мне бы хотелось, чтобы ты остался у меня как посланник божий. Чтобы в доме моем было побольше этой новой веры.
— Это невозможно, сын мой: южные страны Хиа-хо-по и У-фу-тьен до сих пор лишены радостей правой веры.
— Святой отец, — печально промолвил Сакаджа, — если я не могу иметь бога на столбе, то хочу, чтобы возле меня хотя бы был ты — его посланник.
Ночью, когда достопочтенный отец Пике уснул, благочестивый Сакаджа задушил его и зарыл перед своей кибиткой, под столбом со знамением новой веры, озарившей его монгольскую душу. В поясе достопочтенного отца Пике он нашел в пять раз, больше унций серебра, чем тот выручил за его верблюдов, быков и коней.
На каждой из этих унций почила благодать божья.
Благочестивый Сакаджа накупил в пять раз больше верблюдов, коней и рогатого скота, чем у него было до прихода достопочтенного отца Пике. Он спокойно сидел у столба, под которым зарыл посланника божьего, желая иметь его всегда под рукой, отменно толстел, приняв новую веру, и давил на себе вшей, чего не делал прежде, когда верил в переселение душ.
Одного только не мог он понять. Почему миссионер, приехавший к нему через год после погребения достопочтенного отца Пике под столбом, так быстро поспешил на юг, когда Сакаджа, сияя от радости, вышел ему навстречу со словами:
— Услышь мою просьбу, святой отец, войди ко мне в кибитку. У меня под этим вот столбом уже есть один посланник божий.
Святой отец не проявил сочувствия к этой внушенной благочестивым рвением коллекционерской страсти набожного Сакаджи и ничем на нее не откликнулся. А Сакадже не удалось снять его с коня пулей.
И остался Сакаджа при одном только посланнике божьем.
Несчастный случай с котом
Однажды пан Густолес, споря со своим соседом Кршичкой, сказал:
— Ваша партия — прекрасная партия. Как только ей удастся снять с виселицы какого-нибудь грабителя, она сейчас же выставляет его кандидатом в депутаты.
В ответ на это Кршичка заявил:
— Мы с вами, господин Густолес, еще рассчитаемся.
Густолес обладал не только большой политической прозорливостью, но и черным котом, который всегда сидел на пороге его мелочной лавочки. Этого кота любила вся посещавшая лавочку публика и относилась к нему с большим уважением за его хорошее поведение, веселый и ласковый нрав, что, как известно, является залогом хорошего здоровья. Никому и в голову не приходило, что ярый противник этого исключительного существа живет рядом и что он не кто иной, как Кршичка, который после упомянутой ссоры на политической почве с Густолесом сказал своему восьмилетнему сыну Йозефу:
— Пепичек, как только увидишь эту черную тварь дурака Густолеса, наступи ему на хвост.
Разве найдется хоть один ребенок, который отказался бы исполнить такое поручение?
Пепичек пошел в лавку, наступил коту на хвост и вдобавок так обрызгал его водой из рта, что у старушки из дома напротив чуть не разорвалось сердце.
Затем он убежал. Первое время кот никак не мог понять, что это значит, но затем прочувствовал боль, причиненную ему мальчиком, и неприятное ощущение от холодной воды, которой тот обрызгал его изо рта, а к вечеру он пришел к заключению, что в другой раз он этого не допустит и примет меры предосторожности…
За свое мужественное поведение Пепичек получил от отца в награду крейцер; кроме того, отец обещал подарить ему еще один, если он будет продолжать в том же духе. В коте Густолеса Кршичка олицетворял всю неприятельскую партию и считал, что, нанеся вред коту, он как бы тем самым наносит вред имуществу своего политического противника. Таким образом, Пепичек наступил на хвост не коту, но всей враждебной политической партии и плевал не на кота, но на всех сторонников этой партии, к членам которой он относил также и черного кота.
Пепичек весело отправился на новую политическую битву.
Кот лежал перед дверью и, казалось, дремал. Однако это не так: он притворялся. В этом его никто не должен упрекать, так как он не ходил в школу и не знал, что притворство — грех…
Итак, кот притворяется, и Пепичек снова наступает ему на хвост и плюет на голову.
Вдруг кот с фырканьем вскакивает и царапает ногу Пепичка. Затем взбирается ему на голову, дико мяучит, кусает его за ухо, спрыгивает, торжествующе задрав хвост, убегает от ревущего мальчика и спокойно садится на порог лавки своего хозяина, уютно мурлыкая.
Когда Пепичек, оборванный и окровавленный, вернулся домой, Кршичка закричал:
«Наконец-то я тебя уличил, Густолес!» — и повел Пепичка в полицейский комиссариат, где полицейский врач, осмотрев его, составил протокол, а полицейский комиссар отдал распоряжение арестовать кота и подвергнуть его ветеринарному осмотру.
Двое полицейских отправились исполнять приказ и арестовали кота именем закона. Но так как кот пытался убежать, фыркал и царапался, то полицейские вынуждены были послать за специальным ящиком, в котором они заперли кота, допустившего перед этим открытое насилие над полицейскими и укусившего одного из них. Кроме того, фырканьем он явно оскорбил представителей власти. Что именно он хотел этим сказать, осталось неизвестным.
Таким образом, кота привезли в ветеринарное отделение, и полицейские подали на него следующий рапорт:
«Когда мы за ним пришли, он фыркал, царапался и кусался. Мы вынуждены были, ввиду его отчаянного сопротивления, запереть его в ящик. Кроме того, он пытался сорвать с нас револьверы…»
Протокол был подписан и отправлен в государственную прокуратуру.
Прокуратура усмотрела в поведении Густолеса преступление против статьи, предусматривающей наказание за недостаточный присмотр за животными.
Ему ставилось в вину, что его кот не был привязан на цепи и ходил без намордника.
Густолес обязан был привязать кота, тем более что в городе происходили выборы, во время которых животные могут легко заразиться бешенством.
Затем между Кршичкой, отцом мальчика, подвергшегося нападению кота, и Густолесом, собственником черного кота, напавшего на сына Кршички, долгое время существовала вражда на политической почве. Прокурор считает доказанным, что кот Густолеса совершил нападение умышленно, чтобы как можно сильней изувечить сына своего политического противника, что ему действительно и удалось. Так как, согласно действующему в Австрийской империи закону от 8 января 1801 года, кота надлежит считать особой слабоумной, за которую отвечает своим именем и своей жизнью ее собственник, то вся вина падает на Густолеса.
Тем временем в ветеринарном отделении было исследовано душевное и телесное состояние кота, и протоколы этого исследования поступили в распоряжение государственного прокурора.
Документы гласили следующее:
«Франтишек Густолес, подвергнутый исследованию, обладает широкими костями, хорошо упитан, но страдает воспалением надкостницы, так что его укусы могут быть небезопасны для жизни.
По этим причинам желательно, чтобы исследуемый был уничтожен.
Д-р М. Кашпарек».
Государственная прокуратура послала это отношение для исполнения в полицейский комиссариат, где оно было зарегистрировано и отнесено к делу, касающемуся Густолеса.
Тем временем кот был возвращен Густолесу. Неожиданно в пять часов утра четыре полицейских пришли к нему домой, арестовали пана Густолеса и увели его с собой. В полицейском участке строгий полицейский пристав довольно угрюмо начал допрос:
— Вы — Франтишек Густолес?
— Так точно, ваше благородие.
У одного молоденького полицейского навернулись на глаза слезы.
— Дайте сюда дело, касающееся Франтишека Густолеса, и не хнычьте.
Подали дело.
— Выслушайте приказ градоначальника, касающийся вас, Густолес, от 15 июня 1911 года за № 75/289:
«Франтишек Густолес, согласно донесению ветеринарного отделения за № 2145/65, подлежит немедленному уничтожению. Против этого постановления, в согласовании с законом об эпидемиях скота § 5 от 12 февраля 1867 года, никаких возражений не имеется.
Градоначальник советник Ваничек».
— Как видите, — сказал несчастному человеку полицейский пристав, — постановление не отменено. Напишите ваше последнее распоряжение и не хнычьте. Вы будете уничтожены, как только из Вены придет подтверждение решения и распоряжение о способе вашего уничтожения.
Мне самому интересно: как выпутался Густолес из этого дела?
Непоколебимый католик дедушка Шафлер в день выборов
Крейцер да крейцер — глядишь, и гульден наберется. И так дальше, в зависимости от того, насколько ты бережлив и умеешь пользоваться любым обстоятельством для приумножения своих доходов. Блестящие маленькие глазки дедушки Шафлера смотрели на удостоверение о праве участвовать в выборах и избирательный бюллетень именно с этой мыслью. Как человек верующий, он решил продать свой голос христианским социалистам.
— Слава Иисусу Христу! — произнес он, входя в канцелярию христианско-социалистической партии. — Я насчет выборов…
Молодой капеллан, заведующий канцелярией, пошел ему навстречу, ввел его в комнату и усадил на стул, Кроме двух старушек, которые за три кроны молились в углу с восьми часов утра и до четырех дня (срок окончания выборов), там не было ни одной христианской души.
В другом углу этого священного места, под плакатом, собака капеллана, полусидя, полулежа, бесстыдно вылизывала себя, подняв заднюю ногу торчком вверх и дотягиваясь нескромным языком до интимных местечек под ней.
Капеллан с утра жег в помещении ароматические «монашки». В этом церковном благоухании чистые скатерти на обоих столах производили впечатление напрестольных покровов. Свет проникал сюда, смягченный занавесками, так что все помещение напоминало ризницу маленького деревенского костела. В отличие от полных народа избирательных помещений других политических партий здесь царила таинственная тишина, как в заброшенном монастыре.
Пробило одиннадцать, а дедушка Шафлер был первым избирателем.
Капеллан, возведя очи к небу, сказал дедушке Шафлеру:
— Брат во Христе! Вы пока единственный противостояли натиску.
Дедушка Шафлер кивнул головой. Коли так, он будет настаивать на двадцати кронах.
— Все ненавистники Христа объединились и дружно ринулись в атаку на церковь Христову и на избранных ее. Словно вернулись времена преследования первых христиан… Давайте ваш избирательный листок, дедушка, я его заполню.
Дедушка Шафлер почесал в затылке.
— Ваше преподобие, поверьте, я искренний христианин-католик. И что делают социалисты, знаю тоже. И моя мозолистая рука не предаст господа нашего Иисуса Христа. Но времена тяжелые, ваше преподобие. Я нетрудоспособный старик, и двадцать крон мне ох как пригодятся. Я желаю подать свой голос за католика. Но окажите снисхождение, ваше преподобие, не извольте сердиться: дешевле двадцати крон не могу за это взять.
Капеллан нахмурился.
— Вы не должны этого требовать, дедушка. Это великий грех, У других партий множество платных агитаторов и агентов, они швыряют сотни тысяч на распространение пасквилей и предвыборных листовок. А мы идем в бой, вооруженные только своими убеждениями. Для нас день выборов — это день публичного исповедания веры; и не станете же вы, дедушка, исповедовать свою веру за двадцать крон! Вы должны явить доказательство, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие свою веру и не стыдящиеся публично признаться в этом посредством избирательного бюллетеня! Я дам вам пять крон; больше мы не можем.
— Ваше преподобие, поверьте мне: я искренний католик. Я читаю наши католические газеты. Но что делать, когда такая страшная дороговизна? Я бы с радостью принял за господа нашего Иисуса Христа мученическую смерть, да вот хочу тут купить у Штихи, мерзавца косого, — может, знаете? — козу. Прошлый год он за нее пятнадцать гульденов просил, а нынче уж восемнадцать просит. Видно, недаром господь наказал его мальчишкой хромым! И всюду так, ваше преподобие. Я, ваше преподобие, с удовольствием доказательство дам, о котором вы говорите, насчет того, что в стране святого Вацлава — это как раз мой патрон — еще есть люди, которые не стыдятся святую веру при помощи избирательного бюллетеня признать, но… дайте хоть шестнадцать крон, ваше преподобие!
— Послушайте, дедушка, искренний католик не должен так говорить. Сомкните ряды свои вокруг знамени креста, если вы еще не стыдитесь этого знамени, и воскликните: «Святой Ян Непомуцкий, святой Вацлав, патроны чешской земли, святые покровители чехов, помогите тем, кто борется за наследие ваше! Пресвятая дева Мария, заступница христиан, да поможет заступничеством своим и нам, борющимся за дело Христово!» Даю вам, дедушка, шесть крон: это мое последнее слово!
— Ваше преподобие! Я знаю, социалисты требуют отделения церкви от государства и свободы брака, а платят, слышно, по пятнадцати крон за голос. Досточтимый! Если это ваше последнее слово, я перейду к социалистам. Для бедного католика пятнадцать крон хоть бы от кого не вредно получить. А господь бог милостив: он знает мою бедность и простит меня, что я против него голосовал, — ведь ему известно, какой я искренний христианин-католик.
— Подумайте, дедушка, что вы говорите! Господь бог никогда вам этого не простит. И неужели вы думаете, что социалисты в самом деле дадут вам пятнадцать крон? Вы проголосуете против господа бога, а денег все равно не получите. Попадете в ад — и только. Но мы этого не можем допустить. Вы наш честный сторонник. Даю вам десять крон. Вера должна вести вас к избирательной урне. Вот вам десять крон — и давайте ваш бюллетень.
— Ваше преподобие, накиньте хоть пару крон, чтоб двенадцать мне получилось. Ведь я всюду исповедую господа Иисуса Христа, я искренний католик, но мне надо пиджак, сапоги себе купить…
— Приближается священное мгновение. Вот вам, дедушка, еще крона.
— Тогда, ваше преподобие, хоть водочки поднесите. Для куражу!
Через полчаса в канцелярии христианско-социалистической партии снова царила тишина.
Собака по-прежнему себя вылизывает, старухи по-прежнему молятся, в комнате по-прежнему запах костела.
Дедушка Шафлер отголосовал, доказав, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие святую веру и не стыдящиеся публично исповедовать ее при помощи избирательного бюллетеня, — в том случае, если это приносит им одиннадцать крон.
Христианско-социалистическая партия в общих чертах
Это партия, о которой даже сами члены ее не говорят ничего хорошего, и, пожелай ты написать о ней самое дурное, все равно злее, чем они сами о себе пишут в «Рейхспосте» и других своих официальных органах, не получится. А ведь это еще самое безобидное из того, что они могли бы о себе вообще написать. И напиши я, что все они мерзавцы, им это, безусловно, показалось бы слабым.
Что до моих личных контактов с ними, должен сознаться, за свою жизнь я всего два-три раза встречался с христианскими социалистами. Один раз — в Нуслях. Я проходил после двенадцати ночи мимо «Бансетов». «У Бансетов» в Нуслях так приятно», — поется в песне, и они как раз выкидывали кого-то из трактира.
— Что это за господин? — спросил я.
— Да какой-то христианский социалист. Пришел, сказал: «Слава Иисусу Христу», а не прошло и четверти часа, как он затеял драку. Мы его выставили.
И долго еще в тиши нусельских улиц раздавался голос сего поборника веры и благочестивого человека:
— Негодяи, так обращаться со мной, человеком набожным!
В другой раз в поезде я наблюдал пассажира, который вздыхал и вполголоса молился, перебирая четки. Рядом с ним сидел жандарм, держа винтовку с примкнутым штыком. История весьма простая. Богомольного человека везли на суд. Он поджег дом соседа, весьма прохладно относившегося к религии, желая, видимо, подогреть его религиозные чувства.
Вот два случая, когда я лично встречался с христианскими социалистами.
В третий раз встреча состоялась лишь наполовину.
Один христианско-социалистический лидер, увидев у меня деньги, во что бы то ни стало захотел проводить меня через лес. Поскольку я возражал, опыт моего общения с христианскими социалистами недостаточный, но, с другой стороны, благодаря этому я по сей день жив и здоров, а когда вышел из лесу, деньги были еще при мне.
Любой христианский социалист, прочитав эти строки, одобрительно кивнет и скажет:
— Ну, этот не особо нас поносит, мы про себя хуже пишем.
Должен разочаровать. Не имея больше никакого личного опыта, я вынужден черпать информацию из газет, принадлежащих христианским социалистам, особенно «Рейхспоста», органа провалившегося министра Вайскирхнера.
В этой газете известного христианско-социалистического депутата Белоглавека назвали овцой в вертячке, ослом, негодяем, пастырем дураков (дело в том, что одно время он был лидером христианских социалистов), разбойником, выродком, безвольным прохвостом.
После этого Белоглавек написал в христианско-социалистической газете «Дер христлих-социале» о бывшем председателе нижней палаты Патае, тоже лидере христианских социалистов, что возвращает ему все оскорбления, потому что такой пьянчуга и подлец оскорбить его не может.
В той же газете венский бургомистр Ноймайер обозвал другого лидера христианских социалистов, принца Лихтенштейна, грязным хулиганом.
Принц Лихтенштейн ответил открытым письмом, заявив, что у христианского социалиста Ноймайера слишком длинные руки и, когда он проверяет городскую казну, к ним неминуемо что-нибудь да прилипнет.
Затем объявился Вайскирхнер и сказал:
— Люди добрые, что ж вы делаете?
Ему надавали подзатыльников.
Потом их газеты занялись Гессманом. Об этом своем лидере они писали, что он их объедает. Кроме того, он был назван казнокрадом.
Руководители христианских социалистов писали друг о друге самые лестные вещи. Украли сиротские деньги, вообще крали и тому подобное. А Вайскирхнер высказался:
— Да, мы хорошо знаем друг друга, так что все в порядке.
Тому, кто пишет о христианско-социалистической партии, ничего не нужно выдумывать.
Любая выдумка бледнеет в сравнении с действительностью. И после выборов они возвращались по домам без мандатов.
Всем было ясно, чего они стоят, а в ходе избирательной кампании их узнали еще лучше. А кто избежал подобной участи, о тех тоже все известно, и, пожалуй, депутатские их кресла придется ежедневно как следует дезинфицировать.
Писать же о христианско-социалистической партии в Чехии вообще не стоит. Мы сразили всех их семерых депутатов. И вне сомнений, свершили тем самым нечто чудовищное.
Дело в том, что лишение христианских социалистов мандатов «Власт» назвала святотатством.
Патер Роудницкий пишет: «Избирателей, что голосовали против нас, не раз будут мучить по ночам угрызения совести, когда узрят они орошенный слезами лик распятого».
«Меч» писал: «Влекли нас на Голгофу и распяли нас наши люди».
Полагаю, однако, что они имеют в виду не спасителя, которого, как ни странно, кандидатом не выставляли, а разбойников справа и слева от него.
Но, быть может, под спасителем Мысливец подразумевал себя самого и около шести часов 20 июня в достаточно узком кругу громогласно воскликнул, обращаясь к патеру Горскому:
— Еще ныне ты будешь со мной в раю!
Того, слева, звали то ли Шахл, то ли Адам.
В шесть часов всех семерых подкосили результаты выборов.
Чуда при этом не произошло никакого, разве что христианские социалисты в Чехии перестали существовать.
Трупы их даже не омыли, это была бы изрядная работенка, а отнесли неомытыми в «Чех», «Кршиж» и «Марию», «Меч», «Власт» и «Мир».
После объявления результатов выборов редактора «Чеха» Швеца-Бланицкого увезли в санаторий доктора Шимсы в Крчи, поскольку он тоже кричал на Вацлавской площади перед зданием «Политики»:
— Депутатов у нас нет, но мы победили!
Вот и все, что мне известно о христианско-социалистической партии в общих чертах. Партия эта такова, что говоришь о ней не иначе как с отвращением, однако при всем желании не можешь написать о ней хуже того, чем сами они о себе пишут.
Сказка свечной бабы Альбрехтовой о том, почему в Пелгржимове прокатили на выборах его преподобие священника пана Милоша Зарубу
Первым делом, детки милые, помолимся за мерзавца учителя вашего, что голосовал против его преподобия пана Зарубы. «Отче наш, иже еси на небесех…» А теперь расскажу вам сказку. Покамест шли выборы, помогала я. «Я, баба, помогу богу, чем могу, а чего не смогу — оставлю богу».
Значит, так.
Учитель ваш, детки милые, как есть мерзавец. Отцовское добро пропил, а не стало чего красть, пошел он, прости, господи, его, грешного, по белу свету счастья искать.
Ведь и у таких мерзавцев, как ваш учитель, тоже есть ангелы-хранители, и такой ангел все над ним летал.
Осталось у учителя всего три крейцера, и повстречал он за околицей старичка, а старичок попросил подать ему милостыньку.
Ангел и подскажи учителю: мол, дай ему крейцер. Учитель и дал, только не из милосердия, а за ради озорства. Идет он дальше, и снова навстречу ему старичок и просит подать христа ради. Ангел-хранитель залез к учителю в карман и дал нищему крейцер.
Идет он дорогой и опять-таки встречает дедушку, и тот дедушка просит: «Пан учитель, подайте христа ради крейцер».
Залез ангел учителю в карман, достал крейцер и дал его дедушке.
Тут старичок и говорит: «Я и есть господь бог, ты мне нынче трижды подал милостыньку. За это выбирай себе три вещи, да не забудь попросить о самом главном».
Стал учитель выбирать. Само собой, боженька-то к нему со всей душой, да ведь у мерзавца этого, нехристя, одно на уме — натрескаться да шары залить, он и просит: «Пусть — как скажу: столик, накройся — будет на столе, чего душа пожелает». — «Будь по-твоему, да не забудь о самом главном».
«Пусть, — говорит тогда подлый мерзавец учитель, — как скажу: нет ли у вас мелочи на сотню? — чтоб был у меня полный карман монет на сотню да еще сотня в придачу, и так всегда».
А старичок боженька ему в ответ: «Будь по-твоему, но осталось у тебя всего одно желание, и ты про главное не забудь». — «Пусть, — говорит учитель, — будет у меня мешок, и, когда скажу: полезай в мешок, чтоб любого в него запрятать мог и держать, покуда не вздумаю выпустить».
Опечалился тогда дедушка боженька и говорит: «Одно ты позабыл попросить: чтоб его преподобие инецкого священника пана Милоша Зарубу выбрали. Не видать тебе царства небесного». — «Как это так, — заорал учитель, и, не успел крикнуть: «полезай в мешок», глядь — а вокруг никого.
Пришел он на лесную опушку и велит: «Столик, накройся».
И сразу на столе закуски всякие и вина оказались, ест он, пьет, и тут объявляется ангел-хранитель и говорит: «Я твой ангел-хранитель. Пойдешь со своим мешком в Пелгржимов и, как встретишь там какого аграрника, скажи: «Полезай в мешок». Иначе не видать тебе царства небесного». — «Это мы еще поглядим, — закричал мерзкий негодяй пан учитель, — полезай в мешок!»
Не успел он договорить — ангел в мешке очутился, а безбожник учитель пришел с тем мешком в ближнюю кузню и спрашивает: «Нет ли мелочи на сотню».
И тут же привалила ему куча денег. Дал он каждому из подмастерьев по десятке и попросил: «Постучите-ка маленько по моему мешку молотками!»
Те и рады стараться — бросили мешок на наковальню и ну лупить по нему.
Ангел-то в мешке знай посмеивается, да наружу вылезти не смеет — мешок-то был учителю от господа бога подаренный.
Тут уж учитель и сам сказал — будя, мол, кончайте. А Кузнецовы подмастерья враз почернели.
И начал с тех пор безбожник учитель в Пелгржимовском крае всяко безобразничать. Заходит, к примеру, в корчму, а там сошлись все деревенские католики. Он и спрашивает: «Кого выбирать будете?» Если скажут они: «Его преподобие пана Зарубу», он безо всякого: «Полезайте в мешок!»
И все, кто собирался подавать голос за его преподобие, оказывались в мешке.
Обошел он таким путем весь Пелгржимовский край и в одних только Иржицах загнал в мешок 84 христианских социалиста.
Денег у него пропасть была, куда он ни придет к избирателям, сразу же: «Столик, накройся!» — и «Клерикалов не выбирать!» А если кто говорил: «Я голосую за его преподобие пана Зарубу», он сейчас же: «Полезай в мешок!», и всех несчастных католиков — прямо в кузню и на наковальню.
И господь бог не мог этому воспрепятствовать — он ведь сам ему все это дозволил.
А в день выборов стал учитель поджидать на пороге дома, где выборы шли, всех, кто за его преподобие голосовать собрался, и только появится кто из них, он враз: «Полезай в мешок!»
Вот и вышло, что аграрник Донат выиграл, а его преподобие домой отвезли. Но как дознался про все господь бог, само собой, хоть и прошли первые выборы, поразил безбожника учителя ударом.
Помер он, а после смерти захотелось безбожнику в рай, чтоб избавиться от геенны огненной, от мучений адских. Да. Стучится, значит, мерзавец в райские ворота, и выходит к нему святой Петр, а за ним и ангел-хранитель учителев. Увидел ангел мерзкого безбожника учителя и в крик: «Это, — кричит, — тот самый, что меня под кузнечный молот бросал!»
Ну, сбежались тут все райские жители и выкинули учителя на дорогу, что в пекло ведет.
Стучится он в адские ворота, а сам от страха обмирает. Вышел на стук черт и остальных чертей зовет: «Ребята, — говорит, — это тот самый учитель, что обрек нас на муки вечные. Голосуй мы за пана Зарубу, наслаждались бы теперича райской благодатью».
И схватили его, миленького, и потащили через смолу горящую в пекло, и бросили в самый большой котел.
А 5582 избирателя, что голосовали против пана Зарубы, нынче в пекле обретаются и на веки вечные обречены подкладывать дрова под котел с мерзким негодяем учителем, который корчится в кипящей сере и почем зря орет: «Полезай в мешок!»
Вот, детки, куда его завело безбожие.
Бравый солдат Швейк
Увлекательные приключения честного служаки
1. Поход Швейка против Италии
Швейк шел на военную службу в веселом настроении. Ему хотелось просто поразвлечься, а получилось так, что он поразил весь гарнизон города Триента с его начальником во главе. Швейк всегда улыбался, был любезен в обращении, и, очевидно, поэтому его все время сажали в тюрьму.
Выйдя из заключения, он с улыбкой отвечал на все вопросы и совершенно спокойно опять давал себя запереть, в душе довольный тем, что его боятся все офицеры триентского гарнизона. Не грубостью, а, наоборот, учтивыми манерами и приветливыми, дружелюбными улыбками — вот чем он приводил их в отчаяние. При появлении инспектора Швейк, сидя на койке и улыбаясь во весь рот, вежливо приветствовал его словами:
— Слава Иисусу Христу, осмелюсь доложить.
Эта искренняя, добродушная улыбка заставляла офицера Валька скрежетать зубами. Он охотно поправил бы на голове у Швейка фуражку, чтобы та сидела согласно уставу, но теплый, задушевный взор Швейка мешал ему что-либо предпринять.
Как-то раз в казарму вошел майор Теллер. Окинув суровым взглядом вытянувшихся возле своих коек солдат, Вальк скомандовал:
— Швейк, подайте сюда винтовку!
Швейк добросовестно выполнил команду, только вместо винтовки принес ранец, С ненавистью глядя на славную наивную физиономию Швейка, майор Теллер спросил:
— Ви не знайт, что такое винтовк?
— Так точно, не могу знать, — был ответ.
Швейка повели в канцелярию. Принесли винтовку, сунули ему под нос.
— Что это такое? Как называется?
— Не могу знать.
— Это винтовка.
— Не могу знать.
Его отправили в тюрьму, и вдобавок тюремщик счел своим долгом обозвать его ослом. Но солдаты ушли на тяжелые ученья в горы, а Швейк преспокойно остался сидеть за решеткой с улыбкой на устах.
Не зная, как с ним быть, его назначили в столовую для вольноопределяющихся — прислуживать за обедом и ужином. Он накрывал на стол, разносил кушанья, пиво, вино, потом скромно садился у двери и курил, время от времени объявляя:
— Осмелюсь доложить, господа: господин офицер Вальк — хороший человек, очень хороший!
При этом он улыбался, выпуская в воздух клубы дыма.
В столовую зашла инспекционная комиссия, и какой-то новый офицер имел неосторожность спросить скромно стоящего у двери Швейка, какой он роты.
— Не могу знать.
— Тысячу чертей! Какой здесь полк?
— Не могу знать.
— Как называется город, в котором расположен здешний гарнизон?
— Не могу знать.
— Ты что, с неба свалился?
— Никак нет, — ответил Швейк с милой улыбкой, глядя на офицера наивным, доверчивым взглядом. — Я родился, потом ходил в школу. Потом выучился столярному ремеслу. Потом привели меня в одну корчму и заставили раздеться догола. Через несколько месяцев пришла за мной полиция, и меня отвели в казармы. Там меня осмотрели и говорят: «Вы, дескать, не явились вовремя на призыв, три недели просрочили. Мы вас арестуем». — «За что? — спрашиваю. — Я ведь и не собирался идти в армию и даже не знаю, что такое солдат…» Все-таки арестовали меня, на поезд посадили и привезли в одно место, откуда мы сюда пришли. Я никого не спрашивал, какой полк, какая рота, какой город, чтобы ненароком не обидеть кого. На ученье меня сразу арестовали из-за того, что я в строю закурил, — что тут такого, не знаю. Потом арестовали, когда я насчет потери штыка заявил. Потом я на полигоне чуть не застрелил господина полковника… Теперь вот господам вольноопределяющимся прислуживаю.
Бравый солдат Швейк проговорил все это, глядя на офицера таким ясным, детским взглядом, что тот не знал, сердиться или смеяться.
Наступил сочельник. Вольноопределяющиеся устроили в столовой елку, и после ужина полковник произнес трогательную речь на тему о том, что вот родился Христос и радуется при виде хороших солдат, а хороший солдат должен сам на себя радоваться…
Вдруг торжественное выступление было прервано возгласом:
— Это как есть! Так точно!
Возглас вылетел из уст бравого солдата Швейка, который стоял, никем не замеченный, среди вольноопределяющихся, весь сияя.
— Sie Einjähriger![37] — взревел полковник. — Кто это крикнул?
Швейк с улыбающейся физиономией выступил из рядов.
— Так что, господин полковник, я прислуживаю господам вольноопределяющимся, и больно мне понравилось, что вы сказать изволили. Сразу видать — от чистого сердца!
Когда в Триенте било полночь, бравый солдат Швейк уже больше часу сидел в холодной.
На этот раз он просидел довольно долго, но потом ему опять повесили штык на пояс и направили в пулеметную часть.
Проводились большие маневры на итальянской границе, и бравый солдат Швейк выступил вместе с армией.
Перед походом он слушал объяснения кадета:
— Представьте себе, что Италия объявила нам войну и мы выступаем против итальянцев.
— Что ж, повоюем! — крикнул Швейк, за что получил неделю ареста.
Отбыв наказание, он был отправлен вместе с тремя товарищами по заключению, под надзором капрала, в свою пулеметную часть. Сперва двигались долиной, потом углубились в горы; и там, как можно было ожидать, Швейк потерялся в густом лесу на итальянской границе.
Пробираясь сквозь кустарник, он напрасно искал глазами своих, дока не очутился — благополучно, в полном вооружении — по ту сторону итальянской границы.
Там бравый солдат Швейк отличился. В это время возле самой границы с Австрией, на итальянской территории, проводила маневры миланская пулеметная часть; восемь солдат и мул с пулеметом вышли на равнину, которую внимательно осматривал бравый солдат Швейк.
Итальянские солдаты, ничего не подозревая, легли в тень и заснули, а мул с пулеметом принялся важно щипать траву, все более от них удаляясь, пока не подошел к тому месту, откуда Швейк с улыбкой наблюдал за неприятелем.
Бравый солдат Швейк взял мула под уздцы и вернулся в Австрию с итальянским пулеметом на итальянском муле.
Спустившись обратно по тому же косогору, он пробродил со своим мулом полдня в каком-то лесу и только к вечеру увидел австрийский лагерь.
Сперва охрана не хотела его впускать, так как он не знал пароля, но тут прибежал офицер, и Швейк, встав во фронт и взяв под козырек, отрапортовал:
— Имею честь доложить, господин лейтенант: мной захвачен итальянский мул с пулеметом!
Бравого солдата Швейка отправили на гауптвахту, зато нам стало известно устройство итальянского пулемета последнего образца.
2. Швейк закупает церковное вино
Полевой папский викарий доктор Коломан Белопотоцкий, епископ Трицальский, — назначил священником триентского гарнизона Августина Клейншродта. Между обыкновенным, штатским священнослужителем и священнослужителем армейским огромная разница. В последнем слились воедино религиозность и воинственность: он — воплощение двух разных каст, соединенных вместе. Различие между обоими видами духовенства такое же, как между драгунским лейтенантом, обучающим в военной академии верховой езде, и владельцем ипподрома.
Военный священнослужитель получает содержание от государства — это военный чиновник определенного класса; он имеет право носить шашку и драться на дуэли. Священнослужитель штатский тоже получает вознаграждение от государства, но, для того чтобы жить в достатке, вынужден брать и с верующих.
Обыкновенного священника солдат не обязан приветствовать, а военному должен отдавать честь под угрозой ареста. Таким образом, бог имеет представителей двух родов: штатских и военных.
Штатский должен вести политическую агитацию, а военный исповедует солдат и сажает их под арест, что, конечно, имел в виду господь бог еще в то время, — когда создавал нашу грешную землю, и позже, когда создавал Августина Клейншродта.
Проносясь по улицам Триента, этот достойный священнослужитель издали производил впечатление кометы, ниспосланной в виде божьей кары на злосчастный город.
Он был страшен в своем величии. Молва утверждала, будто в Венгрии у него уже было три дуэли, кончившиеся тем, что он в офицерском клубе отрубил носы своим противникам, обнаружившим мало религиозного рвения.
Уменьшив таким образом неверие в объеме, он был переведен в Триент, как раз когда бравый солдат Швейк, выйдя из гарнизонной тюрьмы, вернулся к себе в часть для дальнейшей защиты родины.
В это время духовный отец триентского гарнизона искал себе денщика и решил лично выбрать подходящего солдата. Что же удивительного в том, что, проходя по казарме, он заметил добродушную физиономию солдата Швейка, хлопнул его по плечу и сказал:
— Иди за мной!
Бравый солдат Швейк стал было оправдываться, уверять, что не сделал ничего плохого, но капрал толкнул его в спину и повел в канцелярию.
Там после продолжительных извинений унтер-офицер обратил внимание священнослужителя, что Швейк «ist ein Mistvieh»[38], но достопочтенный отец Клейншродт возразил, что «ein Mistvieh kann doch gutes Herz haben»[39].
На это бравый солдат Швейк покорно кивнул. При виде его круглой улыбающейся физиономии и наивных глаз гарнизонный священнослужитель не стал даже просматривать список наказаний, которым бравый солдат Швейк подвергался.
С этого момента Швейк зажил припеваючи: втихомолку потягивал церковное вино и так чистил своему начальнику лошадь, что достопочтенный отец Клейншродт даже похвалил его.
— Осмелюсь доложить, — ответил бравый солдат Швейк, — изо всех сил стараюсь, чтоб была красивая, как ваша милость.
Наступил торжественный день перехода воинских частей в военный лагерь у Кастель-Нуово; по этому случаю предстояло отслужить полевую обедню.
Для церковных надобностей Августин Клейншродт пользовался только нижнеавстрийским вином из Феслау. Итальянского вина он терпеть не мог. А тут как раз запас кончился, и он сказал бравому солдату Швейку:
— Завтра утром отправишься в город за нижнеавстрийским вином из Феслау. Получишь деньги в канцелярии и привезешь восьмилитровый бочонок. И сейчас же возвращайся! Запомни хорошенько: из Феслау в Нижней Австрии. Марш!
На другой день Швейк получил на руки двадцать крон. А для того чтобы при возвращении в лагерь его не задержал патруль, ему было выдано удостоверение: «Командируется для закупки вина».
Выходя из лагеря и шагая по городу, бравый солдат Швейк все время твердил про себя: «Феслау, Нижняя Австрия».
Это занятие он продолжал и на вокзале. И часа не прошло, как он уже преспокойно сидел в поезде, увозившем его в Нижнюю Австрию.
В тот день благолепие торжественной мессы было нарушено лишь горечью итальянского вина в чаше.
К вечеру Августин Клейншродт окончательно убедился, что бравый солдат Швейк — мерзавец, пренебрегший своими воинскими обязанностями, который сейчас где-то пьянствует.
Лагерь огласился яростными воплями Августина Клейншродта. Вознесшись к альпийским вершинам, они сбегали вниз по долине Адидже к Мерано, куда за несколько часов перед тем с безмятежной улыбкой на устах и радостным сознанием добросовестно исполняемой обязанности выехал бравый солдат Швейк.
Он ехал по долине, проезжал туннели и на каждой станции коротко осведомлялся:
— Феслау, Нижняя Австрия?
Наконец перед добродушной физиономией солдата Швейка появился вокзал Феслау. Там бравый солдат Швейк предъявил человеку в чиновничьей фуражке официальное военное удостоверение: «Командируется для закупки вина». И с любезной улыбкой осведомился, где тут казармы.
Человек в фуражке спросил, имеется ли у него командировочное предписание. Бравый солдат Швейк ответил, что не знает, что это такое.
Тут подошли еще двое в фуражках и объявили Швейку, что ближайшие казармы находятся в Корнейбурге.
Бравый солдат Швейк взял билет до Корнейбурга и поехал дальше.
В Корнейбурге стоял железнодорожный полк. В казармах страшно удивились, когда бравый солдат Швейк явился туда ночью и показал охране удостоверение: «Командируется для закупки вина».
— Придется подождать до утра, — сказал караульный. — Господин начальник только что лег спать.
Бравый солдат Швейк улегся на топчан с блаженным сознанием, что делает для государства все от него зависящее, и спокойно уснул.
Утром его отвели в складскую канцелярию. Там он показал бухгалтеру в чине унтер-офицера свое удостоверение: «Командируется для закупки вина» — с печатью «Полевой лагерь Кастель-Нуово, 102-й полк, 3-й батальон» и подписью дежурного офицера.
Унтер-офицер, пораженный, отвел Швейка в полковую канцелярию, где тот был опрошен полковником.
— Так что прибыл по приказу его преподобия гарнизонного священника Августина Клейншродта из Триента, — объяснил бравый солдат Швейк. — Имею приказ доставить восьмилитровый бочонок церковного вина из Феслау.
Было созвано совещание. Простодушная, наивная физиономия Швейка, его строгая военная выправка, предъявленное им удостоверение «Командируется для закупки вина», надлежащим образом скрепленное подписью и печатью, — все это произвело самое благоприятное впечатление, в то же время до крайности запутав дело.
Поднялась целая дискуссия. В конце концов пришли к заключению, что его преподобие гарнизонный священник Августин Клейншродт, видимо, сошел с ума, и ничего не остается, как отослать бравого солдата Швейка обратно, выдав ему командировочное предписание на этот предмет.
Унтер-офицер заготовил предписание. Человек он был покладистый и не пожалел километров. Он указал маршрут: Вена, Штейр, Загреб, Триест, Триент. Проездное выплатили Швейку наличными на двое суток — одну крону шестьдесят геллеров. Кроме того, унтер-офицер купил ему билет, да повар по доброте душевной выдал три буханки из полковой пекарни.
Между тем гарнизонный священник Августин Клейншродт ходил по лагерю Кастель-Нуово и, скрежеща зубами, твердил:
— Арестовать, связать, расстрелять!
Все решили, что бравый солдат Швейк — дезертир. Каково же было всеобщее изумление, когда на четвертые сутки ночью он появился у входа в лагерь и, улыбаясь, подал караульному командировочное предписание из Корнейбурга, а также удостоверение, выданное непосредственным начальством: «Командируется для закупки вина».
Его сейчас же схватили, заковали, к его удивлению, в кандалы, отвели в барак и там заперли.
А утром повели в город, в казармы.
Как раз в это время из Корнейбурга пришел запрос командира железнодорожного полка о причинах, побудивших его преподобие гарнизонного священника Августина Клейнщродта послать солдата Швейка в Корнейбург за церковным вином из Феслау.
Солдата Швейка допросили. Он с блаженной улыбкой чистосердечно рассказал все как было. Состоялось продолжительное совещание, после которого достопочтенный отец Клейншродт пошел навестить бравого солдата Швейка в заключении.
— Лучше всего подавай на комиссию, скотина. Проси освободить тебя по состоянию здоровья и катись отсюда!
— Осмелюсь доложить, желаю служить государю императору до последнего вздоха! — возразил бравый солдат Швейк, глядя своими честными глазами прямо в глаза духовного начальства.
3. Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке
В каждой армии есть негодяи, которые не желают служить. Им приятнее стать самыми заурядными штатскими разбойниками. Эти продувные бестии жалуются, к примеру, на порок сердца, а вскрытие обнаруживает у них, может, всего-навсего какое-нибудь воспаление слепой кишки. Такими и другими подобными способами пробуют они избавиться от своих воинских обязанностей. Но не тут-то было! Существует медицинская комиссия, которая портит им всю музыку. Парень жалуется на плоскостопие. Военный врач прописывает ему глауберову соль, клистир — и «плоскостопный» бегает как ошпаренный, а утром садится под арест.
Иной прохвост жалуется на рак желудка. Его кладут на операционный стол и говорят: «Вскрыть желудок, не прибегая к наркозу». Договорить не успеют — рак как рукой сняло, и чудесно исцеленный шагает в тюрьму.
Медицинская комиссия — настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый второй призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить ранец.
Основная функция медицинской комиссии — производить осмотр. Но правильно говорил один штабной врач:
— Осматривая больного, я исхожу из убеждения, что речь должна идти не об осмотре, а о досмотре, что больной безусловно здоров, как бык. В соответствии с этим я и действую. Пропишу ему хинин, диету. И через трое суток — будьте покойны! — непременно выпишу из больницы! А ежели симулянт все-таки умрет, так это нарочно, чтобы нам насолить и самому не сесть в тюрьму за обман. Поэтому говорю вам: не осмотр, а досмотр! Подозревай каждого до его последнего вздоха!
Когда бравого солдата Швейка послали на комиссию, ему завидовала вся рота.
Надзиратель, принесший ему в камеру обед, сказал:
— Твое счастье, паршивец. Домой вернешься. Тебя уволят вчистую как пить дать.
Но бравый солдат Швейк ответил ему то же, что достопочтенному отцу Клейншродту:
— Осмелюсь доложить, не выйдет это. Я здоров как бык и желаю служить государю императору до последнего вздоха.
И с блаженной улыбкой лег на топчан.
Надзиратель доложил об ответе Швейка дежурному офицеру Мюллеру.
Тот заскрипел зубами.
— Мы отобьем у мерзавца охоту к военной службе! Надо устроить ему сыпняк, пусть хоть спятит.
А в это время бравый солдат Швейк говорил другому заключенному из той же роты:
— Буду служить государю императору до последнего вздоха. Я солдат, значит, должен служить горударю императору, и никто не имеет права выгнать меня из армии. Пускай хоть генерал придет, даст мне под зад и выставит из казармы, — я и тогда вернусь и скажу: «Так что, господин генерал, желаю служить государю императору до последнего вздоха и потому возвращаюсь в роту». А если меня опять не примут — пойду во флот, служить государю императору хоть на море. А во флот не примут, и там господин адмирал тоже даст мне под зад — буду служить государю императору в воздухе.
Но вся казарма была твердо уверена, что бравого солдата Швейка все-таки выгонят из армии. Третьего июня к нему в камеру явились санитары с носилками, после ожесточенной борьбы привязали его к ним ремнями и отнесли в гарнизонный лазарет. По дороге с носилок все время раздавались патриотические возгласы:
— Солдаты, помогите! Я желаю служить государю императору!
Его поместили в отделение для тяжелобольных, и штабной врач Янса произвел поверхностный осмотр.
— У тебя увеличение печени и ожирение сердца, Швейк. Ты свое отслужил. Придется тебя уволить.
— Осмелюсь доложить, я здоров, как бык! — возразил Швейк. — Прошу прощения, как же армия будет без меня? Так что желаю вернуться в часть и служить государю императору верой и правдой, как полагается солдату.
Ему был назначен клистир. И когда санитар Бочковский, русин по национальности, приступил к лечению, бравый солдат Швейк, находясь в столь щекотливом положении, с достоинством произнес:
— Не церемонься, братец. Я не побоялся итальянцев — не боюсь и твоего клистира. Запомни: солдат не должен ничего бояться и обязан служить.
Потом его отвели в уборную и приставили к нему часового с заряженной винтовкой.
После этого его опять уложили в постель, а санитар Бочковский ходил вокруг него и вздыхал:
— Родные-то есть, пся крев?
— Есть.
— Отсюда не выйдешь, симулянт!
Бравый солдат Швейк дал ему по морде.
— Я симулянт? Да я здоровей здорового и желаю служить государю императору до последнего вздоха.
Его обложили льдом. Трое суток пролежал он в ледяных компрессах, а когда пришел штабной врач и сказал: «Ну, Швейк, придется тебя все-таки демобилизовать!» — возразил:
— Осмелюсь доложить, господин доктор, я совсем здоров и желаю служить.
Его опять обложили льдом на двое суток, после чего медицинская комиссия должна была собраться и навсегда освободить его от воинской повинности.
Накануне заседания, когда на него был уже составлен увольнительный документ, бравый солдат Швейк дезертировал.
Ему пришлось бежать, чтобы иметь возможность служить государю императору. Две недели о нем ничего не было слышно.
Но, ко всеобщему изумлению, через две недели бравый солдат Швейк появился ночью у ворот казармы и с обычной своей честной улыбкой на довольной круглой физиономии отрапортовал начальнику караула:
— Честь имею доложить, явился для отбытия наказания как дезертировавший с целью служить государю императору до последнего вздоха.
Его желание было удовлетворено: он получил полгода, а так как и после этого пожелал остаться в рядах армии, был послан в арсенал — начинять торпеды пироксилином.
4. Бравый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином
Вышло, как сказал его преподобие:
— Швейк, мошенник ты этакий… Уж коли хочешь служить, так поработай с пироксилином. Это тебе полезно.
Стал бравый солдат Швейк работать в арсенале: учиться обращению с пироксилином, начинять им торпеды. На этой службе шутки плохи: того и гляди взлетишь на воздух — и крышка!
Но бравый солдат Швейк не робел. Вполне довольный, проводил он дни свои в отдельном бараке, между динамитом, экразитом и пироксилином, начиняя торпеды этими страшными веществами и оглашая окрестность пением:
За этой прекрасной песней, делавшей бравого солдата Шведка львом, следовала другая волнующая песня — о кнедликах величиной с человеческую голову, которые бравый солдат Швейк проглатывал с неописуемым наслаждением.
Так и жил он — довольный своей судьбой, — один на один с пироксилином, в отдельном арсенальном бараке. И вот однажды туда пришла инспекция, проверяющая, все ли в порядке в бараках.
Подойдя к бараку, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином, инспектора увидели по облакам табачного дыма, распространяемым Швейковой трубкой, что бравый солдат Швейк — бесстрашный воин.
При виде начальства Швейк встал, вынул, согласно уставу, трубку изо рта и отложил ее в сторонку, но недалеко, только руку протянуть, — как раз у открытого стального чана с пироксилином.
И, встав во фронт, отрапортовал:.
— Честь имею доложить: происшествий не было, все в порядке.
В жизни человека бывают мгновения, когда все зависит от присутствия духа.
Быстрей всех нашелся полковник. Над пироксилином уже вились колечки табачного дыма, и он сказал:
— Продолжайте курить, Швейк!
Это было очень умно с его стороны, так как гораздо лучше, чтобы трубка находилась во рту, чем в пироксилине.
— Слушаю, господин полковник. Есть курить! — ответил Швейк, снова встав навытяжку.
Он был очень дисциплинированный.
— А теперь — шагом марш на гауптвахту!
— Осмелюсь доложить, никак не могу. Потому, согласно предписанию, обязан быть здесь до шести, дожидаться смены. При пироксилине всегда должен кто-нибудь быть, а то долго ли до беды!
Инспекция поспешно удалилась рысцой в караульное помещение и там приказала послать за Швейком патруль.
Патруль отправился без особого энтузиазма.
Подойдя к бараку, где сидел среди пироксилина, покуривая трубку, бравый солдат Швейк, капрал крикнул:
— Швейк, мерзавец, кидай трубку в окно и выходи наружу!
— Никак невозможно: господин полковник приказал мне курить. Так что буду курить, хоть режь на части.
— Выходи, скотина!
— Никак нет, не выйду. Сейчас только четыре, а смена в шесть. До шести я должен быть при пироксилине, чтобы не случилось какой беды. Я насчет этого строго…
Он не договорил. Вы, может быть, читали о страшной катастрофе в арсенале, после которой был объявлен национальный траур по всей Австрии. В какие-нибудь три четверти секунды весь арсенал взлетел на воздух.
Началось с того барака, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином: над тем местом, где стоял этот барак, воздвигся целый курган из бревен, досок, железного лома, слетевшихся отовсюду, чтобы воздать последний долг бесстрашному Швейку, не боявшемуся пироксилина.
Трое суток на развалинах работали саперы, сортируя головы, туловища, руки и ноги, чтобы господу богу на Страшном суде легче было разобраться в чинах погибших и соответствующим образом распределить награды. Это была настоящая головоломка.
Трое суток разбирали они и курган, возвышавшийся над Швейком, а на третью ночь, проникнув, в самую глубь этой горы из бревен и железа, вдруг услыхали приятное пение:
При свете факелов они принялись разбирать обломки в том направлении, откуда слышалось пение:
Вскоре при свете факелов перед ними открылась образованная железным ломом и нагроможденными бревнами небольшая пещера, и в уголочке сидел бравый солдат Швейк. Он вынул трубку изо рта, встал во фронт и отрапортовал:
— Честь имею доложить: происшествий никаких не было, все в порядке!
Его вытащили из этого дикого хаоса, и он, очутившись перед офицером, вторично рапортовал:
— Честь имею доложить: происшествий никаких не было, все в порядке. Покорно прошу прислать смену: шесть часов минуло. Прошу также выплатить мне суточные за то время, что я просидел под развалинами.
Храбрец был единственным, уцелевшим при катастрофе.
Вечером в его честь сослуживцы устроили в офицерском клубе небольшое торжество. Бравый солдат Швейк, окруженный офицерами, опрокидывал стопку за стопкой, и добрая круглая физиономия его сияла блаженством.
На другой день ему выплатили суточные за трое суток, как на войне, а через две недели он был произведен в капралы и награжден большой военной медалью.
Входя с этой медалью на груди и звездочками на погонах в ворота триентской казармы, он столкнулся с офицером Кноблохом. При виде почтительной, добродушной физиономии бравого солдата Швейка офицер содрогнулся.
— Ну и номер ты выкинул, головорез!
— Осмелюсь доложить: так что умею теперь обращаться с пироксилином! — улыбаясь, ответил Швейк.
И гордо зашагал по двору, разыскивая свою роту.
В тот же день дежурный офицер зачитал солдатам приказ военного министерства об организации при армии воздушных частей и обращение ко всем желающим — вступать в эти части.
Бравый солдат Швейк сделал шаг вперед и заявил офицеру:
— Осмелюсь доложить: как я уже побывал в воздухе и это дело мне знакомо, желаю послужить государю императору в воздушных частях.
Через неделю бравый солдат Швейк был переведен в воздухоплавательную часть, где, как будет видно из дальнейшего, вел себя столь же благоразумно, как и в арсенале.
5. Бравый солдат Швейк в воздушном флоте
Австрия располагает тремя управляемыми дирижаблями, восемнадцатью — не поддающимися управлению, и пятью аэропланами. Такова ее воздушная мощь. Бравый солдат Швейк был направлен в отделение аэропланов — трудиться во славу этого нового рода вооружения. Сперва он выкатывал их из ангаров на аэродром, тер металлические части скипидаром и венской известью.
Словом, начал с азов. Как для его преподобия в Триенте он заботливо чистил лошадь, так и здесь усердно хлопотал вокруг машин, начищал их плоскости щеткой, словно лошадиные бока скребницей, и в качестве разводящего расставлял часовых у ангаров, инструктируя их:
— Летать необходимо. Так что при малейшей попытке украсть аэроплан стреляйте без предупреждения!
Уже через две недели он был переведен из наземного в летный состав. Это было рискованное повышение. Он стал летать с офицерами как пассажир — для нагрузки.
Бравый солдат Швейк не испытывал страха. С улыбкой поднимался он в воздух, почтительно и покорно глядел на пилота-офицера и козырял ползающему далеко внизу по аэродрому начальству.
А когда им случалось упасть, разбив аэроплан, первым из-под обломков вылезал бравый солдат Швейк. Помогая офицеру подняться, он рапортовал:
— Имею честь доложить, мы упали, но живы и здоровы.
Он был приятным спутником. Как-то раз ему пришлось летать с офицером Герцигом. На высоте восьмисот двадцати шести метров у них перестал работать мотор.
— Разрешите доложить: у нас вышел бензин, — послышался за спиной офицера мягкий голос Швейка. — Так что я забыл долить бак.
И через минуту:
— Разрешите доложить: мы падаем в Дунай.
Когда же через несколько мгновений головы их вынырнули из бурных зеленых дунайских волн, бравый солдат Швейк, плывя за офицером к берегу, промолвил:
— Осмелюсь доложить: мы нынче поставили рекорд высоты.
А вот что произошло перед большим авиационным праздником на аэродроме в Винер-Нейштадте в момент осмотра аэропланов, проверки моторов и последних приготовлений к полетам.
Поручик Герциг собирался лететь со Швейком на биплане братьев Райт, оснащенном аппаратом Мориссона, позволяющим взлетать без разбега.
На аэродроме присутствовали представители иностранных вооруженных сил.
Аэропланом Герцига сильно заинтересовался майор румынской армии Грегореску: забравшись внутрь, он стал рассматривать рычаги управления.
По приказанию поручика бравый солдат Швейк включил мотор. Пропеллер завертелся. Швейк, сидя рядом с любознательным румынским майором, чрезвычайно внимательно регулировал трос, управляющий рулем высоты, причем производил это с такой осторожностью, что сбил с головы майора фуражку.
— Швейк, осел этакий! Летите ко всем чертям! — воскликнул поручик.
— Zum Befehl, Herr Leutnaut[40], — ответил Швейк, схватив рычаг руля высоты и рычаг аппарата Мориссона, — и аэроплан оторвался от земли, оглашая окрестность ритмичным рокотом сильного мотора.
Двадцать, сто, триста, четыреста пятьдесят метров высоты. Направление на юго-запад, к снежным вершинам Альп. Скорость — сто пятьдесят километров в час.
Бедный румынский майор не успел опомниться, как очутился над каким-то ледником, но на высоте, позволявшей отчетливо различать чудесный пейзаж внизу, снежное поле, грозно и сурово зияющие пропасти.
— Что случилось? — промолвил он, заикаясь от страха.
— Честь имею доложить: летим, согласно приказу, — вежливо ответил бравый солдат Швейк. — Господин поручик сказал: «Летите ко всем чертям». Мы и полетели.
— А где сядем? — стуча зубами, осведомился любознательный майор.
— Осмелюсь доложить: не могу знать, где сесть придется. Летим, согласно приказу, а самолет вести я могу только кверху. Вниз не умею. Нам с господином поручиком никогда не доводилось: наверх заберемся, а оттуда вниз всегда падаем.
Альтметр показывал тысяча восемьсот шестьдесят метров. Майор, судорожно вцепившись в поручни, кричал по-румынски:
— Deu, deu — боже, боже!
А бравый солдат Швейк осторожно оперировал рулем и пел, пролетая над Альпами:
Майор громко молился по-румынски и сыпал проклятиями, а в чистом холодном воздухе разносилось звонкое пение бравого солдата Швейка:
Под ними сверкали молнии, бушевала буря.
Майор, выпучив глаза, глядел вперед.
— Будет ли этому конец? — спросил он хриплым голосом.
— А то как же, — с улыбкой ответил бравый солдат Швейк. — По крайности, мы с господином поручиком всегда куда-нибудь падали.
В это время они находились где-то над Швейцарией и летели на юг.
— Немножко терпения, осмелюсь доложить, — продолжал бравый солдат Швейк. — Как бензин кончится, так обязательно упадем.
— Где мы?
— Имею честь доложить: над водой летим. Пропасть воды. Видно, в море падать придется.
Майор Грегореску, лишившись чувств, защемил свое толстое брюхо между поручнями и совсем завяз в металлических конструкциях.
А над Средиземным морем разносился голос бравого солдата Швейка:
Бравый солдат Швейк заливался над гигантскими морскими просторами на высоте одной тысячи метров:
Свежий морской ветерок привел майора в чувство. Но при виде страшной бездны и моря внизу он воскликнул:
— Deu, deu!..
И снова потерял сознание.
Спустилась ночь, а они летели все вперед и вперед. Вдруг бравый солдат Швейк потряс майора за плечо и ласково сказал ему:
— Имею честь доложить: летим вниз, но что-то медленно…
Самолет, за отсутствием бензина, спланировал на африканский континент, приземлившись возле пальмовой рощи в Триполи.
Бравый солдат Швейк помог майору выйти из кабины и, встав во фронт, отрапортовал:
— Честь имею доложить: все в порядке.
Бравый солдат Швейк поставил мировой рекорд дальности полета, перелетев через Альпы, Южную Европу, Средиземное море и приземлившись в Африке.
При виде пальм майор вкатил Швейку пару оплеух, которые тот принял с улыбкой. Ведь он только выполнил свою обязанность, раз поручик Герциг сказал ему: «Летите ко всем чертям».
О дальнейшем неудобно рассказывать, так как это очень не понравилось бы военному министерству, которое, конечно, во избежание крупных международных осложнений, будет категорически отрицать факт аварии австрийского самолета над территорией Триполи…
«Счастливый домашний очаг»
1
Вот уже шестой год журнал «Счастливый домашний очаг», издаваемый в Чехии Шимачеком, стремится принести радость в каждый дом, мир и счастье — каждой семье. В этом я убедился сам.
Два раза в месяц редакция на Иерусалимской улице разражается бесценными советами, несущими миру счастье, которое мне остается только оплакивать.
Спустя неделю после свадьбы жена поделилась со мной заветной тайной: она — постоянная подписчица «Счастливого домашнего очага».
— Как раз сегодня пришел свежий номер, и сколько же там ценных советов! Ты убедишься сам, как полезно следовать его рекомендациям.
Когда вечером я вернулся со службы, в кухне царило непривычное оживление. Выйдя мне навстречу со сверкающими от счастья глазами, жена воскликнула:
— Получилось! — и, схватив меня за руку, потянула за собой. — Я поступила в точности как написано в журнале. Залила бразильские орехи кипятком и выдержала их в нем ровно пятнадцать минут; теперь ничего не стоит очистить их от скорлупы.
Ее радость прямо-таки озадачивала.
— Дорогая, что тебе пришло в голову покупать бразильские орехи, кто в наше время может себе это позволить?
— Глупыш, — надула губы жена, — здесь же черным по белому сказано: обдать кипятком не какие-нибудь, а именно бразильские орехи. Или вымачивать в воде в течение пяти-шести дней. Пойдем, я покажу тебе, что вовсе не бездельничала в твое отсутствие.
В спальне пахло камфарой.
— По совету журнала я протерла спинки кроватей камфарным маслом.
В результате проделанной процедуры спинки кроватей из белого клена заметно потемнели.
— Но они стали черными, — заметил я.
— Это совершенно неважно, — ворковала она, — тем более, что в «Счастливом домашнем очаге» есть специальная рубрика «Спрашивайте — отвечаем», где печатаются ответы на вопросы читательниц из любой области науки и быта. Я и узнаю у них, как можно вычистить почерневшую мебель. Кстати, сегодня в этой рубрике опубликован ответ на мое письмо, когда человек стал использовать кольца в качестве украшения. Вот, я тебе прочту: «А. Т. из П.: кольца стали служить для прикрытия человеческого тела раньше, чем одежда».
Мне стало дурно, и я прилег на кушетку. Тем временем моя дорогая жена трудилась не покладая рук. Следуя советам последнего номера «Счастливого домашнего очага», с помощью воска и соли она пыталась снять с утюга ржавчину, которой там не было, протерла керосином мои штиблеты для придания им мягкости, полила руки чернилами, чтобы проверить, можно ли удалить кляксы соком спелого винограда, а потом принялась разыскивать в доме красное вино, желая убедиться, действительно ли винные пятна бесследно исчезнут с белья, если погрузить его на день в простоквашу, а затем выполоскать в воде. Когда служанка наконец принесла бутылку красного, хлопотунья, облив им мою сорочку, окунула ее в простоквашу.
После этого она тщательно прокипятила зубные щетки, ибо среди прочих советов был и такой: «Прокипятив новую зубную щетку, ты увеличишь срок ее употребления». Увы, с кухни она вернулась, держа в руке букет голых рукояток: щетина — главная часть любой щетки — вылезла от кипятка. Разумеется, жена не преминула упрекнуть меня в том, что я покупаю зубные щетки не лучшей фирмы.
Затем была выполнена рекомендация «Счастливого домашнего очага», где объяснялось, что варить яйца надо по часам, поставив будильник на нужное время. Звонок означал, что яйца готовы. Этим она развлекалась целый час.
После этого я выслушивал упреки за то, что ни разу не принес в дом прищепок, какие используются в магазинах под ценники — подобно многим другим подписчицам «Счастливого домашнего очага», она могла бы превратить их в подставки для столовых приборов, перечниц, солонок и другие изящные вещицы, чем способствовала бы воцарению полного счастья и благополучия в каждой семье.
— Это я тоже обязательно сделаю, — заявила она, протягивая мне отчеркнутую карандашом небольшую заметку в последнем номере: «Как приучить курильщика экономить. Мой муж покупает сигары по сто штук в коробке. Как только он приобретает новую, я незаметно вынимаю из каждого ряда по три-четыре сигары и прячу. Когда коробка заметно пустеет, я начинаю добавлять в нее по одной-две штуки из моих запасов. Таким образом, коробки сигар хватает намного дольше».
Не стоит и говорить о том, что весь вечер она посвятила практическому изучению советов журнала, изготовив доску под колбасу, деревянную рамку для сушки шерстяных чулок и, наконец, вешалку для платья облегающего покроя. Не имея такового, жена потребовала, чтобы оно ей было куплено.
Затем она выкрасила бельевую корзину белой масляной краской и прошла с ней мимо служанки, которая как раз чистила щеткой мой костюм, но тут же вернулась и с ликованием сообщила, что немедленно запросит редакцию журнала, как вывести белую масляную краску с черного костюма.
— Мы, подписчицы, — пояснила она, — действуем в общих интересах. Для каждой читательницы ответ, помещенный в журнале, — это испытанное средство осчастливить семью. Пусть и мы с тобой вкусим счастье сполна. Завтра ты поможешь мне оформить уборную так, как это предлагается журналом. Мы обклеим стены черно-белыми квадратами из картона.
На ночь мне пришлось надеть жилет, ибо в статье «Закаливание в истинном свете» говорилось, что великий английский гигиенист Герберт Спенсер обычно спал в жилете.
В три часа ночи меня разбудил звонок будильника.
— Пора вставать, — сказала жена. — Я читала, что умственная деятельность наиболее плодотворна с трех до семи утра. «Счастливый домашний очаг» обещает премию в триста крон читательнице, которая предложит лучший рецепт использования куриных потрохов и перьев. Помоги мне думать.

В шесть утра она заявила, что я тупица, потому что вот уже третий час только таращу глаза в пустоту без единой мысли в голове.
С шести до половины седьмого она разглагольствовала о скудости воображения у мужчин и их преступных наклонностях, о чем свидетельствуют целые фолианты уголовных дел. Женщина, существо тонкое и высоконравственное, стоит гораздо выше мужчины в моральном отношении, и, тем не менее, мужчина узурпировал право на неограниченную власть над ней, принуждая несчастную женщину подчиняться его подчас сумасбродным желаниям.
Еще полчаса жена говорила о — том, что на себе испытала, как тяжки прегрешения человеческого общества, обрекшего женщин на безмолвное терпение. Сама она предпочитает смерть такой жизни, и только мысль о детях препятствует ей разом избавиться от цепи бесконечных мук.
— Но ведь у тебя нет детей…
— Это не имеет значения, — отрезала жена, — а тебя и вовсе не касается. Вы, мужчины, только и умеете, что мучить женщин. Женщине негде искать защиты, нет никаких законов, охраняющих ее интересы, мы отданы на растерзание вам, кровопийцам. Господи, уйдешь ты, наконец, или нет? Ты мне мешаешь. Я хочу по рецепту «Счастливого домашнего очага» приготовить на обед что-нибудь особенное!
— Дорогая, — робко попросил я, — не надо ничего особенного, свари обычный обед.
Жена даже не удостоила меня ответом.
Все утро мне мерещились тошнотворные странные блюда, приготовленные из немыслимого набора продуктов. Придя на обед, я с опаской переступал порог нашей квартиры. Женушка расцеловала меня и, сияя от счастья, торжественно произнесла:
— Сегодня у нас шницели говяжьи а-ля бараньи, фаршированные вареньем из овощей по-итальянски. Это по рецепту прошлого номера!
Звучало красиво, но оказалось абсолютно несъедобным. Свою порцию бросил я в миску нашей собаки. Понюхав, она поджала хвост и, обиженно ворча, забилась под шкаф.
Моей благоверной тоже стало нехорошо, и она попросила меня поскорее уйти, чтобы прилечь. Вернувшись домой вечером, я обнаружил в столовой — три, а в гостиной — два ящика, на кухне моя дорогая жена, поставив друг на друга еще два таких же ящика, распиливала на доски верхний из них.
— Я тебя заждалась, — сказала она ласково, — в «Счастливом домашнем очаге» мне попалась подробная инструкция, как экономной хозяйке своими руками сделать кровать для горничной из старых ящиков. Когда ты ушел, я продала постель нашей служанки столяру, а взамен купила ящики и столярные инструменты.
Господи боже мой! Все это я пишу уже будучи в Турции, в Салониках, куда бежал от преследований «Счастливого домашнего очага», не щадящего сил во имя счастья и покоя в каждом доме.
2
Итак, бежав в этот город от «Счастливого домашнего очага», приносящего домашним очагам счастье, я в самом деле обрел покой, блаженство и счастье, хотя там в это время как раз шла резня: шесть раз я с трудом скрывался от кровожадных мусульман, но это казалось сущим наслажденьем по сравнению с участью непосредственно наблюдать сокрушительную деятельность «Счастливого домашнего очага».
Месяц с лишним прожил я в полнейшем блаженстве, пока не получил из дома письмо, проникнутое любовью. Жена писала, что в мое отсутствие она окончательно поняла, что без «Счастливого домашнего очага» жизнь была бы подобна голой пустыне, и спрашивала, знаю ли я, что такое «Нурзо». Оказалось, «Нурзо» — это не что иное, как бытовая самоварка, которая достанется одной из подписчиц бесплатно, в виде премии. Необходимость в кухне совершенно отпадала, и жена, рассчитывая выиграть «Нурзо», предусмотрительно разобрала плиту, чтобы установить этот агрегат именно на ее месте. «Нурзо» — это не просто плита, «Нурзо» — символ счастья!» Жена уносилась мечтами в то время, когда я буду готовить с помощью «Нурзо», и когда мы, обретя «Нурзо», станем совершенно счастливы. О моем внезапном отъезде она не замедлила сообщить в редакцию «Счастливого домашнего очага», которая, проникшись к ней сочувствием, тут же выслала ей 20 сортов огородных семян и столько же цветочных, а из отдела писем ей порекомендовали приобрести издаваемый все тем же Шимачеком журнал «Четырехлистник».
В конце письма, написанного с большой нежностью, содержалась просьба разузнать и выслать ей рецепт приготовления настоящего турецкого пилава, который она опубликует в «Счастливом домашнем очаге», чтобы осчастливить им читательниц. Вторая просьба касалась меню скромной турецкой семьи на 365 дней года. Кроме того, она просила выслать ей обрезки турецких тканей, собираясь по совету только что полученного номера журнала протирать ими зеркала.
Четвертая и последняя просьба дышала тем искренним вдохновением, от которого я и бежал сюда, в Турцию. Жена писала, чтобы я через австро-венгерского консула в Салониках постарался добиться от турецкого правительства разрешения для турецких женщин издавать журнал наподобие «Счастливого домашнего очага». Она направит в здешнее консульство письмо со своими соображениями и рассчитывает на большой успех нового журнала. В заключение жена сообщала, что по совету, данному ей «Счастливым домашним очагом», она распорола мой новый, всего два раза ношенный костюм, выкроила и сшила из него три пары детских штанишек, отправив их: затем в редакцию журнала с просьбой передать тому хорошему мальчику, который убедит отца выписать маме «Счастливый домашний очаг».
Заканчивалось письмо стихами:
Дочитав письмо, я рыдал до поздней ночи. Две недели спустя меня вызвали в австрийское консульство. Консул, оказавшийся весьма приятным господином, показал мне петицию, подписанную 150 постоянными читательницами «Счастливого домашнего очага», с убедительной просьбой к правительству Турции не препятствовать турецким женщинам читать этот журнал.
— Позже, в качестве образчика, почта доставила нам годовую подшивку, — сокрушенно рассказывал он, — наша кухарка, чешка, позавчера взялась его читать, и теперь толку от нее никакого. Вы пойдите, взгляните сами, что она вытворяет.
Вход на кухню был увит розами, гирлянда венчала надпись, выполненную на картоне неумелой рукой: «Счастливый домашний очаг» приносит консульствам счастье!»
Окруженная ящиками, моя землячка, которая даже здесь, на чужбине, стремилась заложить прочные основы домашнего счастья, как раз превращала в щепки какую-то лавку.
— Тс-с! — она приложила палец к губам. — Тихо, а то «Счастливый домашний очаг» будет недоволен, что ему мешают работать. Из этих ящиков я сколочу, согласно описанию в журнале, кухонную мебель — современную и красивую. Глину показать? — она кивнула на большую кучу в углу кухни. — По совету «Счастливого домашнего очага» я буду лепить из нее горшки и другую кухонную посуду. — Тут, схватив меня за руку, она воскликнула, страстно сверкая очами: — Вот увидите — вы обретете счастье! — Не выпуская моей руки, эта добрая, совершенно сбитая с панталыку женщина, продекламировала: «Если вы хотите вечно в счастье жить, ничем и никогда не омраченном, если вы хотите, чтоб все чаще осеняли вас его благотворные лучи, подписывайтесь на «Счастливый домашний очаг»!»
Я бежал из консульства, но на другой же день, едва проснувшись, обнаружил землячку у порога.
Она притащила с собой чурбан.
— Дарю, — объявила она мне, — дарю вам этот кусок дерева. Из него вы сможете сделать себе вешалку согласно описанию в шестнадцатом номере «Счастливого домашнего очага». Купите в магазине вешалку и по ее образцу изготовьте точно такую же, затем купленную продайте или сделайте из нее изящные резные ножки для шкафа.
Тут-то и созрело во мне твердое решение отравить всю редакцию «Счастливого домашнего очага», и в тот же день восточным экспрессом я отправился в Прагу.
3
Дома меня ждал сюрприз. Гостиная зияла пустотой — прекрасную мебель черного дерева дражайшая супруга в мое отсутствие продала.
С просветленным лицом она демонстрировала мне настенную живопись в таком изящном художественном стиле, что теперь, по ее словам, можно было вполне обойтись без отдельных предметов мебели. Большое трюмо было изображено довольно убедительно, равно как и пианино со стульчиком, и я, совершенно потрясенный, невольно сел прямо на паркет.
— «Счастливый домашний очаг» рекомендует всячески украшать жилье, — произнесла она убежденно, — согласись, ну разве этот нарисованный стол хуже настоящего?
Свалиться с чего-либо было физически невозможно, поэтому я просто лег на пол.
— И все-таки, душенька, зачем тебе понадобилось продавать всю обстановку? Или мебель в гостиной, по мнению твоего журнала — проявление дурного вкуса?
— Глупенький, — ответила она, — я продала ее, чтобы ничто не мешало нашему счастью и чтобы у нас были свои зубочистки, то есть зубочистки, сделанные своими руками. В «Счастливом домашнем очаге» я вычитала, что хорошей хозяйке в целях экономии следует делать их самой. Зубочистки, изготовленные нежными руками жены, дают мужу ощущение покоя и довольства после каждого блюда, от них так и веет истинным семейным теплом, которого желает всем «Счастливый домашний очаг». Зубочистки домашней работы согревают уютное гнездышко молодоженов, озаряют его светом счастья, вносят умиротворение, столь целительное для человеческой души. Я обратилась в редакцию с просьбой рассказать, как сделать их самой. Мне рекомендовали приложение «Счастливого домашнего очага» — «Домашнюю мастерскую». Я купила подборку сразу за два года — кто же покупает книги по одной? Нет, недаром я прочла в журнале, что такое возможно лишь при полном отсутствии уважения к собственной умственной деятельности. Суди сам, глупенький, ведь даже обыкновенные спички мы приобретаем по нескольку коробков сразу. В «Домашней мастерской» я вычитала, что об изготовлении зубочисток можно подробно узнать в другом приложении — «Домашнем всезнайке», который обошелся мне в 30 крон. «Всезнайка» сообщал, что зубочистки обычно делаются из дерева, а с технологией можно ознакомиться в одном из номеров «Четырехлистника» Шимачека за последние годы. Просмотрев купленные мной годовые подшивки «Четырехлистника», я наконец узнала, что в домашних условиях зубочистки можно настрогать на небольшом патентованном станке швейцарской фирмы «Кудрин Фрер» в Люцерне или же с помощью обычного кухонного ножа. «Счастливый домашний очаг» считает, что производство на станке обходится куда дешевле, поэтому я выписала его из Швейцарии. На это ушло еще 480 франков. Где было взять такие деньги? Пришлось продать мебель из гостиной и твою библиотеку, тем более что потребовались дополнительные средства на липовое дерево и гидравлический двигатель для запуска станка. «Счастливый домашний очаг» советует покупать оптом, и я не поленилась купить на Шумаве две столетние липы, велела их срубить, распилить и отправить в Прагу. Послушай же, что из всего этого вышло! На сегодняшний день я сделала 8 миллионов зубочисток, они сложены в нашем подвале и в сарае соседнего дома, который я очень дешево арендовала по случаю. Два миллиона зубочисток я безвозмездно передала редакции «Счастливого домашнего очага» как премию для подписчицы, которая предложит лучший рецепт картофельных оладьев. Теперь у нас шесть миллионов зубочисток, их хватит для нашего полного счастья, ты поймешь, что такое семейный уют, и не сбежишь больше от меня в свою Турцию.
Я был счастлив буквально до потери сознания и очнулся уже в бочке из-под квашеной капусты. Выбравшись из нее, я выслушал объяснение моей заботливой жены, что, по мнению журнала, запах кислой капусты — прекрасное средство от обмороков. Она сбегала вниз и купила подходящую бочку.
— Куда же мы ее денем? — спросил я.
— Поставим в домашнюю аптечку, или, лучше, пороюсь я в подшивке «Счастливого домашнего очага», ты подожди, я мигом.
Она вернулась с кипой прошлогодних журналов и зачитала:
— «Хорошая хозяйка способна сотворить чудо даже из обыкновенной бочки из-под капусты. Немного стараний — и ловкие руки превратят ее в детскую коляску…»
Пришлось снова сунуть голову в бочку.
— «Еще лучше подойдет для коляски бочка из-под керосина, — читала моя дорогая жена, — ибо в ней не заводятся клопы». Ну вот, теперь, судя по всему, придется подумать о потомстве.
Мы учли рекомендации «Счастливого домашнего очага», старательно следуя им до самого вечера, пока жена не проводила меня в столовую, предложив мне полсардельки и прозрачный ломтик хлеба примерно на 0,2 геллера.
— В «Полезных советах» пишут, что перед сном надо есть как можно меньше, а после еды желательно пробежаться, лучше всего — по горной тропе. Если же после скромного ужина нет возможности совершить восхождение, достаточно полазить вверх-вниз по стремянке.
Она потащила меня на кухню. Там упиралась в потолок добротно сработанная лестница.
— Я сделала ее сама по описанию в «Счастливом домашнем очаге»: приобрела на аукционе четыре старых шкафа и сбила их все вместе, — глаза ее лучились от счастья. — Есть у нас и гантели. Зря тратиться мне не хотелось — ведь настоящая хозяйка никогда не бросает денег на ветер и не покупает то, что может изготовить сама, поэтому я собственноручно отлила их из старинных оловянных кувшинов, доставшихся тебе по наследству от бабушки.
От всего увиденного и услышанного у меня свело желудок, и я поспешил в уборную, неожиданно поразившую меня своим великолепием. Рука жены прошлась по ней в соответствии с лозунгом «Укрась родной угол!», и теперь наш клозет был отделан со вкусом и любовью, мало того — поистине сказочно.
Заднюю стенку уборной целиком занимало следующее стихотворение:
Нет, это был не клозет, это был поистине родной очаг, идеальное прибежище счастливца, услаждающее взор и развивающее эстетический вкус.
Жена ворвалась за мной в этот храм искусства, украшенный персидским ковром из опустошенной гостиной.
— «Украсим свои клозеты!» — вот к чему призывал прошлый номер «Счастливого домашнего очага», — пояснила она, — ибо в клозете человек проводит одну шестнадцатую часть своей жизни. «Счастливый домашний очаг» даже подсчитал, что человек, доживший до 80 лет, пять из них фактически просиживает именно здесь, так разве можно обрекать его на пятилетнее прозябание в запущенной дыре, тем более что за этот срок его эстетический вкус вконец испортится! Клозет должен быть чистеньким, уютным уголком, от которого веяло бы истинным семейным теплом, чего и желает всем «Счастливый домашний очаг».
Стоит ли удивляться, что в этом прелестном гнездышке я просидел всю ночь.
4
Утреннее солнце застало меня именно здесь. Его лучи через оклеенное цветными бумажными квадратами бумаги оконце пестрой мозаикой проникали в этот идиллический уголок, словно в готический храм, и освещали дверь туалета, где висели «Десять заповедей счастливой супружеской жизни», опубликованные все тем же журналом.
Для меня начинался новый день, полный страданий и безысходного отчаяния.
Он пришелся на понедельник, и мне было впору безнадежно возопить, подобно несчастному разбойнику, повешенному именно в этот день: «Хорошенькое начало недели, нечего сказать!»
Именно так я и сделал, когда, покинув в седьмом часу свое прибежище, нашел на столе вместо завтрака здоровенный кусок льда, а жену свою — не менее энергичной, чем вчера. Перед ней, разумеется, лежал раскрытый номер «Счастливого домашнего очага».
— Отныне перед завтраком, на голодный желудок, — начала она, даже не пожелав мне доброго утра, — мы будем глотать куски льда, это единственное средство сохранить бодрое расположение духа в течение всего дня. Вот, читай!
На открытой странице я увидел статью «Почему эскимосские женщины никогда не плачут?».
— А потому, мой глупыш, что каждое утро они глотают по кусочку льда. Прочти статью, и ты поймешь, что жизнь эскимоски куда завиднее нашей. «Она знает, что выбрала в мужья самого обыкновенного мужчину, а не сверхчеловека, и после свадьбы даже мысли не допускает, что могла выйти замуж за более достойного. Из любви к мужчине эскимоска старается избежать досадных промахов, никогда не прибегает к слезам, убеждая доводами, и не допускает излишней уступчивости, которая и превращает мужчин в тиранов». Прекрасные слова! Если бы и у нас, в Чехии, женщины наконец поняли, что они имеют право работать наравне с мужчиной, который вмиг забудет, что такое помыкать ими. К несчастью, мы, страдалицы, все еще слишком податливы, женская судьба — жалкий удел раба; а все наша уступчивость! Но с сегодняшнего дня я ни на шаг не отступлюсь от своих убеждений, не позволю насиловать себя и ограничивать в чем бы то ни было.
Тут страдалица засунула мне в рот кусок льда, протолкнула его в горло, словно убойному гусю в зоб, да так, что я едва не подавился.
Затем она отправилась на кухню, вскоре вернувшись с разрезанной на ломтики сырой картошкой, посыпанной солью и растертым чесноком, и каким-то отваром в чайнике.
Налив в мою чашку подозрительной дымящейся жидкости, она объяснила:
— Сейчас ты будешь пить чай «Счастливого домашнего очага», за изобретение которого я в твое отсутствие получила первую премию — изящные кухонные весы, так что теперь их у нас двое. Чай произвел большой фурор, и его пьют все, кто хочет сэкономить на завтраке. Наверняка в любой семье на окошке стоит фуксия, так вот, чай состоит из сушеных листьев фуксии и самого обыкновенного сена, которого всегда можно отщипнуть на улице от проезжающего воза — не только на счастье, но и к завтраку. Для вкуса в чай добавляется немного тимьяна или лаврового листа, корица, гвоздика, а подслащивается он вместо сахара кормовой патокой. Это не только питательно, но и хорошо влияет на кровообращение. Вкус можно улучшить также листьями плюща или — что более желательно — магнолиевым цветом. Для подкраски кладется луковая шелуха, а для устранения дурного запаха изо рта — немного тмина. Страдающие бессонницей могут варить его с хвостиками от вишни. Это универсальный чай, не сомневаюсь, ты по достоинству оценишь его вкус.
Хорош вкус — будто тебя носом ткнули в навозную жижу!
— А при чем здесь сырая картошка? — спросил я, едва придя в чувство. — Уж не обложить ли мне ею живот на манер компрессов из хрена?
Она расхохоталась:
— Да что ты, глупыш! Это же нам на завтрак! В одном из прошлогодних номеров я читала, что именно этим начинают утренний рацион негры на острове Гаити.
— Чтоб жить было веселее?
— Да нет же, непонятливый ты до ужаса! Чтобы избежать лихорадки и вообще лучше переносить климат.
Чтобы и мне не страдать зря от переменчивости нашего климата, я, помнится, съел один ломтик, и меня обдало жаром, сменившимся таким страшным ознобом, что я начал стучать зубами и трястись, как выскочившая из ледяной проруби собака.
— Надо напоить тебя ликером «Счастливого домашнего очага», — сказала жена, попутно отметив, что у меня вид последнего идиота.
Прежде чем я пригубил его, она объяснила мне, что такой ликер каждая хорошая хозяйка может приготовить в домашних условиях. Надо взять золототысячник, немного поварить в черном кофе, отвар процедить через смесь листа лаванды и сушеных белых грибов. Кипятить около часу, добавив питьевой соды из расчета грамм на литр, а затем выжать туда сок восьми лимонов. Литр отвара развести литром рома, соль по вкусу…
Она наполнила рюмку, но стоило мне, зажмурясь, проглотить смесь, как я мгновенно почувствовал, что желудок мой готов подскочить до потолка. Оставить в беде столь верного друга было бы непростительной изменой, поэтому я сам подпрыгнул вместе с ним, намертво застряв в перегородке, отделявшей столовую от кухни.

Моя неистощимая в своей энергии жена и на этот раз не потеряла присутствия духа. Она перебежала на кухню, чтобы удобнее было со мной разговаривать, ибо голова моя и туловище торчали в кухне, в то время как задняя часть моей особы язвительно взирала на бутыль с ликером по рецепту «Счастливого домашнего очага» в столовой.
Жена изумила меня своей исключительной заботливостью, а, главное, хозяйственностью. Прежде всего она спросила, целы ли подтяжки. Не знаю, ответил я. Тогда на случай их порчи она пообещала изготовить мне новые из моей цветной жилетки или — еще лучше — просто из ковра, так будет надежнее.
Она долго листала «Домашнего всезнайку», пока не нашла статью «Перегородка». Оба мы безмерно обрадовались, узнав, что «ремонт перегородки по сетке Рабитца не требует больших расходов», однако ничего похожего на мой случай «Всезнайка» даже не упоминал, равно как и сам «Счастливый домашний очаг». Правда, внимание читателей обращалось на то, что не следует забивать большие гвозди в тонкие внутренние перегородки.
Прочтя это, жена набросилась на меня с гневными упреками. Однако моего положения это не меняло, и она наконец всерьез задумалась, как бы меня вызволить, заявив, что при всем понимании явных преимуществ совместной жизни она не представляет ее себе, если я так и буду торчать в стене, вместо того чтобы находиться рядом с законной супругой. Она хочет, чтобы дни ее наполнены были радостью и счастьем, свет которых и мне послужит маяком во мраке житейских невзгод.
И ни с того, ни с сего, она начала цитировать:
— Четко осознай права и обязанности по отношению к семье, самому себе и окружающим. Живи, руководствуясь лучшими своими убеждениями. Тщательно подготовься к материнству (сердце у меня так и екнуло. Только этого мне не хватало!), заботясь не только о личной гигиене, но и о глубоком постижении истин нравственных. Счастье твоей жизни — в детях, и посему воспитывай их так, чтобы они были лучше, образованнее и счастливей тебя.
После чего она заявила, что одевается и идет к владельцу дома, — не согласится ли он продать его моему тестю, тогда можно было бы уговорить отца снести дом и тем самым освободить меня. Тут же в голове у нее родился другой план — добиться в полиции разрешения на покупку динамита, чтобы взорвать стену. В общем, одна идея была оригинальней другой. В итоге она провозгласила, что отправляется за советом непосредственно в редакцию «Счастливого домашнего очага».
Она оделась и ушла. Настали тягостные минуты, которые становились все более мучительными, по мере того как ее минутное отсутствие оборачивалось часами. К счастью, в моем животе начал делать свое дело премированный чай «Счастливого домашнего очага», ломтик сырого картофеля с чесноком, а может, даже и ликер. Собственно, и писать-то об этом неудобно, но радость моя была столь безмерной, что не сделать этого я не могу. Извиняет меня только то, что, находясь в квартире в полном одиночестве, я, таким образом, не погрешил против правил хорошего тона, поэтому, даже если мое поведение было не вполне пристойным, мне это было простительно, ибо позволило выйти из дурацкого положения. Трудно поверить, что иногда непродолжительной, но интенсивной детонации достаточно, чтобы рухнула целая стена. В общем, приличного в этом было мало, но после небольшого взрыва — не более мощного, чем выстрел из мортиры малого калибра, — стена, дав трещину под потолком, рухнула, увлекая меня за собой. Дождавшись освобождения, я побежал в столовую открывать окно и, выглянув на улицу, увидал свою дорогую жену, которая, заметив меня, скорчила кислую мину.
Поднявшись наверх, она упрекнула меня, что с моей стороны это просто нечестно, в то время как она добилась от редакции «Счастливого домашнего очага» проведения читательской анкеты на тему «Как извлечь застрявшие предметы из перегородки по сетке Рабитца». Впрочем, сотрудники журнала сами убедили ее, что случай заслуживает внимания и результаты опроса обещают быть очень интересными. Правда, она скрыла от них, что в стене заклинило именно меня, солгав, будто ее случайно протаранила приехавшая погостить свекровь. На что тут же получила совет всеми силами беречь мир в семье, живя согласно с родственниками мужа, в особенности же велено было любить и уважать мать мужа, которая окружала его любовью и занималась его воспитанием раньше, чем она сама. И раз уж свекровь, проломив стену, застряла в ней, ее нужно с величайшей осторожностью извлечь оттуда с помощью пожарных.
Жена объяснила, что не могла сказать всей правды, так как в редакции могли подумать, будто это — моя пьяная выходка.
Она села за стол и принялась сетовать на свою горькую судьбу, пославшую ей мужа-пьяницу, который бросается на стенки. Нет, в здравом уме я бы такого не сделал, безумец, псих ненормальный. Надо было еще до свадьбы приглядеться получше и как следует изучить мой характер, ибо душу следует любить прежде внешности. Нужно было еще тогда спросить свою совесть, любим ли я настолько, чтобы пройти со мной через все невзгоды жизни, и только теперь она поняла, что должна была вовремя расстаться со мной, потому что я оказался настоящим мерзавцем и негодяем. Она чувствует, что потеряла ко мне всякое уважение, ибо я просто смешон. А у любви без уваженья короткий век, теперь она убедилась в этом, глядя на меня, жалкого комедианта, по своему дурацкому капризу высовывающему голову на кухню, а ноги — в столовую. Рассмеявшись было, она возобновила нападки. Нет, решительно нельзя было вступать в брак, лелея лишь светлые мечты об идеале, ибо ныне она переживает горькое разочарование. Если бы этот негодяй (то есть я) хоть прощенья попросил! Так нет же, торчит тут перед ней, как пень, «пень» — это мягко сказано. Как бревно! Она так надеялась, что мы будем счастливы, что чудотворный дух «Счастливого домашнего очага» не даст ослабнуть трепетным объятьям. «Счастливый домашний очаг» многим помог заложить прочные основы здоровой семьи, выбрать верную стезю на запутанных житейских перекрестках, но к таким недотепам, как я, это, видно, не относится. К советам и помощи «Счастливого домашнего очага» прислушиваются лишь разумные мужья. Она-то надеялась, что журнал станет моим другом и советчиком, утешителем и собеседником в минуты досуга, а я стою тут как последний болван. Разве не слышал я, что, благодаря ее стараниям, «Счастливый домашний очаг» решил провести среди читателей анкету на тему «Как извлечь застрявшие предметы из перегородки по сетке Рабитца»? Почему же я не хватаюсь за перо и не пишу, каким образом я выбрался из стены, чтобы тысячи и тысячи подписчиков знали на будущее, что следует предпринять в подобных случаях!
Пришлось за подписью тщеславной жены направить в «Счастливый домашний очаг» то самое подробное описание происшедшего, которого, я думаю, так не хватало редакции для полного счастья.
5
После всего пережитого я несколько видоизменил родившийся в Турции замысел отравления всех сотрудниц «Счастливого домашнего очага» с помощью ядовитых пилюль. Первоначально я действительно намеревался послать им таковые с припиской: дескать, изобрел ароматические пилюли, прошу редакцию проверить эффект на себе, готов выслать бесплатно по коробочке каждой подписчице, дабы разрекламировать изобретение. Несмотря на то, что такой способ отправки врагов на тот свет представлялся мне чрезвычайно продуктивным, он был лишен того главного, что доставляет несказанное удовольствие каждому порядочному человеку, одержимому жаждой мести.
Не знаю, все ли вы достаточно хорошо представляете себе, какое это наслаждение — стрелять по врагу. Впрочем, вряд ли вы когда-либо подвергались столь назойливым преследованиям, я же при одной только мысли о том, как перестреляю там всех подряд, испытывал священный трепет и неописуемое блаженство. Именно поэтому верх взяла идея расправиться с редакцией с помощью огнестрельного оружия.
На завтрак меня потчевали премированной кашей «Счастливого домашнего очага» из пареных ржаных отрубей, и этого оказалось достаточно, чтобы задаться вопросом: а не отравить ли патроны?
Лелея свой благородный замысел, я вышел из дому и купил себе обыкновенный револьвер, а к нему сто штук патронов. Хотелось превратить этих умников не иначе как в решето.
Дом, где должно было произойти массовое убийство, я нашел быстро и возликовал, узнав, что главная редакторша находится у себя. Говорю возликовал, хотя на самом деле в экстаз я впал еще в тот момент, когда ощутил револьвер в своем кармане. Если все убийцы веселятся, как я, что за радость жить на белом свете!
Помню, направляясь в редакцию, я всю дорогу что-то беспечно насвистывал и на полпути забрел в таверну «У младенца Христа» на паприкаш и бокальчик пльзеньского. Мне даже в голову не приходило, что всю оставшуюся жизнь, вероятно, придется довольствоваться похлебкой в какой-нибудь из тюрем. Я был твердо уверен, что суд присяжных оправдает меня, если среди них найдется хоть один, чья жена выписывает «Счастливый домашний очаг». Он-то, без сомнения, подтвердит своим коллегам достоверность моего горького свидетельства.
Помню и то, что день был хороший, ясный, веселый, будто специально созданный для того, чтобы с легким сердцем совершать убийства. По дороге мне встретился воз сена — верная примета, что ничто не помешает мне перестрелять их всех подчистую.
Я просил доложить редакторше о своем приходе и с доброжелательной улыбкой на лице вошел в кабинет. Та, что намечалась мною в качестве первой жертвы, оказалась пожилой, солидной дамой. Ее благообразная внешность даже натолкнула меня на мысль, что изготовление детской коляски из керосиновой бочки — именно ее идея.
Редакторша приняла меня так степенно, словно лично произвела на свет божий всех когда-либо увидевших его гениев рода человеческого.
Голосом она напоминала вошедшего в раж проповедника, страстно клеймящего разврат.
Я объяснил, что являюсь мужем Аделы Томсовой. Встав, она торжественно протянула мне руку и, горячо пожав мою, обрушила на меня целую речь:
— Вы, несомненно, один из счастливейших мужей, ибо супруга ваша, наша Адела, или, как мы ее называем, Вера Подградешинская-Баштова-Крумгольцова — (вам, конечно, известно, что она сама выбрала себе этот прекрасный псевдоним), — одна из наиболее преданных нам читательниц. В каждом номере она делится с другими подписчицами «Счастливого домашнего очага» массой советов, касающихся, главным образом, приготовления пищи и тонкостей семейной жизни; кроме того, она основала фонд помощи обедневшим читательницам нашего журнала, и, как вы, наверное, знаете, в ближайшие дни в их пользу пойдет с молотка ваша столовая. Она делает все для блага «Счастливого домашнего очага», мы же, в свою очередь, помогаем ей своими рекомендациями ориентироваться в сложные минуты жизни, которая неумолимо настигает нас своей карающей десницей.
«Подожду пока пулять, — подумал я, — пусть договорит».
— Садитесь, счастливый супруг, — предложила она, и я ближе придвинул стул, чтобы точно попасть в ее отвратительный незакрывающийся рот.
— Вы, конечно же, очень счастливы в браке, ведь она каждый раз, приходя к нам, рассказывает, как постепенно, руководствуясь указаниями «Счастливого домашнего очага», она вьет прелестное, уютное гнездышко, убранное ее собственными руками. О, эти золотые ручки! И вся она такая милая, интеллигентная — а все потому, что поняла: она должна быть для своего мужа чуткой, неутомимой подругой жизни, веселой и жизнерадостной, вы же — по ее утверждению и моему собственному впечатлению — стремитесь сравняться с ней своей образованностью, в свободную минуту деля с ней домашние заботы и досуг. Нигде более, как в семейной жизни не видите вы прочной основы своего душевного покоя. Дружеские вечеринки, театры, концерты и прочие развлечения, — пусть все это лишь время от времени освежает вашу душу, не касаясь ее сути. О душе вообще не следует забывать, так же как и о своей внешности. Следуйте же не лозунгу «Для женщины все сойдет!», но правилу: все лучшее — женщине, окружившей вас такой заботой! Скрывайте от нее свое дурное настроение и помните, что жена ваша не любит краснобайства. Оставайтесь верны ей всю жизнь, стремясь к тому, чтобы она видела в вас своего лучшего друга.
— Больше вы ничего не хотели мне сказать, милостивая сударыня? — спросил я, сжимая в кармане револьвер.
— О, сердце подсказывает мне еще многое. Вы счастливый супруг и сами можете внести лепту в наше общее дело — пропагандируйте «Счастливый домашний очаг» всегда и везде, в каком бы окружении вы ни оказались, помните, что он принес вам счастье и глубокое удовлетворение, которое написано на вашем лице. Займите место в первых рядах борцов за честь нашего журнала, требуйте в кафе и ресторанах только «Счастливый домашний очаг», чтобы свет счастья, сполна вкушаемого вами, пролился в душу каждого чеха.
Я вынул из кармана револьвер:
— Милостивая сударыня, как вы видите, это — револьвер.
Одному богу известно, каким образом она выхватила его у меня из рук так, словно я предлагал ей наличными оплатить годовую подписку:
— Ах, это и есть тот самый ценный предмет, который ваша милая супруга обещала прислать нам в качестве второй премии конкурса «Обед для семьи из 5 человек за 16 геллеров»?
Спрятав оружие в ящик стола и закрыв его на ключ, она повела меня в соседнюю комнату, чтобы представить редакторшам.
Что они со мной делали — не помню, знаю одно: трижды я падал в обморок, пока они учили меня правильно завязывать галстук и рекомендовали мне собственноручно сшить их себе побольше из старых нижних юбок, так как это, по их словам, непременно приносило счастье. Дурнота моя явилась также следствием того, что они щедро поделились со мной маленькими хитростями, подготовленными к публикации в качестве приятных сюрпризов для своих читательниц.
Так, например, из стружек можно приготовить очень питательный кислый напиток, который, будучи прокипяченным со сметаной, отлично излечивает от насморка и оспы, но годен для питья и независимо от наличия этих болезней.
Из остатков промокашки, тщательно пережеванной в густую массу, выйдут роскошные запонки.
Зайца следует законсервировать в денатурате и держать его там годами, используя по частям как средство для разведения огня. Засушенные майские жуки, толченые или размолотые в порошок, служат вкуснейшей приправой к высококалорийной каше, одинаково полезной детям и взрослым; если этот же порошок смешать с небольшим количеством пепла, получится незаменимое средство для чистки ножей и вилок.
В довершение они сфотографировали меня рядом с самоваркой «Нурзо».
— Дадим в следующий номер, — пообещали мне сотрудницы журнала, — с подписью «Счастливый домашний очаг» и «Нурзо» принесли мне покой и счастье». Наконец меня и в самом деле оставили в покое, и я помню только, что в ушах у меня долго звенело: покупки — хозяйство — кухня — домашняя мастерская — рождество — уютная квартира — дом своими руками — твой сад — для наших малышей — маленькие хитрости наших читателей.
В кармане вместо револьвера я обнаружил булавку, какой зашпиливают юбки, с надписью «Счастливый домашний очаг» и наперсток с гравировкой: «В счастливом домашнем очаге счастлив даже наперсток».
Вот такие дела. Никого я не убил, зато голова моя стала белой как снег.
Глубокая меланхолия овладела мною, и вместо молодого, полного сил мужчины порог дома переступил постаревший, морально и физически раздавленный человек.
6
В первые два дня после визита в редакцию «Счастливого домашнего очага» мною овладело полнейшее безразличие ко всему вокруг. Часто я ловил себя на том, что совершенно машинально надеваю на палец наперсток и, глядя куда-то в пустоту, стучу им себя по лбу часа эдак по три.
На третий день, попросив жену переделать мое черное пальто в практичный чехол для буфета, я покинул свой дом.
В голове моей теснились диковинные мысли, меня прямо-таки подмывало поделиться ими с кем-нибудь, хоть с прохожими.
Не в силах держать все это в себе, я спустился вниз, к Вацлавской площади, и, не выдержав, обратился к даме, разглядывавшей искусственные цветы за витриной:
— Сударыня, возьмите доску и четыре ящика из-под сигар, сбейте все вместе — и у вас будет чудная кушетка.
Попрощавшись с дамой, я пошел дальше. В самом начале Овоцной улицы я остановил встречного господина:
— Вы не прогадаете, если займетесь изготовлением спичек в домашних условиях. Надо нащепать тонких деревянных палочек из небольшого ящика, купить серу, расплавить ее и сначала окунуть их в серу, а когда они обсохнут, точно так же в фосфор. Фосфор вам продадут в любой москательной лавке по разрешению на приобретение ядов для травли крыс и мышей. Будьте здоровы!
Я повернулся и продолжил свой путь. Кучка любопытных, следовавших за мной по пятам, заметно увеличилась, когда я дошел до Гавиржской улицы, особенно после того как я обратился к ним со словами:
— Хотите быть счастливыми? Не выбрасывайте потроха и перья каплунов, на них вы хорошо сэкономите. Жареные потроха разотрите в паштет, не забудьте купить к нему трюфелей. На сэкономленные деньги можно приобрести зонтик, из которого выйдет несколько недорогих и элегантных галстуков. Из спиц сделайте плетеные вазочки для печенья. Перья каплуна привяжите к оставшейся от зонтика ручке — у вас получится удобная махалочка для обметания пыли. И вы будете счастливы. Мое почтение!
Толпа росла, хвостом растянувшись за мной до самой Староместской площади, где меня остановил полицейский.
— Родной вы мой, — обратился я и к нему, — выдирайте каждый год из своего султана по три-четыре пера, и через пять лет у вашей супруги будет чем украсить зимнюю шляпку. Из сабли выйдет отличная шинковка для капусты, из кобуры — элегантный портсигар.
— Я непременно воспользуюсь вашими советами, специально отпуск возьму, а пока пройдемте со мной!
В полицейском участке меня буквально распирало от полезных советов.
— Пан комиссар, торопитесь приобрести «Счастливый домашний очаг», чтобы превратить полицейский участок в уютное гнездышко. Полицейские могут сколачивать нары своими руками. Наломайте дров из ваших письменных столов, и вы убедитесь — это проще простого. Заключенным выдайте фанеру и лобзики — пусть выпиливают женам к рождеству сахарницы. Украсьте свои клозеты, увейте их гирляндами, и вы увидите, что радость не покинет вас, и теплом домашнего уюта пахнёт даже в самом захудалом полицейском участке!
Полицейский врач велел послать за женой, определив у меня приступ глубокой меланхолии.
Жена явилась с пачкой писем, так как только что была включена в комиссию по проведению анкеты «Как извлечь застрявший предмет из перегородки по сетке Рабитца».
— Ничего опасного, милостивая сударыня, — успокоил ёе лекарь, — супруг ваш быстро оправится, особенно если на некоторое время вы поместите его в соответствующее учреждение. Он страдает глубокой меланхолией, оставаясь при этом умственно полноценным: понимает, что солнце всходит и заходит, что существуют четыре страны света, а мы находимся в Центральной Европе.
Меня сдали на руки жене и отпустили домой.
Не возражал я и против лечебницы, чувствуя, что домашняя атмосфера действует на меня, мягко выражаясь, странно.
Однако временно я был привлечен супругой к разборке писем с ответами на вопрос анкеты. Первое — предлиннющее — содержало «Десять заповедей «Счастливого домашнего очага» относительно предметов, застрявших в перегородках:
1. Не приемли квартир с тонкими стенами!
2. Помни: особой тонкостью отличаются перегородки по сетке Рабитца.
3. Блюди, чтобы к тонкой стене не приколачивали ни зеркал, ни картин.
4. Да не забьешь ты в стену ни гвоздя, ни крюка!
5. Не вытаскивай из стен забиенных тобой гвоздей!
6. Аще вытаскиваешь, то клещами.
7. Умри, но не касайся стены!
8. Не пожелай квартиры с тонкими стенами ближнему своему.
9. Не пререкайся с женой, если по ту сторону живут чужие люди.
10. Помни: слишком длинными гвоздями ты можешь прибить к стене своего соседа!»
В приступе бешенства я разбил печку.
Кончилось тем, что меня доставили в клинику д-ра Шимсы в Крчи, где я, не умолкая, исступленно ревел:
— Да все, все прибейте к стене! Все, говорят вам!
В лечебнице я сразу приметил двух пациентов, судьба которых в точности походила на мою. Первому из них крупно не повезло: он жил с сестрой, читавшей «Счастливый домашний очаг», у второго жена была прямо больна все той же неизлечимой болезнью — стремлением свить теплое, уютное гнездышко в соответствии с наставлениями журнала.
Свободного времени для наблюдения за товарищами по несчастью у меня было предостаточно. Они избегали других пациентов, все время перешептывались между собой и, улучив момент, когда, как им казалось, на них никто не смотрит, садились на корточки под деревом в укромном уголке сада и принимались рассказывать друг другу:
— Берешь шесть десятков яиц, немного муки, размешиваешь, намазываешь на кусочки хлеба, запекаешь и теплыми подаешь на стол!
— Ощипываешь курицу, разрубаешь, чтоб смахивало на объедки, добавляешь перец, уксус, желатин, и варишь студень!
Потом, взявшись за руки, они подпрыгивали на корточках, приговаривая:
— Ай да хозяйки! Ай-люли, хозяюшки!
Однажды я присоединился к их компании, и с тех пор мы сидели на корточках уже втроем, обмениваясь опытом, что еще можно сделать на благо семьи. В частности, очень практична в употреблении и оригинальна картинная рама из сушеных слив, наклеенных на деревянную основу и густо позолоченных.
Позже все это оказалось на страницах «Счастливого домашнего очага», ибо нас тайком подслушивала племянница д-ра Шимсы, записывала и отправляла наши рецепты и ценные советы в журнал, тут же публиковавший эту галиматью.
Мои новые друзья были неизлечимые душевнобольные, и я, вероятнее всего, тоже навсегда задержался бы в заведении д-ра Шимсы, если б не одно событие, так подействовавшее на мое состояние, что я вмиг излечился.
Жену свою я не видел вот уже полтора года, тем не менее доктор вдруг сообщил мне, что со вчерашнего дня я — счастливый отец.
Я было обрадовался, а потом принялся считать сроки — сами понимаете, для человека слабого рассудка это задача не из легких. Прошла целая неделя, прежде чем я вычислил, что ребенок не мой.
Тут ко мне неожиданно вернулся здравый разум.
7
Если вы ни с того ни с сего, не приложив даже положенного минимума усилий, становитесь отцом, факт этот поражает уже сам по себе. Но что на первый взгляд кажется тайным, быстро становится явным, если, конечно, вы не уподобитесь тому простодушному словаку, который, прожив десять лет в Америке, до самой смерти так и нё мог взять в толк, как это в его отсутствие жена народила ему восьмерых детей.
Благодарить бога было не за что, и я задумался, кому я обязан этим сюрпризом. Мысли мои потекли по иному руслу, и через неделю я был выписан из клиники совершенно здоровым.
Придя домой, я нашел жену спящей, а рядом с ней — своего неродного сына, если вы, конечно, позволите мне называть так этого щекастого младенца с лишенным всякого выражения лицом.
Вложив ему в ручку справку о выписке, я удалился в будуар своей супруги в надежде найти следы соперника, явно не на шутку увлекшего мою жену. Вся мебель была сколочена из досок и ящиков — новый стиль будуара был настолько устрашающим, что, разглядев подробнее отдельные изделия — плоды ее неутомимого усердия, я задрожал, словно осина, волосы у меня на голове зашевелились, и с чувством необъяснимой тоски и страха я уселся на странный стул, составленный из старых алюминиевых кастрюль. Бедняжка жена явно считала, что счастье тем полнее, чем больше выдвижных ящиков будет во всех видах мебели. Пересчитав ящики и полочки, я установил, что 150 штук вмонтировано только в письменный стол, собранный, судя по его виду, из дюжины ломберных и одного умывальника.
Это существенно осложняло мой поиск, и я повсюду натыкался на всевозможные рецепты и полезные советы, пока мне не попалась папка с надписью «Дело моего мужа». В ней были собраны вырезки из «Счастливого домашнего очага» с ответами на письма и вопросы моей жены. Первый гласил: «Пани Адела Томсова! Судя по Вашему письму, болезнь Вашего супруга носит временный характер. Надеемся, запас душевной бодрости позволит Вам избежать страданий, Вы еще так молоды, вся жизнь у Вас впереди, и стоит ли огорчаться, что кто-то отнесся к Вам без должного понимания. Впрочем, это даже к лучшему, что муж Ваш лишился разума сейчас, а не после многих лет счастливого супружества. Когда к Вам вернется душевное равновесие, напишите нам еще. Ваши милые и в то же время мудрые письма заставляют надеяться, что Вы прислушаетесь к нашему голосу и не будете вешать головку».
Прочел я и второй ответ: «Пани Адела Томсова! Рекомендуем Вам со всей тщательностью подготовиться к той высокой миссии, которая предназначена женщине свыше. Задумайтесь всерьез над тем, что однажды Вы станете матерью, — а это Ваша святая обязанность! — и все грустные мысли об одиночестве в разлуке с супругом покинут Вас. (Я утер слезу. Выходит, она любила меня!) Утешайте себя надеждой, что и Вам суждено пополнить стройные ряды матерей и отдать все силы делу воспитания ребенка — будущего достойного члена чешского общества!»
Третий ответ звучал так: «Пани Адела Томсова! К чему бесконечно роптать на судьбу? Разве не достаточно уже того, что Вы встретили доброго наставника в лице «Счастливого домашнего очага»! Вот Вы пишете, что Вас начинает одолевать меланхолия. Молодую интересную замужнюю женщину избавит от этого недуга материнство — только оно даст ей счастье, столь желаемое вам всем нашим журналом. Прижимая к себе дитя, Вы будете листать «Счастливый домашний очаг», и в Вашей душе пышным цветом расцветет материнская любовь. Да, спасение — в материнстве, и да будет это Вашим девизом!»
Я все понял. «Счастливый домашний очаг» советовал ей стать матерью, и она, как послушная читательница, вняла этому совету.
Узнать бы теперь, кто был моим заместителем.
И наконец, в четвертом я прочел: «Пани Адела Томсова! По Вашей просьбе посылаем Вам нашего агента-распространителя».
Так сказать, по знакомству! Какие там любовники! О моя добродетельная жена! Как последовательна ты во всем. Нет, не возлюбленный — это был всего лишь агент-распространитель!
Прослезившись от счастья, я решил заглянуть к ней в комнату. Она кормила грудью отпрыска «Счастливого домашнего очага» и, увидев меня, — сама невинность! — воскликнула:
— Мой дорогой, ты только взгляни, какой крепыш! Ему всего несколько дней, а взгляд уже такой умный!
Я этого не нашел: мне казалось, у существа, завернутого в одеяльце, совершенно идиотское выражение лица.
Сидевшая у постели повивальная бабка поддакнула:
— Весь в вас, ваша милость, взглядом — и то в папашу пошел.
Не исключено, что в этот момент некоторая тупость была написана на моем лице.
Вмешалась жена:
— Ты что думаешь, я и о ребенке нашем не забыла. Мне ответили на все вопросы, вот, читай!
Она протянула мне целый ворох вырезок.
«А. Т. из П. Вы спрашиваете, как одевать маленького мальчика. Вашему сыну, несомненно, будет к лицу костюмчик, состоящий из блузы, воротник которой Вы можете отделать по своему усмотрению, и панталон — до колен и ниже. Пойдет ему практичный комплект спортивного типа из прочной узорчатой шерсти, незаменимый, кроме того, для школы. Сверху накидывается плащ-пелерина с капюшоном, по возможности из гладкой синей ткани».
Когда я пробежал это глазами, она сказала:
— Видишь, как я забочусь о нашем крошке? Да ты читай!
«Пани А. Т. из П. Образования зубного камня у детей можно избежать тщательной чисткой зубов и полости рта. Лучшее, что вы можете сделать, — обратиться к зубному врачу».
— Но у него еще нет зубов!
— Разве? Покажи, я как-то не обратила внимания.
Она расплакалась.
— Что с тобой, душенька?
— Сейчас ты прочтешь самое ужасное письмо. На!
«Пани А. Т. из П. Вы пишете, что Ваш ребенок не разговаривает и объясняется жестами, яростно дрыгая при этом ногами. Это можно объяснить целым рядом причин, возможно, Ваш ребенок глухонемой от рождения или страдает параличом органов речи, однако подобные явления могут вызываться также падучей. Без колебаний покажите ребенка врачу, лучше всего хорошему специалисту, который посоветует Вам, не пора ли сдать его в интернат для глухонемых. Дело серьезное и отлагательств не терпит».
— Но ведь он же орет, — успокаивал я жену.
— И без тебя слышу, — всхлипнула она, — но глухонемые тоже орут.
С того дня на меня периодически находят приступы судорожного смеха.
8
Мы дали ребенку имя Феликс, что в переводе на чешский значит «счастливый». Святой Феликс был известный мученик, хотя не знаю наверняка, получала ли его жена «Счастливый домашний очаг».
За три дня до крестин супруга послала меня в редакцию спросить, как это полагается делать, и не получены ли какие рекомендации от читательниц журнала, ибо именно она готова опробовать их первой. Жена не ошибалась: в редакции оказалось сорок семь подшитых к делу бумаг, посвященных именно этой теме, причем большинство авторов мыслило достаточно прогрессивно. Молодым матерям давались советы, что следует надеть на крестины, кого нужно пригласить, как организовать угощенье. Некоторые особенно экономные хозяйки считали, что можно обойтись без лишней роскоши. Так, по их мнению, в марте к столу надо подавать только гуся или зайца. Другие писали, что, если Крестины происходят зимой, на язык новорожденному вместо поваренной соли нужно положить нашатырь, предохраняющий от простуды.
Все сорок семь советов были вручены мне редакцией в придачу с огромной книгой картинок под названием «Счастливый домашний очаг» — своим маленьким читателям». Книга предназначалась для рассматривания моему неродному сыну, трехнедельному Феликсу. Из редакции я вышел в добром расположении духа, ибо главная редакторша отметила, что я больше не страдаю явным слабоумием. Чтобы как-то отблагодарить ее, я подарил редакции рецепт изготовления кельнского эрзац-цикория из каленой чечевицы и жженых хлебных корок.
Едва я вошел в дом, как жена в нетерпении набросилась на принесенные мной письма, выискивая в первую очередь сведения о том, что можно есть трехнедельному Феликсу. Наконец она извлекла письмо, гласившее: «Многоуважаемая редакция! Вот уже сорок лет я работаю учительницей в начальной городской школе в П. Я давно мечтала иметь детей, увы, судьба распорядилась иначе, наставив меня на путь учительства, вынудивший меня принять обет безбрачия. Я давно пишу на темы воспитания новорожденных, вплотную сталкиваясь с семьями, изобилующими этими очаровательными созданиями. Мне известно, сколь тяжело переживает мать недостаток молока, поэтому уважаемая редакция, конечно, простит мне, если я без ложного стеснения подниму данный вопрос и позволю себе предложить нашей досточтимой редакции ввести новую рубрику «Счастливый домашний очаг» — новорожденным». Итак, видя печальную участь малюток, я пришла к выводу, что материнское молоко можно с успехом заменить калеными желудями. Недавно мне пришлось наблюдать отнятого от матери подсвинка, который тут же с аппетитом принялся за предложенные ему желуди. Я проверила их действие на себе, выпив на ночь четыре чашки густого, крепкого отвара. Почувствовав утром необычайную бодрость, я пришла к выводу, что они не вредны и человеку, а разбавленный отвар из молотых каленых желудей окажет благотворное влияние на формирование костной ткани младенцев, ибо желуди, как известно, содержат танин — отличное средство против изнурительного недуга, известного под названием diarrhe[41]. Если ребенка кормить желудевым отваром, матерям не придется целыми днями стирать пеленки, они смогут уделять больше времени чтению книг и размышлению над социально важными вопросами. Прошу опубликовать мое предложение в ближайшем номере «Счастливого домашнего очага», будучи убеждена, что отныне проблема мокрых пеленок для чешского народа будет решена. Каролина Гус. Пост скриптум: желательно на 50 литров воды взять полкило каленых желудей».
Когда мы с женой прочли это письмо, она приказала мне выдать нашей новой служанке деньги на два килограмма каленых желудей и приглядеть бочку литров на двести.
С пристальным вниманием мы ознакомились с одним из советов, в чем следует купать новорожденных. Своими знаниями делился таможенный чиновник, очевидно, под давлением жены, постоянной подписчицы «Счастливого домашнего очага». Вначале он рассказывал о себе, отмечая, что прекрасно сохранился в свои шестьдесят лет, оставаясь бездетным, но, тем не менее, имеет большой опыт купания новорожденных; По его мнению, теплой воды для этого недостаточно, и детей надо окунать в отвары целебных трав, обильно произрастающих на Шумаве, в Крконошах и Татрах. Такие малыши гораздо быстрее развиваются и умственно и физически: уже на втором году жизни они начинают ходить, способны отличать мать от отца и т. п. Если кто-либо из подписчиц заинтересуется его предложением, он готов выслать сбор трав — 4,50 крон за полкило. Свое письмо он заканчивал призывом пропагандировать курение липового цвета — верного средства от бешенства, по 50 геллеров за пачку.
Я вынужден был попросить отправить нам по почте четыре пачки трав для купания и две липового цвета — как-никак консьержка держит щенка. Понравился нам и другой совет: на крестинах заботливая мать должна решить, кем будет ее чадо. Жена рассказывала, что перед самыми родами заходила в редакцию «Счастливого домашнего очага» и там ее убеждали учить ребенка сразу на композитора. Учтя и то и другое, она потребовала срочно купить к дню крестин пианино, но прежде мне следовало посоветоваться в редакции, не смогу ли я сам изготовить столь важный для воспитания нашего сына инструмент, так как в подвале у нас есть подходящий ящик с отличным резонансом: стоит пнуть его ногой — звучит вся гамма. А еще жена наказала мне купить в каком-нибудь из трактиров треснувшие бильярдные шары, так как на белые клавиши потребуются пластинки из слоновой кости, а на черные пойдут кусочки эбена от нашей столовой мебели. Она была так счастлива, что умиротворенно уснула и проспала два часа, пока я сидел в подвале и тупо разглядывал ящик, оказавшийся корпусом от пианино. Наконец я поднялся и спросил у проснувшейся жены, как попали туда эти жалкие остатки инструмента, которого, насколько мне помнится, у нас никогда не было.
Вместо ответа она отправила меня на кухню за подносом для печенья.
— Нравится? — спросила она с триумфальным видом.
— Очень.
— Как я рада! Ах, как я рада! А знаешь ли ты, что он сделан из пианино? Прелесть все-таки наш «Счастливый домашний очаг»! Именно там я прочла, что из верхней крышки старой фисгармонии, безнадежно разбитой при перевозке, можно изготовить дивный поднос — печенье удивительно эффектно отражается на черном лаке! Я хотела купить в рассрочку старую фисгармонию, но ничего подходящего не нашлось, и я за полцены приобрела старое пианино. По моей просьбе его переделали в фисгармонию, а грузчиков я попросила не слишком церемониться при перевозке и скинуть ее разок на мостовую, что они и сделали за соответствующую плату. Верхняя крышка отлетела так удачно, что уже через две недели мой поднос был готов и на выставке поделок, устроенной «Счастливым домашним очагом», получил первую премию — подшивку журнала «Либуше» за восемь лет.
Я поразился неуемной энергии этой женщины, она же добавила:
— Мы вырастим нашего Феликса достойным человеком, правда же?
Она снова сказала «нашего», хотя этого слова я всячески избегал в разговорах. И она еще считала меня сумасшедшим! Так вот, я ей показал, где ваши, где наши, я ее сам отправил в сумасшедший дом — ах, с каким же несказанным удовольствием я это сделал!
9
Почему я на это решился, объяснить очень просто. Больше месяца она пролежала в постели, размышляя только об одном — как воспитывать ребенка. В итоге она таки решила сделать для Феликса коляску из керосиновой бочки.
Она приобрела бочку керосина, но, будучи хорошей хозяйкой, не стала выливать содержимое, а купила еще и керосинку, на которой мы с тех пор и готовили. Выходило, правда, дороже, чем на угле, но жена экономила на еде, заявив в конце концов, что пора проводить месяц экономии или, как называет его журнал, «месяц воздержания». При этом она была счастлива, когда ей удавалось выудить из моего кармана пару крон, которые она откладывала на кампанию в защиту женских прав. Она предупредила, что намерена решительно следовать примеру датских женщин, обходящихся без прислуги. Узнав из журнала, что союз датских женщин в качестве главного принципа экономии выдвигает лозунг «Ешьте как можно чаще у друзей!», она таскала меня по моим и своим друзьям, каждый раз подгадывая так, что мы являлись точно к обеду. Для меня это была сущая мука, вы только представьте себе этот срам: мало того, что хозяйка была вынуждена делиться с нами обедом, который мы мигом заглатывали, так супруга моя еще и выклянчивала у нее мелочь на трамвай! Возвращались мы, разумеется, пешком, а деньги — это нищенское подаяние — она переводила в редакцию «Счастливого домашнего очага».
Так прошел месяц, пока у одних знакомых она не стянула отбивную из кладовки и не оказалась пойманной с поличным. Тут она поневоле призналась, что дальше так продолжаться не может, готовить надо все-таки дома, чтобы полностью использовать керосин. В день рождения моей матери жена, вдохновленная, тем, что может сделать подарок не тратясь, послала свекрови пятьдесят литров керосина в большом бидоне, сопроводив его письмом, в котором выражала благодарность за мое воспитание, подчеркивая роль родителей в семье: родители — это как бы верхняя палата парламента, а дети остаются палатой депутатов.
Мать ответила мне в доверительном письме, что нелишне было бы показать жену психиатру.
Наконец произошло следующее. Она отправила маленького Феликса своей подруге на свадьбу в качестве подарка. Я был в полном неведении на этот счет, оформляя в это время договор о продаже нашего дома, а, вернувшись, не заметил, что больше не слышно агуканья Феликса. Жена поделилась со мной ловким решеньем керосинной проблемы: керосина хватит еще минимум на год, поэтому коляски для Феликса никак не получается, а приобретать ее в магазине — увольте, это слишком большие расходы, мы и так скоро по миру пойдем. Во избежание разорения она купила большую подарочную коробку, проделала в ней отверстия и, положив туда Феликса, отправила с сыном нашей консьержки на квартиру молодоженов Крамских — свадьба у них была как раз сегодня. Ольга, невеста, была ее самой преданной подружкой и в свое время подарила нам на свадьбу серебряное трюмо. Пришла пора отплатить ей столь же ценным подарком, и Феликс показался жене предметом, вполне подходящим для этой цели.
Схватив шляпу, я помчался к Крамским, успев лишь к развязке. Молодые, вернувшись из костела, разворачивали подарки и как раз взялись за роскошную коробку с моим неродном сыном Феликсом.
Я опоздал — Крамский уже успел признаться, что это его сын от продавщицы из Карлина, и свекр гонялся за ним по комнате с цилиндром в одной руке и ножницами в другой.

Молодую супругу пытались привести в чувство, теща время от времени огревала по спине пробегавшего Крамского, а испуганный Феликс, лежа голышом на столе, стоически кряхтел, делая под себя.
Прошло полчаса, прежде чем мне дали сказать хоть слово и объяснить молодой хозяйке, что речь идет, видимо, о другом ребенке, так как этот отпрыск принадлежит моей лишившейся рассудка жене.
Некоторое время ушло на поиски среди свадебных подарков второго ребенка; понятно, что они не увенчались успехом, и Крамский тут же стал все отрицать, крича, что бог весть чего нагородил от волнения и сам не может понять, для чего надо было это делать.
Выслушав глубочайшие соболезнования, я с помощью пани Выхановой, тещи Крамского, понес Феликса домой.
Моя супруга времени попусту не тратила. Перед ней лежали листы исписанной бумаги, на верхнем был заголовок крупными буквами: «Ваш утонченный нрав», выдающий, что труд предназначался для «Счастливого домашнего очага».
Первая глава называлась: «Большая и малая нужда до и после театра». Начало гласило: «В театр, на концерт мы стремимся, чтобы получить наслаждение прежде всего от того, что мы слышим. Для этого необходима полная тишина и спокойствие. Однако, испытывая нужду, мы утрачиваем оное и не способны более внимать звукам, поэтому каждая подписчица «Счастливого домашнего очага» поступит, без сомненья, правильно, справив нужду, не выходя из зала, если на пути ее возникнут какие-либо серьезные препятствия. Но еще лучше, дорогие женщины, сделать это заранее! А вот уже после театра или концерта мы вольны удовлетворять свои насущные физические потребности с учетом личных вкусов каждого».
Вызванный психиатр собственноручно сопроводил ее в сумасшедший дом.
10
Это не стоило ему никакого труда, ибо он убедил ее, что они направляются туда, где одна пациентка в минуты просветления составила массу практических советов для домохозяек, изобретя в том числе эффективную мазь для мозолей и обмороженных конечностей, а затем написала объемный трактат о чистке кастрюль, используемых на открытом огне.
Но стоило моей жене, переступив порог лечебницы, услышать: «Милостивая сударыня, Вы должны у нас немножко отдохнуть», как она стала утверждать, что находится в абсолютно здравом рассудке, что это я, вероятно, все еще не в себе, и потребовала принести ей ручку и чернила, чтобы написать статью, мудрое содержание которой будет лишним свидетельством ясности ее ума.
Ей дали все необходимое, и она набросала для «Домашней мастерской» следующее: «Точилка для карандашей. Когда в семьях некоторых граждан затачивают карандаши, их невольно ломают; при нынешней дороговизне это сильно бьет по карману. Образуется много мусора, непригодного для вторичного использования. Все это не может не беспокоить хорошую хозяйку, которой и предлагается самой соорудить удобную точилку, необходимую в каждой семье. Для приобретения исходных материалов высокого качества следует снестись с торговцами фотографическими товарами и приобрести несколько катушек фотопленки. Сама пленка за ненадобностью выбрасывается, а катушки крепятся на небольшую доску, на нее же натягивается полоска наждачной бумаги. Вот и все, но это нехитрое устройство есть залог мира и тишины в вашей счастливой семье».
К моей неописуемой радости, жену оставили в лечебнице, и я поспешил с этим приятным известием и редакцию «Счастливого домашнего очага».
Мысль моя была выражена четко и ясно:
— Позвольте сообщить: моя супруга, самая активная ваша читательница, изобретательница знаменитого чая и универсального завтрака «Счастливый домашний очаг», была доставлена в сумасшедший дом.
Все это я сдобрил милой, как можно более приятной улыбкой.
Редакторши страшно удивились, а когда я сообщил им, что ее оставили там из-за новой точилки для карандашей, с устройством которой тут же ознакомил редакцию, они завопили:
— Подумать только, какая оригинальная идея! Будьте добры, продиктуйте еще раз сначала вот этой барышне! Нет, произошло явное недоразумение, жена ваша совершенно здорова. Мы должны навестить ее и выяснить, как все это могло случиться. Любой ценой нужно забрать ее оттуда сегодня же!
Их попытка кончилась неудачей. В лечебнице было сказано, что Адела Томсова страдает навязчивой идеей осчастливливать всех и каждого. В настоящее время она вынашивает замысел приспособления для варки яиц и, кажется, проект двухэтажного фамильного склепа с окном.
Присутствовавшая при этом представительница одного из женских клубов, как мне рассказывали на другой день, вышла из себя и раскричалась, что для удобства стирки занавесок достаточно свернуть их и стянуть широкой резинкой — вроде той, что используют для укрепления шляпы под подбородком. На концах резинки пришивают крючки и петельки. Вот ведь как говорила наша страдалица, наша святая Адела, выступая на собрании женщин, посвященном дороговизне, и слова эти — лучшее подтверждение ясности ее разума. Защитницу тоже задержали в лечебнице на какое-то время, но она быстро утихомирилась, и ее выпустили на волю. Остальным дамам было позволено изредка навещать жену, отчего я крупно проиграл: бедняжка поняла — на это у нее ума хватило, — что именно я настоял на отправке ее в клинику, и пожаловалась им, что хотела осчастливить меня, а я никогда не понимал ее лучших намерений и действовал по причине природной тупости вопреки указаниям «Счастливого домашнего очага» и ее доброй воле. В частности, я отказывался пить настой петрушки на молоке, прекрасное средство от выпадения волос, не желал мазать хлеб кормовой патокой. Не давал денег на покупку старых ящиков, из которых можно было сделать столько незаменимых вещей для дома, для семьи. Услышав от нее, что я такой же дурак, как и все мужчины, посетительницы окончательно убедились в трезвости ее мыслей, хотя в истории болезни было записано, что она как подписчица «Счастливого домашнего очага» потенциально опасна для окружающих.
Через три дня повсюду появились афиши:
МИТИНГ ПРОТЕСТА ЖЕНЩИН
И
ПОДПИСЧИЦ «СЧАСТЛИВОГО ДОМАШНЕГО ОЧАГА»,
На повестке дня: заключение одной из подписчиц в сумасшедший дом.
Состоится в среду в 15 час. на Плодиновой бирже.
Присутствующим будет продемонстрирована самоварка «Нурзо», которую одна из подписчиц получит бесплатно. По окончании митинга участницы будут сфотографированы у самоварки.
Редакция журнала «Счастливый домашний очаг».
Я попал на митинг, переодевшись старушкой, явно смирившейся со щетиной на своем подбородке. До сих пор у меня перед глазами это светопреставление, в ушах звенят экзальтированные речи, от которых мурашки бегут по спине. Я убежден: разоблачи они меня, непременно сварили бы всмятку в «Нурзо» и ликовали бы при этом.
Под бурные аплодисменты самоварка гордо заняла свое место в президиуме.
Основная докладчица произнесла пламенную речь, из которой я только теперь понял, какой я все-таки мерзавец. Невменяемый, бесчувственный алкоголик, не читающий к тому же «Счастливый домашний очаг», отказавшийся жевать лучшее средство для протрезвления — дикие каштаны.
— Супружество, дорогие дамы, — говорила она, — это труднейшее в жизни испытание, и если муж-самодур имел наглость отправить свою жену в сумасшедший дом только за то, что она хотела свить уютное домашнее гнездо, то я, дорогие дамы, заявляю: брак этот был поистине бедствием для такого утонченного создания, как Адела Томсова, которая превыше всего ставила наши интересы, которая дала нам не одну сотню добрых советов, которые читались вами с благодарностью этой святой мученице, которая ныне, будучи в абсолютно здравом уме, тем не менее находится в сумасшедшем доме…
Ну, и так далее, и тому подобное.
Ее сменили на трибуне еще несколько дам, в речах которых я был просто разбойником с большой дороги. Затем были направлены телеграммы протеста наместнику и в министерство внутренних дел, после чего участницы митинга сфотографировались у самоварки «Нурзо» и с криками «В сумасшедший дом!» толпой вывалили на улицу.
Полиция разогнала демонстрацию. Не обошлось без жертв: четверо полицейских были тяжело искусаны, один отделался легким надкусом. На двух подписчиц «Счастливого домашнего очага» пришлось надеть смирительные рубашки, при этом они кричали: «Счастливый домашний очаг» — счастье вашего домашнего очага!», «Да здравствует самоварка «Нурзо»!»
На следующий же день я получил кипу анонимок, написанных ручками этих хрупких созданий, одно из которых даже осмелилось излить на бумагу сладкую тайну: «Встречу — зонтиком проткну!»
11
Вы не можете себе представить, какие издевательства пришлось мне вынести. Я стал предметом яростных нападок бульварных газетенок, которые, видя лишь внешнюю канву событий, изображали меня разнузданным донжуаном, отправившим жену в сумасшедший дом ради многочисленных любовниц.
В мой адрес продолжали поступать анонимные письма примерно все того же содержания.
Большинство из них, как я уже сказал, принадлежало перу подписчиц «Счастливого домашнего очага», постепенно набиравших голос: что там «зонтиком проткну», начались заявления более интимные, вроде того, что мне, мол, не под силу угодить двум дамам одновременно.
Пришел свежий номер «Счастливого домашнего очага» с содержательной, я бы даже сказал, миленькой, статьей обо мне. Собственно, в основу ее легла та самая достопамятная речь на Плодиновой бирже, отредактированная тонкой, тактичной рукой. Упреки в мой адрес звучали чрезвычайно деликатно, и я это оценил. Так, вместо слова «упырь», употребленного оратором на собрании, стояло «вампир», а «сутенера» заменили на «сводника». Статья, написанная в спокойной, неторопливой манере, постепенно переходила к теме супружества вообще, к серебряным, золотым и бриллиантовым свадьбам, к борьбе с дороговизной, и заканчивалась призывом не позволять мужьям курить, ибо каждая женщина есть независимая личность, имеющая право на собственное мнение, а стало быть, на вмешательство в неправомерные действия другой личности, особенно если последняя — всего лишь муж.
Я вернул номер в редакцию, но вскоре получил его обратно с припиской: «Уважаемый! Среди возвращенных нам номеров журнала мы нашли также и Ваш. Надеемся, что произошло недоразумение, ибо мы даже не догадываемся о причине, по которой Вы могли бы вернуть нам номер. Мы не сомневаемся, что Вы осознаете свою ошибку и сохраните верность своему журналу. С нетерпением ждем подтверждения с Вашей стороны прежнего доверия к нам. С глубочайшим почтением
преданная Вам администрация журнала «Счастливый домашний очаг».
К посланию прилагался возвращенный мной номер.
Я снова отправил его в редакцию и получил в ответ послание: «Уважаемый! Вот уже второй раз мы сталкиваемся с тем, что Вы возвращаете нам один из номеров нашего прекрасного журнала «Счастливый домашний очаг», который наверняка не раз был Вашим лучшим советчиком в решении проблем личной жизни и деятельности на благо нашего общества. Посему высылаем Вам обратно тот же номер нашего журнала с надеждой, что он и в дальнейшем останется Вашим верным другом, и Вы не станете относиться к нему, как к неугодному пасынку».
Я вернул номер в третий раз.
Их следующее письмо было таким: «Уважаемый! Сообщаем Вам, что среди новой партии возвращенных нам номеров мы обнаружили и Ваш, посланный Вами уже в третий раз, тем не менее, мы позволяем себе направить его вам уже в четвертый раз, считая, что возвращение одного из номеров не может служить причиной для аннулирования подписки. Нет сомнений, что, ознакомившись с его интереснейшим содержанием, столь полезным для каждой семьи, Вы вновь станете нашим верным читателем, о чем и просим сообщить нам почтовой карточкой. Пребываем с совершеннейшим почтением
администрация журнала «Счастливый домашний очаг».
Я в очередной раз отослал им этот треклятый номер, уведомив почтовой карточкой, что не намерен более иметь с ними ничего общего.
Номер вернулся с припиской: «Уважаемый! В только что полученной корреспонденции мы нашли и Вашу открытку, где Вы пишете, что не намерены более иметь с нами ничего общего и окончательно возвращаете нам журнал. Мы тешим себя надеждой, что Вы любезно согласитесь просмотреть возвращаемый Вам нами номер, убежденные, что наш журнал, куда бы он ни пришел, становится незаменимым другом и Вы не откажетесь иметь его в своем доме. Мы позволяем себе также обратить Ваше внимание на то, что отправки почтовой карточки с заявлением, что Вы не намерены более иметь с нами ничего общего, недостаточно для аннулирования подписки, поэтому просим сообщить нам Ваше решение — а оно, не сомневаемся, будет для нас благоприятным — в форме письма. Разрешите обратить Ваше внимание на то, что, оформив подписку до среды, 15 ноября с. г., до 18 часов вечера, Вы получите приложение «Что мы будем есть сегодня?» и будете занесены в список кандидатов на выигрыш в лотерею, где будет разыграна самоварка «Нурзо», устраняющая необходимость в кухне и приготовляющая ежедневно обед из трех блюд без всякой вони. Заранее благодарим Вас за согласие. Примите уверения в нашей искренней преданности.
Администрация журнала «Счастливый домашний очаг».
На этот раз я разразился в адрес редакции гневным и решительным письмом, где писал, что не собираюсь более терять свое драгоценное время, занимаясь пересылкой журнала, и в последний раз — категорически! — возвращаю номер.
Через день пришел ответ: «Уважаемый! Мы были крайне удивлены, найдя при разборке сегодняшней почты Ваше письмо, в котором Вы категорически запрещаете нам посылать вам журнал. Будучи убеждены, что Вы до конца все-таки не поняли привилегий, даваемых «Счастливым домашним очагом», позволяем себе вернуть Вам номер в надежде, что Вы останетесь горячим сторонником нашего журнала, так как простого уведомления о том, что Вы не желаете более получать его, никак не достаточно для аннулирования подписки. Не сомневаемся, что Вы пожелаете воспользоваться всеми преимуществами подписчиков «Счастливого домашнего очага». Примите уверения в глубочайшем к Вам уважении и неизменной преданности.
Администрация журнала «Счастливый домашний очаг».
Тут я воскликнул:
— Нет, только из браунинга!
12
Браунинг — великолепное смертоносное оружие, но мой порыв к самообороне был еще лучше. Намереваясь некоторое время назад прибегнуть к револьверу, я был — подчеркиваю — невменяем. Теперь же я осуществил свой план в совершенно здравом рассудке. Положим, администратора в некоторой запальчивости я прикончил, тщательно прицелясь, зато всех остальных перестрелял почти машинально, не испытывая даже гнева, извиняясь перед каждой жертвой за предвзятое отношение. Я знаю, имея на счету столько жертв, я не могу ждать помилования от императора и по закону буду повешен.
Последние дни моей жизни здесь, в тюрьме, отравляет одно: тюремный библиотекарь всучил мне старую подшивку «Счастливого домашнего очага» за целый год.
Вчера приходил адвокат и сообщил, что мой неродной сын, маленький Феликс, объявлен новой премией «Счастливого домашнего очага» для бездетных подписчиц. Журнал выходит, как и прежде, я и сам знаю, что главная редакторша избежала расправы, забравшись в самоварку «Нурзо».
В общем, сижу я тихо-мирно на тюфяке, думаю о днях минувших, о жене, прижившейся в сумасшедшем доме. На эшафот взойду, не дрогнув, с чувством облегчения и даже радости за содеянное. Если интересует меня в мире еще хоть что-то, так это вопрос, кому из подписчиц в качестве премии подсунут нечистоплотного Феликса?
В дополнение к описанной трагедии прилагаем небольшую выдержку из репортажа одной пражской газеты о казни пана Томса: «Поднявшись на эшафот, он воскликнул с циничной улыбкой:
— «Счастливый домашний очаг» приносит счастье домашним очагам!
При этом осужденный издевательски чиркнул себе большим пальцем по горлу».
Таковы были последние слова этого пережившего суровые гонения человека, сыгравшего выдающуюся роль в чешской общественной жизни.
Немецкие астрономы
В горном пансионате на Шпицдоме в Альпах немецкий ученый Вольфганг Хюбер производил вычисление удаленности некоей неизвестной звезды между орбитами Марса и Юпитера. На это свое занятие он исхлопотал субсидию от германского правительства и даже от одного крупного торговца углем, совершенно не интересовавшегося звездами, чего, впрочем, никак нельзя сказать о деньгах.
Вольфганг Хюбер намеревался прославить германскую науку. Астрономическую обсерваторию на Шпицдоме выстроил на свои средства богатый скотопромышленник, который из области астрономии знал лишь то, что на небе есть Большая Медведица, по форме напоминающая тачку, в которой он возил на станцию свиней. Однако в данном случае речь шла о престиже нации: ведь немцы должны были найти новую звезду, а затем и целое новое созвездие, чтобы в конце концов все звездное небо принадлежало исключительно немцам. Вот потому-то и вычислял Вольфганг Хюбер безоблачными ночами расстояние до неизвестной звезды, которую нельзя было обнаружить даже самым совершенным телескопом. Трудился он на этом поприще вот уже шесть лет, но до сей поры не мог сказать себе: «Неизвестная звезда, которую невозможно обнаружить, которую я намереваюсь открыть и которую нельзя разглядеть в телескопы, отстоит на расстоянии столько и столько икс миллиардов километров от самой удаленной орбиты, открытой французскими астрономами, и столько-то миллиардов километров от самой далекой звезды, открытой американцами, шведами и англичанами».
И вот, измеривши наконец неизвестную ось вращения неизвестной звезды, ему удалось, приняв за точку отсчета неизвестное икс, в течение последующих двух лет вычислить, что существует позади самых удаленных созвездий и самой удаленной звезды звезда, которую никто не видит, и находится она на расстоянии 687 миллиардов миллиардов 999,993 миллиона 846 823 тысячи километров 500 метров 82 сантиметра 1,348 956 732 246 миллиметра от самой удаленной известной звезды.
После этого все немецкие газеты запестрели сообщениями об успехе известного немецкого ученого Вольфганга Хюбера, которому в результате многолетних научных изысканий, наблюдений, расчетов и измерений удалось открыть на самом краю бесконечной вселенной неизвестную звезду, о существовании которой никто и не предполагал.
За полгода профессор Хюбер точно вычислил период ее обращения, наклонение экватора и эклиптику, а также сжатие этой звезды, которую он назвал «Светилом имени императора Вильгельма II». Имя Вильгельма II пронеслось из конца в конец безбрежной вселенной, и немецкие учителя втолковывали детям на уроках физической географии: «Вселенная начинается с земного шара, где правит император Вильгельм II, и кончается невидимым светилом, названным именем императора Вильгельма II, до которого, хоть и находится оно на краю вселенной, доносится многоголосая немецкая речь и гимны. Да, милые дети: «Deutschland über alles»[42].
И профессора Хюбера чествовали как самого славного германского первооткрывателя.
Однако и у него, к сожалению, оказались недоброжелатели. К таковым следует отнести некоего ученого, имевшее го, правда, одну слабость — он страстно жаждал славы, пусть даже для этого ему придется сорвать лавровый венок с головы своего коллеги. Честолюбие его было столь велико, что, объявившись в один прекрасный день в Гейдельбергской обсерватории, он с важным видом начал спор с руководителем сего научного учреждения относительно правильности расчетов профессора Хюбера.
Признавая бесспорность самого факта существования «Светила имени императора Вильгельма II», поскольку Германия, несомненно, имеет все права на вселенную, он, тем не менее, был абсолютно убежден, что в расчеты профессора Хюбера вкралась ошибка, составляющая доли миллиметра.
Астрономам прекрасно известно, чем чревато данное заявление. Ученый, опубликовавший неточные расчеты — пусть даже речь идет о миллионных долях миллиметра, — если он порядочный человек, непременно пустит себе пулю в лоб, как только выяснится, что ошибка действительно допущена, в противном случае жизнь его превратится в кошмар и даже лудильщик не поздоровается с ним на улице.
И, следовательно, если господин ученый Отто Динглс утверждал, что его коллега господин Хюбер ошибся в расчетах, то, вероятно, у него имелись на то веские доказательства.
Так оно и оказалось, поскольку полгода спустя он опубликовал статью под названием «Немного правды об астрономии». В ней содержались весьма бестактные нападки на научную добросовестность Вольфганга Хюбера.
Цитируем дословно: «Профессор Вольфганг Хюбер ошибся на 0,000 032 051 098 12 миллиметра, что и будет нами доказано расчетами в самом ближайшем будущем. Весьма прискорбно перепроверять вычисления нашего многоуважаемого коллеги, однако научная достоверность значит для меня больше, чем чувство коллегиальности».
Эта грубая выходка вызвала среди астрономов большой переполох. Ученый муж Вольфганг Хюбер без промедления отбыл в Гейдельберг, дабы иметь возможность тут же на месте получить от своего коллеги господина Отто Динглса доказательства относительно его заключения о том, что ошибка в 0,000 032 051 098 12 миллиметра действительно имела место.
Конфликты подобного рода немцы чаще всего предпочитают разрешать в трактире за кружкой пива.
Вольфганг Хюбер и Отто Динглс, явно взволнованные, проследовали в трактир «Zur Stadt Dresden»[43], где, просидев за пивом битых два часа, не обменялись и словом. Первым нарушил молчание Отто Динглс:
— Уважаемый коллега, не желаете ли отведать еще что-нибудь? Уверяю вас, здесь превосходная кухня. Не заказать ли вам бифштекс?
— Извольте, коллега!
Когда в полном молчании они покончили с едой, господин Хюбер произнес:
— С вашего позволения, я расплачусь, а затем предлагаю перейти в кафе и обсудить наш вопрос.
— Извольте, коллега!
— В таком случае я подсчитаю. Мы заказывали два бифштекса по 1,30 марки. 1,30 помножить на два будет 3,60, и еще каждому пять кружек пива по 28 пфеннигов, двадцать восемь на пять будет — пятью восемь = тридцать пять и пятью два = десять, не правда ли, коллега, и еще три — будет тринадцать, стало быть, все правильно: двадцать восемь пфеннигов на пять будет 1 марка 35 пфеннигов. Пересчитайте, пожалуйста.
Господин Динглс взял карандаш и написал: два бифштекса по 1,30 марки = дважды 0 будет 0, дважды три будет пять, дважды один = 2. Выходит 2,50 марки, а вовсе не 3,60, господин коллега, а затем пять раз пиво по 28 пфеннигов будет на 5, т. е. пятью восемь = 48, пятью два = 10. Итого 10 марок 48 пфеннигов…
Склонившись над бумагой, они продолжали путаться в цифрах, пока, вконец измаявшись, не подозвали официанта, который все подсчитал, и под восклицание господина Вольфганга Хюбера: «А вот я вам сейчас докажу, что вы сами ошибаетесь в расчетах моей звезды на те самые 0,000 032 051 098 12 миллиметра», они удалились в кафе.
А официант проводил господ ученых улыбкой, поскольку изловчился приплюсовать к их небольшому расходу две лишние марки.
Когда сносили старые стены
I
Собираясь сносить часть старой городской стены, чтобы на этом месте построить новую окружную больницу, муниципалитет привлек к работе пятнадцать арестантов. Поблизости от стены, в старом городском рву, лежали в траве трое безработных и недовольно поглядывали на преступников, освещенных ярким солнцем. Кирки взлетали в загорелых руках и с размаху яростно вонзались в старинную крепостную кладку. В этой разрушительной деятельности таилась какая-то неосознанная жажда мести. В холщовой арестантской одежде, запыленной и грязной, заключенные выполняли работу за жалкую поденную плату 12 геллеров в день, в то время как город вносил в казначейство 1 крону 20 геллеров за каждого из них. Таким образом, государство зарабатывало на этих пятнадцати а рестартах ежедневно 16 крой 20 геллеров. День за днем, час за часом наказанные преступники работали на совесть, лишь бы побыть на свежем воздухе, которого здесь было вдоволь, несмотря на тучи пыли, поднимавшейся от древней каменной кладки, когда она крошилась и рассыпалась.
Рядом за стеной благоухал сад, там играли и пели дети. Когда арестанты в десять часов утра на несколько минут делали перерыв, чтобы съесть кусок хлеба и запить его водой, к месту работ доносился шум фонтанов, шепот свежей листвы, человеческие голоса и веселые детские восклицания.
Через несколько минут надзиратель закуривал новую сигару и приказывал продолжать работу разрушения. И снова дробились камни, бешеные удары по твердой кладке громко раздавались в городском рву.
Потом часы отбивали полдень, и тогда арестанты с инструментами на плечах шли через весь город обедать в тюрьму окружного суда. Они двигались под наблюдением надзирателя по двое в ряд, точно соблюдая расстояние в три шага между парами. В половине второго они возвращались на Свое место и до восьми часов вечера неустанно долбили кирками старые стены.
В восемь часов заключенные уходили в тюрьму — ужинать. Наступал отдых и развлечения, состоявшие из будничных разговоров и проклятий судьбе. Кто-нибудь рассказывал, как и почему он попал в окружной суд. Ведь большинство арестантов было послано сюда из переполненной тюрьмы земского верховного суда. Потом арестанты засыпали один за другим во всех пяти тюремных камерах.
Перед сном каждому хотелось выкурить сигаретку или хотя бы пожевать щепотку табаку. Такого блаженства они не испытывали уже по нескольку месяцев.
В шесть часов утра они вставали, чтобы в половине седьмого быть у старых стен. Часов в восемь сюда ежедневно прибывал городской архитектор. Поговорив немного с надзирателем, он всякий раз утверждал, что таких прочных стен нет нигде во всей Чехии.
В девятом часу проходил на службу городской голова. Чтобы не попасть в ратушу слишком рано, он направлялся через сад. Городской голова давал надзирателю денег на две пачки самого плохого табаку для арестантов. Надзиратель же, строго соблюдая правила, запрещающие курить заключенным, покупал на эти деньги короткие сигары для себя. Это был человек совестливый, утверждавший, что эти деньги жгут ему пальцы, и таким образом он избавлялся от них.
После десяти часов всего приятнее было в городском рву. По дну его тонкой струйкой бежал почти пересохший ручеек, на зеленый склон отбрасывали свою тень деревья с высокого земляного вала.
Там росла густая трава. В нее ложился в десять часов тюремный надзиратель, закуривал сигару и тупо смотрел на белоснежные облачка, плывущие по ветру в синеве неба.
Резкие удары кирок по стене, грохот камней, сотрясение почвы, когда рушились и катились большие глыбы, — вся эта оживленная работа убаюкивала надзирателя, этого совестливого человека, и его необоримо тянуло ко сну.
Он бросал еще один взгляд на арестантов и пересчитывал их с угасающим сознанием выполненного долга. Заключенных было пятнадцать. Он удовлетворялся тем, что слышит грохот камней, шорох падающего щебня, удары по стенам и на часок засыпал с сигарой во рту.
Потом он встревоженно вскакивал, торопливо перебегал несколько метров через ров и снова стоял позади арестантов, с официальной миной пересчитывая фигуры в грязной холщовой одежде.
Так шел день за днем. Горожане уже перестали ходить сюда, как в первое время, когда пятнадцать человек арестантов, ломающих древние стены, последний памятник старины некогда прославленного города, казались первоклассным новым зрелищем, на которое стоит поглядеть, чтобы впоследствии можно было обо всем этом рассказать.
Здесь было чересчур много пыли, которая разносилась вокруг. И в конце концов рождалось какое-то тоскливое, тяжелое чувство, приводившее в растерянность горожан, когда они слышали произнесенную украдкой робкую просьбу:
— Ваша милость, не дадите ли вы мне сигарету?
Зрители смущенно отходили, провожаемые доверчивыми взглядами узников, и больше не появлялись в этих местах.
И все же у арестантов была своя постоянная публика — трое безработных из города по фамилии Корчак, Грудокол и Страба, которых муниципалитет не принял на работу, поскольку нашлись дешевые рабочие руки арестантов.
Уборка урожая еще не начиналась, и эти трое не могли наняться к горожанам, у которых были земельные участки в предместьях. Работы нигде не было, и безработные ожидали, что муниципалитет наймет их сносить стены. Но когда стены начали ломать, Корчаку и его товарищам отказали на том основании, что рабочей силы и без них достаточно. Разозленные, они отправились взглянуть на рабочих.
И с тех пор они с ненавистью глядели на арестантов, из-за которых не получили работы.
Лежа в траве, они громко кричали им и нарочно разговаривали о воровстве, преступниках и дармоедах. В бессильной злобе оборванцы насмехались над заключенными, осыпали их ругательствами.
II
Среди арестантов, ломавших старинные стены, был молодой человек по фамилии Громек. Он работал здесь уже две недели. Его отправили сюда прямо из тюрьмы земского уголовного суда за то, что он не стерпел каких-то издевательств старшего надзирателя отделения.
Этот парень из удальства разбил камнем средь бела дня два фарфоровых изолятора на телеграфном столбе. Громека увидел жандарм, оказавшийся в это время поблизости, и молодой человек, как и следовало ожидать, был арестован. При аресте он оторвал пуговицу на мундире жандарма. Такое публичное сопротивление представителям власти строго наказывается. Но до тех пор поведение Громека было безупречно, и потому он получил лишь четыре месяца тюремного заключения. Он, однако, не стерпел издевательств надзирателя и попал за это в список тех, кого, заковав в кандалы, под конвоем жандарма отправляют по этапу в окружную тюрьму.
Громек замечал злобные взгляды, слышал оскорбления по поводу своих оков. Он работал здесь в холщовой арестантской одежде под палящими лучами солнца, работал, как машина, целых две недели, сперва совершенно равнодушный ко всему окружающему, но вдруг ему пришло в голову сбежать.
Он убежит куда угодно. Он не думал о доме. Ему только страстно хотелось хоть на мгновение, на короткий срок избавиться от этой постылой, однообразной жизни. Он побежит далеко, через поле, через леса, до березовой рощицы, что видна отсюда со стен, а потом еще дальше, туда, где горизонт замыкает темная кромка холмов, и затем все дальше и дальше, без всякой цели.
Он убежит далеко. Надзиратель уснет перед обедом в траве, а он, Громек, пристроится к тем, кто работает с краю, отойдет в сторону и побежит. Завтра же он так и сделает.
На рассвете в камере как раз зашел разговор о бессмысленности побега. На тебе ведь арестантская одежда, и ты никуда в ней не скроешься, тебя сразу же узнают, а если ты вытерпишь и отсидишь в тюрьме свой срок, то рано или поздно выйдешь на волю, и тогда эти несколько недель отсидки покажутся пустяком. Тебя снова доставят в земский уголовный суд, снимут оковы с твоих рук и вернут обычную одежду.
Громек ничего не сказал на это. «Какие они глупые! — думал он. — Не хотят воспользоваться такой возможностью бежать! Ну и пусть довольствуются здешней тюремной похлебкой!»
Арестанты шли к стенам. Громек весело насвистывал марш.
— Эй, кто там свистит? — рявкнул надзиратель. — Замолчать! Идти как положено — на три шага друг от друга!
Было отличное утро, когда птицы поют наперебой и под солнечными лучами начинают благоухать цветы.
Грубый окрик надзирателя загремел над садом, через который шли арестанты. И Громеку еще ярче представилась вся заманчивость побега.
Арестанты сошли к подножию стен, подталкивая друг друга и подсмеиваясь над надзирателем, который с трудом спускался за ними, потому что сапог жал ему ногу.
После этого они стали на свои места, поплевали на ладони и дружно, как один, вонзили кирки в затвердевшую кладку. Так начинался один из нудных, бесконечных дней, который не станет лучше ни от яркого солнца на синем небе, ни от аромата цветов, ни от пения птиц.
Громек разбивал стену с самого края, поглядывая на городской ров, обрамленный зеленью. Не так давно их вели там, когда в садах был какой-то праздник. Он выйдет низом на дорогу, которая ведет к тем холмам, где видна березовая рощица — нежные пятна зелени на белых столбиках.
Он побежит туда, а потом все дальше и дальше. Он еще подумал, будут ли его ловить остальные арестанты. Не прерывая работы, он завел разговор с одним из заключенных, рассказал, как слышал от опытного человека в окружном уголовном суде, что если арестанты видят бегство своего товарища и не ловят его, то их сажают в одиночку.
Собеседник лишь махнул рукой.
— С ума он спятил, — сказал арестант Громеку, — никакой арестант другого ловить не станет. Если какой дурак и устроит побег, так его все равно поймают. А потом увидишь, как здорово ему влетит. Надзиратели накинут на него одеяло и изобьют пойманного ключами, надают пинков, зуботычин, он попадет в темный карцер без постели, его заставят как следует попоститься, ноги закуют в кандалы. Но арестант арестанта ловить ни за что не станет.
Попробуешь беглого ловить, а тут, пожалуй, подумают еще, что ты заодно с ним, тоже хочешь бежать, а если, скажем, наскочишь случайно на жандарма, так тот крикнет: «Стой!» — да и выстрелит в того, кто ловит. Так-то! Кто хочет сбежать, пусть бежит, но его потом изобьют до бесчувствия, вот и все! Надзирателю отвечать придется, и он будет мстить. А уж если такого беглого посадят во второй раз, ему не больно-то станут верить, и, будь он хоть ангел небесный, на него ополчится весь суд.
Громек ничего не ответил, удовлетворенный тем, что другие арестанты ловить его не станут. В той стороне, куда он побежит, ходит мало народу, а потом все будет по-другому.
Уже прошел городской голова в ратушу. Через час, когда в замке громко пробьет десять, после перерыва, по ту сторону рва спокойно уснет надзиратель, развалившись в траве, и дымок угасающей сигары будет куриться над спящим. И тогда он, Громек, сбежит.
Время тянулось бесконечно медленно. Наконец надзиратель отправился на противоположную сторону рва и разлегся в траве, озабоченно пересчитав арестантов.
Вскоре после десяти Громек отшвырнул кирку и побежал по дну рва в сторону дороги.
Арестанты вскрикнули.
Надзиратель спокойно спал, поскольку не пришло еще время ему проснуться.
Громек был уже на дороге. Он тревожно оглянулся. Пока никто его не преследовал. Он свернул в сторону и помчался без шапки, упавшей с головы, в гору, к березовой роще.
И тут на поворот дороги выскочили из кустов три фигуры. Это были обозленные безработные Корчак, Грудокол и Страба, голодные, оборванные.
Как всегда, они лежали в траве напротив стены и смотрели на ненавистных арестантов. Они видели все и теперь в ярости продирались через кусты, чтобы выйти беглецу наперерез.
— Стой, негодяй! — крикнул Страба.
Громек опрометью мчался вперед. Кровь приливала к голове. Не замечая препятствий, он бежал уже не по дороге, а напрямик через поле, как испуганный заяц.
Грудокол схватил камень и бросил в Громека, но промахнулся. На бегу безработные набрали на дороге камней и перескочили через канаву в поле. Тяжелые ботинки Громека вязли в мягкой пашне, а босая тройка нагоняла его.
Потом в Громека бросил камень Корчак. Камень разбил затылок Громеку. Шатаясь, он сделал несколько шагов и упал ничком в ячмень.
Грудокол и Страба кинулись на беглеца со звериной яростью, внезапно вспыхнувшей в них, и стали бить его острыми камнями. Так побивают камнями кошку.
Уже бежал народ, надзиратель ревел во всю глотку: «Держите его!» — размахивая обнаженной шашкой.
И пока толпа добежала, троица, сама того не ведая, убила Громека.
Способ господина полицмейстера
Друг против друга сидели двое, всем своим видом обнаруживая разделяющую их бездну. За столом — надворный советник и полицмейстер того города, где совершались описываемые события, а в кресле у стола — плохо одетый мужчина с зачесанными за уши волосами и соломкой от сигары за правым ухом. На коленях у него лежала потертая кепка. Он медленно, веско говорил:
— Поставим точки над «и». Мне известно, господин полицмейстер, что, узнав о моем желании видеть вас и предложить вам свои услуги, вы с большой неохотой согласились принять меня. Вы считали, что у вас и без того довольно сыщиков, изучивших Панкрац, и было бы бесполезно толковать об их успехах… Короче говоря, это совершенно никчемный народ. Мысль, конечно, правильная, но именно поэтому вы сделали бы ошибку, не приняв меня. Знаете, какой репутацией пользуется здешняя полиция? Об этом всюду идут толки: ее поведение объясняют то простой нерасторопностью, то наличием у нее тайного сочувствия к преступникам.
— Не может быть! — воскликнул полицмейстер.
— Факт, — возразил Ян Поберта. — Но не в этом дело. Речь идет о другом. Мне понятно ваше отчаяние. Происходит убийство днем — полиция ничего не обнаруживает, происходит оно ночью — опять ничего. Убивают мужчину — убийц след простыл, убита женщина — виновных нет. Ну, куда это годится?
— Вы забываете о последнем случае, — робко возразил полицмейстер. — Мы нашли убийц, установили их личность, их наружность, место, куда они уехали, имеем их снимки — словом, нам известно все. Только их бегству тотчас после совершения злодеяния мы помешать не могли.
— Да, господин полицмейстер, это правда, — сказал Поберта. — Но вы забываете, что одного из убийц черт занес в Прагу, и получилось опять плохо, так как негодяй доказал свое алиби. И вот, видя все это, я подумал, что благородство украшает человека. Заплатим добром за зло, сказал я себе: спасем полицию.
— Вы хотите спасти полицию? — воскликнул полицмейстер.
— Ну да, — скромно и солидно ответил Ян Поберта, — Нас собралось несколько известных старых практиков, и мы решили выручить здешнюю полицию, предоставив ей кое-какие факты, способные заткнуть рот недоброжелателям и насмешникам.
— Вы? — повторил свой вопрос изумленный полицмейстер.
— Да, да. Я и мои товарищи готовы помочь полиции выйти из неловкого положения. Конечно, не даром, но цена умеренная, а способ замечательный.
— В чем же он заключается? — осведомился полицмейстер.
— Пожалуйста. О каждом сенсационном преступлении вы немедленно даете знать мне. В свою очередь, я тотчас сообщаю вам, куда направить выделенного для данного случая члена нашей организации. Вы выдаете ему паспорт, проездные и некоторую сумму на первое время, пока он не устроится на чужбине. Все это я передаю ему, а вам вручаю предметы, которые послужат уликами. Кроме того, поставляю свидетелей, подтверждающих его присутствие в соответствующий момент на месте преступления и так далее. После этого вы сообщаете печати и населению, что напали на след. И как только этот человек окажется за границей, объявляете, что преступник — не кто другой, как он. Даете приказ об аресте и так далее. Так как у него будет паспорт на другое имя, задержать его не удастся, но вам будет принадлежать честь обнаружения убийцы. Так уже делалось. Но самое главное то, что этот человек больше никогда не вернется и полиция не опозорится публично, как получилось в прошлый раз.
— Что же, — промолвил полицмейстер. — Это неплохо. Я подумаю.
— Когда мне прийти за ответом?
— Жду вас завтра в три.
Когда на другой день Ян Поберта опять пришел к полицмейстеру, они быстро договорились обо всем. И полицмейстер вздохнул свободно. Конец позору и скандалам! А газеты пускай лопнут с досады…
Через две недели произошло убийство из-за угла. Полиция и на этот раз не сумела задержать убийц, но установила, кто совершил преступление. Она опубликовала описание примет, фотоснимки, назначила вознаграждение тем, кто обнаружит местопребывание преступников. Правда, все это она сделала, когда последние были уже далеко за границей. Население все же успокоилось, так как уже некого было бояться. Однако не прошло и месяца, как было совершено убийство с целью ограбления. Бандиты были опять опознаны, изобличены, фотографии опубликованы, было объявлено вознаграждение тем, кто их обнаружит, — словом, все как в первый раз.
Но видно, тут сам черт решил подставить полицмейстеру ножку. Через некоторое время приходит к нему какой-то неизвестный и — ни много ни мало — заявляет, что явился с повинной. При расследовании убийства с ограблением полиция пошла, мол, по ложному следу.
— Послушайте, мой милый, — с раздражением ответил полицмейстер. — Не говорите глупостей. Полиции в точности известно, кем совершено это убийство. Все улики налицо и поразительно совпадают.
— Сколько бы их ни было и как бы они ни совпадали, полиция идет по неправильному пути.
— Это почему? — вскипел полицмейстер.
— Да потому, что убийца — я и пришел к вам с повинной.
Услышав это, полицмейстер чуть не отдал богу душу. Но тотчас овладел собой, вызвал чиновника и велел ему снять показания с преступника. А сам скорей послал за полицейским врачом.
— У меня тут душевнобольной, доктор!
— Душевнобольной?
— Ну да, человек, страдающий навязчивой идеей, будто не кто другой, как он, совершил последнее убийство с целью ограбления;
— А этого не может быть?
— Абсолютно исключено. Личность преступника установлена. Это не он.
— Значит, перед нами тяжелый случай психоза.
Только теперь, объявив сознавшегося убийцу сумасшедшим, полицмейстер вздохнул свободно. Опасность миновала!
Вскоре после этого было совершено преступление, о котором заговорил весь город: в одном банке произошла дерзкая кража; воры похитили не менее двухсот тысяч крон золотом и, кроме того, еще некоторую сумму мелкими банкнотами, общую стоимость которых в точности установить не удалось.
На этот раз полицмейстер оплатил организации Яна Поберты даже билет на экспресс, чтобы только поскорей получить возможность опубликовать сообщение, что преступники ему известны.
Повторилась старая история…. Но главный сюрприз ждал полицмейстера впереди.
Через две недели он получил от Яна Поберты из Северной Африки письмо следующего содержания:
«Многоуважаемый господин полицмейстер!
Как это ни грустно, нам надо расстаться. Надеюсь все же, что оставляю по себе добрую память, так как был полезен. Но в дальнейшем вам пришлось бы все время прибегать к помощи лжи, а это очень неприятно. Знаю, что первую возникшую опасность вы сумели отклонить, упрятав явившегося к вам с повинной действительного виновника в сумасшедший дом. Но при этом от пережитых волнений вы чуть не захворали. Я понял, что должен что-то для вас сделать. Сами того не зная, вы не погрешили против истины, опубликовав сообщение, что виновник нашумевшей кражи в банке я, Ян Поберта. Банкноты и золото я захватил с собой, но не хочу с вами расстаться, не поблагодарив за любезность, с которой вы способствовали моему бегству и оплатили проезд. Жаль, что наша коммерческая связь на этом обрывается, но полагаю — вам будет нетрудно установить новую, если вы будете к моим коллегам столь же предупредительны, как ко мне.
С приветом
Ян Поберта».
Прочитав письмо, надворный советник упал без чувств.
Роман пана Хохолки, сборщика пошлины
Сборщик продовольственной пошлины пан Хохолка был чрезвычайно добросовестным человеком. При отправлении служебных обязанностей он не знал снисхождения ни к кому, и, когда приводил в канцелярию особу, заподозренную в желании пронести беспошлинно какую-нибудь контрабанду, его голубые глаза вспыхивали от радостного сознания исполненного долга.
Ничто не могло ускользнуть от острого взгляда пана Хохолки. Трамвайных пассажиров он пронизывал столь подозрительным взглядом, что даже те, которые не пытались ничего провезти, краснели от смущения и сами себе начинали казаться негодяями.
Он, словно тигр, рыскал взором под скамьями. Обнаружив сверток, который помертвевший от ужаса пассажир тщетно пытался прикрыть ногой, Хохолка торжествующе извлекал его и, уставившись на виновного, изрекал:
— Ага, а это что такое?
Эти слова произносились столь грозно, что попавшиеся признавались, перечисляя продукты, подлежащие обложению пошлиной. Если же они и пытались отвертеться, ссылаясь на то, что везут белье, то дрожь в голосе выдавала их с головой.
Пан Хохолка, приосанившись, вел нарушителя на контрольный пункт, преисполненный такой гордости, словно задержал бандита. Он был неумолим, даже когда дамочки жаловались на чрезмерное усердие в ощупывании их одежды.
— К чистым грязь не пристанет, — говаривал этот доблестный человек, — а коли ты хочешь гуся пронести, то пеняй на себя!
Не внимая слезам, он водил на пункт служанок, которым хозяйки наказывали, минуя заградительную черту, пронести те или иные продукты.
Хохолка был неуязвим для деланных улыбочек задержанных дам, когда они, подозрительно хихикая, шептали, что ничего особенного у них в сумочке нет.
Он энергично открывал замок и, окинув взглядом содержимое, погружал в сумку руку, победоносно возглашая свое грозное:
«Ага, а это что такое?»
И дрожащая жертва вынуждена была следовать за ним на пункт, стены которого слыхали уже столько воплей нарушителей и видали такое множество рыдающих женщин всех сословий! Ведь именно женщины отличаются особой изощренностью в стремлении обойти закон.
— Женщины — это змеи, — изрекал пан Хохолка, — даже самая приличная на первый взгляд женщина стремится надуть акцизных; вид у нее ангельский, но под юбкой привязаны куропатки.
Так с течением времени Хохолка стал совершеннейшим женоненавистником. Женские чары не действовали на него. Пышный бюст вызывал у него предположение, что под блузкой таятся цыплята, а полные бедра напоминали об одной прелестнице, которая пыталась пронести под юбкой пять килограммов мяса и килограмм топленого сала.
— Я только обнял ее за талию, — рассказывал пан Хохолка, — и сразу понял, в чем дело. Эта дрянь ревела, как корова, когда старая Фоускова раздевала ее за ширмой. Она оказалась женою какого-то учителя; заплатила двадцать крон штрафа, а пышных форм у нее как не бывало.
И все-таки Хохолка женился. Однажды, стоя на посту, он заметил молоденькую румяную девушку с большой сумкой в руке; она переходила улицу, направляясь к нему. Прежде чем он успел вымолвить: «Что вы несете?» — девушка взглянула на него черными глазами и спросила:
— Скажите, пожалуйста, а где платят пошлину? У меня заяц и немного мяса.
Эти простые искренние слова растрогали пана Хохолку. Он не помнил, чтобы хоть одно существо женского пола добровольно заявило, что несет нечто, подлежащее обложению пошлиной.
— Подойдите сюда, к окошку барышня, — сказал он с удивительной нежностью и целый день потом вспоминал эту прямодушную девушку — столь необыкновенное явление среди женщин.
Однако ночью, когда он проснулся, его охватило чувство давнишнего недоверия к женскому полу. Какая женщина не лелеет мечту провести акцизных! Наверное, и эта лишь хочет внушить ему, что она не обманет управление пошлин на продовольствие, хочет усыпить его бдительность, а потом подведет, как это в обычае у подлого женского сословия.
Но на следующий день, лишь только он взглянул на открытое личико девушки и услыхал простодушные слова, что она несет кило слив и не знает, нужно ли за это платить, — все его недоверие исчезло.
Девушка открыла кошелку точно так же, как и свое доброе сердце, и он, увидев там пригоршню слив, не удержался и сказал:
— За это ничего не надо платить, милая барышня.
Тут он, поминутно отбегая к прохожим, несущим какие-нибудь свертки, принялся объяснять девушке, за какое количество каких продуктов полагается платить пошлину и как строго карается жульничество.
— Лгать грешно, барышня, — говорил он многозначительно, — но самый страшный грех — лгать нам, сборщикам пошлины!
Весь день он был весел и радовался, что сумел все так хорошо растолковать этой красивой деревенской девушке и предостеречь ее на будущее от соблазна пронести что-нибудь недозволенное, обманув официальные учреждения. У Хохолки были теперь счастливые минуты, когда он видел ее и говорил с ней. Он понял, что девушка обладает редкостным характером, ибо она всегда сразу заявляла, что именно несет и в каком количестве. Он убедился, что она остается правдивой даже в том случае, когда несет вино в бутылке без этикетки и может смело выдавать его за уксус.
Он уже стал верить ей на слово, но она все-таки всегда совала ему под нос все, что проносила через запретную черту. Чудесная, порядочная девушка, единственная честная представительница женского пола под солнцем! Полгода ликовала душа пана Хохолки, открывшего женскую честность. Потом, после воскресных прогулок с девушкой, во время которых он окончательно убедился, что она не терпит лжи, трепещет перед законом, а к нему относится почтительно, Хохолка женился.
На свадьбе он познакомился с ее отцом и матерью; это были бесхитростные деревенские люди, они уехали сразу же после свадьбы. На прощанье на перроне вокзала теща посулилась приехать в Прагу после жатвы.
Прошло порядочно времени после уборки урожая. Однажды Хохолка стоял на посту и орлиным оком взирал на пешеходов, проходящих мимо него. Навстречу ему поспешала дебелая деревенская тетка в широких юбках, с кошелкой в руке. Это была его теща.
— Доброго здоровьичка, матушка, — сказал Хохолка, — с приездом в Прагу. А что вы несете?
— Да вот хлеба вам привезла из своей пшеницы, — ответила теща, открывая кошелку, — дар господень.
Пан Хохолка любезно распрощался с ней и с минуту смотрел ей вслед.
Вдруг он побледнел, страшная мысль мелькнула у него в голове. Что-то слишком уж широкие юбки у тещи!
В несколько прыжков он настиг ее.
— Ну-ка, разрешите, матушка, — выдавил он из себя и принялся похлопывать ее по юбкам.
— Иисус-Мария! — воскликнул он, ощупывая тещу. — Один гусь, второй гусь! Пройдемте, — заявил он строго и потащил трясущуюся женщину за руку на пункт, где толкнул ее за ширмы и крикнул старой Фоусковой: — А ну разденьте эту деревенскую ведьму!
Это говорил Брут!
Потом, повернувшись к теще, он воскликнул плачущим голосом:
— Что вы со мной сделали, матушка?
Это говорил уже несчастный зять.
И теща, рыдая, в то время как вместе с гусями падали ее нижние юбки отвечала:
— Это мне Маринка написала, чтобы я постаралась как-нибудь переправить их через ваш акциз…
— Маринка? — воскликнул несчастный Хохолка. — Сегодня же вон из дому!
И неумолимый Хохолка, утративший в мгновение ока доверие к жене, сдержал свое слово.
Он выгнал изменницу из дому и теперь еще придирчивей ощупывает мантильки барынек и служанок, что проходят мимо его поста, и грозно — еще грознее прежнего — гремит в каждом трамвае:
— Есть у вас что-либо, подлежащее пошлине?
Сватовство в нашей семье
Из записок примерного мальчика
Ну, и намаялись мы с нашей Лидкой, со старшей, потому что она уже сколько раз на всю ночь уезжала с мужчинами, которые просили маму отпустить ее с ними за город погулять. Как-то пришел пан Сыроватко, чиновник, очень хороший человек, честный — и первым делом к маме да к папе: уж очень просил разрешить Лидке поехать с ним за город. Сыроватко все сморкался и говорил, что он очень порядочный и характер у него прекрасный. Мама сказала:
— Ладно, пусть прогуляется девочка, но чтоб в восемь была дома, два раза ей ужин греть не буду, и вообще позже приходить неприлично, разговоров потом не оберешься.
Пан Сыроватко сразу засморкался и маме в ответ: он-де честный человек, а не какой-нибудь там подлец. Папа сказал:
— Подлец не подлец, а обратно привезите в целости и сохранности, ох, не нравится мне все это!
Только делать нечего, мама что ни скажет — мы с папой сиди и молчи, даже когда мы правы, а она околесицу несет.
В общем, взял, пан Сыроватко Лидку за город. Мама ее перекрестила, а пан Сыроватко сунул мне пятак — вроде как за то, что своего добился.
Времени было уже полдевятого, а о Лидке ни слуху ни духу, в десять подъезд заперли, потом одиннадцать пробило. Мама плакала, а папа съел Лидкин ужин и начал сердито ходить по комнате и кричать, что привлечет его, пана Сыроватко, к ответственности и утром пойдет на него заявит. Мама причитала, что с ними, наверное, что-нибудь случилось. Может, Лидка ногу сломала или шею себе свернула, или утонули оба, а то еще вдруг Лидка потеряла самое дорогое, что ей от матери досталось.
Я удивился, что она такого могла потерять, и получил от папы затрещину, а мама велела мне молиться. Я сказал, что ангел-хранитель Лидку не оставит, я сам рае видел картинку, как ангелочек переводит по бревну над пропастью девочку с цветочками в корзинке.
Но папа, ворчал, что теперь у Лидки главный ангел-хранитель — это пан Сыроватко, а будь лично он девушкой, не хотел бы пана Сыроватко себе в провожатые, да еще ночью.
Было двенадцать, и мама называла Лидку уже не «Лидушка моя золотая», а «потаскуха эдакая» и «беспутница», а папа кричал:
— Это же надо, ухажеры пошли! — Дочь за город отпустить и то боязно!
Мы не спали до трех ночи. В два часа в шкафу что-то треснуло, мама перекрестилась и громко сказала:
— Видно, знак это. Ну ладно, попляшет она у меня!
Кто больше всех обрадовался, так это младшая сестра Маржена, один раз ей самой как следует всыпали, когда она заявилась домой в девять вечера вместо семи. В три часа папа прикончил бутылку рома и сказал:
— Чему быть — того не миновать, молоко пролито, я ему утром все ноги переломаю и сам повешусь, а вас всех прибью, — и захрапел прямо за столом, а мама поскорей лампу задула, чтобы дух ромовый от папы не загорелся. Мы разошлись по кроватям и проспали до восьми часов. Вдруг в половине девятого распахивается дверь, врывается к нам пан Сыроватко и кричит:
— Не пугайтесь, барышня Лидушка домой, идти боится!
Папа сел на кровати, сплюнул и говорит:
— Взяли ее, прогулялись — давайте обратно, а сами катитесь.
Мама, в юбке исподней, на отца топнула, чтоб молчал и не выгораживал никого, да как взъелась на пана Сыроватко, а тот все сморкался и говорил, что он очень порядочный и просто их гроза застала, дождь проливной и жуткий град, мост сорвало, поезда не ходили — вот и пришлось остаться в гостинице на ночь. Маленькая такая гостиница, а дорогая — ужас!
Мама заплакала:
— Господи боже ты мой, гостиница! Ах вы, такой-сякой, ах вы, бесстыдник! Верните мне ее такой же невинной, какой брали.
Пан Сыроватко задрожал весь, даже заикаться стал, мол, Лидушка с дороги вся в грязи, а в гостинице ни коридорных не было, ни щетки.
Папа из постели рявкнул:
— Хорошенькая гостиница!
А мама все плакала и говорила о невинной белой лилии а пан Сыроватко знай долдонил:
— Милостивая сударыня, успокойтесь, я человек честный, я вообще в гостинице не ночевал.
Мама в него как вцепится, да как тряхнет, да как заголосит:
— Что ж я, не знаю, что ли, сама молодая была!
А пан Сыроватко сморкался, мял платок в руках и говорил, что во время прогулки их объединяла только дружеская привязанность, просто дружба, как между отцом и дочерью, например. Папа заорал на кровати: покорно, мол, благодарю за такую дружбу. Мама напустилась на папу, чтоб молчал, и снова взялась за пана Сыроватко, чтобы жениться на Лидушке поклялся перед невинным мальчиком, передо мной то есть, и подвела меня за ухо к пану Сыроватко, который начал краснеть и крик поднял, что не может на Лидушке жениться, потому что уже женат и разведен. Папа как услышал, так и взвился: подайте ему пистолет, а потом хоть на Панкрац. Мама держалась за юбку, будто в обморок собиралась бухнуться, пан Сыроватко жевал свой ус, и тут вбежала Лидушка, заляпанная грязью, заплаканная, упала на колени перед папиной кроватью и зарыдала, что с ней это в первый и последний раз, и что пан Сыроватко порядочный человек и ночевал в комнате рядом. А пан Сыроватко воскликнул:
— Вы совершенно правы, барышня, как же это я забыл. Ух, и клопов же там было, сударыня! Целую ручки! — не успел он толком договорить, схватил шляпу и выскочил в коридор.
Лидушка побежала было за ним, но мама ее схватила, начала трепать, как иногда папу, и сказала, что Лидка стерва, всю семью позорит, поди найди теперь жениха, куда там — на всю округу раззвонят.
В общем, Лидушка стала искать жениха и нашла одного, как папа сказал, филина. На самом деле никакой это был не филин, а шустрый такой господин, звали его Вавроушек. Пенсне носил на черном шнурке, а хлеб у нас всегда наворачивал — чуть не лопался, но старался всячески этого не выдать. Как-то приходит он к нам и просит в воскресенье с ним Лидушку за город отпустить. Папа молчал, только насвистывал себе под нос, а мама посмотрела на Лидку с намеком и сказала, что Лидушка до прогулок за город небольшая охотница. Тут Лидушка сама запросилась: не была, говорит, еще в Ржичанах. пустили бы погулять разочек.
Мама целую речь о чести произнесла, пока пан Вавроушек не достал из кармана платок и не начал сморкаться, в точности как пан Сыроватко, и настаивать, что он ужасно порядочный человек и характер у него золотой. А я слышал, как папа пробурчал:
— Один серебро, другой — чистое золото, господи, помоги!
За город мы ее все-таки отпустили, хоть папа и сказал, что пан Вавроушек — глупый филин, только велели в половине девятого быть дома, а то опять придется ужин разогревать.
Вот уже девять, и половина одиннадцатого, мама места себе не находит и говорит:
— Не дай бог, как в прошлый раз!
В двенадцать часов папа взял расписание поездов, держит его в руке, а сам уже наизусть знает:
— Последний поезд из Ржичан в одиннадцать идет, еще полчаса ждем, а потом я брошусь из окна.
Он пошел на кухню, опять весь ром из бутылки выпил, а к часу ночи распелся:
Мама его даже не одернула и все плакала, что Лидка плохо кончит. Папа лег в постель и тут же захрапел, мы по своим кроватям разбрелись, а мама, прежде чем уснуть, пригрозила:
— Ну, утром они у меня узнают!
И точно, в девять они благополучно вернулись. Филин вел Лидушку за руку:
— Милостивая сударыня, характер у меня золотой, и человек я порядочный. Разве я виноват, гроза началась, дождь проливной, гром гремит, молнии кругом и град жуткий, пришлось в гостинице остаться, но я вел себя честно: я на правой постели спал, а Лидушка — на левой.
Тут папа уже не стерпел, надоело ему молчать, приподнимается он на кровати и говорит:
— Уж не в той ли паршивой гостинице, где Лидка с паном Сыроватко ночевала?
Мама так и прыгнула на папу и стала его душить. Лидка у двери упала, а пан Вавроушек крикнул:
— Ничего себе семейка! — и за порог.
Лидка потом целых две недели ревела, никто с ней не разговаривал, только папа успокаивал:
— Я тебе сам жениха найду. — Искал как проклятый, пока один раз не вернулся домой пьяный в стельку и говорит: — Вот и жених нашелся. Ему хорошая хозяйка нужна, чтоб заботилась о нем, в деле помогала — он трактир свой думает открыть. — Глаза у папы при этом так и светились. — Очень хороший человек, в Прагу специально при ехал, я с ним сразу и договорился: завтра, в воскресенье, к нам приведу, отметим помолвку — чего тянуть-то! Пеки давай каплуна, а я пропущу немножко для храбрости!
Привел он его, за стол сели и Лидку ждем, которая в соседней комнате новую прическу делала.
Вошла Лидка, жених глянул на нее, она — на него, она побледнела, он тоже схватил шляпу — и за дверь. Оказывается, это был официант из той самой гостиницы, где Лидка ночевала с паном Сыроватко и с паном Вавроушеком, когда их за городом заставал жуткий град.
Интервью со связанным офицером
Читателям наверняка известно, что недавно некий храбрый офицер подвергся в поезде нападению двух молодых людей, которые ограбили его и связали. Офицер, однако, проявил такое присутствие духа, что по прибытии в Прагу оставался в вагоне до тех пор, пока не убедился, что парочка эта смылась и ничего больше сделать ему не сможет. Естественно, меня как журналиста храбрый офицер весьма заинтересовал, тем более что о храбрости сейчас порассуждать любят многие, правда, как правило, трусы. А ведь стоит использовать любой случай побеседовать с достойными людьми, заслужившими право на внимание общества.
Вот почему я пошел брать интервью у связанного офицера.
(Девять строк изъято цензурой.)
— Что было бы со мной, поступи я неблагоразумно? Труп, чего тут рассуждать, холодный труп.
— Вы изволили тогда путешествовать в поезде, следующем из Лысой-на-Лабе?
— Да, помнится, именно на этом поезде.
— Вы были вооружены?
— Был. Как обычно, в кармане у меня лежал револьвер, правда, я вам показать его не могу, так как его у меня тоже украли, забрали. Хотели было отобрать и саблю, вот она, можете написать об этом, обыкновенная офицерская сабля. Они хотели забрать и саблю, но я ожег их таким взглядом, что они растерялись, до сих пор у меня перед глазами их растерянный вид. Бедняжки поняли, что он не обещает им ничего хорошего.
— А почему вы не закричали?
— Почему не кричал? Просто я сохранял абсолютное хладнокровие, к тому же у меня во рту был кляп. О, знали бы вы, чего им стоило затолкать его мне в рот! Вот бы вы посмеялись. Они, видать, вообразили, что я проглочу его, потому что разжали мне зубы моим же ножом и запихали мне в рот кляп и вели себя при этом так, будто делали это впервые.
— Вы не могли бы мне рассказать, как, собственно, все произошло?
— С удовольствием. Сейчас вы убедитесь, что значит быть хладнокровным и разбираться в стратегии. Я сидел в купе первого класса. И тут вошли два паренька, совсем еще дети, и один из этих ребят спросил, не к Высочанам ли мы сейчас подъезжаем. Я ему ответил: «Да, дитя мое». Тут тот, кто помоложе, подскочил ко мне, рука в кармане, и закричал: «Руки вверх или прощайся с жизнью!» Другой в это время сидел и весь трясся от страха. Думаете, тому, что помоложе, не было страшно? Он тоже дрожал. Да, забавно было на них смотреть, на этих мальчуганов, таких трусишек.
— И что же вы предприняли?
— Я поднял руки, но как же, поверьте мне, перепугались эти мальчишки! Тут уж было не до шуток. Их так трясло — знаете, я опасался, как бы они не свалились в обморок.
— Итак, вы предпочли поднять руки вверх?
— Да, я не хотел лишать их этой небольшой радости, но, придя в себя, увидел, что мальчишек продолжает трясти, один из них держал мой револьвер, но руки его дрожали, он, видно, боялся, что попадет в меня или в себя; как тут было не сжалиться над этим хлюпиком. Воину не положено испытывать сострадание к врагам отечества, но он может быть великодушным. Я так и сделал — проявил великодушие и благородство… Вы полагаете, я поступил неверно? Паренек этот даже не знал, как обращаться с револьвером, он лишь махал им у меня перед носом, разумеется, от страха, как бы не попасть в себя. Сморчок производил удручающе жалкое впечатление, и я от этого потерял сознание. Когда же я вскоре очнулся, мальчишки связывали мне ноги. Это надо было видеть — прежде им, вероятно, приходилось связывать только телят, но не людей, и они думали, что, связав мне ноги, они сделают меня совершенно безвредным.
— А ваши руки?
— Я же говорил вам — я их поднял, уступая этим ребятишкам. Кстати, не могу не заметить, что по натуре своей я человек строгий и твердый, солдат до мозга костей, но детей очень люблю и люблю с ними играть.
— А почему вы не позвали на помощь?
— Я же говорил вам, что во рту у меня был кляп! Ох, вы бы посмеялись, если б видели, как потешно они выглядели, заталкивая его мне в рот.
— Простите, а что было потом?
— Спрашивайте меня о чем угодно, я опишу вам точно, как все происходило. Они мне связали ноги, а потом и руки, да, надо было видеть, какого это им стоило труда. Сил-то, понимаете, у малых ребят немного.
— И тогда они отобрали у вас и деньги?
— Да нет, деньги они отобрали еще раньше, похоже, сразу двадцати крон им прежде никогда и видеть не приходилось. И они тут же поделили их между собой.
— Я слышал, у вас были и часы?
— Да, часы они у меня тоже взяли, но тут же вернули по моей просьбе, когда я объяснил им, что часы — память об отце, отличившемся на войне против Италии в 1866 году. Славные, добрые ребята, они плакали вместе со мной. Это я еще был без кляпа.
— А потом что?
— Потом они привязали меня за ноги к вешалке, и младший сказал: «Всего вам доброго, пан офицер, и не сердитесь на нас, нам очень хотелось сходить в кино».
— А сигареты они у вас не взяли?
— Да вы что, как вы могли такое подумать — что бы малыши с ними делали? Вот и вся история.
— Позвольте еще спросить, а что за кляп засунули они вам в рот?
(Пять строк изъято цензурой.)
Как уездный начальник пан Скршиванек боролся с дороговизной
Его императорского и королевского величества уездный начальник, пан Скршиванек, взволнованно расхаживал по своему кабинету. От него только что ушла депутация граждан, приходившая с просьбой принять срочные меры против чрезмерного роста цен на продукты питания. Пан Скршиванек отпустил их, пообещав сделать все необходимое, что в его силах.
Удивительно, что люди способны так волноваться из-за подорожания провизии.
Сам он ввиду дороговизны получил уже третью надбавку к жалованью и при обилии других неотложных забот ничуть не беспокоился о ценах на мясо, масло, сало, молоко, муку, хлеб, сахар, картофель и прочие продукты, необходимые для повседневного потребления.
Он взволнованно расхаживал по просторному кабинету, размышляя о том, что обещанное будет нелегко выполнить.
За обедом он поинтересовался у жены, сколько стоит рис для супа, сколько говядина и телятина, почем голуби и картошка. Жена позвала кухарку, и та обо всем доложила. Это стоит столько-то, это — столько-то.
Уездный начальник все тщательно записал на клочке |бумажки, но после обеда машинально его скомкал и выбросил в ящик у печки, сам же отправился в кофейню перекинуться, как всегда, в картишки.
Там собралась вся их компания. Пан государственный советник и пан коммерческий советник, директор банка и полицмейстер.
Усевшись за стол с зеленым сукном, начали они, как обычно, играть в фербла. Полицмейстер предложил ввиду всеобщей дороговизны делать ставки не по десять, а по двадцать крейцеров.
Уездный начальник проиграл 120 крон и пошел домой в довольно мрачном настроении.
«Вот и на картах отразилась дороговизна», — вздохнул он. (Впервые задев и его интересы.) И уездный начальник задумался, что предпринять против дороговизны.
Он ничего не придумал, полистав законы, тоже не нашел ничего, что могло б ему пригодиться, вечером позвал за ужином кухарку и стал расспрашивать ее, сколько стоит бифштекс, сколько стоит карп, почем яйца, и все это записал на листке бумажки.
А прежде чем лечь спать, он вызвал звонком кухарку и спросил, сколько стоит кофе, и ответ запечатлел на бумаге, которую положил на ночной столик. Лежа в кровати, он снова пересмотрел все эти цифры и ничего из ряда вон выходящего в них не нашел.
Вздохнув из-за того, что они доставляют ему столько забот, он скомкал бумажку, бросил ее в угол и уснул.
Назавтра было воскресенье, и он всей семьей на целый день отправился в Розтоки. В Розтоках они пообедали. Расплачиваясь за обед, он порадовался, что ему не приходится беспокоиться о ценах, поскольку этот городок не в его уезде. И когда отдыхали в лесу, он радовался, что здесь его не достигнет никакая депутация.
Лишь когда вечерним поездом они вернулись домой, уездный начальник, проходя мимо кухни, увидел кухарку и не удержался, чтобы не спросить:
— Скажите, а сколько стоит утка?
И сам не заметил, как оказался в кухне, пожалуй, второй раз с тех пор, как его назначили в этот уезд, и, разглядывая всевозможные полочки и разные пряности на них, стал расспрашивать:
— Сколько стоит перец? А гвоздика? А шафран?
Кухарка ему отвечала, он впервые заметил, какие у нее румяные щечки, округлые бедра, красивые, пухлые губки и большие глаза, преданно смотревшие на него. Кухарка же продолжала:
— Перец, милостивый пан, стоит столько-то, гвоздика — столько-то, а шафран — столько-то.
— Сколько вам лет?
— Двадцать два, милостивый пан.
Он пристально оглядел ее с головы до ног. «Совсем, что ли, ослеп, — подумал он, — такой клад не заметил». И принялся ходить по кухне, с явным волнением ткнул пальцем в мешочек с мукой и спросил:
— Сколько стоит мука? — Потом, подойдя к приоткрытой двери в чулан, приметил в нем горшок с повидлом и спросил: — А повидло? — Наконец присел и, весь дрожа от служебного рвения, сказал: — Покажите чулки!
Она показала ему свои ножки, маленькие, с округлыми крепкими икрами, и он небрежно уточнил:
— Сколько стоят чулки? — И опять взволнованно ходил по кухне, извергая вопросы: — Сколько стоят яблоки? А это сколько за килограмм?
И при этом наклонялся над ней, когда она нагибалась, чтобы вытащить банку с вареньем, на которую он указывал.
— Ладно, ладно, — говорил он погодя, заслышав шаги супруги и ощущая ее присутствие за дверью. Подойдя ближе к дверям, он громогласно произнес:
— А теперь скажите мне, сколько стоит килограмм говядины?
Покинув кухню и проходя мимо жены, он бросил ей:
— Да, спроси-ка еще, пожалуй, почем нынче телятина?
Ночью жену разбудило подозрительное шарканье, и когда потихоньку, со свечкой в руке, она отворила двери в переднюю, то увидела собственного супруга, стучавшегося в комнату кухарки.
Пан уездный начальник, оценив ситуацию, застучал еще сильней и закричал:
— Так скажите мне еще, сколько стоит килограмм свинины?
Печальная участь вокзальной миссии
Княжна Юлия была очень добродетельная, что немало значит при нынешней испорченности нравов. В восемнадцать лет, неиспорченная сердцем, она умела так говорить о проституции и борьбе с нею, словно княжне самой пришлось испытать все страдания падших женщин в домах с дурной репутацией. Ее мать, княгиня Больдерй, собрала вокруг себя цвет самых нравственных дам — дворянок и мещанок; и очень часто в присутствии невинной Юлии они обсуждали вопрос о том, как уберечь девушек от домов позора. В первую очередь речь шла о неопытных девушках, которые даже не подозревали, какие козни готовятся им в большом городе, и которые понятия не имели, что грозит им со стороны общества, собравшегося вокруг княгини Больдерй.
Дело в том, что жена коммерции советника Вальдштейна предложила, чтобы деревенских девушек еще на вокзале предупреждали об опасностях, которые подстерегают их в городе. Этим она сослужила плохую службу старой баронессе Рихтер. В час прибытия поезда из Табора баронесса отправилась на вокзал и, повстречав какую-то статную девушку, только что вышедшую из вагона, обратилась к ней со словами:
— Куда ты идешь, есть ли у тебя работа, деньги, есть ли родственники в Праге?
Девушка посмотрела на нее, как на сумасшедшую, а потом решительным тоном заявила:
— Отстань от меня, старая ведьма, а то я тебя так двину!..
Продолжения добрейшая баронесса не слышала, потому что упала в обморок. С тех пор она заикается.
Когда баронесса, заикаясь, доложила у княгини Вольдери о результатах своей миссии, госпожа Запп, та самая госпожа Запп, которая прославилась своей книгой для юных девиц о вреде и греховности танцев, предложила организовать на вокзалах охранную миссию. Дамы, которые пожелают в нее вступить, должны носить знаки отличия. Что же лучше можно было выбрать для этого, как не образ самой добродетельной девы, которую когда-либо рождал мир, — образ девы Марии с младенцем, зачатым столь чудесно? Пригласили отца Захария из кармелитского монастыря. Он одобрил эту идею и нарисовал ленту, а на ней крест, в центре которого должно было находиться изображение матери божьей, как символ девственности. Были выбраны цвета папы римского — желтый и белый — символ веры. В целомудрии папы никто, разумеется, не сомневался. Было ясно, что девушек надо спасать в католическом духе, особо подчеркивая преимущества благочестия, ибо даже и самый навязчивый сводник отступит перед девушкой добродетельной, перебирающей четки, которая ни на что не обращает внимания и без конца молится, повторяя одну из прекрасных литаний: «Спаси нас от соблазна, господи!» А если к тому же девушка стара, горбата и крива, то она тем паче избежит рук сводников, ибо в ней зреет вера в вечное блаженство, а религиозные убеждения спасают от домов позора и от моральной испорченности.
Итак, была создана вокзальная миссия. Советница Вальдштейн первая удостоилась чести получить повязку, которая сразу объясняла, почему эта дама так долго прохаживается по вокзалу и осматривает каждого. Советница Вальдштейн вышла спасать неопытных девушек, приезжающих в Прагу.
Для этих девушек приготовили две комнаты, обставленные скромно, но с тонким пониманием того, в чем нуждаются невинные души неопытных деревенских девиц.
Куда бы ни взглянула девушка, отовсюду на нее смотрел изможденный лик распятого Спасителя, а если б она бросила взгляд на потолок, то и там увидела бы нарисованный крест.
Повсюду среди крестов, напоминающих, что она должна хранить свою невинность хотя бы ради Того, кто для нее пожертвовал собою, были начертаны надписи, категорически призывавшие: «Не сотвори прелюбодеяния!» Правда, княжна Юлия, всегда тактичная и хорошо воспитанная, в невинности своей предложила написать: «Пожалуйста, не творите прелюбодеяний!» или: «В случае прелюбодейства обращайтесь в правление общества». Добрая, невинная княжна Юлия! Значение слова «прелюбодеяние» было ей столь же далеко, как для пастуха с Апеннин далеко значение слов «радиоактивность» и «Гауч».
Итак, советница Вальдштейн прогуливалась по вокзалу, поджидая поезд. Как только на перрон ступила первая девушка с чемоданом в руке, госпожа Вальдштейн бросилась к ней со всем присущим ей пылом. Сердце госпожи советницы было преисполнено энтузиазма, и поэтому она даже не заметила, что в сутолоке повязка упала у нее с рукава. В мгновение ока выхватила она у девушки чемодан, но в эту минуту подоспел полицейский, арестовал ее и при большом стечении народа повел в участок.
Госпожа Вальдштейн сначала подняла крик, потом начала растолковывать и объяснять, что она не воровка, а представительница вокзальной миссии. Чем дальше они шли, тем больше она запутывалась и, наконец, в полуобморочном состоянии принялась проповедовать, упрашивая полицейского отказаться от подобного образа жизни и остерегаться сводников.
В участке все выяснилось, но это не помешало одному журналу, резко критиковавшему буржуазию, поместить заметку под названием «Странный случай клептомании». Позднее статья была опровергнута, но все равно это был позор. Жена коммерции советника Вальдштейна вышла из вокзальной миссии. Ходили слухи, что она вложила деньги, полученные в наследство от матери, в большой публичный дом в Усти-на-Лабе, который приносит ей пятьдесят процентов прибыли.
Неудача не смутила самоотверженных дам, наоборот, она вызвала в них такое стремление к самопожертвованию, что княгиня Больдери сама отправилась на вокзал и с триумфом привела девушку, живо заинтересовавшуюся благотворительной организацией.
Девушку в сопровождении дам ввели в убежище миссии. До десяти часов вечера ее наставляли, рассказывая о моральной испорченности, которая грозит юным девицам в городе. Невинная княжна Юлия простилась с первой жертвой вокзальной миссии словами: «Не прелюбодействуйте, от всего сердца прошу вас!» Девушке вручили ключ от комнаты и сообщили, что она может оставаться здесь до тех пор, пока не найдет работу.
Девушка прожила там неделю. Первые два дня она вела себя прилично, а потом начала водить мужчин в свою комнату, в это священное пристанище.
Это был страшный удар для отца Захария из кармелитского монастыря, он узнал об этом, явившись к девушке рано утром, чтобы в свободную минутку подготовить ее к близящемуся празднику пасхи, который так много значит для пылких религиозных душ.
Какой ужас! В довершение парень, находившийся в комнате юной девицы, вышвырнул досточтимого отца, и печальная весть о падении нравов дошла до ушей той, которая всеми силами боролась против безнравственности, — благородной княгини Больдери.
Но никто не знает, какая готовность к самопожертвованию кроется в сердцах таких дам. Теперь спасать девушек отправилась на вокзал графиня Сольвар, но так как эта почтенная дама была очень близорука, то привела с собой горбатую бабку, которой всю дорогу в экипаже твердила:
— Благодарите бога, девушка, что я спасла вас от рук сводников!
Стоит ли отчаиваться из-за столь невинной ошибки! Добродетельная княжна Юлия попросила у своей матушки княгини разрешения самой встречать на вокзале приезжающих девушек.
О благородная невинная княжна! Когда она ждала поезд, к ней подошел элегантный молодой господин и с интересом начал расспрашивать, что означает повязка на рукаве и каковы задачи вокзальной миссии. Добрая княжна раскрыла ему свое девственное сердце. Он, молодой и элегантный, представился ей князем имярек, и они разговорились очень дружески.
Бедная, невинная, юная и добродетельная княжна Юлия! Он похитил ее, несчастную жертву вокзальной миссии, невиннейшую лилию, чудесный бутон добродетели. Мерзавец продал ее за сто крон в один пльзеньский публичный дом.
Перо падает из рук моих. Печальная участь вокзальной миссии трогает до слез, и пишешь, плача, как это делает мой друг Гаек, когда составляет некролог о своем шефе.
1912
Заметки пани Едличковой о моде
Я редактировал местную газету «Независимость». Теперь, имея за плечами опыт работы в прессе, могу сказать со всей определенностью: как только появится какая-нибудь газета под названием «Независимость», это означает, что нашлось несколько состоятельных людей, которым захотелось всех обругать, и они создали «Независимость».
Подобным целям служила и эта газета. Работы у меня было немного, потому что издатели засыпали меня статьями, которые я лишь подготавливал к печати. В основном поставляли их местный аптекарь, плативший мне жалованье, затем два владельца колониальных лавочек и один скототорговец. Они с большим темпераментом вели огонь по ратуше.
Больше всего статей приносил скототорговец. Он обожал лаконичные выражения, которые хотя и носили фрагментарный характер, но тем не менее были столь ядрены, что мне приходилось вычеркивать по полстатьи. Принес он, например, письмо из города, как он заявил.
— Это против ратуши, в первую очередь против бургомистра, — сказал он, извлекая из кармана виргинскую сигару. Такая у него была манера. Этой сигарой он вроде подкупал меня.
Статья называлась: «Я знаю тебя, хромой черт!»
— Вы же знаете, он хромает, — произнес скототорговец, — а еще бургомистра обзывают колченогим.
Стало быть, статья направлена против бургомистра. Далее он уже именовался полностью и текст звучал так: «Кто возражал против того, чтобы продать часть общего городского луга пану Едличке? Почему продали ее этому сквалыжнику Мейстршику? Говорят, две св… всегда друг друга найдут, вот пан бургомистр и пан Мейстршик и упали в объятия друг друга».
— Это св с точками я вычеркну, пан Едличка.
— Да вы что, пан редактор, в точках после св весь эффект. Тут есть изюминка, каждому сразу станет ясно, что св с точками означает мерзкие «свиньи», и все станут смеяться над Мейстршиком и над бургомистром. Дальше вы увидите еще сокращение про и шесть точек, это значит не «прохвосты», а «проклятый», то есть проклятый бургомистр! Сокращение д с четырьмя точками означает «дурак», тут каждый читатель сразу догадается. Не вздумайте все это сокращать.
Тщетно объяснял я ему, что газета не может напечатать ни св, ни про, ни д, ни остальные, написанные полностью оскорбления, — пан Едличка упрямо настаивал, что в таком случае следует переговорить со всеми издателями газеты и вечером встретиться у пана аптекаря.
В тот вечер в доме аптекаря шла жестокая баталия по поводу того, свалят или не свалят св с четырьмя точками и остальные сокращения бургомистра и его клику.
Я доказывал, что, как ответственный редактор, предстану перед судом присяжных и окажусь в тюрьме, если только все это напечатаю.
Тогда издатель пан Скорковский припомнил Барака и Трегра, журналистов, которые за такое сидели в тюрьме, что, по его мнению, только делает им честь.
Пан аптекарь разделял мою точку зрения. Он соглашался, что существует резкая манера письма, но статья пана Едлички все-таки слишком уж резкая и оскорбления следует вычеркнуть.
— Если не будет «свиней», «проклятого» и «дурака», — вскричал пан Едличка, — статья лишится всей прелести!
Пан Скорковский и пан Павлоусек были на его стороне.
Послушай нас кто посторонний, он бы, наверное, удивился, что из аптекарского дома то и дело доносятся слова «свинья», «проклятый», «дурак».
Я кротко толковал о благопристойности печати, пан аптекарь меня поддерживал, но пан Едличка и остальные упорно стояли на св с четырьмя, про с шестью и д с четырьмя точками.
Дебаты становились все более бурными. Пан Скорковский упрекнул меня за то, что в его предыдущей статье я вычеркнул фразу: «Если же кто из честных граждан случайно завернет в зал заседаний ратуши, пусть поскорее зажмет нос и бежит из этого места смрада и порока».
— А еще вы не опубликовали, что у бургомистра новая прислуга, с которой он по ночам гуляет в саду.
— Да вы же сами, пан Павлоусек, признались, что вам это только приснилось.
— Не спорю, пан редактор, но ведь статья и называлась «Сон налогоплательщика об одном бургомистре из нашего города». Помните, я вам сказал, что это отличная вещь и годится для подвала? Там еще бургомистр превращается вдруг в верблюда. А вы это до сих пор не опубликовали!
И тут пана Едличку осенило:
— Если вы не напечатаете мою статью, — заявил он, вставая, — можете писать эти глупости сами.
Так я лишился сотрудников. Забастовали и пан Павлоусек с паном Скорковским.
На следующей неделе в редакции появилась пани Едличкова, дама преклонного возраста, одетая с такой ужасающе дикой безвкусицей, которая непростительна даже для провинциальных дам.
— У меня к вам просьба, пан редактор, — заявила она, вытаскивая из кармана пачку листков. — Я давно наблюдаю за развитием моды, а поскольку в вашей газете нет рубрики, посвященной этим вопросам, я собираюсь информировать здешних дам о новых направлениях в моде. Надеюсь, вам понравится.
Она разложила передо мной листки, и я прочел:
«Совершая нынешней осенью променад по нашему городу, можно увидеть необычайно пеструю картину. Вот идет дама в широченной шляпе, а рядом с ней другая, в суконной кепке. Первая прихрамывает, а вторая так и печатает шаг. У обеих стоптаны каблуки, что свидетельствует о плохом вкусе. Это пани почтмейстерша и пани лесничиха. За ними следует еще одно пугало, воображая, что раз она купила осеннее пальто из зеленоватого английского букле с накладными карманами, так уж умнее ее никого и на свете нет. А между тем она меняет белье раз в год по обещанию, так что любая дама при встрече с ней имеет все основания воскликнуть: «Дорогая пани Краловцова, сверху-то фу-ты ну-ты, а снизу — тьфу ты!» Вероятно, преждевременно говорить об осенней моде, но пани бургомистерша уже десятый год носит один и тот же жакет, только в нынешнем году она его перелицевала, но до сих пор не расплатилась за это с портнихой в Кутной Горе.
Далее шествует пани Кромбгольцова, но она доходит лишь до почты и поворачивает обратно, продемонстрировав свое новое осеннее платье из ворсистой шерсти, за которое будто бы заплатила пятьдесят гульденов. Если она заплатила за него столько же, сколько за утку той крестьянке на рынке, которая, обнаружив кражу, ткнула ей этой уткой в размалеванную физиономию, то мы поздравляем ее с дешевым осенним туалетом.
Красивый осенний наряд и у супруги первого советника магистрата пани Борковой, которую всюду называют полоумной. Ей так хочется казаться молоденькой, что она носит короткие юбки. Такую юбку не нужно придерживать и приподнимать при ходьбе, руки у нее остаются свободными, вот она их и запускает в мешки с орехами и компотом у купцов Скорковского и Павлоусека. Похоже, что пани Боркова прекрасно сможет воспользоваться новым фасоном рукавов — с буфами у локтя. Недавно она вытрясла из рукава больше килограмма слив. По крайней мере, дома было что поесть.
Думаю, что после того, как жандармский вахмистр у фонтана похлопал дочку бургомистра по одному месту, узкие юбки выйдут из моды. Дальше суживать юбки просто немыслимо, потому что бедная девушка и убежать-то в такой юбке не сможет, когда к ней придет ее жених пан Знаменачек. По-видимому, в моду снова войдут кринолины, тогда пани Кроуповой будет где спрятать пана учителя, если ее муж неожиданно вернется от «курочек». В следующий раз мы сообщим кое-что по поводу чулок пана бургомистра».
— Опубликуйте это, — решительно потребовала пани Едличкова и сладким голосом добавила: — Не то я выцарапаю вам глаза!
Вот так вместо «Независимости» я и очутился в доме для слепых в Градчанах.
Мой золотой дедушка
У каждого из нас есть дедушка. Объяснить это очень интересное явление можно только законами природы. В первую очередь надо принять во внимание закон размножения млекопитающих (жутковатым примером которого является отец моего дедушки).
Мой дедушка бесспорно был млекопитающим и от млекопитающего родился, а ни в коем случае не произошел делением, как большая группа простейших клеточных Doliulum[44]. Так что этого вполне достаточно для объяснения и моего происхождения. Надо только сказать, что тем же способом, что и дедушка, родился и я, а как только я появился на свет, у меня уже, как ни странно, был дедушка. Это очень интересно.
Разумеется, не каждый обязан иметь дедушку… Извините, пишу я все это в два часа ночи в «Монмартре», и в голове у меня что-то путается.
Итак, если у человека есть дедушка, у него должна быть и бабушка, это же ясно, как божий день, ведь не будь у меня бабушки, у меня не было бы и дедушки. Мне кажется (а в два часа ночи это может только казаться), это очевидно.
Дедушку, конечно, я мог бы и не знать, такие случаи уже бывали с людьми недворянского происхождения. Впрочем, я-то происхождения дворянского, поскольку один мой прадедушка во времена гуситских войн швырял вонючие горшки в замок Карлштейн (см. «Хронику гуситских войн» Заппа, глава уже не помню какая, да и страница тоже, под названием «Ян Гашек из Острога, разбойник и дворянин»). Так как человечество размножается, и каждый знает своего прапрадедушку, то он должен знать и дедушку, и я его узнал сразу же после рождения, не прилагая особых усилий.
У диких млекопитающих есть дурная привычка пожирать детенышей, так, например, кабан может сожрать свое потомство, а если к этой трапезе подоспеет и отец кабана, он тоже примет участие в этом великом торжестве.
Однако дедушка сумел избежать действия этого закона природы, поскольку был чрезвычайно порядочным человеком.
Я буквально со слезами на глазах пишу эту фразу. Потому что все, знавшие моего дедушку, очень уважали его. Молодость его протекала в исключительно достойном русле. У него лишь однажды в жизни была неприятная болезнь, и ту он подцепил на маневрах, когда справлял малую нужду против ветра. Его продул ветер. Потом он сильно мучился из-за этого ветра.
Я не хочу тут распространяться о молодости этого скромного мужа, мало что подумает цензура?
Однако, достигнув возраста, когда страсти его улеглись, он стал необыкновенно порядочным человеком.
Все то, что сегодня волнует мир, было ему чуждо. Мир его вообще не волновал.
Женившись, он вел размеренную жизнь человека, сознающего свои обязанности, о которых так прекрасно сказал знаменитый экономист, покойный министр Браф: «Чем многочисленнее нация, тем большего может она добиться в экономике. Взять хотя бы Францию, господа!»
Из отношений между сыном моего дедушки и женой его сына расцвела новая ветвь старого нашего рода, а именно я. Невинным цветком была украшена старая ветвь (см. опять-таки законы природы о размножении млекопитающих). В конце концов мой дедушка достиг того возраста, когда эти законы стали ему решительно чужды. Лишь Кралицкая библия с рассказами о сотворении мира была ему лучшим утешением и напоминала о былой славе драгуна.
А потом и Библию он забросил в печку и стал церковным сторожем. В день святого Яна водил паломников в Королевском замке вокруг статуи святого Яна, которого, как утверждает д-р Дворжак, безжалостный король Вацлав велел утопить во Влтаве.
Дедушка стал невероятно набожным человеком и правой рукой нашего священника в Козованах.
Еще живы в памяти те времена, когда в день святого Яна паломники улеглись вокруг статуи святого и дед сделал то же самое, но проснулся он в четвертой камере полицейского участка, так как стражники никак не могли его добудиться.
Он проснулся там на нарах с торжественным пением, которое неслось из его широко разинутого рта. Бедный дедушка…
В этом году на святого Яна я побывал у Глаубицев и Монтагов, а еще у «Томаша» и возвращался через Карлов мост.
Возле украшенной статуи святого я обо что-то споткнулся.
Это что-то был мой дедушка.
Нужно ли мне описывать эту случайную встречу? Описывать пьяного внука, который спотыкается о дедушку?
У кого еще остались в сердце возвышенные родственные чувства, тот, конечно, поймет трогательность нашей встречи.
Я поставил дедушку на ноги, протер глаза (как пишут в романах) и воскликнул. По правде говоря, я ничего не воскликнул, ибо не в состоянии был произнести ни слова, временно конечно, потому что если кто-то встречается с внуком и если кто-то является дедушкой… а если нет, то внук отпадает сам собой и тогда никакого эффекта!..
Короче говоря, я потащил своего набожного дедушку в «Монмартр».
* * *
Здесь я поставил три звездочки. Мой дедушка в конце концов спал в боксе, а когда вернулся домой к своей жене, моей золотой дорогой бабушке (такое повторяется изо дня в день), он хлопнул ее по спине и сказал, причем глаза его сияли неземной добротой:
— Ты, девка, совсем не такая, как эти жабы из «Монмартра»!
Сказка о трагической судьбе одного порядочного министра
Я сознаю: стоит пану прокурору прочесть заглавие моей сказки, он грозно нахмурится и скажет:
— Слово «порядочный» следовало бы вычеркнуть: нельзя, а то народ подумает, будто на свете есть и непорядочные министры. Но если это слово вычеркнуть — жди запроса в парламенте, станут допытываться у министра: разве оскорбительно назвать министра порядочным?..
Я прекрасно понимаю: случай весьма соблазнительный, но что поделаешь. Самое большее, чем может заниматься наш пан прокурор, — это защищать австрийских министров. Между тем действие моего повествования происходит не в Австрии и вообще не в какой-либо известной стране, речь идет о государстве выдуманном, потому я и назвал это сказкой.
Но перейдем к рассказу. Жил-был один король, и был у него министр, человек честный, порядочный, звезд с неба, правда, не хватал, но этого ему никто и не приписывал. Поначалу он мало чем отличался от своих предшественников. Ужасно обрадовался, когда к нему стали обращаться «ваше превосходительство», принимал поздравления, важничал и был счастлив.
Но не прошло и месяца, как начальники отделении после докладов его превосходительству стали рассказывать невероятные вещи. Пан министр рассеянно выслушивал их сообщения, целыми часами сидел он за письменным столом, устремив задумчивый взгляд в пространство. И становился все более и более странным. Эта метаморфоза не укрылась и от семьи пана министра. Но сколько его ни пытали, что с ним, не занемог ли, не обеспокоен ли чем, он либо отвечал уклончиво, либо попросту отмалчивался. Только однажды, когда пан министр казался веселее обычного, выходя из дому после завтрака, он произнес ужаснувшие пани министершу слова:
— Сегодня с утра иду к королю, подаю прошение об отставке.
Пани министерша с досады лишилась чувств, но не успела она еще очухаться, как ее супруг уже предстал перед королем.
— Ваше величество, — сказал он, — прошу освободить меня от должности министра, у меня есть на то серьезные причины.
— Дружище, — произнес король, — ты что, с ума сошел? Где это видано, чтобы кто-то ни с того ни с сего подавал в отставку?
— Причина, ваше величество, у меня есть, но позвольте не объяснять ее. Мне стыдно говорить об этом, лучше сквозь землю провалиться.
— Послушай, — спросил король, — что ты там натворил? Приказываю, немедленно изложи мне свои причины.
— Хорошо, — удрученно ответил министр, — раз ваше величество приказывает, что поделаешь. — И чуть слышно добавил: — Прошу освободить меня от должности министра ввиду того, что я решительно не способен исполнять обязанности министра.
Потом склонил голову, покорно ожидая громы и молнии, которые должны теперь на него обрушиться.
Но король молчал, и он, робко подняв глаза, с изумлением увидел, что король смеется, да так, как сроду не смеялся. Министр был поражен.
— Стало быть, милостивый король, моя отставка принята? — несмело произнес он.
— Чтобы я дал тебе отставку? — сказал король. — За то, что ты не способен исполнять свои обязанности? Дружище, тогда мне пришлось бы выгнать почти всех моих чиновников. А что касается министров, то известно ли тебе, что ты вообще первый порядочный министр из всех, которые у меня были? И знаешь, почему? Ты был искренним, и я отвечу тебе тем же: насколько мне помнится, способных министров у меня вообще не было. Но ни один в том еще не признавался, хотя это было ясно, как божий день, не только для них самих, но и для всех в королевстве. И вдруг приходишь ты и требуешь отставки. Это делает тебе честь и радует меня. Ты мой первый порядочный министр. Все остальные прикрывали свою бездарность потоком речей и фраз и ловчили, как бы подольше удержаться у власти. Ты совсем другое дело! И чтоб я лишился подобного сокровища? Даже не подумаю! Ты останешься министром, мой дорогой, останешься и будешь служить мне до последнего вздоха! Ясно?
И министру пришлось повиноваться. Когда дневные газеты сообщили, что отставка пана министра не принята, пани министерша облегченно вздохнула и приказала приготовить его превосходительству на ужин его любимые блюда.
Но на этом дело не кончилось. Пан министр был задумчивее и печальнее прежнего. И неудивительно. Вопрос, может ли он оставаться министром, занимал все его помыслы и превратился для него в дело чести. Пан министр рассуждал так: «Если я вновь подам в отставку, то это, как сказал король, явится попыткой лишить страну первого, порядочного министра, а подобная попытка, по сути дела, государственная измена. Если же я не подам в отставку, хотя и понимаю, что в министры не гожусь, — разве и это не государственная измена, черт меня побери! Выходит, как ни кинь, я совершаю государственную измену. Просто отчаяние берет. Короче говоря, мое место за решеткой, а я сижу здесь, позволяю расточать себе комплименты, называть меня, государственного изменника, «ваше превосходительство»! Ума не приложу, что делать!»
Пани министерша полагала: раз король не принял отставку ее супруга, можно рассчитывать на полную министерскую пенсию, а то и на особое денежное вознаграждение со стороны короля. И когда пан министр снова принялся излагать ей свои сомнения, ее чуть удар не хватил.
И муж не знал, как поступить, и у нее голова шла кругом. Что делать? Наконец ее осенило. Для чего, собственно, на свете существуют психиатры? Эта мысль оказалась спасительной. Да, психиатры должны помочь. Судя по всему, ее муж ненормальный! Бедняжка! Под бременем правительственных забот рассудок его помутился! Так будет сохранена министерская пенсия, обеспечена признательность короля, словом, все!
И вот созвали консилиум лучших психиатров страны.
Пани министерша напряженно ждала, что они скажут и чем все кончится. Кончилось недурно.
— Выходит, он в самом деле ненормальный? — спросила она.
Врачи пожали плечами.
— Как человек он может и должен быть признан нормальным, ваше превосходительство. Но как министр он поистине ненормальный.
— И это точно?
— Ну еще бы! Разве существовал когда-нибудь на свете хоть самый безмозглый министр, который считал бы, что сидит не на своем месте? — ответили врачи в один голос.
Пан министр окончил свои дни в психиатрической лечебнице. Такова была трагическая судьба первого порядочного министра в некоем царстве, в некоем государстве, за семью горами, за семью морями.
Наказание с тетей
Из рассказов маленького Карличка
У нас живет старая тетя. Папа рассказывал, что двадцать лет назад она приехала из деревни погостить на денек-другой и привезла творога на 12 крейцеров. С тех пор она у нас, два дня продлились до двадцати лет. Она здоровая, как бык; когда же лет пять назад у нее опухли ноги, папа обрадовался и пообещал нам кубики. Только ноги у тети прошли, а мы остались без кубиков. Я ужасно разозлился за это на тетю, купил чесотный порошок и уже три раза сыпал его ей за шиворот, когда она дремала над молитвенником. Молитвенник у нее тяжелый и сильно обтрепанный, потому что тетя кидается им то в папу, то в маму. Когда я насыпал ей за шиворот порошка, она принялась ерзать и дуть себе за пазуху, но от этого стало еще хуже, и она побежала к соседке по коридору и кричала там, что мы развели клопов, а постель ей нарочно не меняем, чтобы клопы сожрали ее, и таким образом мы мечтаем избавиться от несчастной старой тети.
В другой раз, когда она заснула, положив голову на молитвенник, я насыпал ей под нос чихальный порошок. Она от этого совсем обалдела и побежала по соседкам и везде рассказывала, что мы стаскиваем с нее ночью перину и открываем окно, чтобы простудить ее. При этом она чихала — чуть не лопалась, а я радовался, потому что папа на кухне как-то сказал, когда тетя чихнула:
— Чтоб ты лопнула, старая карга!
А когда тете стало нехорошо, папа тоже обрадовался и сразу позвал к ней доктора; папа надеялся, что доктор скорей нам поможет. У папы такое мнение о докторах с тех пор, как он прочел про случай в Америке, когда один пришел в лечебницу с больным зубом, а ему вместо зуба по ошибке удалили слепую кишку. Папа все время повторяет:
— Нет, нет, без доктора нам с ней не справиться.
Старуха и слышать не хотела о докторах, но все же ее удалось уломать. Пришел доктор, стал ее прощупывать и выстукивать, а она раскричалась, что не переживет подобного позора, потому что ее уже пятьдесят лет никто так не щупал. Сейчас тете семьдесят. Папа в соседней комнате весело потирал руки и приговаривал:
— Не переживет, она этого не переживет, слышишь, Карличек!
Потом мы вошли к тете. Она была вполне жива и во все горло кричала:
— Ох-хо-хо, пан доктор, они же, изверги, есть мне не дают, пресвятая дева Мария, они ж не чают меня голодом уморить, чтоб избавиться, а ежели когда и бросят сухую корочку, так потом цельную неделю попрекают!
А сама-то на тарелку всего больше съедает и папы и мамы!
— Ох-хо-хо, золотой мой пан доктор, дайте мне какого яду, я отмучаюсь поскорее, чтоб не помыкали они мной, как распоследней собакой!
Доктор успокаивал ее и при ней сказал папе, что пропишет лекарство — крепкое вино, пусть она пьет его ежедневно.
Старуха завизжала:
— Золотой мой пан доктор, вы один-единственный порядочный и добрый человек на всем белом свете!
Доктор стоял возле ее постели, а она как схватит его и давай целовать в лоб, хорошо еще, глаза ему не выколола щетинами, что растут у нее на подбородке.
Папа проводил доктора до передней и спросил дрожащим голосом, когда и чего нам ждать с тетей. Доктор ответил, что она может прожить еще сто лет.
Папа вернулся в комнату, всплеснул руками и воскликнул:
— Нутро у нее здоровое, вот несчастье-то!
А старуха принялась кричать:
— Где же мое вино? За чем дело стало?
С той поры тетя пьет, как лошадь, и любое вино все кажется ей слишком слабым. Выпив полбутылки, она выходит во двор и там разоряется:
— Ах, люди мои золотые, они меня не вином поят, а одним уксусом! Как безбожники солдаты Иисуса Христа на Голгофе! Мои бы тоже с радостью меня распяли, кабы не боялись, что их за это повесят. Всем я ради них пожертвовала, и такой-то благодарности дождалась на старости лет!
Это она, наверное, про тот творог на 12 крейцеров.
Как-то папа пришел со службы обедать очень веселый, и, когда мы все сидели за столом, и тетя тоже, папа вынул из кармана газету и сказал:
— Какое страшное преступление случилось в Моравии! Тетя, вы слышите? Представьте себе, родственники отравили старушку тетю! В свое оправдание виновные заявили, будто она была невыносимо сварливой. Какая распущенность, вы не находите, тетенька?
А маме шепнул, что, по крайней мере, испортит тете аппетит…
Старуха на это ничего не ответила и продолжала вовсю наворачивать. На другой день, когда ей на завтрак подали кофе, она унесла его в кухню и там принялась кричать:
— Что это у меня в кофе? Негодяи, отравить меня вздумали?!
Она выбежала во двор и подняла страшный шум, что мы, мол, хотели отравить ее и всем показывала кружку с кофе.
Соседи решили, что мы и вправду изводим старуху, и сбегали за околоточным. Тот поднялся к нам наверх вместе со старухой и кофе, который та не выпускала из рук, и околоточный заявил, что вынужден выполнить печальную обязанность именем закона, и увел папу с мамой и старухой в участок. Там выяснилось, что старуха насыпала в кофе песку, каким трут, отмывая, лестницу. Все равно, вернувшись, тетя кричала на весь дом, что дело пересылают в Вену.
Папа с тетей не разговаривал. А она, как всегда по утрам, ушла в костел еще с одной бабушкой из соседнего дома. Потом та поднялась к нам и сказала, что тетя поставила свечку за крону на добрые деяния, чтоб всех нас хватил кондрашка. И чтоб собрать денег на эти добрые деяния, тетя христарадничает на улице и жалуется, что мы не даем ей есть, бьем и всячески истязаем.
Папу снова вызвали в участок и сообщили, что на него поступила жалоба, будто мы мучаем свою родственницу, и, если подобное повторится, ее отправят по месту приписки. И в один прекрасный день папа дал мне крону, чтоб я купил себе, чего захочу, и еще сказал, что я мужчина, который умеет молчать. Он велел мне бежать в участок и там со слезами рассказать, как мы опять истязаем тетю, она плачет и жалуется, что мы ее изводим. Но в тот момент мы забыли, что тети как раз нет дома, и, когда я прибежал в участок и стал плакать и вопить, что тетю дома истязают, комиссар спросил ее имя и позвал полицейского, а тот из какой-то задней комнаты привел нашу проклятую старуху.
— Ты ошибаешься, мальчик, — сказал комиссар, — твоя бабушка должна предстать перед судом за попрошайничество. Ты ее внучек?
Я сказал, что нет.
— Почему же вы показали при допросе, будто вынуждены побираться и содержать восьмерых брошенных внучат? — спросил он у тети, а тетя заорала, что я ей незнаком и она знать меня не знает.
Меня отправили за папой, а тетя захотела удрать, и ее пришлось удерживать четверым полицейским.
Папу она встретила словами:
— Убийца, разбойник, чтоб тебя черви сожрали заживо!
Мне она плюнула в лицо, а пан комиссар пожал плечами и сказал папе, чтоб он забирал старуху домой.
Папа побоялся скандала в общественном месте и нанял экипаж. Полицейские помогли ему затащить тетю в карету, и мы поехали в сумасшедший дом. По дороге тетя разбила окно с криком, что этот негодяй хочет ее укокошить.
Когда мы приехали в сумасшедший дом, папа с извозчиком втолкнули ее в ворота, и папа велел мне подождать его, он, мол, скоро вернется. Но минут через пятнадцать тетя пришла одна и сказала:
— Так вот, господа доктора, золотые они мои, сказали твоему папе, что я в своем уме, а папу им пришлось оставить у себя.
Преступная авантюра пана Тевлина
Есть такие люди, которые всюду суют свой нос, они не оставят без внимания ни одного предмета, ни одного события, ни одного уличного происшествия. К подобным людям относился и пан Тевлин.
Видит, к примеру, пан Тевлин на улице перед лавкой бочку с селедкой. Остановится, смотрит и ждет, пока работник не вкатит ее в лавку.
Тогда пан Тевлин одобрительно кивает и следует дальше.
Увидит он за углом тележку, стоящую на улице, смотрит на тележку и ждет, кто придет за ней. Его радует, что люди работают, он охотно наблюдает, как кладут кирпичи и камни, ему по душе мощение дорог и вообще трудовая суетня.
Его интересуют все проявления повседневной жизни: лошади, которые не могут сдвинуть с места поклажу, стрелочники на трамвайной линии — и он всегда бывает приятно возбужден, когда видит, что кто-нибудь работает. Он любит строить предположения, что собой представляет тот или иной человек. Глаза его живо поблескивают, если его предположения вдруг оправдываются.
Он любит ходить по городу. Вот тут-то с ним и приключилась эта история. Вышел он, как обычно, на улицу и в уличной сутолоке заметил стоящий у тротуара велосипед. Оставленный кем-то велосипед. Он оглянулся по сторонам. Интересно, кто это так опрометчиво бросает велосипед на улице? Лавки поблизости не было. «Вряд ли велосипед принадлежит развозчику товаров по магазинам, — подумал он, — скорее всего привезли что-то частному лицу». Он также отметил, что вокруг не было ни единой пивной. Велосипед стоял на тротуаре как раз напротив дверей жилого дома.
На противоположном тротуаре находился полицейский и с интересом приглядывался к пану Тевлину, который, продолжая осматриваться по сторонам, не отходил от велосипеда.
Пан Тевлин тем временем сделал вывод, что оставлять велосипед у тротуара весьма неосторожно, и решил дождаться возвращения владельца.
«А вдруг на велосипеде есть замок, — подумал он, — и никто не сможет на нем уехать». Он обошел велосипед и осмотрел его с другой стороны.
Полицейский наблюдал за паном Тевлином с возрастающим интересом и даже сделал шаг в его сторону.
Пан Тевлин убедился, что велосипед без замка.
— Какая беспечность, — вздохнул он, — вот вскочит кто-нибудь на велосипед — и был таков!
Он продолжал осмотр велосипеда. Надо отдать справедливость, сделан он неплохо. И фирменная марка стоит. Он взялся за руль и наклонился, велосипед сдвинулся с места, и пан Тевлин, выпрямляясь, увидел над собой лицо. Строгое, злое и угрожающее. Лицо полицейского.
— Что вы тут делаете с чужим велосипедом? — строго спросил он.
— Рассматриваю марку фирмы.
— А зачем взялись за руль?
Вокруг уже собиралась толпа таких же панов тевлинов, интересующихся всем на свете, как пан Тевлин этим злосчастным велосипедом.
— За руль… — жалко залепетал пан Тевлин. — Я жду владельца.
— Как фамилия владельца?
— Не знаю.
— А зачем вы ждете?
— Чтобы кто-нибудь не украл у него велосипед.
В толпе послышался смех.
— Наверное, чтобы кто-нибудь другой не украл, — иронически уточнил полицейский. — Поставьте велосипед туда, где вы его взяли, а вас я именем закона арестую.
Этот полицейский тоже был своего рода паном Тевлином. Все привлекало его внимание, любой предмет, любое событие, а уж пан Тевлин и подавно.
Отныне поговорка «Дрожал, как осиновый лист» устарела, с равным успехом можно сказать: «Дрожал, как пан Тевлин».
Он дрожал так, что полицейскому временами приходилось тащить его за собой, как щенка, от дома номер 1912-а, где на тротуаре по-прежнему без присмотра стоял велосипед.
Понятно, что дрожь пана Тевлина не прекратилась, когда в комнате полицейского комиссариата он услышал рапорт:
— Разрешите доложить, этот человек хотел украсть велосипед возле дома номер 1912-а.
Полицейский рассказывал, как пан Тевлин пытался это сделать, а пан Тевлин повторял одно:
— Что вы, разве я вор, я не умею ездить на велосипеде.
Лучшего оправдания ему не приходило в голову. Он уверял, что не умеет ездить на велосипеде, что ему незачем красть велосипед, ведь при желании он может купить их дюжину.
Было мучительно видеть, как он стоял и твердил одно и то же:
— Право же, поверьте, я не умею ездить на велосипеде.
— Он упал при попытке вскочить на него.
— Да какое там вскочить, — сказал пан Тевлин, — я же не умею на нем ездить!
Затем пан Тевлин заявил, что он, видно, порядочный дурак, потому что вечно готов всем помочь.
Тут распахнулись двери и в полицейский участок влетел какой-то сильно испуганный молодой человек.
— У меня пропал велосипед! — кричал он. — Он стоял перед домом номер 1912-а, и мне сказали, что кто-то уже делал попытку его украсть.
Полицейский ткнул пальцем в пана Тевлина.
— Ну, нечего запираться, — сказал комиссар пану Тевлину, — назовите нам своего сообщника.
— Не могу, — вздохнул пан Тевлин.
— Так в тюрьму его! — приказал комиссар.
Пан Тевлин бухнулся на колени и заорал:
— Бога ради, господа, прошу вас!
На другой день его отвезли в суд.
Судебный следователь пан советник Винцек был человек добрый. Он никогда не стремился усугубить вину подсудимых и делал все возможное, чтобы тщательно разобраться в показаниях, расследуя преступления.
— Хорошо, — сказал он пану Тевлину. — Вы все время твердите, что не умеете ездить на велосипеде. Так вот, завтра у нас судебная комиссия. Мы выведем вас за ворота, и вы сядете на велосипед. Там и выяснится, умеете ли вы ездить.
Наступил сей знаменательный день, и надзиратель в присутствии судебной комиссии посадил пана Тевлина на велосипед на шоссе близ Ольшанского кладбища.
— Упаду! — трусливо кричал пан Тевлин, сроду не сидевший на велосипеде.
Надзиратель по знаку следователя подтолкнул велосипед, и пан Тевлин с криками «упаду» покатил по отлого спускающейся дороге. От страха он нажал на педаль, опасаясь, что расшибется, нажал еще сильнее и, судорожно вцепившись в руль, инстинктивно понесся вниз по шоссе прямо к Стращницам, как самый заядлый спортсмен. И все у него шло как по маслу. Он кричал «Упаду!» и мчался на огромной скорости, пока не исчез из глаз судебной комиссии.
Внизу, у Страшниц, ему наконец удалось свалиться в канаву, сбив предварительно с ног какую-то еврейку.
Ему дали три месяца за то, что лгал, будто не умеет ездить, а на деле даже пытался удрать. За это он и получил свой срок.
Сыщик Гупфельд
Сыщик Гупфельд принадлежал к числу тех агентов сыскной полиции, которых, несмотря на их гениальность, неприятности подстерегают на каждом шагу.
Тем не менее полицейское управление вполне на него полагалось и доверяло ему самые сложные и запутанные дела. При этом гениальность пана Гупфельда всякий раз обнаруживалась в полной мере, но в решающий момент неотвратимый рок, преследовавший славного детектива со дня рождения, сводил на нет все его превосходные, с математической тщательностью продуманные планы. И после отчаянного душевного напряжения, после нескольких дней успешных поисков, он снова оказывался у разбитого корыта, там, откуда начинал плести сеть своих предположений.
Случай проделывал над ним такие дьявольские штучки, что в полиции не было никого, кто бы не сочувствовал этому остроумному и изобретательному человеку.
Наверно, всем памятна история, когда сыщик Гупфельд выследил убийцу баронессы фон Весели, продавщицу булок из фирмы Забранского. Целых полгода сжимал Гупфельд кольцо улик вокруг злодея и даже сделался его ближайшим другом.
Ох, уж эти мне тайные агенты! На что только они не идут! За полгода Гупфельд собрал предостаточно материала и засадил-таки своего нового приятеля за решетку. Но на следствии обнаружилось, что арестованный вовсе не убийца, а вполне порядочный человек. Вот так в последнюю минуту глупая случайность смешала все карты нашего несравненного детектива.
Если бы хоть Гупфельд поступал наобум, — это еще куда ни шло! — но об этом не может быть и речи. Действия его были осмысленны в высшей степени. Нет, он был не из тех, кто работает нашармачка, как заурядный ремесленник. Это был мастер своего дела, хотя невезение и подстерегало его на каждом шагу. Если бы не оно, Гупфельд достиг бы колоссальных успехов, и с ним никогда не приключилось бы того, что мы называем истинным несчастьем.
Как-то полиция разыскивала весьма ловкую международную авантюристку. Вести столь тонкое дело поручили нашему благородному детективу. Известно было, что видавшая виды преступница всякий раз появлялась под новым именем.
Тем не менее уже в самом начале расследования Гупфельд установил, что разыскиваемая особа проживает в Чешском Крумлове под именем Клары Фибиховой. Как это ему удалось разузнать — для всех осталось тайной. Сам Гупфельд никогда не распространяется на такие темы, считая это хвастовством, которое не к лицу подлинному мастеру с его непомерным самолюбием.
Итак, мошенница проживала в Крумлове, куда, по ее словам, вернулась из-за границы.
Тут я не могу еще раз не выразить своего удивления находчивостью и решительностью наших детективов. Пан Гупфельд решил прикинуться влюбленным и представился этой даме паном Гупфельдом, отдыхающим в Кунвальде на даче. С присущей ему математической точностью он рассчитал, что самое большее через три месяца они поженятся, и, уже на правах супруга, он разузнает о ее связях с авантюристами международного класса.
Гупфельда не остановил ни почтенный возраст, ни внешность авантюристки, хотя возлюбленная его очень смахивала на косматых древнегреческих фурий. Три месяца спустя Гупфельд отпраздновал свадьбу, а на другой день после бракосочетания из полицейского отделения пришла телеграмма. Гупфельда извещали, что разыскиваемая особа схвачена в Берлине и ему надлежит вернуться в Прагу.
С тех пор Гупфельд живет с этой липкой медузой — так, кажется, в естествознании величают какой-то вид слизняков. Впрочем, в сравнении с пани Гупфельдовой эта морская нечисть, безусловно, выигрывает.
Словом, и на сей раз рок жестоко подшутил над паном Гупфельдом, именно в тот момент, когда он совсем было достиг заветной цели.
Однако находчивость, проявленная Гупфельдом в деле с авантюристкой, произвела на господ начальников большее впечатление, чем он мог предполагать. Шеф полиции, потрепав его по плечу, объявил, что в ближайшем будущем Гупфельда ждет повышение. Его назначат на должность начальника отделения. Пока же ему поручается одно весьма ответственное задание; он должен установить, кто из пражан вместо сахара потребляет сахарин, ибо в полиции есть серьезное подозрение, что в Прагу контрабандой сахарин перепродают в несметных количествах.
Два месяца пропадал несравненный пан Гупфельд и появился в обществе лишь после того, как его изыскания увенчались сногсшибательным успехом. Он представил полиции список всех жителей чешской столицы, страдающих сахарной болезнью: из-за своего недуга они не могли потреблять сахар и были вынуждены доставать сахарин по рецептам в аптеках. Таковых преступников оказалось около 720, и титанический труд Гупфельда завершился тем, что тридцать шесть аптекарей Праги и ее пригородов, то есть все, кто продавал сахарин по рецептам, сели за решетку. Столь фантастический успех в скором времени был отмечен давно ожидавшимся повышением.
Пан Гупфельд был назначен на должность начальника полицейского отделения.
Задачи нашей государственной полиции всякому известны. Это прежде всего надзор за определенными политическими группировками, которые не разделяют политических воззрений полицейских (а у последних их попросту нет).
Само собой разумеется, наибольшую опасность для Австрии представляют анархисты.
Внезапный расцвет анархизма проявляется у нас не в злоупотреблении динамитом. Отнюдь нет. Производство его чешские анархисты полностью передоверили наследникам фабрики Нобеля. Анархия ощущается скорее в том, что полиция теперь, не церемонясь, производит обыски в домах неанархистов.
Но в чешских землях ведутся-таки работы с динамитом, и прежде всего в столице, в самой беспокойной Праге, и поблизости от нее, где динамит играет не последнюю роль.
И это, к сожалению, истинная правда. Да, да, да, опасное средство в руках русских революционеров находится в самой Праге, в Хухле, где динамитом рвут известняк. Хотя определенные инстанции еще до Гупфельдовой эры пытались бороться с этим революционным начинанием подрывников, их деятельность — пустяк по сравнению с теми славными подвигами, которые совершил пан Гупфельд после своего назначения на пост начальника отделения государственной полиции.
Пан Гупфельд обладал незаурядным даром наблюдателя, он детально изучил психологию преступления и считал, что преступники всегда толкутся в тех местах, которые напоминают им о преступных действиях.
Итак, пан Гупфельд приступил к наблюдениям… Целые дни проводил он у каменоломен и, пока рабочие рвали динамитом каменные глыбы, пристально следил за выражением лиц прохожих. Его интересовало, как отражается действие динамита не столько на известняковых породах, сколько на физиономиях зрителей.
Как-то внимание его привлек один господин. Остановившись поодаль и заслышав очередной взрыв, господин кричал:
— Вот это ладненько, вот это хорошо! — Глаза у него вдохновенно сияли, и чем выше взлетали каменья, тем восторженнее он орал: — Так его, трах-тарарах, так его, так! Вот это красота!
Чрезмерный восторг господина навел пана Гупфельда на мысль, нет ли тут политических причин. Оставаясь незамеченным, пан Гупфельд последовал за господином, а когда они дошли до Праги, сдал его в участок и велел доставить в канцелярию государственной полиции.
В канцелярии пан Гупфельд, опасливо прохаживаясь вокруг арестанта, шипел на него:
— Мы вам покажем, мы вам покажем, мы вам дадим динамит!
На допросе обнаружилось, что восторженный господин не кто иной, как хозяин каменоломни. Но и эта ошибка обернулась для пана Гупфельда чрезвычайной удачей: спустя две недели, после того как он успел провести обыск в доме не в меру энергичного предпринимателя, его назначили главой пражской тайной полиции в отставке.
Во время обыска пану Гупфельду посчастливилось обнаружить родословную щенка сенбернара. Эта находка была последним шедевром славного детектива. Ею завершил он вдохновенную деятельность на посту главы департамента и труд тайного сыскного агента вообще, в коих проявил столько ума и непревзойденной находчивости.
В полицейском управлении он до сих пор слывет мастером своего дела.
Нынешние сыщики ему и в подметки не годятся.
Как я выбыл из национально-социальной партии
I
Прежде всего напрашивается вопрос: как я в ней оказался?! Очень просто. Сначала я служил редактором «Мира животных». Прознав об этом, национальные социалисты принялись уговаривать меня изменить свои политические убеждения. Конечно, если бы речь шла о том, чтобы от консерваторов перемахнуть к анархистам, душевные муки были бы во сто крат тяжелее. Но в данном случае никакой пропасти преодолевать не пришлось. Из «Мира животных» я преспокойно перебрался в «Ческе слово», не изменив даже своим политическим убеждениям, — так, по крайней мере, утверждали все мои знакомые. Просто-напросто я променял своих бульдогов на новую партию. Разница состояла лишь в том, что раньше я кормил бульдогов и догов, а теперь меня самого подкармливала партия. Точнее, не партия, а д-р Гюбшман.
Кто он такой? Вполне приличный и даже добрый человек — до тех пор, пока у него хватает терпения. Правда, терпеливым его не назовешь. Но зато это, ей-богу, единственный его недостаток. Будь д-р Гюбшман издателем «Мира животных», он наверняка наводнил бы его памфлетами о бедственном положении собак на псарнях, а сам содержал бы псарню и втихомолку торговал собачками. Потому что д-р Гюбшман — торгаш. Он, к примеру, не прочь потолковать о страшном повышении квартплаты, а, между нами говоря, сам ее повышает. Да и с какой стати ему отказываться от этого?
Доктор Гюбшман — депутат. Высокое звание, но и не столь уж обязывающее, как кажется на первый взгляд. Депутат Гюбшман прямо-таки начинен прекрасными идеями, о которых он может доходчиво рассказать массам. Но в душе д-ра Гюбшмана идет непрерывная борьба. Он ведь не только депутат, но еще и человек. Гюбшман-человек прижимает квартиросъемщиков и председательствует в корпорации печатников «Ческе слово». Превосходный человек д-р Гюбшман! Что ж, оно и верно, коли рассудить здраво, — депутатская слава развеется, мандат потеряет силу, а вот деньги останутся. Как-никак, а, участие в «Ческом слове» приносит 50 крон.
Итак, д-р Гюбшман стал моим шефом.
II
Как нам живется в национально-социальной партии? Недурно. Одно время нас объединял ресторан «Золотой гусь». Это одна из самых славных страниц нашего движения. И хотя «гусь» звучит как-то не слишком завлекательно, он стал символом национальных социалистов. Во время демонстрации иногда можно увидеть молодцов с молотом и перышком; приглядитесь, под этими значками горделиво поблескивает на булавочке золотой гусь. Это символ нашей партии. Гуси спасли Капитолий. Золотой гусь спасет нашу партию. Этот гусь на булавочке вручался завсегдатаям харчевни «Рыхта», выдувавшим там по нескольку кружек пива ежедневно. Золотой гусек, увенчанный скромной славянской трехцветной лентой, молотом и пером вкупе с красно-белой гвоздикой, вызывающе сверкает на их лацканах, словно бы говоря: «Все мы тут свои люди, национальные социалисты». И ежели под натиском непогод наша партия разлетится, клиенты «Гуся» сомкнут поредевшие ряды. Подобно наполеоновской гвардии, которая под Ватерлоо на вызов англичан решительно ответила историческим возгласом: «Дерьмо!», — наши могикане покажут своего «Золотого гуся» в петлице, что будет означать: «Хорош гусь!» — и партия прекратит свое существование.
III
Мирно текли мои дни в редакции «Ческого слова». Там я свел знакомство со многими высокоинтеллигентными людьми. Во-первых, с известными вождями национальных социалистов Богачем, Лоудой, Симонидесом. Богач — это косметика; Лоуда мертвой хваткой вцепился в кнедлики, а Симонидес просто служит в одной из страховых касс. Богач — юркий непоседа, ни секунды не постоит на месте. Лоуда вял и ленив, он взирает на окружающий мир устало и равнодушно, а Симонидес постоянно трет себе нос. Красный нос Симонидеса прекрасно выделяется на фоне белых щек и напоминает прелестную цветовую гамму национально-социальной гвоздики.
Подружился я и с депутатами. С Лысым кутил, с Клофачем кутил, а вот со Стршибрным нет; с Хоцем даже не разговаривал. Как личному врагу Клофача, ему вообще был заказан вход в нашу редакцию. Надо сказать, что Клофач терпеть не может и Фресла. А Стршибрный считает Клофача узурпатором. Лучше всех депутат Экснер. Этот толстяк никого не поддерживает, но зато никого и не трогает. Пива в больших количествах не потребляет. Поэтому в партии его тоже недолюбливают. Заглядывает к нам и Бурживал. Этот милейший человек не в чести у депутата Войны, Бурживал отвечает Войне тем же, поскольку и тот и другой знают, что у обоих рыльце в пушку; оба стараются избегать друг друга, а уж если доводится им сойтись на узкой дорожке, то получается прямо как в известной песенке:
Вообще я замечал, что при встрече друг с другом депутаты национально-социальной партии всегда краснеют. А кое-кто, глядишь, и побледнеет, но и тогда гармония национально-социальных тонов сохраняется. А в целом депутаты этой партии все-таки очень и очень привязаны друг к другу.
Депутата Форманека я в глаза не видел. Форманек — трезвенник, поэтому к делу партии равнодушен. Естественно, что и партии на него наплевать..
IV
На правах референта «Ческого слова» я присутствовал на собраниях трамвайщиков, где речь шла о том, выходить или не выходить на работу, если управление вместо удовлетворения справедливых требований ограничится обещаниями «вернуться к ним через полгода». Оно конечно, городское управление вечно твердит одно и то же: «Как нибудь после, потом». Но тут, на собрании от наших вождей брата Симонидеса, брата Рогача и др., я своими ушами слышал такие слова: «Забастовка неизбежна!» А брат Лоуда поддакивал: «Да-да-да. Неизбежна».
И на секционных собраниях трамвайщиков брат Война и брат Стршибрный в унисон трижды бросали ревущей аудитории звонкий клич: «Забастовка неизбежна!»
Но за это вольнодумство управление электрических предприятий отказало нам, сотрудникам «Ческого слова», в бесплатном годовом билете на трамвай. Стршибрный, Война и др. негодовали.
— Наш долг, — бушевал Война, — привлечь на свою сторону банк и торговую палату, пусть и они воздействуют на управление! Ведь речь идет о судьбах наших бесплатных трамвайных билетов.
Было решено созвать собрание служащих электрических предприятий. Оно было назначено на час ночи в Ригеровых садах.
V
Служащие были полны решимости не отступать, как и в последнюю забастовку на Стршелецком острове. Собирались мрачные и возбужденные. «Так дело не пойдет!» И вот тут-то взял слово брат Война.
Эта сцена до сих пор у меня перед глазами. Взор брата Войны светился убежденностью, что получить бесплатный годовой билет на трамвай — его долг и право.
— Друзья! — вскричал он. — Заткнитесь! Теперь буду говорить я! Образумьтесь, рассудите здраво, подождите окончательного ответа администрации!
— Долой! — крикнул кто-то из наших рядов.
— Друзья, заклинаю вас, — вопил Война. Душу его переполняло убеждение, что бесплатный годовой билет он должен получить во что бы то ни стало. — Не разоряйтесь, или я распущу собрание, посмотрим, какой ответ в конце концов даст управление!
— Вы слюнтяй, господин депутат, — снова раздался чей-то голос. — Я прошу слова!
Голос этот принадлежал мне. Я, член национально-социальной, партии, бывший редактор «Мира животных» и нынешний сотрудник «Ческого слова», прервал речь оратора.
— Молчать, идиот! — грохнул Война, председатель исполнительного комитета партии, членом которой я имел честь состоять.
— Сам идиот! — невозмутимо парировал я. — Друзья, всыплем ему!
Всыпать мы ему не всыпали, потому что брат Война успел удрать, но зато мы разорвали свои партийные билеты. А брата Фресла обозвали балбесом.
Я был весьма польщен доверием, оказанным мне в ту ночь.
VI
Ну, а потом меня вышибли из национально-социальной партии. Или, точнее, я вылетел из нее. На следующий день, когда я пришел в редакцию «Ческого слова», намереваясь приняться за общественно полезный труд штатного референта во имя дела, которому было отдано столько сил, меня уже поджидали вожди. Так некогда ждали Мартиница и Славату на Градчанах.
Первым, кто схватил меня за шиворот, был д-р Гюбшман Шефрна, рассыльный редакции (нижайший поклон сему доблестному мужу — я и по сей день должен ему восемь крон), распахнул окно, и председатель исполнительного комитета вкупе с депутатом Фреслом схватил меня за задницу и спустил с третьего этажа прямо на каток заднего двора Сильва Тарруцци.
— Я тебе покажу, что значит партийная дисциплина! — неслось мне вдогонку.
Больше я ничего не помню.
Таким вот способом вылетел я из партии национальных социалистов и теперь ищу 200 тех служащих, которым за несколько часов до той достопамятной сходки в Ригеровых садах я твердо обещал, что стачка непременно состоится. Я прошу их написать мне по адресу: Вршовице, Палацкого, 363, и приложить марку, чтобы я мог уведомить их, в какой день и час мы сможем разогнать исполнительный комитет национально-социальной партии и его председателя брата Войну.
Хозяйственные реформы барона Клейнгампла
Барон Клейнгампл был человек дальновидный и проницательный и, получив в наследство от тети небольшое имение в Бытоухове, всерьез задумался над реорганизацией хозяйства.
Начал он с того, что, призвав управляющего своих новых владений, распорядился пересадить куда-нибудь старые развесистые дубы, которые росли в парке перед замком и загораживали вид.
Всю неделю управляющий ходил сам не свой и, едва вспоминал о распоряжении пана барона, ему становилось нехорошо. Неужели пан барон воображает, будто вековые деревья можно пересаживать?
Управляющий пришел к хозяину с докладом и застал его в библиотеке за чтением какого-то, видимо научного, труда. После долгих предисловий управляющий заявил, что столетние дубы пересаживать невозможно и он даже не представляет себе, как это можно сделать, на что барон улыбнулся и попросил управляющего взять из шкафа большую зеленую книгу.
— Это книга о садоводстве, друг мой, — ласково произнес барон, — откройте ее там, где заложено, и вы узнаете, что это проще простого, к этому даже есть картинка. Смотрите, как тут все прекрасно и наглядно объясняется. Читайте!
Управляющий прочел:
— «Пересадка Фуксии. Фуксию вынимают из горшка и осторожно, стараясь не повредить корни, опускают в другой горшок».
— Вы убедились, дорогой, как это просто. Вы вынимаете дубы из земли и переносите, куда я вам укажу, опускаете в заранее подготовленные ямы — и дело с концом. У меня грандиозные планы по реорганизации хозяйства, и ваша задача — систематически и неутомимо проводить их в жизнь, в этом залог успеха. Конечно, на первых порах мы столкнемся с трудностями, которые, быть может, даже покажутся нам непреодолимыми, скажем, как с дубами, но мы располагаем научной литературой по всем вопросам, не говоря уж об энциклопедии, которая всегда к вашим услугам. Начнем с пересадки самого старого дуба, того, что растет перед замком. Главное, не повредить корни, каждый корень надо осторожно вынуть из земли. Дуб пересаживается точно так же, как и фуксия, ведь и то и другое — флора.
Я хочу все дубы рассадить вокруг пруда позади замка, — вдохновенно продолжал барон, и управляющий не посмел его перебивать, — или нет, лучше мы осушим пруд и вместо рыб разведем в нем дубы. По берегам пруда сделаем скамейки, и я буду отдыхать там от своих забот. Кстати, дорогой, когда цветут дубы? Это важно знать, потому что с бутонами пересаживать их нельзя. В этой книге сказано, что даже фуксию не пересаживают в период цветения. Впрочем, сейчас, осенью, мои опасения излишни. Мне пришлось поломать голову вот еще над чем: фуксию можно пересаживать только в теплом помещении. А как быть с дубами? Дубы ведь тоже чувствительны к холоду. Что же, я нашел практичное и остроумное решение. Перед посадкой мы будем разогревать землю вокруг дубов, для чего поставим в осушенном пруду портативные кирпичные печи; в них же будем греть землю для засыпки корней. Пересаживать будем днем, так как даже фуксию не рекомендуется пересаживать ночью, иначе поблекнет листва.
Дубам во время пересадки также вреден дождь, поэтому в случае непогоды, когда будем вынимать дерево из земли, работникам придется залезть на вершину и держать там раскрытые зонтики, пока не закончим пересадку.
Да, вот еще о чем я хотел вам сказать. В ямы, оставшиеся после дубов, мы посадим финиковые пальмы. Представляете себе фурор, когда мы снимем первый урожай! А что касается хозяйственного эффекта, то намного выгоднее в дальнейшем вообще разводить только финики. Я много размышлял над этим и понял, как надо по-настоящему перестроить наше хозяйство. Скажите, почему у нас никто не сажает финики? Да все потому, что лень! А я буду вывозить финики во все страны мира. Ведь земля у нас отличная. Вчера я ходил в поле и был приятно удивлен: вот, говорю, великолепная свекла, а эконом отвечает: «Прошу прощенья, пан барон, это не свекла, а картошка». Если картошку нельзя отличить от свеклы, ясно, что земля здесь отличная. Но ботва на картофеле была очень сухая и поломанная. В будущем году каждый картофельный куст надо будет подвязывать на длинные палки, как это делают с хмелем и виноградом. Это тоже даст нам немалый хозяйственный эффект: картофель будет виться вверх по шестам, его не придется выкапывать из земли, а только срывать с веток; собирать такой картофель куда быстрее, да и работа чище. Такое ведение нашего хозяйства любого убедит в его рациональности.
Следует экономнее использовать полевые угодья. Для чего, черт побери, одно поле мы засеваем пшеницей, другое — рожью, третье — овсом, четвертое — ячменем? Распорядитесь сделать так: все эти семена смешайте и засейте ими одно поле. Рядом с пшеницей на нем заколосятся рожь, овес и ячмень. Этим мы, во-первых, добьемся экономии места, а во-вторых, времени, так как нам не придется один день косить только овес, другой — только рожь и так далее. Зимой же, когда в поле делать нечего, работники будут перебирать обмолоченное зерно и раскладывать его на разные кучки. Со временем мы введем и другие усовершенствования, в первую очередь примем меры против града: будем выращивать хлеб под тентом или под большими навесами; на южном склоне разведем какао и кофе, будем сеять пшено и крупу. Хозяйство очень запущено, но я надеюсь, общими усилиями нам в короткие сроки удастся поднять его. Что касается мелкой домашней птицы, мы и тут должны провести кое-какие реформы. Будем разводить крупные породы кур, для этого велите скрестить кур с гусями, а когда наседка бросит водить цыплят, не спускайте с них глаз, чтобы петухи не сожрали их. Боровы это делают с поросятами. Свиньи нечистоплотны, любят валяться в грязи, а это неблагоприятно отражается на вкусе их мяса. Поэтому прикажите всех поросят покрыть нитролаком и просушить у печки. Ведь почему поросята любят грязь? Они хотят быть черными, а не белыми. Если мы пойдем им навстречу и покроем их лаком, они и думать забудут про грязь и сразу станут жизнерадостными! Для повышения удойности устроим коровам бани, а у чистой здоровой коровы и молоко вкуснее.
Вот так-то, дорогой мой управляющий. Мы должны неуклонно добиваться прогресса. Ну, а теперь всего хорошего, ступайте и поразмыслите обо всем, что я вам сказал.
Управляющий тотчас отправился топиться.
Солнечное затмение
Когда тень, от луны пошла на убыль, а солнце все больше и ярче выступало из-под затененной поверхности, судебный советник пан Я у рис бросил на землю желто-зеленое стекло с жестом крайнего отвращения. Я стоял рядом в комнате, когда пан судебный советник сказал:
— Я так и знал, что меня опять надуют с этим затмением. Такое случается уже второй раз. Первый раз, пятнадцать лет назад, никакого затмения не было, закрыло едва ли треть солнца. А тоже ведь говорили, что темнота будет полная. Я приобрел черные очки, и какое ж было мое разочарование! Помню это так явственно, будто все происходило только вчера.
Я давно увлекаюсь астрономией, и мое увлечение разделяли моя жена и пан доктор Кавка. Он побывал с научными целями в крупных швейцарских лабораториях, а с Монблана даже привез фотографии прохождения Венеры. У меня была вилла в Крушных горах. Веселенькая, милая вилла на голой вершине большого холма; ниже начинались леса, а дальше вокруг, куда ни посмотри, тянулись горы и леса, венцом обступая поляну и виллу на ней; по ночам они казались особенно высокими, и, когда я смотрел на небо, казалось, будто я нахожусь на дне воронки. Здесь, на этой вилле, мы устроили маленькую обсерваторию, откуда и наблюдали все 7000 звезд от первой до шестой величины, видные невооруженным глазом. Когда же мы наводили на них телескоп, звезды казались нам рассыпанной крупой. Пан доктор Кавка все эти явления умел объяснить научно, что очень нравилось моей жене. Я тоже люблю астрономию и до сих пор не потерял к ней интерес, хотя мне особенно-то некогда над всем этим задумываться. Ну, разве это не смешно, что крохотная звездочка седьмой величины, светящаяся в созвездии Большой Медведицы, удалена от нас на 340 триллионов километров, и если взять для сравнения курьерский поезд, несущийся со скоростью 120 километров в час, он достиг бы ее через 325 миллионов лет.
Мне было бы неприятно дурачить кому-либо этим голову, и уж тем более я не собирался утолять любопытство моей жены. Впрочем, здесь же рядом находился доктор Кавка, которого она забрасывала вопросами. Нередко, когда я поздним вечером курил на веранде свою последнюю сигару, я слышал приятный голосок своей жены, ее нескончаемые вопросы, которыми она прямо-таки засыпала в саду под террасой пана доктора Кавку, когда они любовались какой-нибудь замершей звездою, затерянной среди бесчисленных светящихся точек на небосводе.
Я слышал, как она спрашивала, за сколько достигнет ее курьерский поезд, товарный, автомобиль, долго ли ехать туда человеку на велосипеде и тому подобное, на что он отвечал: товарный состав при такой-то и такой-то скорости шел бы туда столько и так далее. Короче, он так и сыпал цифрами и подтверждал их теоретически, но, как я понял позднее, во всем этом не было, разумеется, ни капли истины. С солнечным затмением-то он ведь меня одурачил!
В саду, как обычно, стояла тишина, молодые люди любовались звездами, иногда мне чудилось, будто они держат друг друга за руки, в чем я не находил ничего удивительного: жена нередко хваталась за его руку, стоило ей только представить себе, что звезда, на которую они смотрят и о которой говорят, несется сквозь просторы вселенной с умопомрачительной скоростью — 30 миллионов километров в сутки. Такое ошеломит кого угодно. Вообразите себе ужасные скорости небесных тел — и у вас закружится голова, и, если вас кто-нибудь не подхватит в свои объятия, вы тут же упадете. Такое происходило и с моей женою, когда они с паном доктором Кавкой любовались в саду на эту пропасть звезд, а пан доктор Кавка, будто Фламмарион, уносился мечтами к звездам. Удивительно, что в эти ясные ночи в зрачке отражаются звезды настолько маленькие, что в глазу можно увидеть 534 звезды от первой до четвертой величины.
Столько их насчитал пан доктор Кавка, вглядываясь звездными ночами в саду в прекрасные голубые глаза моей жены. А я тем временем, удобно устроившись на веранде, покуривал сигару, наслаждаясь спокойствием чудесной летней ночи, довольный ужином, — кухарка, надо сказать, у нас была отменная. Я радовался жизни, любовался небесным куполом, окружавшими нас горами, их темные очертания напоминали мне, что за ними расположен город, где можно достать все, что требуется для доброй кухни. Наша кухарка со служанкой ездили туда через день, и цены там были умеренные. Цыплята стоили дешевле, чем в долине, в деревне, и были к тому же куда крупнее. Мне даже казалось, что пожилому человеку, вроде меня, жилось бы тоскливей, не будь у него такой молодой веселой жены и не имей он такого рассудительного друга, как доктор Кавка.
Порой, однако, он приводил меня в растерянность, сетуя на прихоти моей жены. Однажды ей пришло в голову устроить ночную прогулку на ближайшую вершину, откуда открывался чудесный вид на весь край, сказочный вид, когда и леса, и вершины залиты лунным светом. Жена настаивала, чтоб и я непременно отправился вместе с ней. Я ни разу не ходил — не хватало еще таскаться по каменистым склонам, в то время когда я преспокойно мог, сидя на веранде в плетеном кресле, курить свою сигару.
Я отпускал с ними нашего пса Барри, но всего раза два: Барри сильно рычал на пана доктора Кавку, и я всегда узнавал, когда они достигали цели своего путешествия по тому, что Барри разражался громким лаем, доносившимся даже сюда, на веранду. А кончилось тем, что в один прекрасный день Барри даже вцепился пану доктору Кавке сзади в штаны.
Так мирно проходило для нас это лето, до того самого дня, когда должно было произойти затмение солнца. Мы съездили в город за черными очками, за желто-зелеными стеклами, которые накладываются одно на другое, и даже заехали в Прагу за черной пластинкой и биноклем. Всю неделю только и разговоров было что о затмении. Пан доктор Кавка утверждал, что ровно в полдень совершенно стемнеет, так что и в четырех шагах ничего не будет видно, и тьма наступит внезапно, короче говоря, он повторял то, о чем писали сейчас газеты про полное солнечное затмение, которое, впрочем, оказалось таким же надувательством, как и то, что пятнадцать лет назад.
И когда наконец тот день настал, мне дали темные очки, в руки — бинокль и отправили в 12 часов 12 минут наверх, в нашу маленькую обсерваторию в башенке виллы. Сами они остались внизу, чтобы из столовой наблюдать за затмением через комбинированные стекла. У меня чуть глаза не вылезли, пока наконец узкая тень, закрывавшая краешек солнца, двинулась к его середине. Сорок пять минут я, дурак, кое-как еще выдержал, смотрел на солнце, а ему хоть бы что. Тогда я снял очки и отправился вниз узнать у пана доктора Кавки, не ошибся ли он. Представьте себе, он безбожно обморочил меня с этим солнечным затмением! Жена моя сидела у него на коленях и застегивала блузку. Лица у них были бледные, будто у мертвецов.
Вот и нынче меня во второй раз одурачили с затмением.
Заседание сельского правления в Мейдловарах
Выборы стражника
Мы все с нетерпением ожидали этого заседания, так как на нем должен был решиться вопрос, кому быть сельским стражником. Всего поступило свыше пятисот прошений, а если говорить на языке ученых, то около пятисот тридцати одного прошения. Из желавших занять это место половина окончила юридический факультет, около ста прошений принадлежало окончившим философский факультет, сорок девять прошений было написано безработными из различных учительских институтов, которые вот уже целый год были без места. Остаток падал на окончивших коммерческие академии, и, наконец, три прошения поступило от лиц, хорошо знакомых старосте, так как они жили в нашем селе. Это были: Франтишек Качирек — пастух, Ян Корженарж, малоземельный крестьянин, живший на краю села, и церковный сторож Подлох. Этот последний поругался с попом, который не поделился с ним гонораром, полученным при погребении старухи Швейцовой, и, кроме того, в тот же день обыграл его в пивной на пять златок.
Из всей массы просителей выбрали трех кандидатов, живших в нашем селе; остальные прошения мы продали лавочнику Краусу на обертку. Он дал нам за это пять бутылок вина и с тех пор завертывает в эти прошения покупки. Случалось, что в прошение, оканчивающееся словами: «Я обещаю, что заслужу ваше доверие», заворачивался вонючий сыр, который покупали перед тем, как пойти в пивную, потому что в этом сыре столько перца, что пиво от него кажется особенно вкусным. Пиво у нас привозят из Глубокой, — очень хорошее пиво, если пить его умеючи. Выпьешь десятую, одиннадцатую кружку и потом так заговоришь о политике, что приятно послушать. И не успеешь оглянуться, как тебя начинают лупить, потому что у нас нет людей с одинаковыми убеждениями. Мы говорим и об общественных делах, потому что у нашего старосты своя пивная. В этой пивной мы и собрались, как обычно, на заседание сельского правления. Вообще здесь у нас происходят все общественные собрания. Все было по-честному, о подкупе и речи быть не могло. Каждый из кандидатов выставил бочку пива. Сначала бочку выставил кандидат Качирек, и когда мы об этом узнали, то сейчас же решили, что обязательно выберем его стражником. Но такое же угощение выставил и Корженарж, а за ним и церковный сторож Подлох. Это было очень приятно, но головы у нас пошли кругом, и мы не знали, что делать. Каждый из кандидатов купил одинаковое количество пива и обошел всех членов сельского правления, и мы обещали каждому выбрать его стражником. Затем сторож Подлох зарезал для нас свинью. Одновременно с ним зарезали по свинье и другие два кандидата — Качирек и Корженарж. Все трое старались нам угодить, но, к сожалению, у нас было место только для одного.
О подкупе не было и речи, а как поступить, мы не знали. Ни один из трех кандидатов не имел никаких преимуществ. Поэтому нужно было ожидать, что заседание сельского правления по этому вопросу будет особенно бурным. Целый день мы, члены сельского правления, постились, чтобы с большим аппетитом приступить к уничтожению свиней, тем более что от жареного шел приятный запах по всему селу.
Староста находился в весьма затруднительном положении. Он ходил от одного члена сельского правления к другому и говорил:
— Честное слово, дальше так продолжаться не может. Я сойду с ума. Если бы один из этих трех кандидатов был негодяем, тогда бы мы его просто исключили из списка, и у нас осталось бы только двое, одному из которых можно было бы легко доказать, что он ни к черту не годится. Ну, а так как они все трое одинаковые негодяи, то наше положение скверное. Мы ни в чем их не можем упрекнуть: они устроили для нас угощение и поставили пиво. Но все равно они — подлецы, и подкупить нас им не удастся.
Среди нас находился один человек по имени Махличек. Он почему-то относился с неприязнью к нашему старосте Балеку. Везде, где только было можно, он старался причинить ему неприятность. Один раз, например, он донес на старосту, будто тот ворует его снопы с поля. Еще немного, и дело дошло бы до суда. Только после того как староста скостил Махличку какой-то долг по пивной, дело кончилось мировой. Староста должен был еще обещать ему перед свидетелями, что будет целую неделю даром поить его пивом. Конечно, Махличек не зевал и пил вовсю, и с тех пор между ним и нашим старостой началась непримиримая вражда. Он открыто угрожал, что на заседании сельского совета поставит старосту в неловкое положение.
И вот состоялось то самое памятное собрание, где наконец должен был решиться вопрос о стражнике. Махличек был настроен по-боевому, староста тоже.
Мы сошлись в зале заседаний, то есть, как уже было сказано, в пивной старосты. Кроме нас, там сидело несколько наших соседей, которым было сказано, что и они могут участвовать в пиршестве, но на кухне, так как в пивной будут происходить выборы сельского стражника.
И заседание началось.
Сначала подали перловый суп с кровью, затем кровяную колбасу и ливерную с капустой и картошкой (картошку и капусту добавил староста). После этого подали заливное из трех свиных голов, потом зельц и, наконец, жаркое из свинины с кнедликами (кнедлики добавил староста). Наконец, распив первый бочонок пива, мы приступили к дебатам о предложении старосты избрать из троих наиболее достойного. Первым взял слово староста, заявивший, что он сожалеет, что все три кандидата стоят один другого, что все они одинаковые бездельники и шарлатаны, выразившие желание охранять общественный порядок, но что сельское правление может выбрать из трех только одного. Имена их: Корженарж, Качирек и Подлох, и он просит, чтобы они, по крайней мере, встали, когда о них говорят.
После него взял слово Махличек. В своей речи он весьма удивлялся, почему староста не начал с другого конца. Он не сказал, что сельский стражник в первую очередь должен знать, что такое справедливость и право, и не должен позволять оскорблять себя ни при каких обстоятельствах. Вот какой должен быть настоящий стражник. Затем, обращаясь ко всем трем кандидатам, он демагогически воскликнул:
— Ребята, вы должны знать, что нелегко получить то место, которое вы просите. Вы должны быть решительны и способны на все. Если даже сам староста оскорбит вас на вашем будущем посту, вы должны показать, что вы не боитесь ничего, потому что вы будете связаны присягой. Вот сейчас он о вас говорил, что вы негодяи. Докажите же, что вы достойны занять эту должность. Качирек, дай старосте по морде.
Все молча смотрели на Качирека, который сидел, не двигаясь, и глупо улыбался.
Тогда Махличек снова воскликнул:
— Подлох, дай старосте по морде.
Опять тишина. Подлох сидел возле Качирека и улыбался еще глупее.
Тогда Махличек воскликнул:
— Корженарж! Не бойся, дай старосте по морде!
Корженарж подошел к старосте, недоумевающе смотревшему на все происходящее. Раздалась оплеуха, и староста упал со стула.
Под гром аплодисментов Махличек сказал:
— Соседи! Вот это настоящий человек, его мы должны выбрать сельским стражником. Кто за него?
Все двенадцать членов подняли руки в знак согласия.
— Корженарж, итак, ты выбран сельским стражником, — воскликнул староста. — А теперь я приказываю тебе как твой начальник, чтобы ты дал Махличку два раза по зубам.
— Слушаю, господин староста! — ответил Корженарж и закатил две такие оплеухи Махличку, что его пришлось потом отливать водой.
Так Корженарж сделался нашим сельским стражником.
Сословное различие
Приказчик Никлес и управляющий имением Пасер были закадычные друзья. Каждый день они сидели вместе в просторном деревенском трактире «У Тисков». Там хорошо знали, что их водой не разольешь и что все проделки, баламутившие деревню, устраивались ими обоими совместно. Приказчик Никлес очень любил управляющего Пасера, но кое-что, и притом весьма неприятное, все-таки разделяло их, так что Никлес имел порой весьма хмурый вид. Это было нечто возмутительное, вызывавшее в Никлесе раздражение, на какое только была способна его добрая душа. Всякий раз, как оба они вместе выпьют в трактире и устроят одну из своих веселых проделок, состоявших обычно в том, чтобы схватить ночью общинного сторожа и скинуть его куда-нибудь в канаву, вся деревня твердит в один голос: «Вчера, мол, приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе».
На самом деле оба были в одинаково веселом настроении, выпили одинаковое количество, у обоих мозг находился под одинаковым воздействием винных наров. Но что поделаешь? Глас народа утверждал, что «приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе».

Не приходится поэтому удивляться, что приказчик Никлес страстно желал, чтобы соотношение изменилось. Оттого-то всякий раз, вспомнив, что о нем говорят в деревне, он становился умеренным и за то время, пока управляющий Пасер выпивал три кружки, сам выпивал только одну, — так что под конец на счету управляющего было тридцать кружек, а у него только десять, то есть получалось совершенно правильное соотношение 3:1, и в такие дни никаких проделок не устраивалось. Никлес поддерживал управляющего, тихий, задумчивый; пан управляющий шумел на всю деревню, ругая трактирщика Тиску, в то время как Никлес вел себя в высшей степени прилично. И тем не менее на другой день он узнавал, что на вопрос, почему они вчера так долго сидели, трактирщик Тиска отвечал:
— Да знаете, приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе.
Никлес понимал, что все дело в глубоком социальном противоречии, что тут сказывается глубокое сословное различие: как это он, Никлес, может равняться с паном управляющим! И мало-помалу мечтой его стало услышать хоть раз:
«Да, приказчик был немножко навеселе, а вот пан управляющий нализался, как свинья».
Но желание его оставалось неудовлетворенным. Все, как уже вошло в привычку, выражались почтительно по отношению к пану управляющему, хотя напейся он до положения риз. И по дороге домой в имение, находившееся в получасе ходьбы, Никлесу приходилось выслушивать из уст самого управляющего те жестокие слова, от которых он всегда падал духом:
— Вот опять я нынче навеселе!
В конце концов Никлес был вынужден склониться перед общим мнением и признать, что, как бы ни нагрузились они оба, он, Никлес, непременно «нализался, как свинья», а пан управляющий «был немножко навеселе». Пускай управляющий еле на ногах держится, а он, Никлес, шагает совершенно прямо — все равно пан управляющий «немножко навеселе», а он всегда «нализался».
Как-то раз управляющий и Никлес опять пили наравне, да так, что, по тамошнему выражению, на душе у них птички чирикали. Приказчик пил с горя, на все рукой махнув, а управляющий — с легким сердцем, не опасаясь за свою добрую репутацию. Потом они пошли бродить по деревне и, уже в полубессознательном состоянии, увидев на площади какого-то человека в мундире, столкнули его в пруд. Это была одна из их обычных шуток, за которые пан управляющий каждый вечер угощал общинного сторожа пивом и сигарой. Но, как говорится, от своей судьбы не уйдешь. Не ушли и они. Оказалось, что на этот раз им попался не общинный сторож, а жандарм, совершавший обход и охраняемый параграфом 81-м Уголовного кодекса, где ясно сказано об ответственности за насилие над должностным лицом, находящимся при исполнении служебных обязанностей.
С этого момента над обоими нависла угроза тюрьмы. Такие дела рассматривает окружной суд, — тут уездного недостаточно. И вот оба предстали перед окружным судом в Ичине. Оба сослались на опьянение, назвав в качестве свидетелей трактирщика, старосту и еще трех деревенских, находившихся в тот вечер в трактире и видевших, что они выпили по тридцать кружек пива.
Первым был вызван трактирщик Тиска.
— Расскажите, свидетель, как было дело с подсудимым Никлесом, — спросил председатель суда. — В каком он был состоянии, уходя из вашего заведения?
— Многоуважаемый пан председатель, — солидно ответил Тиска, — вот как перед богом, этот самый Никлес нализался, как свинья.
— Ну, а управляющий Пасер?
— Многоуважаемый пан председатель, — промолвил трактирщик, почтительно глядя на управляющего, — пан управляющий был немного навеселе.
Это было запротоколировано.
Перешли к допросу других свидетелей. Все они отвечали одно и то же: «Приказчик — тот нализался, как свинья, а пан управляющий — ну, был немножко навеселе».
Вопрос был ясен, и приговор напрашивался сам собой. Управляющий, который был только «немножко навеселе», получил месяц тюрьмы, а «нализавшегося, как свинья», Никлеса отпустили на все четыре стороны, поскольку он за свои действия не отвечал. Сверх того он имел еще удовольствие услышать тотчас вслед за оглашением приговора отчаянный вопль управляющего:
— Господи, да я ведь тоже был как свинья!
Но это не помогло.
Краткое содержание уголовного романа
— Без копейки денег Джузеппе Боро приезжает в Триест. Под именем графа Олариха фон Айзенфельса он поселяется в гостинице Битторнеля. У владельца гостиницы есть красавица дочь Лючия. Она влюбляется в самозваного графа, однако в городе его выслеживает матрос, мерзавец Лоренцо, которому известна тайна из жизни Боро: Боро убил в Риме соблазнителя его сестры и трех его сообщников. Боясь разоблачения, Джузеппе Боро открывается во всем Битторнелю за бокалом вина. Они дают друг другу братскую клятву отравить Лоренцо и успешно справляются с этим, пригласив того выпить с ними. Испытывая затруднения с ликвидацией трупа, они посвящают в дело Лючию и с ее помощью, запрятав труп Лоренцо в мешок, выносят его под покровом ночи из города, чтобы бросить тело в горное ущелье. Они достигают обрыва, но тут их нагоняет полицейский. Лючия выручает всех, пронзив сердце полицейского кинжалом в тот момент, когда он, спрыгнув с лошади, собирался выяснить обстановку. Наконец они благополучно сбрасывают трупы Лоренцо и полицейского в ущелье. Но тут внезапно раздается ржание покинутой лошади, слышится конский топот, и появляется второй полицейский. Джузеппе Боро укладывает его на месте выстрелом из пистолета, и все преспокойно отправляются по домам. Продолжения у меня пока нет, господин издатель.
И молодой человек, сидевший против издателя уголовных романов Томса, виновато посмотрел в глаза этому добряку. И тот воскликнул:
— Господин Крамский, ну куда это годится? Дальше-то что? Куда вы денете остальные трупы? Нет, ваши люди останутся на месте, так как на выстрел явится еще один полицейский патруль. Завяжется жуткая схватка, кому-нибудь свернут шею и так далее. Вот как я себе это представляю, понимаете, молодой человек? А с огнестрельным оружием, между прочим, надо обращаться осмотрительней. Что ж вы затеваете перестрелку среди ночи, имея, можно сказать, на руках труп, от которого вам предстоит отделаться? И это в тот самый момент, когда одного полицейского вы уже прикончили! Непозволительная ошибка, приятель, непозволительная. Они же сразу себя обнаружат. Если ваша Лючия так ловко орудует кинжалом, пускай она заколет и второго полицейского.
Господин Томс встал, опершись на стол, и в полупустом кафе прозвучал его громкий негодующий голос:
— Почему, я вас спрашиваю, вы не прирезали и второго полицейского? Кинжал в сердце — и делу конец. Разумеется, по шаблону действовать нельзя, номер не пройдет! Ну, и молодежь нынче пошла! Вы разве не знали покойного Хорвата? Вот кто владел кинжалом! Начал он в 1900 году и подвизался до 1905-го. И где? В Германии! И применял только яд или кинжал! Скажите пожалуйста, ну кто стреляет ночью? Вы же сразу попадетесь и потом не выпутаетесь! Говорю вам как отец. Вы парень понятливый, и я надеюсь, что еще не все потеряно. Выберите подходящий момент и скрывайтесь. О возвращении в город после всего случившегося, разумеется, нечего и думать. Придется поискать другой выход. Для начала займитесь грабежом. Убивайте женщин и детей. Лючию можно посадить в тюрьму, после выпустите на свободу. Для этого отправляйтесь в город, где она томится за решеткой, и прихлопните надзирателя. Я бы рекомендовал для этого резиновую дубинку, упаси боже — не револьвер, не то вы опять наделаете шуму и поднимете всех на ноги.

— Даю слово, что стрелять больше не буду, — заверил его молодой человек. — Большое спасибо за совет. Скажите, а яды можно употреблять? Какой яд не оставляет следов?
— Сразу видно, что вы совсем новичок и у вас не было практики, какая, скажем, была у покойного Хорвата. Любой яд оставляет следы и обнаруживается при вскрытии. Впрочем, пусть вскрывают и найдут, скажем, стрихнин. Но особенно ядами не увлекайтесь. Отравлять лучше всего богатых родственников и тому подобное, только не сразу, а постепенно, это интереснее. Да, когда ухлопаете надзирателя и все будет в порядке, не забудьте, что наша эпоха требует ограбления банков. Служащих усыпляете хлороформом или незаметно впрыскиваете им в кровь яд кураре. Тяжелые стальные сейфы взрываете при помощи динамита и пускаете в ход револьвер, тут уж револьвер незаменим, особенно браунинг прекрасная вещь! Недурно бы устроить и нападение на поезд. Не забывайте про театры, рестораны, кафе; всякого, кто вздумает оказать вам сопротивление и не захочет расстаться с деньгами, убивайте безжалостно, как собаку. Как собаку, молодой человек! А теперь желаю успеха.
— Они встали из-за стола и с удивлением увидели, — что перед ними, подняв руки вверх, стоят на коленях посетители кафе, официант, пикколо, владелец заведения и с немой покорностью во взоре молят о милосердии.
Пособие неимущим литераторам
Карел Яролимек был неплохой и довольно популярный писатель. Поэтому издатели систематически эксплуатировали и обирали его. Когда выходил очередной сборник его рассказов и Яролимек являлся за гонораром, издатель ругал его на чем свет стоит и божился, что сам не знает, кой черт дернул его напечатать такую чепуху.
В рассказах Яролимека благоухали луга, синее небо расстилалось над умолкнувшими рощами, солнце закатывалось в вечерней тишине (в разливе невероятно ярких красок) и затихало пение птиц. Все эти чудесные вещи совершались единственно для того, чтобы Карел Яролимек мог купить себе к ужину копченые сосиски. В процессе творчества Яролимек не забывал подсчитывать строчки и поэтому писал поэтически и пространно. Он перечислял все цветы в поле, долго занимался воробьем, пролетевшим над головой героя, и особенно налегал на диалоги в тех случаях, когда оплата была построчная.
С безмятежностью праведника он писал:
«…Оскар заранее знал, что скажет:
— Да. А разве вы не такого мнения?
— Нет.
— А почему?
— Потому!
— Почему же, Эмилия?»
И Яролимек подсчитывал: «Пять строк по пять геллеров (больше ему никто не платил) — это как раз пара сосисок. Или, если прибавить геллер, бутылка пльзеньского».
Жизнь Карела Яролимека протекала в борьбе с издателями и редакторами, у которых он с невероятной настойчивостью выклянчивал авансы.
В один прекрасный день он сидел с газетой в кафе, задумчиво потирая лысину. Он прочитал в газете, что министерство просвещения учредило фонд государственных пособий для писателей. Эта мысль возникла в голове добряка министра просвещения. Посоветовавшись с министром финансов, он сказал:
— Бросим им этот куш, пускай жрут.
«Им» значило писателям, этим бумагомаракам, иродову племени. — Solsche fertenchten Kerl!
Недолго думая, Яролимек подал ходатайство о пособии, подкрепив его соответствующими бумагами о том, что он действительно писатель. В ходатайстве он написал, что постарается высоконравственным поведением оправдать доверие властей, коль скоро оно будет ему оказано.
В тот вечер он даже не пошел в кафе, да и потом целых две надели все обдумывал, как распорядиться привалившим ему богатством. В смутных мечтах о будущей безоблачной жизни он уже представлял себе, что отдает в починку башмаки. Австрийское правительство снабжает чешского писателя средствами на починку сапог! Какая трогательная картина!
Шли недели и месяцы. К концу пятого месяца писатель стал немного нервничать. Миновал год, и Карел Яролимек лишь горько усмехался при упоминании о ходатайстве. Он уже свыкся с мыслью, что зря потратил 25 геллеров на заказное письмо. На это ушел гонорар с пяти строчек по пять геллеров:
«— Оскар!
— Что?
— Ты ничего не знаешь?
— Нет, Ольга.
— Скоро узнаешь, Оскар!»
Прошел еще год, и Карел Яролимек неожиданно получил вызов в полицейский участок. «Никогда ни в чем не был замешан», — решил он и бросил повестку в огонь. Немного погодя пришла повторная повестка. Ее принес полицейский в штатском платье и, как потом узнал Яролимек, сказал швейцару:
— Не знаю, в чем тут дело, но приглядывайте за этим типом.
— Будьте покойны, — отозвался швейцар.
Эта повестка тоже отправилась в печку. И тут наступили неприятные события. Яролимек вернулся домой в третьем часу ночи и улегся спать. В пять утра в дверь забарабанили, и сонный писатель услышал:
— Именем закона, отворите!
Испуганный, он в кальсонах зашлепал к дверям. В квартиру ворвались двое полицейских.
— Велено забрать вас. Ведь вы Карел Яролимек?
— К сожалению, это я.
— Бросьте глупые шуточки. Велено доставить вас к господину советнику, он вас давно хочет видеть. Ну-ка, прихорашивайтесь поживее, не то мы сами всунем вас в брюки.
— Помилуйте, ведь только пять часов утра, советника на службе нет… и я ни в чем не виноват!
— Ну, пошел хныкать! Заткнись, чертова кукла! Господин советник сказал вчера вахмистру, чтобы послали за вами. А уж мы знаем, как найти человека. Преступника надо брать в кровати. А придешь в восемь часов, так гнездышко уже опустело и птичка — фьюить!
Они нахлобучили на него шляпу и вывели на улицу.
— Пожалуйста, не хватайте меня за шиворот!
— Попридержи-ка язык!
— Я буду жаловаться!
— Мы тебе пожалуемся…
Яролимека привели в участок. Сонный вахмистр курил трубку. Он спросил коротко и ядовито:
— Ага, это вы Карел Яролимек? Тот, который изволит уклоняться от вызовов?
— Д-да.
— А чем занимаетесь?
— П-пи… писатель.
— А что вы пишете? Составляете опись имущества?
Вахмистр лег на койку, зевнул и распорядился:
— Обыскать — и за решетку!
Яролимека обшарили и ввергли в одиночку. Щелкнул ключ, и писатель остался один. Впрочем, одиночество длилось недолго, через несколько минут на него набросилась армия клопов.
Карел Яролимек взбунтовался. Он соскочил с нар и отчаянно заколотил в двери камеры.
— Пустите, я же Карел Яролимек!
— Потому и сидишь тут, — отозвался голос, — а не утихомиришься, наденем смирительную рубашку.
— «Приключения Карела Яролимека», «Похождения Карела Яролимека», «Гибель Карела Яролимека», — бормотал Карел Яролимек в полнейшем отчаянии, завалившись на нары. — «Злоключения Карела Яролимека», «Как Яролимек попал в беду»…
Он обдумывал названия новых рассказов.
Между тем тучи клопов, облепив тело писателя, повели тщательную разведку местности, отчего его кожа покрылась волдырями. Это было ужасное утро.
В половине, девятого за ним пришли. Немытого, искусанного и растрепанного, его отвели на второй этаж.
— По вашему распоряжению, господин советник, доставлен Карел Яролимек.

Писатель стоял совершенно ошалелый.
— Прошу садиться, — произнес пожилой советник и указал на стул.
— Прикажете посторожить? — заикнулся было один из полицейских, но, увидев, что господин советник подает преступнику руку, оба отошли на цыпочках.
— Я велел пригласить вас, господин Яролимек, для того, чтобы выяснить ваше материальное положение. Двадцать лет назад вы подавали ходатайство о государственном пособии, не правда ли?
— Виноват, господин советник, не двадцать лет, а два года назад.
— Ага, припоминаю. Двадцать лет назад ходатайствовал некто господин Часал. К сожалению, его не удалось найти. Впрочем, мы установили, справившись в энциклопедии, что он уже десять лет как скончался. Стало быть, это определенно не вы.
Советник соболезнующе оглядел Яролимека, который стоял перед ним без воротничка и галстука, неумытый, измятый и истерзанный.
— М-да, видимо, вы действительно нуждаетесь, — произнес он. — Дело вот в чем. В связи с вашим ходатайством министерство просвещения просило нас выяснить ваше материальное положение. Вижу, что вы не богач.
— Вы вполне правы.
— Так вы писатель? Значит, сочиняете?
— Совершенно верно, господин советник.
— Как же, знаю, читал даже ваши произведения. Этакие книжки, прекрасный шрифт, черные буквы. Отлично помню. Смотрел также ваши личные документы. Судимостей у вас нет, это — смягчающее обстоятельство… то есть я хотел сказать, это очень хорошо. Вы хотя и бедный, но вполне приличный человек, несмотря на ваше занятие. Можете идти.
Через восемь недель Карел Яролимек получил из Вены пособие — сто двадцать крон из фонда для неимущих литераторов. Он был страшно рад, что все так счастливо кончилось.
Конец святого Юро
— Отец Мамерт, — обратился ко мне как-то настоятель Иордан, — святой Юро давно уже не творит никаких чудес.
Это была несомненная правда. Меня приняли в Бецковский монастырь младшим членом ордена францисканцев в ту пору, когда у нас объявился грозный конкурент во Фриштакском монастыре доминиканцев.
То была статуя святой Петронилы. Не прошло и двух дней после моего водворения в общество старых монахов Бецкова, как во Фриштаке, в саду доминиканского аббатства, перед статуей святой Петронилы разверзлась земля, и с тех пор никто уже не обращал внимания на нашего доброго святого Юро. Вода ручьем текла из-под святой Петронилы, и все паломники сворачивали к Фриштаку. И до того грустно становилось нам, когда с башни нашего монастыря мы наблюдали, как по равнинному берегу зеленоватого Вага движутся толпы крестьян с хоругвями и пропадают в синеющей дали, где-то в направлений Фриштака.
А про нас и думать забыли.
Не могли же мы останавливать эти процессии, прошедшие путь от самой Жилины, Ружомберка, Тренчина, а то и из Опавы, и говорить им: «Глупые вы, во Фриштаке есть один парень, который до поступления к доминиканцам учился на геолога. Земля под святой Петронилой разверзлась потому, что он велел вырыть там колодец. Дурни вы мои золотые, оставайтесь у нас, здесь к вашим услугам святой Юро, а это надежный, проверенный святой. Вы уже, конечно, этого не помните, но когда-то, много лет назад, куманы отрубили под Бецковом голову одному священнику, и когда люди с плачем принесли ее вместе с телом в костел и положили перед святым Юро, то голова вдруг снова приросла к туловищу, священник встал и изрек: «Премного благодарен!» Вот доподлинное чудо святого Юро, и если вам этого мало, то уж другое чудо вы должны хорошо помнить: однажды в монастыре вспыхнул пожар, статуя святого Юро соскочила с постамента в костеле, вскарабкалась на колокольню и забила в набат. Так монастырь был спасен от огня. А когда сбежались люди, святой Юро уже преспокойно стоял на своем месте.
Золотые мои идиотики, во Фриштаке вы покупаете за большие деньги обыкновенную мутную водичку, а ведь вам гораздо дешевле обошелся бы ножичек с надписью «На память о паломничестве в Бецков». Это предмет вполне практичный, и приобрели бы вы его за какие-нибудь полгульдена. Если вас одолевают любого рода немощи, мы исключительно дешево можем предложить вам различные части человеческого тела, сделанные из воска. (Настоятель рассказал мне однажды, как в лучшие времена подошел к брату монаху, продававшему восковые конечности, один странничек и говорит: «Я страдаю, ваша милость, у меня только одна нога». Тот дал ему за гульден восковую ногу и уверил, что нога у него снова отрастет. Через год странника привезли к монастырю в храмовый праздник на телеге. Подкатили к тому брату монаху, тут наш добряк привстал и с горящим взором воскликнул: «Ваша милость, произошло чудо! Моя нога не хотела отрастать. Я начал клясть все на свете, а она все не отрастает и не отрастает. Тут я и молиться совсем бросил. Вот поезд и переехал мне вторую ногу, так что пришлось ее отнять. Покупаю у вас две восковые руки, чтобы господь бог хоть руки-то мне сохранил!»)
Но это только так, между прочим. Разоблачить мошенничество во Фриштаке мы не могли и посему пребывали в скорби. Процессии по-прежнему тянулись мимо нашего монастыря на юг, у нас же никто не останавливался.
В нашем монастыре было довольно большое колбасное производство. Когда-то за наши копченые колбаски паломники готовы были драться. Кто покупал пять колбасок, получал в придачу образок. А того, что вдруг купил бы сотню, стали бы поминать в заупокойной мессе. Чего уж там скрывать: на колбаски шла самая бросовая свинина. И все же, честно говоря, моим монастырским дружкам далеко было до наших соседей-доминиканцев. Наша святая братия не понимала, что такое прогресс. Не умела заманить паломников.
Итак, когда старый настоятель Иордан сказал мне: «Отец Мамерт, святой Юро давно уже не творит никаких чудес», — я только пожал плечами. «Не знаете, нет ли у нас какой-нибудь воды?» — продолжал он. Я снова пожал плечами. В нашем монастырском колодце воды было совсем мало, а найти ее в костеле, который стоит на скале, и вовсе невозможно.
Настоятель Иордан, нервно постукивая пальцами по дубовому столу, бормотал: «И как только не подумали о такой важной вещи!» Но потом, когда он отпил немного вина, лицо его прояснилось. Он ударил кулаком по столу и воскликнул:
— Святой Юро должен отправиться к воде. Так или иначе, но он должен туда попасть!
Он схватил меня за руку, потащил к окну и показал вниз, где катил свои волны зеленый Ваг. Я все понял.
— Сегодня ночью бог сподобит меня узреть видение, — произнес он многозначительно.
Хотел бы я когда-нибудь увидать такой прекрасный сон, какой видел нынешней ночью наш старенький аббат Иордан. Среди ночи в его келью, наполнив ее райским благовонием и сиянием, вошел святой Юро и сказал ему:
— Иордан, Иордан! Я должен пойти к воде. Не могу больше смотреть на то, как совсем рядом течет никем не замечаемая чудодейственная вода Вага.
Потом наш аббат услышал необычайно нежную мелодию, а святой Юро вернулся обратно в костел, на свой пьедестал.
Вот мы и отнесли его тогда к Вагу. Это был великолепный праздник. Из Шашгина и даже с Моравы из Ланжгота прибыли разукрашенные конные процессии.
Теперь у нас была собственная чудотворная вода. И сколько! Целый Ваг, так что воды хватило бы на весь христианский мир.
И снова потекли к нам толпы паломников. Мы сделали возле Вага специальный резервуар. Воду продавали втридорога. Кто хотел искупаться, тоже должен был платить денежки. Наконец мы стали даже продавать купальники, а без них в реку никого не пускали.
И надо же случиться такой чертовой напасти — начался брюшной тиф. Тогда стояла большая вода, повсюду было полно илу, и люди покупали этот ил бутылками. Но тут умер у нас один паломник, потом еще двое, люди начали терять к нам доверие. Все было бы не так уж плохо, если бы неожиданно на нас не свалилась страшная весть.
Мы как раз переживали новый расцвет, когда прошел слух, что в доминиканское аббатство во Фриштаке привезли какие-то аппараты. Что бы это могло означать?..
Скоро мы все поняли.
Фриштакские доминиканцы начали вырабатывать чудотворную газированную воду с гарантией от всех вредоносных бактерий!
Мы остались с носом. И было у нашего настоятеля новое видение. Якобы явился ему святой Юро и рек:
— Не нравится мне у воды. Иной раз, когда Ваг выходит из берегов, стоишь несколько дней кряду по колено в воде и ждешь, пока она не спадет. Хочу на свое старое место.
Я отпустил тогда замечаньице насчет того, что все теперь боятся подагры. И снова сидели мы грустные после праздника торжественного перенесения статуи. Хоть бы какие-нибудь жалкие остатки этих толп, идущих к доминиканцам, заманить к себе!
И тут я вспомнил о существовании граммофона. Органа у нас нет, но что, если святой Юро начнет петь какую-нибудь набожную песню?
— Так купите, отец Мамерт, эту дьявольскую машину, — велел мне аббат Иордан, — и еще что-нибудь светское… Очень уж скучно стало у нас в монастыре.
— Слушаюсь, reverendissime[45].
И я поехал в Вену покупать граммофон и пластинки.
Когда снова в один из праздников капелла была полна народу, я завел в прикрытой ковриком нише за статуей святого Юро граммофон.
Видно, черт меня попутал или я еще с Вены не протрезвился окончательно, но только до ушей благочестивых паломников вдруг донесся величественный хорал:
«Hop, mei Mädrle, hop…»[46]
Не солгу вам: настоятель Иордан, как колода, свалился со скамьи, обитой по случаю праздника красным плюшем.
Для него это было чересчур сильное потрясение.
«Любовь, любовь, ты всемогуща…»
Сперва он стеснялся, но потом при встречах с этой наивной девочкой был уже смелее. Он изъяснялся весьма цветистым и сложным слогом, позаимствованным из диковинных статей в журналах для юных дарований, начинающих там свою литературную карьеру, и из сочинений Ружены Есенекой, деятельность которой завершается тем же, чем начинают семнадцатилетние гимназисты в своих тайных школьных журналах — образами поледниц, бесшумно шагающих по полевым межам.
Ему было тоже семнадцать лет, и он был гимназистом. Встречаясь с ней, он всегда говорил, что его сердце наполнено радостью, и водил ее на Градчаны слушать вечерний звон. Когда они поднялись к Граду, он воскликнул:
— Сударыня, вот звуки, которые падают в храмовую тишину, а восклицательные знаки иронизирующих газовых фонарей бросают в наши глаза свет, желанный свет священного освещения, бросают красоту света, света, который светит, пылает, горит в свете светящих фонарей.
Дальше он не знал, что сказать, а она с восхищением смотрела на него, и так как он ей сказал «сударыня», то она ему ответила тоже:
— Да, сударь.
Стремясь подражать его прекрасному слогу, она сказала:
— Эти огни светят, освещая темноту, неосвещенную и пустую, как пустыня, по которой проходят печальные люди.
Они шли домой по градчанским улочкам, и он ей говорил о тихой красоте, об интимных уголках под старыми черепичными навесами и вдруг быстро увлек ее в сторону, потому что заметил в углу надпись: «Всякое загрязнение этого места воспрещается».
По несчастной случайности он в это время показывал рукой как раз в этом направлении, говоря, что душа, грустящая по тишине, прячется в таком вот молчаливом уголке, в полутьме, где предается под старыми арками красоте своей печали. А она, заметив надпись, невинно спросила его, что здесь можно загрязнить.
— Красоту можно осквернить даже одним взглядом, — сказал он. — Кощунственные взгляды, как сатана, впиваются в укромные уголки, и меч разрушения довершает затем дело уничтожения. Пойдемте!
Однако она продолжала удивляться этой надписи.
— «Загрязнение воспрещается», — прочла она вслух и с оживлением спросила: — А на собак это тоже распространяется?
Он лишь кивнул головой. Ее вопрос уколол его в самое сердце, по-новому осветив перед ним душу этой маленькой невинной девушки.
Он понял, что она уже знает свет во всей его неприглядности, и грустно сказал:
— Как приятно одиночество, как приятна тишина и песнь лесов, где жизнь ничем не загрязнена, где нет надписей, напоминающих о бренности человека! Жизнь, сударыня, это непрестанная борьба, непрестанное запрещение и предупреждение тех или иных действий. Я хотел бы, чтобы эти действия улетели далеко-далеко во вселенную.
Он схватил ее за руку и побежал с ней по ступенькам, ведущим вниз с холма. Но тут ему не повезло: он налетел на своего классного наставника, который медленно поднимался к кафе «Викарка».
Он выпустил руку своей милой, бесценной спутницы и, дрожа от страха, почтительно остановился перед наставником, который провозгласил:
— Как только поднимусь на гору, сейчас же запишу вас в кондуит. Завтра я с вами поговорю, и вы сами, Кноблох, мне напомните. Спокойной ночи, голубчик!
Она этого не заметила, потому что шла впереди. Он догнал ее и сказал:
— Это учитель Врхлицкий, он спросил меня, что я здесь делаю.
При этом на глазах у него выступили слезы.
— Вы плачете, сударь?
— Но он так плохо выглядит, сударыня…
Тихий и опечаленный, он шел с ней по улице и говорил об угасших мечтах. По пути он купил ей апельсин, но она сказала, что есть его не будет, что она его лучше высушит и положит на память в дневник. Затем она спросила, приносит ли апельсин счастье, и он ответил, что апельсин является символом постоянства и совершенства характера, потому что это шар, а шар — это наиболее совершенная форма.
Поэтическое настроение покинуло его, и он спросил, знает ли она, как вычислить объем шара.
Они уже перешли мост и должны были расстаться, чтобы никто не видел ее гуляющей с молодым человеком.
Назначили свидание на следующий день, и она, подавая ему маленькую ручку, сказала:
— Приятного сна, сударь.
А спал он, словно преследуемый по пятам преступник, который убил, по крайней мере, трех человек.
Ему снилось, что школьные учителя на основе распоряжения окружного педагогического совета ведут его на Градчаны. У всех учителей заряженные ружья с примкнутыми штыками, а сам директор ведет его на веревке. В конце процессии школьный сторож Ванек везет на тележке большой крест. Когда процессия достигает площади Радецкого, Ванек снимает крест с тележки, и с помощью полицейских крест кладут на плечи Кноблоха, и он несет его на Градчаны. А по сторонам всюду стоят шпалерами ученики средних школ, машут платками и по знаку учителей, одетых в форму, кричат:
— Распни, распни его!
К ноге ему привязали какого-то маленького первоклашку, который будет распят с ним вместе, потому что на уроке чешского языка написал: «Мяч похож на яйцу». Мальчик плачет, поднимает руки и по дороге громогласно молится: «Яйцо, яйца, яйцу, яйцо, яйцом, о яйце». При этом он умоляюще смотрит на директора, который говорит ему:
— Все напрасно, ничем не могу вам помочь: педагогический совет решил, что вы будете распяты на кресте вместе с Кноблохом.
В этот момент он в ужасе проснулся, и ему показалось, будто в ногах у него сидит классный наставник. Он вскрикнул так дико, что разбудил квартирную хозяйку.
— Ах, какой он был страшный! — захлебываясь, рассказывал он. — Вот здесь сидел, усы у него топорщились, а изо рта вылетал огонь.
Она положила ему на голову компресс, но он не мог уснуть до самого утра и к восьми часам со страхом направился в гимназию.
У него так трепетало сердце, что ему стало нехорошо, и на Штепанской улице он совершил великое благодеяние, разделив свой завтрак с засохшей акацией.
Классный наставник, не успев войти в класс и едва записав что-то в журнал, тотчас вызвал его:
— Кноблох, к доске!
Бледный и дрожащий, Кноблох очутился у доски, и учитель, насмешливо потирая руки, спросил его:
— Не хотите ли вы мне что-нибудь сказать? Не забыли ли вы о каком-нибудь поручении? У вас действительно такая короткая память, что вам не о чем мне напомнить?
Дрожащим голосом Кноблох произнес:
— Да, я должен вам напомнить, что вчера вечером я встретил вас на Замковой лестнице около Града.
Весь класс разразился хохотом.
— И это все, Кноблох? Может быть, у вас хватит смелости рассказать нам о некоторых подробностях? С кем это вы, голубчик, шли?
— Со своей кузиной, господин учитель.
— Так, значит, Кноблох, вы приходитесь мне племянником, это была моя дочь, голубчик. Дабы все в классе знали, что я, Брут, прерываю родственные связи с вами, записываю вам блестящую отметку по поведению.
Удрученный, возвращался Кноблох домой, и когда он завернул за угол, в нижнем этаже граммофон как раз заиграл: «Любовь, любовь, ты всемогуща…»
У Кноблоха был такой печальный вид, что какая-то бродячая собака, бежавшая мимо, посмотрела на него и из сострадания проводила его до квартиры.
Сыщик Паточка
Сыщик Паточка долго ничем не проявлял себя. В полицию он поступил по протекции и совершал там одну глупость за другой. Начальство знало, что ни к чему путному он не способен, и поручало ему только пустяковые дела.
В один прекрасный день Паточка получил задание выяснить местожительство парикмахера Яна Краткого, который прежде жил на Тунной улице, 15, у вдовы Пешковой. Дело в том, что налоговая управа запросила о нем полицию, поскольку Краткий задолжал за три года воинский налог общей суммой 8 (восемь) крон.
Сыщик Паточка с превеликим рвением взялся за дело, ведь оно было его первой самостоятельной миссией. Прежде всего он коротко остриг бородку, надел синюю рабочую блузу, взял из полицейского реквизита долото и клещи, измазал себе лицо и руки сажей и в таком виде постучал у дверей вдовы Пешковой. Ему отворила какая-то старушка. Паточка осведомился, здесь ли живет пани Кромбгольцова, которая потеряла ключ от квартиры и не может попасть домой. Он, мол, слесарь и пришел вскрыть замок. Старушка сказала, что у них нет никакой Кромбгольцовой, а живет здесь пани Новотная. Паточка поблагодарил и, исполнен радости, вернулся домой. Было ясно, что в результате столь неожиданного оборота дело осложняется: теперь нужно искать также и пани Пешкову; тем самым обнаружение Яна Краткого принесет ему двойную славу.
Основательно отдохнув после напряженного труда, Паточка на следующий день решил, что теперь ему целесообразнее выступать под видом разносчика товаров. Для этой цели он купил десять пачек цикория, положил их в чемоданчик и у ближайшего парикмахера сбрил остаток бороды. Одетый в светлое пальто, он постучался к привратнице того дома, где прежде жила вдова Пешкова, а ныне старушка Новотная. Когда привратница открыла, он вынул из чемоданчика все десять пачек и попросил передать их пани Пешковой, когда она вернется домой, — она, мол, вчера заказала этот цикорий.
— Что вы! — сказала привратница. — Тут, мой милый, ошибка. Пешкова-то померла два года назад, а ее сын в то время получил место на механическом заводе, где-то в Пршемысле, в Галиции. Там он женился, а теперь у него своя мастерская на Высочанах, в Праге.
— Благодарю вас, — сказал Паточка, тщательно записывая эти сведения. — Возьмите себе эти десять пачек цикория за вашу любезность.
В радостном настроении он вернулся домой и с удовлетворением потер руки: теперь ему было вполне ясно, что он становится великим сыщиком. Утром Паточка поехал в Пршемысл, проверить, соответствуют ли действительности показания привратницы. Прибыв туда, он загримировался под польского еврея и послал в пражское полицейское управление шифрованную телеграмму: «Прошу вызвать владельца механической мастерской на Высочанах Пешека и допросить его, в какой фирме в Пршемысле он работал. Адрес сообщите в отель «Русский царь» в Пршемысле. Паточка».
На третий день пришла телеграмма: «Фирма Яна Обульского, Мысленская улица, 10».
Паточка без промедлений направился по этому адресу. Оказалось, однако, что Ян Обульский год назад уехал в Америку. Паточке сказали, что у Обульского теперь большой завод сельскохозяйственных машин в Чикаго, Триста шестнадцатая улица.
Словно предвидя такой оборот дела, Паточка перед отъездом из Праги снял с книжки все свои сбережения, восемь тысяч крон; поэтому он теперь без труда смог доехать скорым поездом до Кракова, оттуда экспрессом в Берлин и в Гамбург, где он счастливо поспел на океанский пароход «Кайзер Вильгельм». Через одиннадцать дней Паточка был уже в Чикаго и, играючи, выяснил, что показания привратницы не расходятся с истиной: у Яна Обульского действительно работал в Пршемысле сын вдовы Пешковой, у которой в свое время жил парикмахер Ян Краткий, разыскиваемый полицией.
Выяснив это, обрадованный Паточка пошел побриться в ближайшую парикмахерскую. Там сидело несколько чехов, и парикмахер говорил с ними по-чешски.
— Вы чех? — небрежно осведомился Паточка.
— Ну да. Разве вы не видите вывеску «Ян Краткий»?
Сыщик Паточка вскочил и радостно воскликнул:
— Вы жили у вдовы Пешковой в Праге, на Тунной, 14?
— Да.
Так находчивый сыщик Паточка отыскал неплательщика Яна Краткого и, увенчав себя славой, вернулся в Прагу, предварительно послав в полицейское управление телеграмму: «Нашел разыскиваемую личность, Яна Краткого, парикмахера, в Чикаго, Триста пятнадцатая улица. Паточка».
За это он получил дворянское звание.
Судебный исполнитель Янчар
Янчар и сам толком не знал, как он стал судебным исполнителем. Этот бледный, боязливый молодой человек и мухи бы не обидел, не то-что несчастного неплательщика. Куда ему было лезть в судебные исполнители! Эти живоглоты умеют проглотить человека, как кит Иону.
Янчар же был очень робок, чувствителен и поэтически настроен. Его даже исключили из гимназии за сентиментальные стишки: он обожал директора, ужаснейшего типа самого строгого нрава.
Когда Янчара выперли из гимназии, его опекун сдал юношу в рекруты; на военной службе беспомощного, вечно заплаканного Янчара начальство старалось почаще сажать под арест, чтобы он не попадал на плац, потому что при каждой команде «knieübung»[47] на учениях он хныкал, как старая баба.
Когда Янчар отслужил свой срок в армии, возник вопрос, куда же пристроить этого недотепу, чтобы он мог зарабатывать себе на пропитание. Опекун представил его знакомому советнику юстиции, с которого когда-то не стребовал карточного долга в 150 крон, и тот по протекции устроил Янчара судебным исполнителем.
Принося присягу, Янчар трясся всем телом, а при последних словах «Помоги мне в этом, всевышний» разревелся так жалобно, что прослезился и начальник судебной канцелярии. Плачущий исполнитель показался ему такой диковинкой, что, глядя на него, невозможно было самому удержаться от слез.
— Молодой человек, — сказал он Янчару, — почему же вы плачете? Ведь мы от вас не потребуем ничего, кроме выполнения обязанностей. Правда, люди будут видеть в вас живодера, но такова уж ваша должность. Не поддавайтесь чувствам. Если вас кто-нибудь оскорбит, доложите по начальству, и обидчика посадят за решетку. Дело ваше очень ответственное, может статься, что вас и побьют… Но вы не плачьте, это пустяки, вашего предшественника проткнули вилами, когда он описывал корову… Успокойтесь же, прошу вас. Так вот, завтра вы пойдете в Бытоухов описывать корову трактирщика Шилгана. Знаете, как это делается? Опечатайте ей вымя, чтобы ее не могли доить, и с помощью сельского стражника отведите эту корову в суд, чтобы не убежала.
На другой день подавленный Янчар, взяв бумаги по делу Шилгана, направился в Бытоухов. Поднявшись на холм, он в последний раз взглянул на город: бог весть, доведется ли ему еще возвратиться туда, ведь в Бытоухове его ждут трактирщик Шилган, корова, вилы и бог весть что еще.
Янчару уже виделись заголовки в газетах: «Судебный исполнитель проткнут вилами», «Судебный исполнитель избит до смерти», «Заколот судебный исполнитель». Он представил себе, как деревенские собаки волокут его внутренности по деревне…
Вот уже исчезла из виду колокольня, исчезла аллея… Дорога, по которой он навсегда удалялся от спокойной, мирной жизни, неотвратимо вела его в Бытоухов. Быть может, по этой самой дороге везли в навозной телеге его предшественника, проткнутого вилами?.. Янчару мерещились всякие ужасы, но при этом он мысленно внимал наставлениям о том, что надо быть неумолимым и, если понадобится, описать даже родную мать… Он должен всюду налеплять печати, хотя бы и на собственного брата…
Показались первые домики Бытоухова. У исполнителя засосало под ложечкой. Он испуганно озирался и походил на сентиментального отцеубийцу, приговоренного к виселице, который, сбежав из тюрьмы, в последний раз пробирается в родной город, чтобы распрощаться с теми местами, где он убил и ограбил своего родителя.
Черный служебный портфель оттенял бледность его лица, бородка торчала, волосы под форменной фуражкой стояли дыбом, штаны висели. В эти минуты Янчар напоминал неопытного воришку, впервые в жизни отправившегося красть, — прижимая к груди крестик, который мать, лежа на смертном одре, повесила ему на шею, он вспоминает ее последние слова: «Лойзик, Лойзик, не воруй!»
Янчар хотел было спросить, как пройти к трактиру Шилгана, но раздумал, заслышав возглас какой-то бабы:
— Ну и нализался!
В самом деле, походка у него нетвердая, а из кармана торчала бутылка из-под сливовицы, которую он в страхе перед тем, что его ожидает, осушил до дна. Такой поступок вполне соответствовал тому, что говорится в монографии доктора Лафлера «Психология преступника»: 58 процентов приговоренных к смерти пожелали перед казнью выпить спиртного, и их последние слова были: «Употребление спиртных напитков имеет тяжелые последствия!»
Судебный исполнитель Янчар, пошатываясь, добрался до деревенской площади и увидел там вывеску трактира Шилгана. Он смирненько вошел в трактир, сказавши: «Слава господу нашему Иисусу Христу» — уселся в уголке и заказал себе пиво. В трактире сидело несколько здоровенных мужчин; на Янчара они не обратили внимания, продолжая разговор с трактирщиком.
Янчар понял, что речь шла о налогах. Трактирщик произнес что-то не очень приличное, а его сосед отозвался:
— Я бы ему руки-ноги переломал!
Было ясно, что речь идет о судебных исполнителях. Другой сосед сказал, что такому паразиту надо свернуть шею. Третий высказался за то, чтобы раскроить ему башку, а четвертому пришло в голову, что неплохо бы заживо содрать с него шкуру.
Трактирщик Шилган был умереннее и сказал, что он бы только излупил этого мерзавца до полусмерти.
Бедняга Янчар сжался в уголке, подбородок у него дрожал, в носу стало щекотно от страха, и он чихнул.
Все головы повернулись к нему.
— А вы, часом, не из суда, сударь? — осведомился трактирщик Шилган. — Похоже на то!
Янчару стало ясно, что пробил его последний час. Вот-вот его мертвое тело повезут на телеге.
— Нет-нет! — в отчаянии воскликнул он. — Я просто мошенник.
Ничего другого ему не пришло в голову.
— И что же вы задумали?
— Увести у вас корову.
— И продать?
— С торгов, — вырвалось у насмерть перепуганного Янчара.
Его связали и отвели в суд. Там все выяснилось, и когда Янчар вышел оттуда, на нем уже не было судейской формы.
Потом его самого отдали под суд за нарушение служебной присяги, он спился и от пережитых страхов поседел как лунь. Услышав, что где-то избили судебного исполнителя, он обычно говорит:
— Хорошая должность, но не для меня, характер не тот…
Исповедь старого холостяка
1. Как я пришивал пуговицы к брюкам
Человек испытывает одно из самых мучительных чувств, когда замечает, что костюм его не в порядке. В таком костюме он не может появиться в обществе, так как общество не делает различия между пожилым холостяком и женатым человеком и требует от обоих определенной степени приличия. Отсутствие пуговиц на ваших брюках возбуждает у многих предвзятых людей определенный отпор. Общество не относится к этому обстоятельству достаточно вдумчиво ц не принимает во внимание никаких смягчающих вину обстоятельств. Оно забывает, что старый холостяк из стыдливости не осмелится принести брюки с оторванной пуговицей к жене своего приятеля с просьбой, чтобы она привела их в надлежащий порядок. Если же он обратится с подобной просьбой к дочери своей квартирной хозяйки, то, вероятно, возбудит в ее нежной девичьей душе вполне заслуженное презрение.
Таким образом, если старый холостяк хочет сохранить в обществе хорошую репутацию, ему не остается ничего другого, как самому пришивать пуговицы к своим брюкам.
Если же кто возражает против этого и утверждает, что холостяк может обратиться к мужскому портному, который пришивает пуговицы, то осмелюсь заметить, что такое утверждение — увы! — совершенно неправильно. Предположим, что он придет и скажет портному: «Вот вам брюки, здесь оторваны пуговицы; будьте любезны их пришить», — этим он только выставит себя в смешном виде: кто бы не ужаснулся, услышав, что к портному обращаются, чтобы пришить пуговицы к брюкам?
Поэтому я решил пришивать пуговицы к брюкам сам.
Первое время оторванную пуговицу я заменял английской булавкой. Но однажды в трамвае булавка впилась мне в тело, и я решил, что пуговицы необходимо пришивать, а не ограничиваться простым закалыванием булавкой.
Признаюсь цинически, что сначала я не обратил внимания на оторванную пуговицу, и только ночью, вспомнив, как на меня смотрели в течение целого вечера в кафе даже тогда, когда я застегнул пальто, я решил, что приколю булавкой новую пуговицу, которую я отрезал от жилета. Отсутствие на жилете одной пуговицы не считается особенно неприличным, — во всяком случае, вы менее ощущаете последствия потери пуговицы от жилета, чем от брюк. Если у вас нет пуговицы на жилете, то кажется, что вы его небрежно застегнули, что частенько случается со старыми холостяками, как я знаю по собственному опыту. Во всяком случае, это не шокирует окружающую публику. Но совершенно другое впечатление производит, как я уже упомянул, отсутствие пуговицы у брюк.
После долгих раздумий я решил, что пуговицу я пришью сам. В течение целого дня я чувствовал себя неспокойно. Спросить, как пришивают пуговицы, я боялся, так как не хотел, чтобы меня сочли за глупца; поэтому я отправился в читальный зал библиотеки, взял там энциклопедию и в томе на букву «п» стал отыскивать статью «Пришиванье».
Теперь я могу решительно опровергнуть ложный взгляд, будто наша энциклопедия является полной. О пришивании пуговиц там не сказано решительно ничего. Там даже нет такого слова. В томе на букву «п» я нашел только объяснение слова «пуговица», но что это было за объяснение! «Пуговица является принадлежностью одежды. Прикрепление пуговиц происходит при помощи пришивания. Пуговицы уже были известны древним египтянам, но греки и римляне пуговиц не употребляли. Пуговицы в Чехии появились вместе с христианством».
Тогда я стал искать статью «Христианство», надеясь найти там упоминание о пуговицах, но ничего не нашел. Я подумал, что смогу найти сообщение о том, как древние египтяне пришивали пуговицы. Разыскал статью «Египет» и прочел: «В Египте старых первосвященников хоронили с золотой пуговицей в руке». Но как пришивали египтяне пуговицы, об этом не сообщалось.
Поэтому я должен был положиться исключительно на собственную изобретательность. После долгих размышлений я пришел к выводу, что необходимо держаться так называемой системы постепенного изучения. К делу нужно подходить систематически. Я осмотрел пуговицу и обнаружил в ней четыре дырки.
Первое время назначение этих дырок было для меня загадкой, но, осмотрев их внимательно, я понял, что через них проходит нитка при помощи того инструмента, который называется иглой. Игла же, как я вычитал из энциклопедии, является определенным видом стального рычага и отличается от поросенка тем, что имеет только одно ушко. В это ушко, как я обнаружил, просовывается нитка, пуговица насаживается на нитку, а иголка прокалывает брюки.
Моя фантазия работала весьма буйно. Так как я слышал, что сталь очень хрупка, то купил целый гросс иголок; кроме того — дюжину катушек, большею частью черных. На тот случай, если черные нитки окажутся негодными, я купил белые, а также коричневые, — на всякий случай, если окажутся негодными и черные и белые нитки.
В магазине, где я покупал, меня спросили, не желаю ли я купить также и наперсток. Я понял, что наперсток, очевидно, является весьма важным инструментом, и купил их двадцать штук. Судя по названию, я понял, что «наперсток» надевается «на перст», то есть на палец. Но я не знал, на какой именно, а поэтому, чтобы не ошибиться, купил двадцать наперстков, так как известно, что на руках у нас десять пальцев и на ногах тоже десять.
Когда я со всеми покупками возвращался домой, то был похож на волшебника. Дома я приказал хорошенько натопить, принести три бутылки вина и, подкрепившись основательно ужином и вином, разыскал несчастные брюки и усердно принялся за работу. Я помню до сих пор, какая это была жестокая, упорная борьба.
Утром меня нашли лежащим в одном белье на полу, окруженного четырнадцатью тысячами метров разноцветных ниток. Я спал на двухстах иголках, а мои брюки оказались пришитыми к дивану; на пальцах ног и рук у меня было насажено двадцать наперстков, а икра моя была пришита к ковру.
Что делать? Пришлось купить новые брюки,
2. Как я варил яйца всмятку
У меня есть добрая старая тетя, которая время от времени подвергается приливам любви к родственникам. Лет пятнадцать она ничем не дает о себе знать, а потом внезапно почтальон приносит какую-нибудь посылку от нее, которую она посылает в порыве такого припадка. Последний раз, четырнадцать лет тому назад, она прислала мне большой пирог, а теперь, на пятнадцатом году после этого события, почтальон вручил мне большую корзину, в которой я обнаружил яйца и следующее трогательное письмо.
«Милый племянник!
Как я рада, что могу послать тебе корзину яиц из моего хозяйства. Я тебя, милый мальчик, очень люблю, и так как думаю, что жить мне осталось недолго, то посылаю тебе последнее доказательство моего внимания к тебе. Свари их сам всмятку, ешь и вспоминай свою старую добрую тетю Анну. Пусть эти шестьдесят яиц напомнят тебе о маленьком домике на севере, где весело кудахтают куры и вспоминают тебя вместе с твоей горячо любящей тебя
тетей Анной».
Из чувства благодарности к своей тете я решил сварить сразу все шестьдесят яиц всмятку.
Ночью я видел по этому поводу сон. Собственно, я никогда не задавался вопросом, как варят яйца всмятку. После продолжительного размышления я пришел к выводу, что яйца необходимо варить так, чтобы они сварились. Это является единственно возможным выходом из такого сложного положения, как необходимость во что бы то ни стало сварить сразу шестьдесят яиц всмятку.
Я очень люблю яйца всмятку. И так как шестьдесят яиц, сваренных всмятку, я все же съесть в один присест не могу, то я решил сделать из яиц консервы.
Я очень долго раздумывал о том, как мне это сделать. Неожиданно я оказался в весьма неприятном положении. Я знаю, что в газетах очень часто смеялись над женами, которые не умеют сварить всмятку яйца. Но никогда нигде еще не писалось о том, как варят яйца старые холостяки. А поэтому я хочу правдиво описать все, что случилось со мной. Это послужит руководством к варке яиц.
Прежде всего я купил несколько книг по птицеводству, предполагая найти в них на первых страницах нужные мне указания.
К сожалению, во всех специальных сочинениях о птицеводстве я не нашел ни одной строки о варке яиц, хотя вообще о яйцах там писалось много: например, что яйца несут куры и так далее, о том, что яйца должны храниться в сухом месте, как яйца должны высиживаться. Но так как тетя послала мне эти яйца не для того, чтобы я их высиживал, а чтобы их сварил всмятку, то я с неудовольствием захлопнул книгу.
Я не хотел об этом спрашивать у своих семейных знакомых, а поэтому опять решил отправиться в библиотеку и прибегнуть к помощи энциклопедического словаря.
В томе на букву «я» я нашел статейку, сообщающую, что каждый род и вид птиц несет яйца. Хотя это и не было для меня новостью, тем не менее я с интересом прочел, как наука доказывает эту общеизвестную истину.
К моему удивлению, оказалось, что наука совсем не интересуется такими важными вопросами, как варка яиц. Ни в одной книге я ничего об этом не нашел.
Правда, в энциклопедии упоминалось, что яйца приготовляются различными способами, но какими именно способами — это для меня осталось загадкой даже и после трехдневного тщательного просмотра энциклопедического словаря.
Правда, мимоходом в этой почтенной книге упоминалось о варке яиц: «В Англии яйца служат в большинстве случаев предметом питания и употребляются в сыром или вареном виде. Варят их вкрутую или всмятку. Почти в каждой английской семье яйца к завтраку подаются всмятку».
Но как именно привести яйца в полужидкое состояние, то есть всмятку, об этом не говорилось ни слова.
Мне не осталось ничего другого, как попытаться попробовать самому сварить яйца всмятку и добиться благоприятного результата хотя бы ценою порчи нескольких штук. Для этого я купил спиртовку, пять литров спирта и котел Паппена, пользоваться которым я научился во время изучения физики в гимназии. Затем я приступил к делу. Я налил в котел Паппена воды, в воду положил десять яиц и зажег спиртовку. Через четверть часа я вынул первое яйцо, разбил его — оно было крутое. Разбил другое — тоже крутое. Все яйца были еще крутыми. Тогда я очистил их от скорлупы, снова положил в котел Паппена и варил целый час. Яйца продолжали оставаться твердыми. Я их варил до самого утра, и они все время были крутыми и твердыми.
Утром меня нашли лежащим в корзине с яйцами, куда я упал в раздражении оттого, что мне не удалось ни одного яйца доварить до полужидкого состояния.
Яйца так и остались крутыми.
3. Как выглядят женщины
Признаюсь, что в дамском обществе я всегда чувствовал себя неловко. Эта неловкость происходила оттого, что я очень боялся женщин. Я был уверен, что женщины являются существами, которые своей миловидностью и привлекательной внешностью стремятся одурачить мужчину с целью выйти за него замуж.
Миллионы историй, которые мужчины всех времен и народов имели с женщинами, по моему мнению, ясно свидетельствовали, что брак — это нечто ужасное… Жена проглатывает мужа, как крокодил кролика, а если это не удается, то коварное существо добивает мужа горшками, испорченными жаркими и тому подобными маленькими орудиями инквизиции. Необычайная ласковость женщины до свадьбы превращается после нее в подлинное неистовство из-за малейшего разногласия, в кошмарное преследование мужа, терпящего муки первых христиан…
Первое время они притворяются очень нежными, разумными и полными любви. Их голос, отражающий внутреннее волнение, чарует вас и как бы ласкает всюду, где только возможно; они всячески окружают вас вниманием, и вы доверчиво отвечаете на эту любовь, на эти, поцелуи и нежные пожатия рук; вы смотрите в их нежные глаза, полные доверия, и прилипаете, как муха к клейкому листу. Ну, а потом вам приходит конец. Прилипшего, вас отвезут в костел, и после этого преследования первых христиан покажутся вам сущим пустяком по сравнению с тем, что придется испытать вам.
Нежные взгляды превращаются в злобные, вместо поцелуев вас изгоняют из кухни, где, оказывается, запрещено курить. Любимое существо незаметно начинает приказывать вам, как вы должны одеваться, топает ножкой, скрежещет зубами, делает такое лицо, словно хочет вас проглотить, трясется от бешенства при взгляде на вас, бьет вас чем попало. Это нежное создание начинает грубо ругать вас и при этом думает, что делает вам одолжение, не растоптав вас на месте своей маленькой ножкой. Она клянется и обещает, что рано или поздно, но она вас убьет, хотя бы только потому, что у нее пригорела мука с маслом, а вы просите не класть эту заправку в суп.
Когда на улице грязь, то начинается скандал; она плачет и бранится, глядя на ваши грязные ботинки. Она заставляет вас полчаса стоять на улице и чистить их об рогожу, чтобы вы не запачкали ей пол в кухне, а когда откроет вам дверь, то вы на полу увидите слой глины и сажи; оказывается, час тому назад здесь был печник, который исправлял печь. Наконец это варварское издевательство вам надоедает, но вы не знаете, что ей на это сказать. Тогда она неожиданно обрушивается на вас за то, что вы не рассказываете ей новостей, слышанных вами на службе, на улице, — вообще о том, что делается на белом свете.
Несмотря на то, что она вас только что ругала, вы все-таки говорите ей: «Милая, да ведь я же ничего не знаю». Тогда она снова начинает топать, скакать, фыркать, как кошка, скрежетать и скрипеть зубами, биться головой об стол, но так, чтобы себя не ушибить; откроет дверь, чтобы ее голос был слышен по всему дому, в котором, благодаря вашей супруге, вас все считают черствым, бесчувственным человеком, негодяем, которого неизвестно как еще носит земля.
Затем она вам скажет, что вы ее совершенно не любите, и ждет, что в ответ на это вы у нее будете просить прощения и уверять в обратном. С плачем и ревом вдруг она начинает рвать на себе волосы, разорвет свою блузку и, проклиная свою цыганскую жизнь и грозя выброситься из окна, попросит у вас денег на три новые блузки.
Она идет к окну, а вы стоите как вкопанный. Она возвращается к вам и кричит, что вы хотите ее смерти, чтобы жениться на «той твари». «На какой твари, милочка?» Конечно, она не скажет имени той, о которой она ничего не знает, которая существует только в ее фантазии, и неожиданно начинает изображать из себя брошенную супругу; кричит, что все мужчины лентяи и бездельники, которые только придумывают мучения для своих жен.
После этого она начинает одеваться и говорит, что уходит к родным, а мебель продаст, потому что эта мебель принадлежит ей; начнет вас бить, лягать, плевать вам в лицо и, наконец, бросит в вас горшок с сажей и, подымая дикий крик, скажет: «Ах, почему я не умерла раньше!» Она сожалеет, что вообще родилась на свет, а вы этому тигру, этому крокодилу говорите: «Милочка!»
А после скандала она в течение трех дней мучит вас помидорным соусом или другим блюдом, которого вы не любите; обращается с вами, как с собакой, которая перед нею провинилась; насвистывает, будто озорник мальчишка и то и дело разражается слезами. Когда же вы возвращаетесь домой со службы, то она притворяется печальной, ходит как в воду опущенная.
Она с восторгом начинает говорить о кладбище, об умирающих надеждах; говорит об одном господине, который поздоровался с ней, когда она шла за покупками, и ее глаза загораются при словах о том, что он был блондин или брюнет. При этом она всегда говорит о противоположном вашему цвете бороды и волос и наконец, посмотрев на вас, восклицает: «Фу, ты лысеешь, ты мне противен!» — и ударяет вас тарелкой.
Вот мой взгляд на женщин.
4. Прогулка в женском обществе
Я знаю много различных способов, которыми люди подвергают пытке друг друга. В Венеции, во время правления совета десяти, осужденных ставили под медленно капающую воду. Я знаю, что когда-то пользовались большим вниманием «испанские ботинки»; кроме того, существует другой, довольно популярный способ пытки — вырезывание ремней из кожи на спине, но все это, собственно говоря, пустяки. Ужасы заточения Монтихо и обреченных на голодную смерть, страдания политических узников в Петропавловской крепости, клетки для преступников в Китае, персидский трибунал, древнеримские арены с тиграми — все это ничто в сравнении с той прогулкой, которую организовала моя квартирная хозяйка со своей дочерью и с одной дамой, имевшей печального супруга и трех взрослых дочерей. У последних, в свою очередь, было по три штуки приятельниц, кандидаток в мегеры.
Меня заманили в толпу этих молодых разбойниц и таскали, как котенка, по каким-то четырем холмам, где ничего не было, кроме деревьев и цветов. А вместо этого я мог спокойно лежать в табачном дыму в своей комнате на диване и наслаждаться воскресным отдыхом.
Это грубейшее издевательство над человеком, и я публикую в отместку полную фамилию той, которая меня увлекла на эту голгофу. Ее имя и фамилия — Каролина Энгельмюллерова; она была женой инспектора железных дорог, а теперь вдова; живет на Виноградах, Шумавская улица, 11. Я публикую ее фамилию, потому что с этой женщиной, как вы узнаете позже, у меня были основания посчитаться. Ее дочь зовут Анной, и на первый взгляд она производит приятное впечатление. Но когда вы посмотрите на нее более внимательно, она сильно теряет свою привлекательность, потому что она ни о чем не думает, кроме замужества, и ищет способов, как бы обернуть вас вокруг пальца.
Это глупое поведение свойственно, однако, не только ей. На этой прогулке я узнал, что таких девиц очень много. Вот их имена: Иозефа Еншикова, Виктория Свободова, Ружена Духачкова, Мирослава Сухомелова. Остальные тоже от них не отличались, но, к счастью, у них имелись женихи, и они победоносно смотрели на своих молодых подруг, которые до сих пор не сумели еще никого поймать с тугой мошной, чтобы как следует потом ее потрясти.
Оказывается, подобные прогулки устраиваются ими для того, чтобы расставлять сети для ловли женихов.
Такая совместная прогулка является каким-то комбинированным преступлением, источником которого являются женские причуды и прихоти.
Такая прогулка — это прегрешение против здравого смысла. Когда все это хорошенько обдумаешь, то нельзя не посмеяться над человеческой глупостью. Вместо того чтобы спокойно сидеть дома, вы в самую жару тащитесь по пыльной дороге и в конце концов оказываетесь среди нескольких тощих деревцов и слышите возгласы: «Ах, как красиво!» После этого все ложатся, как стадо свиней, в мох, откуда устремляют взоры на дурацкие ветки, потом разбегаются в поисках цветов и рвут то барвинок, то ромашку, то шиповник, причем название всех цветов имеет какое-то таинственное значение. Один цветок обозначает верность, другой — любовь, третий — ревность. Ах, как хотелось мне отхлестать этими цветками по физиономии всех этих бесстыдниц, чтобы они не насмехались над порядочными людьми!
Да, негодная Анна Энгельмюллерова, обладательница черной души в зеленом лесе! Когда ты будешь читать эти строки, вспомни обо всем и исправься, пока не поздно!
Больше всего меня раздражало то, что я, человек принципиальный, великолепно себе представляющий, как выглядит женщина в своей наготе (конечно, не телесной, а духовной), позволил увлечь себя такой глупой прогулкой.
Анна Энгельмюллерова впилась в меня, как клещ, — впрочем, даже клещ ничто в сравнении с этим существом. Клеща можно смочить спиртом, и он отстанет, но такую женщину можно поливать спиртом с утра до вечера, — она все будет висеть на вас и еще кокетничать.
Ах, сколько болтала эта женщина, как старалась она говорить красиво и ласково! И неужели это она (я слышал это сам) сказала как-то утром своей матери: «Эти помои давай выльем в нужник». Теперь только и слышалось: «жучок», «пташечка», «божья коровка», «цветочек», — так что я только отплевывался. Одну такую коровку она поймала с ловкостью, с какой мы ловим блох, посадила ее на «пальчик», — как она сказала, — и «божья коровочка раскрыла крылышки и полетела к божьему солнышку». Я думал про себя: «Ты — притворщица! Меня такой болтовней не заманишь. Делай что хочешь, бесстыдница!»
Затем мы пришли в какую-то рощу. Она весело прыгала, нагибалась и рвала какие-то цветы, которые называла «ромашками». Потом неожиданно подскочила ко мне и засунула мне эту мерзость в петлицу пиджака, улыбнулась мне и начала петь: «Любовь, любовь, ты всемогуща».
Я не мог удержаться от смеха. Я говорил сам себе: «Сейчас она станет серьезной, будет вздыхать и предложит мне сесть на траву; будет смотреть мне в глаза и скажет тихонько: «Я сегодня что-то уж очень весела, — вы на меня не сердитесь?» — и возьмет меня за руку».
Так и случилось. Она неожиданно стала серьезной, пошла рядом со мной, как лошадь возле дышла, и все говорила: «Да, да». Затем вздохнула, опять попрыгала и сказала: «А теперь сядем на травку, я очень люблю травку». Я хотел было сказать, что траву любят все травоядные животные, но благоразумно промолчал.
Мы сели, и она начала: «Вы сегодня какой-то скучный». Подперлась локтем и кокетливо посмотрела на меня. Видно было, что она думала: «Эх ты, глупец». Потом взяла меня за руку и сказала: «Ах, какая у вас прекрасная, белая ручка», — и начала смотреть мне прямо в глаза. Потом сказала: «Я сегодня какая-то странная», — и начала плакать.
Это уже было слишком. Я вскочил и начал смеяться. Она вскочила и тоже стала уже совершенно естественно кричать:
— Вы сумасшедший, чему вы смеетесь? Что за странные шутки!
— Никаких шуток, сударыня, — сказал я серьезно. — Не думайте, что я не понял вашего маневра. Забирайте свой зонтик и отправляйтесь к вашим. Можете похвалиться вашим «успехом» перед барышнями Еншиковой, Свободовой, Духачковой и Сухомеловой.
И я спокойно вернулся к остальной компании.
5. Интриги Анны Энгельмюллеровой
Не успел я перескочить через какой-то проклятый ручей, как мимо меня пробежала Анна, направляясь к пестрой группе нашей компании, расположившейся на траве и пожиравшей холодную жирную свинину.
Я хорошо видел, как эта обманщица подбежала к компании, как с ужасными жестикуляциями начала что-то быстро рассказывать, показывая на лес, как упала на землю, на постланную грязную скатерть, как ее мать заломила руки, как компания вскочила и склонилась над телом Анны, лежавшей на остатках жареной свинины.
Я тоже направился туда, чувствуя, что готовится какая-то интрига. Я был уверен, что она не будет рассказывать, будто я ударил ее палкой, но постарается иным способом добиться того, что ей не удалось при помощи своего кокетства. И я не ошибся. Меня забросали вопросами о том, что случилось, и подвели к Анне, все еще лежавшей на жареной свинине.
Женщины плакали, а мужчины смотрели на все это с каким-то отупением. Они, очевидно, привыкли к тому, что женщины падают в обморок при каждом незначительном случае. Я заметил, что только один пан Духачек, отец троих дочерей, с большим интересом смотрел на скатерть, на которой лежали два таких различных предмета, как жареная свинина и барышня Анна. Вместо того чтобы поднять Анну, он нагнулся за куском жареной свинины и с криком: «Какое несчастье!» — в этой суматохе отбежал в сторону.
Я сел спокойно на межу и спросил: «В чем дело?» — «Помогите нам ее воскресить!» — воскликнула пани Энгельмюллерова, ломая руки и приговаривая: «Аничка, Аничка, посмотри на нас!»
Анна открыла глаза, привстала, показала на меня рукой, как пророчица Либуше, предвещавшая великое будущее Праги, и воскликнула: «О, этот несчастный!» — и опять свалилась, — теперь уже на масло.
Тогда все женщины оставили Анну и накинулись на меня. Нежные дамы сразу превратились в яростных зверей; они скакали вокруг меня, как толпы людоедов вокруг связанного немецкого миссионера, кричали, как флагеланты, когда они совершают свои религиозные радения, и фыркали от гнева, как сопки на Филиппинских островах. Пани Энгельмюллерова свирепствовала, как вулкан Гекла на Исландских островах, извергая на меня оскорбления. Она взяла меня за жилет и крикнула мне в ухо: «Вы хотели ее обесчестить!»
При этих словах пять окружающих меня девиц отлетели, как куропатки, в которых выстрелили, а затем, вновь собравшись в кучу, бросились на меня, как фаланга спартанцев на персов, и, вооружившись зонтиками, со страшным криком начали наступление. Я защищался яростно, но сзади на меня напали женихи этих молодых девиц. В это время раздался голос Анны:
— Маменька, маменька, помогите, я умираю! — и это меня спасло.
Все устремились к ней, подняли на руки, начали утешать ее, а она расплакалась.
— Он меня заманил в лес и держал себя так странно. Но оставьте его, пускай он сам расскажет. О, я несчастная…
Оставшись наконец один, я направился по полевой тропинке к деревне, где из-за ржи выглядывала башня высокого костела, и, добежав туда, ворвался в первую попавшуюся пивную.
Там уже сидел пан Духачек за кружкой пива и как раз доедал жареную свинину, которую он похитил во время описанного происшествия.
Увидев меня, он простодушно скцзал, что пришел в деревню искать доктора, но такового здесь на оказалось, а потому он с отчаяния завернул сюда, чтобы выпить кружку пива, и между прочим заявил мне, что считает все это комедией, что речь шла лишь о том, чтобы я расстегнул Анне блузку. Он высказал опасение, чтобы эта девица не наговорила чего-либо его дочерям, так как она уже давно хвастала, будто я ее люблю, и говорила, что я забавный человек. Они так смеялись, когда она им рассказывала, как я пришивал пуговицы к брюкам и как варил яйца всмятку.
Я поклялся, что у меня с ней не было никаких отношений, но он, все время улыбаясь, говорил:
— Я вам не верю, ха, ха, ха! Вы мне этого не говорите. Я кое-что понимаю, я не из нынешних! Когда я вот так же, будучи холостяком, квартировал в одном семействе, то тоже приударил за дочерью хозяйки. Ох, как мы целовались, боже мой! Утром, когда я приходил в кухню, в полдень, во время обеда и вечером. Ах, боже, что это были за вечера! Ну, как вам нравится пиво? Да, это было так красиво. Ну и целовались же мы!
— Ну, а чем все это кончилось? — спросил я серьезно.
— Я женился на ней, потому что меня заставили.
— Вот видите, — сказал я, — к чему приводят женщины!
И я оставил этого человека, не сказав ему даже, куда я иду.
Я решил, что больше уже не вернусь на квартиру к пани Энгельмюллеровой, раз дочь ее Анна такая интриганка.
Так я и сделал.
6. Пани Энгельмюллерова ищет меня с полицией
Поэтому я не вернулся на квартиру пани Энгельмюллеровой и, так как убедился, что жить на частных квартирах не безопасно, решил, что до двенадцати часов ночи я буду проводить время в пивных, а потом приходить спать в какую-нибудь гостиницу.
Я избрал пивную «Солнце», где не было женской прислуги, потому что все женщины, как я пришел к заключению, липнут к старым холостякам, как мухи к меду.
Для жительства я избрал гостиницу «Почта», которая мне понравилась как своим местоположением, так и простым внешним видом. Первую ночь я провел следующим образом: в блаженном сознании, что я наконец избавился от дочери своей хозяйки и всей неприятной компании, которая, несомненно, стремилась к тому, чтобы я женился на Анне Энгельмюллеровой, я выпил в «Солнце» пять кружек пльзеньского пива и произнес в течение вечера несколько речей об ограниченности женщин, нисколько не скрывая того, что впредь я буду жить в гостинице. Надо мною смеялись, и я спросил, что тут смешного. Мне ответили: ходить спать в гостиницу очень хорошо, но весь вопрос в том, буду ли я там один?
Возмущенный этим смехом, я заплатил и пошел в гостиницу, решив завтра послать за своим чемоданом в ту проклятую квартиру, где меня чуть не женили.
Когда я пришел в гостиницу, коридорный спросил, буду ли я выставлять для чистки свои ботинки и не надо ли завтра утром постучать мне в дверь?
Я сказал, что я подумаю. Будучи пьяным, парень опять спросил, придется ли ему чистить две пары ботинок, то есть мои и дамские, или только одну?
— Какие дамские? — спросил я удивленно.
— Ну, да те, дамские, что стоят перед вашей комнатой.
— Что вы говорите?
— Ну да. Вечером пришла какая-то дама с полицейским агентом и сказала, что она искала вас во всех гостиницах. Дама эта пожилая. Мы ей сказали, что вы у нас сняли комнату на целый месяц. Она заявила, что она очень близкая вам родственница, попросила, чтобы мы поставили в вашу комнату еще одну, складную кровать, и сказала, что она вас подождет. Полицейский агент ушел, мы поставили в вашу комнату постель; эта дама легла и теперь спит.
«Это, наверное, моя тетя, — подумал я, — у нее бывали такие странности, и раз она меня не нашла на моей старой квартире, то, очевидно, решила искать меня с полицией».
Я попросил зажечь свечку и открыл свою комнату.
— Тетенька, — сказал я, подходя к кровати, — что это вы чудите?
В этот момент свечка у меня выпала из рук, и настала совершенная тьма. На постели сидела пани Энгельмюллерова, и, как только потухла свечка, она схватила меня за горло и потащила в коридор, крича: «Помогите, я поймала соблазнителя моей дочери!»
Сбежалось все население гостиницы. Пани Энгельмюллерова начала кричать:
— Вы, выродок, возвращайтесь сейчас же к моей несчастной дочери; там сидит сейчас Мазухова.
У меня подкосились ноги. Пани Мазухова жила в соседнем доме, на котором красовалась вывеска с изображением девы Марии и с многозначительной надписью: «Опытная повивальная бабка».
— Вы видите, как этот выродок трясется? Он знает, в каком она положении, и тащит ее на прогулку. А вот когда дело доходит до расплаты, он словно сквозь землю проваливается. А моя дочь, так ему верившая, несмотря на отчаянные боли, говорит: «Вы его только приведите ко мне, пусть он вернет мое честное имя, я ему все прощу!» Я бегу в полицию, и ваш друг, которого вы посетили сегодня утром, заявил, что вы ему признались, что будете ночевать в гостинице. Даже полиция, когда я рассказывала, плакала вместе с мной.
Она принялась всхлипывать.
— Я обежала все гостиницы и вот здесь наконец нашла его. Прошу вас, господа, помогите мне отвести его домой к моей несчастной дочери. Он обещал ей жениться и довел до такого ужасного положения. Таков удел всех молодых невинных девушек, доверяющих прохвостам.
Затем она обратилась ко мне:
— Мы вас кормили, ухаживали за вами, и вы так отплатили за наше гостеприимство!
Коридорный схватил меня и вынес из гостиницы. Пани Энгельмюллерова, держа меня одной рукой за пальто, другой всунула ему в ладонь две кроны. Я воспользовался этим моментом, выскользнул из пальто, оставив его в руках своей хозяйки, и убежал прочь. В голове у меня мутилось, и я в сильнейшем возбуждении перескочил через решетку набережной. Надо мной сомкнулась вода, я слышал бульканье и затем потерял сознание, в то время как кто-то тащил меня из воды.
На лодке с полицейскими стояла, как фурия, пани Энгельмюллерова и тащила меня за брюки из воды.
7. Приятный сон
Когда меня втащили в лодку, то, заметив пани Энгельмюллерову, я пытался вновь броситься в воду. «Держите его, не пускайте!» — кричала пани Энгельмюллерова и крепко схватила меня, мокрого, в объятия. Силы меня оставили, и я снова упал в лодку. Что было потом, я не помню, так как потерял сознание.
Когда я очнулся, то по запаху лизола и карболки догадался, что я в больнице.
Под мышкой у меня торчал градусник, голова была тяжелая, а в груди я чувствовал покалывание. Постепенно я припомнил все, что случилось, и радовался, что меня оставили в покое.
Сиделки в белых халатах ходили от одной постели к другой и справлялись о самочувствии больных. Затем пришел доктор с ассистентом и нашел мое состояние хорошим. Я ужасно хотел есть, и все надо мной посмеивались, говоря, что это хороший признак, но что я в течение недели ничего не получу, кроме супа и молока. Завтра придет ко мне пан Краус, который очень часто справляется о моем здоровье.
Никогда никакого Крауса я не знал, никогда в жизни ни с каким Краусом не говорил. Что такое? Я находился в полном недоумении.
Я спросил, когда я начну ходить.
Доктор опять улыбнулся и сказал:
— Тогда, когда заживут переломанные ноги.
И действительно, только теперь я заметил, что ноги у меня забинтованы и к ним привешен какой-то груз, который тянул их вверх через блок.
— Что я наделал? Как же это случилось? Что делает пани Энгельмюллерова? — спрашивал я.
Все опять улыбнулись, сказали, что она лежит на Ольшанском кладбище, в седьмом отделении.
Я почувствовал прилив блаженства, но, как я ни старался, никак не мог вспомнить, почему она оказалась на кладбище, когда я ее видел живой в лодке, и почему у меня переломлены ноги.
Затем я впал в апатию и, выпив бульон, спокойно уснул и проспал до другого дня.
В десять часов открылись двери зала, и сиделка привела к моей постели несколько солидных людей.
— Это судебная комиссия, — сказал лежащий возле меня молодой человек.
— Какая комиссия? — спросил я с удивлением. — Зачем здесь судебная комиссия, и почему она идет прямо ко мне?
Их было пять человек. Сиделки расставили стулья вокруг моей постели, они уселись и вытащили из карманов какие-то записки. Самый старший из них, с прекрасной белой бородой и приятной улыбкой на красном от пьянства лице, сказал:
— Я старший следователь Краус. А теперь, господа, я думаю, мы можем начать. Находитесь ли вы в полном сознании?
Я думал, что он спрашивает своих соседей, и молчал.
— Послушайте, пан Ганзличек, — обратился ко мне следователь, — я вас спрашиваю, находитесь ли вы в полном сознании?
— Пока что — да.
— Так скажите нам, что вас побудило так поступить?
— Как поступить? Я ничего не знаю.
— Но, пан Ганзличек, не скрывайте, пожалуйста. Коллега, прочтите обвинительный акт.
Молодой человек в пенсне улыбнулся и начал читать:
— «В ночь на вторник сорокалетний чиновник земского комитета Йозеф Ганзличек пытался из-за семейных неурядиц, прыгнув в Влтаву, покончить жизнь самоубийством. После того как он был вытащен матерью своей любовницы, Каролиной Энгельмюллеровой, вдовой инспектора железных дорог, проживающей по Шумавской улице, 11, у которой он квартировал в течение пятнадцати лет и в течение которых поддерживал интимную связь с тридцатилетней Анной Энгельмюллеровой, — его отвезли на извозчике в бесчувственном состоянии на квартиру, где он очнулся и где его уложили в постель. Около часа ночи между ним, его любовницей и квартирной хозяйкой произошла ссора, во время которой Йозеф Ганзличек выбросил после жестокой борьбы в открытое окно со второго этажа на улицу сперва пани Энгельмюллерову, а затем свою любовницу Анну Энгельмюллерову и, наконец, выпрыгнул сам с криком: «Они еще шевелятся!» Обе женщины умерли при перевозке в больницу, а Йозеф Ганзличек сломал себе обе ноги и был отправлен в тяжелом состоянии в городскую больницу.
— Это неправда! — вскричал я и вдруг неожиданно увидел зеленый свет висящей лампы.
«Иисус-Мария, да ведь я лежу на постели у Энгельмюллеров», — подумал я, а пани Энгельмюллерова кричит:
— Ну как, Йозифек, вам уже лучше?
Я осматриваюсь. Ноги у меня здоровы, — значит, мне приснилось все это. Ноги у меня целы, и никого я не убил. И от сожаления я расплакался.
— Ну, так видите, Йозифек, — услышал я скрип ее голоса, — вы, наверное, раскаиваетесь, что обманули наше доверие?
— Оставь меня в покое, старая карга, — воскликнул я со слезами на глазах, — а то я выброшу тебя из окна!
Она мне закатила такой подзатыльник, что я съежился под периной, а потом грозно сказала:
— Утром я вам покажу плод вашей грешной любви, и мы увидим, за кем останется победа. У меня есть ваши письма.
В самом деле, у нее есть мои письма — я посылал их во время своих разъездов и писал, что мне надоели до тошноты венские отбивные, что я соскучился по гуляшу, который так хорошо умеет приготовлять Анна, а в конце посылал низкий поклон.
8. Я окончательно становлюсь отцом
На другой день я лежал в постели, как загнанный олень в траве. На ночном столике у меня стояла чашка кофе, но я его даже не попробовал. Я не боялся отравления, потому что был уверен, что они будут стремиться сохранить мне жизнь до тех пор, пока я не возьму замуж эту лгунью, эту мошенницу.
Я решил не признаваться. Три раза у меня уже была повивальная бабка с каким-то маленьким существом и говорила ему:
— Посмотри, вот твой папа.
Я делал вид, что сплю, и во время таких визитов я походил на невинного агнца.
Затем открылись двери, и я услышал голос:
— Где этот негодяй? В комнате? Хорошо.
Ко мне ворвался человек со шляпой на голове и без всякого приглашения поставил стул к моей постели. Я притворился, что сплю, но он потряс мою голову и сказал:
— Не спите, я опекун бедняжки Анны, директор школы Вилим. Хотя для вас ничего нет святого, но я все же не ожидал такого позора. Что теперь делать с бедной матерью, моей сестрой, пани Энгельмюллеровой, этим немощным созданием…
— Я клянусь вам…
— Не клянитесь, — перебил он меня, — девушка сама поклянется, когда пойдет в суд. Она поклянется, а вы должны будете взять ее замуж после такого позора. Ваше положение на службе, ваша репутация будут поколеблены. Вы сделаете лучше всего, если вернете ей честь, которую вы отняли у нее таким способом, на который способны только шарлатаны. А мы вас считали порядочным человеком. Это неслыханно, это гнусно, это безобразно, это по-хулигански, это позорно! Это подлость, безобразие, жестокость, преступление, и это сделали вы, вы — несчастный, ничтожество, выродок, преступник, чудовище!
Он набрал духу и продолжал дальше.
— А она, доброе, честное дитя, поверила вашим словам, обещанию, что ее возьмут замуж, и села, как неопытная невинная мушка, на яд, который казался ей сладким и заманчивым, не подумала, что через девять месяцев у нее родится ребенок, у которого не будет отца, потому что он убежал в гостиницу, чтобы там переждать бурю. Но мы вас поймали, вы в наших руках, в руках божьих, но не того доброго господа, а в руках разгневанного Иеговы. Вот что, голубчик, другого выхода нет. У нас доказательства. Во-первых, этот новорожденный — самое лучшее доказательство. Затем у нас есть несколько писем, самое главное — случай на прогулке в лесу, когда она напомнила вам ваше обещание взять ее замуж, а вы ее ударили палкой. Да, у вас хватило духу сделать это. Невинность для вас ничто, вы втерлись в доверие честной семьи. Вспомните, во время какой ужасной дороговизны мы считали вам обеды по семьдесят геллеров, а в воскресенье вы платили восемьдесят геллеров и объедались досыта, а наевшись, бесстыдник, еще срывали цветы невинности. Кофе к обеду вы получали даром, за него вы ничего не платили. Обеими руками вы хватали не только сдобные булки, но и честь невинной девушки. Вы съедали до двадцати восьми вареников со сливами и после этого шли еще воровать честь девушки. Три отбивные котлеты вы получали к обеду и, съев их, шли ее соблазнять. Вы клали себе по четыре штуки котлеты величиной в кулак, а потом шли позорить невинную девушку. А огромные куски жареной свинины, копченого мяса и кнедликов? Вы всегда к гуляшу брали их шесть штук, а потом шли добиваться льстивыми словами того, чтобы она вам поверила и отдала вам все, что может дать невинная девушка любимому человеку. Вам делали бифштексы, какие едва умещались на тарелке, и за это вы так отблагодарили! Когда подавался гусь, обе ножки вы ломали для себя, да еще брали и белое мясо, накладывали себе кнедлики и капусту, наедались до отказу, а затем говорили невинной девушке о преданной и жгучей любви. Что вы, несчастный, на это ответите?
Я молчал.
В это время вошла повивальная бабка с моим предполагаемым сыном.
— Вы видите, он похож на вас как две капли воды! — воскликнул пан Вилим. — Те же глаза; волос, как и у вас, на голове нет, и, кроме того, он, как и вы, мужского пола. Значит, ребенок ваш.
— А то чей же? — раздалось в дверях, и пани Энгельмюллерова встала передо мной с засученными рукавами. — Моя дочь не лжет. Я знала уже давно, что у вас с ней связь; разве однажды я не поймала вас в темной комнате? Вы были один? Анны не было дома? Это неважно; вы ждали, пока она придет с прогулки, а девушек не ждут в темных комнатах. Не был налит керосин? Ну, вот видите, теперь вы признались, что ее ждали. Подпишите, вот чернила и перо. Я вам прочту: «Настоящим подтверждаю, что с Анной, дочерью пани Каролины Энгельмюллеровой, я имел интимную связь, которая не осталась без последствий, и что я обязуюсь в течение трех месяцев взять Анну Энгельмюллерову замуж».
И они так закричали на меня, что я взял перо и подписался: «Йозеф Ганзличек».
Что подумает обо мне тот, кто прочтет эту исповедь? Какая непоследовательность в моем поведении! Но лучше всего во всей этой истории то, что я сумел притвориться. Все случилось не так, как я здесь описал. Я действительно имел связь с Анной Энгельмюллеровой и хотел выставить себя перед Общественным мнением невинным мучеником, как все старые холостяки, лгуны и негодяи.
Куда поехать на дачу
Наступила пора мучительных раздумий — куда поехать нынче летом на дачу? Не найдется, вероятно, газеты, где не расхваливались бы прелести жизни в деревне. У нас, чехов, ведь столько любителей писать по любому поводу! В канун рождества в рождественских заметках пишут о зимнем пейзаже, с приходом весны — о просыпающейся природе, летом — о туристических прогулках и грустные фельетоны о том «Как мы жили на даче».
А пока представители транспортных агентств везут на вокзалы чемоданы, бедняк, как и во всякий прочий день, спешит на фабрику, и, когда жена принесет ему в перерыв скромный обед, он тоже полюбуется природой со скамейки перед сквером, где обычно обедает, если, конечно, сторожу не вздумается прогнать его. И — снова на фабрику, в мастерские, где громыхают станки и над паровыми молотами дрожит горячее марево.
Это и есть его летняя песенка. Фабричная суета и грохот, видимо, должны заменить ему лесные шорохи и шелест деревьев, а пропитанная металлической и древесной пылью атмосфера цехов — чистый загородный воздух, напоенный ароматом смолы, который вдыхают сейчас те, что отродясь не трудились.
Когда же пойдет он с работы усталый, то, может, и вспомнит, что где-то далеко за городской чертой раскинулись зеленые рощи, среди которых стоит вилла фабриканта, и как раз сейчас сидит он на террасе с веселой компанией за обильным ужином и, обводя рукой вокруг, показывает, что все это принадлежит ему, и все это добыли ему своим трудом его рабы.
В этот летний вечер идет смена на шахту, из горных деревень к рудникам спускаются с бидончиками в руках шахтеры, идут в задумчивости через лес. Что ж, они тоже имеют возможность полюбоваться густеющими сумерками, когда золотые лучи играют на ветках раскидистых сосен, только нет у них для этого настроения.
Они расстаются с ярким светом дня и погружаются в темноту. Расстаются с ликующим сиянием рая, из которого были изгнаны: через мгновенье их примет в свои объятья адский мрак. Тут иные леса. Подземные, окаменелые. Здесь светят не яркие солнечные лучи, а кроваво мерцает металлическая сетка рудничной лампы.
А высоко над ними, над слоем в пятьсот метров — еще какой-нибудь летний дворец, уже среди других лесов, живительных, благоухающих и прекрасных, там, возле Осена и Гробов, под которыми всё пробуравлено, пробито ходами и где по ночам раздаются странные подземные взрывы, поразительные и многозначительные…
Так куда же поехать нынешним летом? Этот сакраментальный вопрос на все лады повторяют все буржуазные газеты.
Посмотрим же, что происходит на вокзалах. Здесь вы увидите сотни сельскохозяйственных рабочих из Галиции и Словакии.
Их согнали сюда, в Чехию, на работы в экономиях богатых монастырей.
Куда же поехать летом? К премонстратам в Клатовский уезд? К бенедиктинцам в Броумлов? В другие места? Близится время жатвы для богатых орденов. Преподобные аббаты прохаживаются по хлебным полям. Лето в зените. Забитые русины и словаки из краев, благословенных клерикализмом и водкой, не сегодня-завтра выйдут на поля с серпами и косами, чтобы приумножить состояние и без того богатых монашеских орденов.
Совсем как в Библии: «В поте лица будешь есть хлеб свой».
Мутную похлебку и отвратительный жесткий хлеб!
И в придачу немного водки и 20 крейцеров в день. А работают они на свежем воздухе, как говорится — божественно свежем воздухе. В полях алеют маки, там и сям мелькают синие васильки, на межах благоухает тимьян. Летают пчелки, поют птицы, широкими волнами перекатываются хлеба, клоня под ветром свои колосья. Вдали виднеются синие леса, обрамляющие горизонты. Вся эта красота — и для бедных людей.
Глядишь, какой-нибудь поэт сядет в роще под березой, посмотрит на шаловливые струи прозрачного ручья, — чьи берега усеяны незабудками, бледно-голубыми, будто небо, по которому пробегают «барашки», невесомые нежные облачка, — и воспоет в своих стихах эту красоту.
Но если с утра и до позднего вечера до изнеможения работаешь за 25 крейцеров, миску мутной похлебки да стопку водки, перестаешь замечать сладостное благоухание лугов и полей, глаза от солнца докрасна воспаляются и зелень огромными пестрыми кругами начинает мелькать перед тобой.
В Осеке в монастыре жил аббат Теодор Вагнер. Он написал целую книгу стихов, в которых прославил природу. Аббат любил гулять по лесу, по полям и лугам. Он наблюдал за жучками и восхвалял божью благодать.
А русинам, мужикам из Коломыи, платил в жатву всего 20 крейцеров в день.
Мужики, перед тем как улечься штабелями спать под навесом, крестятся и молятся хором:
— Подай, господи, да будет и завтрашний день благословен, яко же и нынешний, ибо любим мы тебя, господи, мужики из Забунова и Коломыи.
И один за другим засыпают в чужом краю, на земле вельможных господ, с убеждением, что приехали «на дачу», оставив родную хату, щи из капусты, равнинные леса и болота, по которым бродят аисты, выискивая себе на пропитание лягушек. Их тоже, как лягушек, отыскали предприниматели в болотистых коломыйских лесах и пьют из них соки, как аисты из лягушек.
Куда же поехать этим летом?..
По пыльной дороге тащатся бродяги. На пути — дерево, усыпанное черешнями. Они залезают на него и трясут. Собранные затем в придорожной канаве ягоды им наверняка вкуснее кнедликов с черешнями, тех, что подают где-нибудь в городском ресторане.
А вот зеленеет гороховое поле. Все это — маленькие радости для бродяг и бездомных.
На перекрестке дорог — столб с табличкой:
ОБЩЕСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ НАХОДИТСЯ В РЖИЧАНАХ
Бродяга сплюнет и поплетется дальше, лесными и полевыми дорогами, по тропкам, которые то тут, то там выходят к белым деревенькам. Все вокруг благоухает, но бродяга не поет. Слова поэта молодого поколения «И бродяга песню затянул» сегодня ничего не стоят. Прошли те поэтические времена, закатились вместе с романтизмом. Жизнь заявляет о себе. Нашего бродягу ждет третий параграф статьи за бродяжничество. Вот и пой после этого, чтобы пеньем своим привлечь жандармский патруль, притаившийся где-нибудь во ржи!
Отцовские радости пана Мотейзлика
Не в силах дождаться того радостного дня, когда наконец он станет счастливым отцом, пан Мотейзлик сообщил всем своим знакомым, что ребенок уже родился.
Стыдясь даже мысли, будто у него может родиться дочь, он рассказывал о рождении сына. Иногда, правда, из скромности, чтобы не подумали, будто он сильно хвастает, пан Мотейзлик говорил, что у него девочка. Раза три-четыре он честно признавался: не знаю, мол, что там у меня. В итоге он сам запутался и тем же знакомым рассказывал теперь наоборот: где прежде хвастал мальчиком — теперь говорил о девочке. Он громоздил одну ложь на другую и дошел до того, что беззастенчиво наврал про близнецов, а в трактире пана Брейшки делал даже какие-то намеки о монстре, на котором он, мол, загребет кучу денег. В общем, он уже и сам не знал, кто у него родился.
Когда же настал тот самый желанный миг и он должен был вот-вот действительно стать отцом, пан Мотейзлик буквально на глазах у родителей жены убежал из дому куда-то по соседству и колбаснику, пекарю, аптекарю, в двух трактирах и в винном погребке заявил: все, мол, готово дело, и снова пошел городить то про девочку, то про мальчика, снова — про мальчика, девочку, двойняшек, тройняшек, про мальчика, девочку, девочку, мальчика — короче, оставляя для себя на всякий случай лазейку. Допивая в погребке пятый стакан вермута, он воскликнул:
— Вы не представляете, какой я счастливый! — И направился домой.
Когда он переступил порог своей квартиры, тесть, теща и повивальная бабка впервые обругали пана Мотейзлика бездушным чурбаном. Неужели он заслуживал этого? Он так радовался, так ждал этого события! Ну и если выпил по этому случаю некую толику вермута и немного пива, что поделать — тут и нехотя согрешишь. Душу его переполняла светлая радость от сознания, что он дает миру потомка и тем умножает род чешский, переполняло его и неизмеримое блаженство, что медленно, но верно, он становится отцом.
Тем временем тесть душевно вразумлял доброго пана Мотейзлика, что отныне, став отцом, он должен помнить о своих обязанностях, забыть о всяком легкомыслии, одуматься, пока не поздно, чтобы потом не было слишком поздно, и послал прислугу принести содовой воды. Не успели принести воду, как пан Мотейзлик сделался отцом. И когда повивальная бабка вошла с красным младенцем, пан Мотейзлик схватил его и выскочил в коридор, чтобы показать соседям. Ребенка вырвали у него из рук, и пан Мотейзлик с криком: «У меня сыночек!» — сбежал вниз, отпер входную дверь, пересек улицу и влетел в трактир.
Заказав десять кружек пива, он объявил, что у него родился сын. Поскольку всего полчаса назад он говорил здесь же о дочери, ему возразили, из-за этого даже завязался небольшой спор, на что пан Мотейзлик выкрикнул:
— Мне-то лучше знать!
Один из посетителей язвительно заметил, что у пана Мотейзлика скорей всего вообще нет детей. Даже львица защищает свое дитя, что уж говорить о пане Мотейзлике! Он бросился на клеветника, но тот не отступил, схватил пана Мотейзлика за нос и при содействии своих друзей вынес пана Мотейзлика на улицу.
В ночной тишине, привалясь к погасшему фонарю, пан Мотейзлик предался размышлениям о жизни. Утешала его одна старая истина, что человеку меньше всего верят именно тогда, когда он говорит правду. Всплыла обида за только что пережитое унижение, но тут, заслоняя все неприятное, вспыхнуло яркое, ни с чем не сравнимое гордое сознание, что он — отец! Это сознание и определило направление шагов пана Мотейзлика через улицу и за угол, в винный погребок.
Там он сел за стол, похлопал хозяйку по плечу и объявил:
— У меня сынок.
— Пан Мотейзлик, да что это вы, без малого час назад говорили, будто у вас родились двойняшки, обе девочки.
Все это вместе взятое до того расстроило пана Мотейзлика, что он закрыл лицо ладонями и тихо заплакал. Какой же он негодяй и мерзавец! Его первенец не успел родиться, а он, родной отец, уже возвел на него напраслину! Подняв голову, пан Мотейзлик посмотрел сквозь слезы на хозяйку и сквозь слезы же попросил:
— Дайте мне стакан вермута.
— И не стыдно вам, вы же отец, — укорила его хозяйка, — эдак набраться! Вам бы сейчас лучше домой. Хотя, кто вас знает, есть ли у вас вообще ребенок, столько всего вы тут наплели.
— Клянусь вам, пани хозяйка, у меня сыночек, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто нежным пушком, отец чувствует себя хорошо.
— Хватит вам болтать, ступайте проспитесь, я сказала, что больше не налью.
— И это награда за такого прелестного мальчика! Такого ли я заслужил! — тоскливо воскликнул пан Мотейзлик и вышел на темную улицу. Никто его не понимал. Пана Мотейзлика охватила ужасная жалость к себе. К счастью, он вспомнил, что неподалеку, на Кроковой улице, живет его старый приятель, инженер Зазворка.
«Надо зайти к нему», — решил счастливый отец и во втором часу ночи свистнул под окном приятеля.
Никто не отозвался. Но чего не сделает отец ради своего ребенка! Недолго думая, пан Мотейзлик вскарабкался на подоконник и залез в комнату. Пани инженерша, дожидавшаяся мужа, посветила электрическим фонариком и, увидев пана Мотейзлика, в страхе закричала.
— Сударыня, — залепетал пан Мотейзлик, — я зашел к вам сказать, что у меня только что родился сыночек, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто пушком, отец чувствует себя хорошо.
После этих слов он вернулся на подоконник и спрыгнул вниз как раз в тот момент, когда пан инженер собирался влезть к себе в квартиру через окно, чтобы не шуметь в коридоре.
— Зазворка, привет, дружище! Я как раз иду от тебя, заходил похвастаться, знаешь, у меня родился сынок, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто пушком, отец чувствует себя хорошо.
— Что за дурацкая отговорка, негодяй! — взревел пан инженер.
Пан Мотейзлик бросился бежать, пан инженер — за ним и догнал его перед самым домом, когда пан Мотейзлик судорожно тыкал ключом в замочную скважину. Не говоря худого слова, пан инженер отвесил ему две затрещины, после чего с достоинством удалился. С середины мостовой он крикнул:
— На суде сквитаемся!
До его слуха донесся извиняющийся голос пана Мотейзлика:
— Честное слово, Зазворка, у меня родился мальчик.
С тяжелым сердцем, непонятый никем в своих лучших родительских чувствах, поднимался пан Мотейзлик по лестнице. Ему было горько и обидно. Произведя довольно большой шум, он повалился на двери своей квартиры, двери тихо отворились, и две руки втащили его внутрь. Это был тесть, который прямо и откровенно сказал ему то, что пан Мотейзлик уже слышал:
— Бездушный негодяй! Я-то думал, что вас хоть рождение ребенка наставит на путь истинный, а вы опять за свое! Стыдитесь!
Он указал зятю на оттоманку и ушел в гостиную. Вместо него вышла повивальная бабка, всплеснула руками и сказала:
— Что ж это вы мне такое устраиваете, пан Мотейзлик! Не дай бог у вашей жены начнется горячка, в этом вы один будете виноваты!
Потом вышла теща, она выразилась совсем коротко:
— Тьфу, черт!
Пан Мотейзлик, лежа на оттоманке, тихо всхлипывал в покрывало. Даже близкие люди, его домашние, не понимают его родительских чувств. Он слез с оттоманки, подошел на цыпочках к двери комнаты, открыл ее и воскликнул:
— Где мой сыночек?
Но, потеряв равновесие, растянулся на пороге.
Теща при помощи мужа молча подхватила пана Мотейзлика, и они положили его назад на оттоманку. Он уснул по дороге у них на руках с блаженным выражением на лице.
Теща некоторое время мрачно взирала на счастливого храпящего отца, затем энергичным движением выдернула у него из-под головы подушку. Пан Мотейзлик продолжал спокойно спать и улыбался во сне. Ему снилось, что он выступает перед большим скоплением народа и, обращаясь к тысячеголовой толпе, кричит:
— Многоуважаемое собрание! У меня только что родился сынок, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто нежным пушком, многоуважаемое собрание, отец чувствует себя превосходно!
Продолжение отцовских радостей пана Мотейзлика
Произошло радостное событие — вы стали счастливым отцом, но вас ждет еще много и других маленьких радостей. Например, вы открываете шкаф, где лежат милые детские вещицы, и всем, кто приходит вас поздравить, с гордостью демонстрируете рубашечки, пеленочки, чепчики, распашонки и хвастаете, что уже научились пеленать свое дитя; затем ведете гостей в кухню, где на паутине натянутых под потолком веревок сушится несчетное множество пеленок, итог благородных усилий вашего потомка, который не только носит ваше имя, но с того же, что и вы в самом нежном возрасте, начинает свою жизнь в обществе. А как согревает вас радостное сознание, что вы можете собственноручно взвешивать своего ребенка! С каким радостным Трепетом записываете вы в блокнот каждый грамм, которые медленно, но неуклонно, по неумолимым законам природы, набирает ваш отпрыск. И еще радость — ребенок испытывает жажду. Вы несете его к матери, а сами возвращаетесь к гостям и достаете из буфета бутылку коньяку. Рядом за стеной утоляет жажду ваш ребенок, а в гостиной отец и гости пьют за его здоровье. Настроение все больше поднимается, и тут вы спохватываетесь, что до сих пор не показали гостям, как ваш первенец умеет плескаться в воде. Вы наливаете в ванночку теплой воды, измеряете термометром температуру и не вполне твердой походкой решительно идете в спальню, где спит ребенок. Поднимается страшный шум, вашим домашнем удается вырвать у вас младенца и укрыть в надежном месте от вашей беспредельной родительской любви, которая, похоже, не знает никаких преград. Потому что, оскорбленный в своих лучших родительских чувствах, когда теща захлопывает дверь перед самым вашим носом, вы начинаете колотить в дверь ногами и кричать.
— Отдайте мне моего ребенка, пани, я желаю видеть моего крошку!
Все напрасно. Из-за двери, запертой на ключ, доносится резкий голос бабушки:
— Хватит безобразничать, ступайте лучше прогуляйтесь.
Будь вы с ней вдвоем, с глазу на глаз, дело, безусловно, кончилось бы хуже, но у вас гости, которые пришли посмотреть на вашего крошку, этим и объясняется мирный тон бабушки.
Тогда вы распиваете еще бутылку коньяка и вместе с друзьями торжественно покидаете счастливый дом.
Именно это довелось пережить и пану Мотейзлику. Первые две недели после рождения сына были особенно напряженными. В околотке рассказывали, что пан Мотейзлик на радостях пьет со своими друзьями даже презренный ром. Затем наступило некоторое затишье. Встал вопрос — как назвать младенца. Пан Мотейзлик как раз вернулся в самом безмятежном расположении от друзей и бурно потребовал, чтобы сыну дали имя Гектор. В этом имени он видел не только воплощение аллегории силы, но и приятное воспоминание об «Илиаде» Гомера и юных годах в гимназии. После этого заявления все, естественно, накинулись на него. Тесть, как всегда очень рассудительно и обстоятельно, рассмотрел все «за» и «против» и заключил, что такое имя станет в будущем для внука лишь камнем преткновения. Пошел, скажем, ребенок в школу. В этом возрасте дети очень чувствительны и задумываются над многим. Теперь представьте себе: кто-то окликнет его Гектором, и на зов вместе с ним прибежит здоровенная собака мясника. Дети жестоки и не преминут воспользоваться случаем подразнить этим именем. Ребенок начнет переживать, сторониться других ребят, превратится в рефлектирующего нелюдима, а одиночество толкнет его на всякое безобразие. Угрюмость невольно укрепится и разовьется, учеба, не радуя, будет в тягость, он сделается предметом насмешек, развитие его умственных способностей затормозится. Он вырастет мрачным неучем, и мы не дождемся от него никакой радости. Закончил тесть кратко и ясно:
— Короче говоря, вас об этом никто не спрашивает, это наше дело.
Пан Мотейзлик скромно заметил, что было бы уместно хотя бы частично признать его отцовские права. Все язвительно захохотали, присовокупив, что он не отец, а недоразумение, бездушный негодяй, и с его стороны лучше помолчать и не лезть в дела, в которых он ничего не смыслит. Пана Мотейзлика это задело, и он вышел из дома в сильном огорчении оттого, что даже имени для сына он отстоять не может! Вернулся он расстроенный к обеду следующего дня. Войдя в дом, он держался непривычно скромно и вежливо. Раз пятьдесят повторил «целую ручки, простите, я был на собраний в Кладно» и лепетал что-то о страшно загрязненной атмосфере Кладно, пропитанной сажей, и что под Кладно все изрыто шахтами и это ужасно.
Ему сказали:
— Да, это действительно ужасно.
И больше никто его уже не замечал, все заперлись в гостиной. Когда же пан Мотейзлик сокрушенным голосом смиренно попросил под дверью: «Мне хотелось бы посмотреть на сыночка», — ему ответили: «Сперва протрезвейте».
— Целую ручки, — взывал пан Мотейзлик, — честное слово, я сегодня не пьяный и очень хотел бы видеть моего крошку, мою кровиночку, милостивая пани, мамочка.
Милостивая пани, мамочка, ничего на это не ответила и принялась насвистывать арию из «Гугенотов», то самое место, где гугенотов как раз начинают резать.
Пану Мотейзлику не оставалось ничего другого, как сесть к письменному столу и разобрать письма, в которых кое-кто из его друзей, лишь теперь, две недели спустя, поздравлял счастливого отца с рождением сына и желал ему и впредь много родительских радостей. От этой фразы на пана Мотейзлика повеяло горечью. Он достал из кармана пять коробок конфет, которые выиграл для своего сына, и, с болью взирая на красно-белые коробочки, повторял про себя, что его просто не понимают, а ведь его поступки имеют целью одно — доказать, что он весьма серьезно относится к рождению первенца. Но домашние все его проявления радости воспринимают не иначе, как оргии, безобразие и распущенность. Его крайне меланхолическое настроение нарушил тесть. Он вошел не постучав и положил руку на плечо пана Мотейзлика со словами:
— Как приятно видеть вас наконец-то дома, в полном порядке и за работой. Я спешу. Вот вам 150 крон на коляску. Мы говорили между собой вчера, когда вас не было дома, что вам тоже кое-что нужно поручить. Выберите по вашему вкусу красивую коляску. Я уверен: все снова будет в порядке. Пойду взгляну на внучка.
Пан Мотейзлик, полный недобрых предчувствий, не успел тесть дойти до дверей комнаты, схватил шляпу, выскочил на лестницу, понесся вниз по улице и вскочил в проходивший мимо трамвай. И вот он сидит в вагоне, и мы можем сказать, что на душе у него легко и безмятежно. Радость его была неописуема. Наконец-то он может сделать что-то для своего сыночка самостоятельно. Пан Мотейзлик мысленно уже видел, какую замечательную коляску купит он сыну, и в коляске за кружевными занавесками чудилась ему круглая мордашка и пухлые ручки на перинке. Трамвай, казалось ему, едет невероятно медленно, а день был такой светлый, ясный, что пан Мотейзлик готов был расцеловать весь свет. Пока он доехал до Вацлавской площади, он решил про себя, что покупка коляски для первенца явится прекрасным этапом начала новой жизни. Коляску надо выбрать не с бухты-барахты, а продуманно, предварительно ознакомившись с образцами; сначала лучше обойти два-три магазина и попросить каталоги, а затем в тиши какого-нибудь кафе выбрать самое лучшее и самое красивое. Так он и сделал и с каталогами под мышкой вошел в кафе, куда обычно заходил днем. Усевшись в уголке, он заказал черный кофе и с наслаждением принялся листать альбомы образцов. Ему нравились все. Он еще раз перелистал толстые альбомы и нашел, что любая из колясок пойдет его мальчику. Выйдя на улицу, он с ужасом убедился, что уже восемь часов и все магазины закрыты. Пан Мотейзлик беспомощно потоптался на углу Вацлавской площади и Водичковой улицы, разглядывая плитки тротуара. Радость его сразу померкла. Он только представил себе, что ждет его дома, когда он вернется, и на душе стало пусто и тоскливо. Тесть, конечно, уже обо всем догадался, так что лучше будет прийти, когда тесть уберется. Он, правда, говорил, что спешит, но ради такого случая может нарочно просидеть невесть сколько, лишь бы дождаться зятя. Пану Мотейзлику страстно захотелось развеяться, прогнать тяжелые мысли презираемого человека веселой беседой с верными друзьями, в компании которых он ежедневно, если удавалось улизнуть из дому, сиживал в трактире «У Звержины» в Коширжах. За добрым пивом мрачные мысли проходили. Но тут была необходима такая встряска, при которой он начисто забыл бы о своей печальной судьбе. Сегодня же в трактире не было никаких выступлений, ничего даже не декламировали. Наконец один из друзей предложил пойти в ночное кафе сыграть в карты. Мол, там играют в «божье благословение». Что это было за кафе и где оно находилось, пан Мотейзлик не помнит, он даже не знал, зачем туда пошел со всеми и как он вообще мог позволить, чтобы его затащили туда ради такой азартной игры. В два часа ночи ему пришлось разменять стокроновую купюру, в половине третьего от нее осталось двадцать крон.
Рассказывают, что со словами: «Все для сыночка!» — он поставил и эти двадцать крон на последнюю карту и под крики «ура» взял пятьсот крон.
На другой день в десять часов утра пан Мотейзлик возвращался домой, в лоно семьи. Надо было видеть, как это выглядело!
Одну прелестную коляску он толкал впереди, другую тащил за собой, а следом рассыльный из магазина нес еще две красивые новые колясочки, — одна коляска предназначалась для прогулок, вторая — чтобы, класть ребенка спать дома, третья — в садике, а с четвертой гулять в случае дождя. Все как положено, как рекомендовали ему в магазине.
Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки
О том, что чешский народ еще не утратил лояльности, ясно говорит инспекционная поездка министра Трнки. Во время этой поездки министру жилось неплохо. По его собственным словам, он скушал двадцать восемь гусей, сорок шесть уток, пятнадцать зайцев и сто двадцать куропаток. А за гусями, утками, зайцами и куропатками на столе появлялись дипломы, в которых чествователи присваивали ему звание почетного члена общины.
Это было настоящее триумфальное шествие. Всюду черно-желтые знамена реяли ему навстречу.
Девушки в белых платьях, священники, пожарные, старосты общин дрожали и заикались, когда он обращался к ним или они обращались к нему.
Так переезжал он с одного банкета на другой; его подчиненные составляли карты и планы регулирования рек, а он всюду делал заметки, вроде следующих: «Пардубице — Майонез. Яйца могли бы быть свежее».
И вдруг — бац! — в Младой Болеславе сгорел его автомобиль со всеми планами, картами и заметками. И у министра Трнки осталось лишь воспоминание о славном лояльном чешском народе. И пану министру приходится только внутренне улыбаться: например, при воспоминании о Штеховицах.
Для Штеховиц приезд министра был целым событием. До тех пор никто из тамошних жителей живого министра не видел, не говоря уже о том, чтобы с ним беседовать. И вот представьте себе: община поручила учителю приветствовать пана министра с лодки!
Штеховицкие жители обожают пышность. Они постановили, чтобы учитель составил свое обращение к министру в стихах.
Пришлось учителю попотеть. Он облазил все горы в поисках чудного уединения, где бы ему можно было спокойно творить.
Рассказывают, что выбор его остановился в конце концов на одной пещере в Бояновской долине. Три дня подряд местный стражник доставлял ему туда еду и питье.
За эти три дня он создал следующее произведение:
Ваше превосходительство, горячо Вас приветствуем по поводу Вашего приплытия от святого Яна, да озарится улыбкой лицо Ваше, вследствие приближения к нашим Штеховицам славным.
И вот торжественный день наступил. В черном костюме, с цилиндром в одной руке и стихами, переписанными на хорошей бумаге, — в другой, стоял сам великий поэт на краю лодки и, бледный от волнения, с нетерпением ждал появления парохода.
Наконец пароход прибыл, загремели мортиры, и все глаза устремились на местного пиита.
Но в тот момент когда пароход пришел в соприкосновение с лодкой, последняя так раскачалась, что учитель пошатнулся и упал в воду.
— Ваше превосходительство, не извольте гневаться. Вода теплая! — крикнул он, пустившись вплавь и выпучив глаза на министра.
Святотатец в Хотеборжи
В уголке ресторана «Дом господ» изо дня в день сидит пожилой человек, с которым никто не разговаривает и которого никто не замечает. Время от времени этот человек пытается вмешаться в разговор, но те, с кем он заговаривает, лишь сплевывают и ничего ему не отвечают. На его лбу, если мы посмотрим на него со стороны, можно увидеть каинову печать отверженного. Этот человек надругался над всем чешским народом. Ян Павличек имя этого святотатца — крестьянина из Свин. От его надругательства замирает сердце. Дело относится к эпохе, когда пробудившийся чешский народ в 1868 году устраивал многолюдные демонстрации и достославные таборы — митинги под открытым небом. В ту пору воодушевления и восторгов Ян Павличек выкинул коленце, которое и доныне бросает мрачную тень величайшего кощунства не только на него, но и на все его потомство.
Еще и ныне, когда бы ни вспомнил Павличек о том времени, его подбородок начинает трястись, как у старцев в произведениях Райса.
Прошло уже столько лет с тех пор, а старик все еще чувствует, что по сей день так и не смыл с себя пятна позора. Много лет назад надругался он над всем чешским народом, когда торжественный кортеж двигался из Хотеборжи на Часлав, где устраивался табор.
Те времена давно миновали. После восторгов 1868 года наступило отрезвление. Потом настало время позитивной политики со всеми ее печальными моральными последствиями, а Ян Павличек все еще сидит в своем уголке в «Доме господ», и никакие изменения в чешской политике не приносят ему облегчения. Ян Павличек все еще ощущает позор совершенного им надругательства. Он ехал на телеге, задрапированной в национальные цвета, с компанией хотеборжской молодежи в табор народа под Чаславом. Телега неслась по дороге к Либице над Доубравкой, где к торжественному кортежу должны были присоединиться либицкие жители.
В Хотеборжи живы еще очевидцы всего происшествия. Они могут подтвердить вам, что Ян Павличек перед отъездом плотно наелся гороху, напился пахтанья, добавив еще и добрую кружку хотеборжского пива.
Не знаю, было ли тогда хотеборжское пиво такого же замечательного свойства, как ныне, а если было, то остается лишь воскликнуть: «Несчастный Ян Павличек!»
В ту эпоху великого воодушевления еще не знали ряда современных слабительных, и ты, несчастный Ян Павличек, пил тогда графское хотеборжское пиво! И к тому же воодушевление, тряска в деревенской телеге, когда резвые кони с лентами в гривах рысью мчались вниз по большаку к Либогаю…
Великое воодушевление охватило Яна Павличка. Он первый громким голосом запел «Гей, славяне», и гимн разнесся в предвечерней тишине по долине Доубравки. И вдруг Ян Павличек многозначительно умолк.
— «Гром и ад!», — вырвалось у него, и, пока остальные с энтузиазмом пели: «Что ваша злоба!», — Ян Павличек схватился за живот.
Есть одна шотландская баллада, в которой поется, как рыцарь Орфанг Чарт, преследуемый муками совести, на всем скаку выпрыгнул из экипажа и спрятался в дубраве.
А здесь дубравы не было. Вдоль дороги торчали лишь одинокие дубы, последние могикане обширных дубрав, росших когда-то под Железными горами.
И, подобно рыцарю Орфангу Чарту, Ян Павличек огромным прыжком выскочил из телеги и скрылся за гигантским стволом одного из развесистых дубов.
В пятидесяти шагах от дуба телега остановилась, и руководитель кортежа оглянулся. И тут он вдруг побледнел и воскликнул: «Господи Иисусе, братья, пойдите к нему!»
Он соскочил на землю, остальные последовали за ним, и все подбежали к дубу.
Однако они опоздали: Ян Павличек уже стоял, и лицо его прояснилось. Руководитель кортежа схватил Павличка за плечо и, показывая вверх на дуб, сказал ледяным голосом: «Читай!»
Изумленный Ян Павличек, выпучив глаза, прочитал на табличке, прибитой к дубу: «Под сим дубом отдыхал Жижка, направляясь в Пршибислав».
Яна Павличка подхватили под руки, чтобы он не упал.
— Святотатец, — сказал ему руководитель, — ты недостоин ходить по земле, вернись же в Хотеборж, в Часлав с нами ты не поедешь!
Пока разукрашенная телега ехала к Либогаю, Павличек плелся в Хотеборж, а вслед ему с телеги неслась песнь: «Кто вы, божьи воины?»
Один лишь дуб, под которым отдыхал Жижка на пути к Пршибиславу, казалось, понял предел надругательства, совершенного Павличком над всем народом и чешской историей. Ветви дуба задрожали, и он засыпал желудями землю вокруг себя, милосердно прикрыв все, что было связано с кощунством Павличка.
Я говорил со старым паном Павличком и упомянул также об этом историческом дубе, под которым отдыхал Жижка. Павличек долго пил и затем сказал:
— Отдыхать-то он отдыхал, это мы знаем, но кто его знает, как это выглядело!
Й этим Ян Павличек подтвердил пословицу: «Всякая сосна своему бору шумит».
Сербский поп Богумиров и коза муллы Исрима
Большой и Малый Караджинац! Две деревеньки, почти одинаковые, и все же такие разные! Малый Караджинац расположен на сербской стороне, а Большой Караджинац принадлежит турецкому султану. Жители двух этих горных деревушек бились изо всех сил, лишь бы хоть что-нибудь да вырвать у каменной пустыни. Овес шелестел волнами на скалах. Козы резво прыгали с утеса на утес.
Жители Малого Караджинаца продавали коз, чтобы заплатить налоги своему сербскому королю, в Большом Караджинаце коз продавали, чтоб десятиною рассчитаться с падишахом. Было это, по сути, одно и то же, называлось только по-разному. Православных сажали в тюрьму из-за налогов, мусульман из-за десятины.
В Малом Караджинаце на церкви желтел покрытый дешевою позолотою крест, так же был окрашен и полумесяц на мечети в Большом Караджинаце. Краску покупали у армянина Рекована в близлежащем пограничном городке. И как же гордились и православные, и мусульмане дешевенькой своей позолотой!
И стоило однажды мусульманам в Большом Караджинаце свою мечеть побелить, как тут же и православные из Малого Караджинаца любовно подновили свою церквушку белой известью, и она вызывающе засветилась своими стенами на сербскую и на турецкую сторону.
Вечерами раздавался перезвон всех колоколов, но вот уж и мулла напротив тщится на минарете перекричать колокола воплем: «Аллах иль аллах», — велик аллах. Допев свое до конца, мулла Исрим спускался вниз, закуривал чубук и шел поболтать с православным попом Богумировым.
Сходились они у водопада, который отделял Оттоманскую империю от Сербского королевства.
Поп Богумиров тоже курил трубку. Беседа их начиналась обычно с ругани.
— Все хромаешь, псина турецкая?!
— Какие же у тебя сегодня круги под глазами, проклятая христианская душа.
Но по мере того, как тон становился спокойнее, аллаха и всевышнего в беседе вытесняли козы. Ибо и Богумиров, и Исрим держали коз и похвалялись ими друг перед другом. Потому как в глазах их, пожалуй, это не были обыкновенные козы, но козы мусульманские или же козы христианские, православные.
— У меня козы тучнее твоих, мулла, — ликовал поп.
— Тучнее? А где ты видел козу прекраснее, чем моя Мири, знаешь, вон та, вся черненькая. Что за красавица! И рога у нее — что у венгерской коровы.
И это была правда. И козлята ее всегда были один прелестней другого.
Мулла утверждал, что глаза у его козы краше, чем у старостовой дочки Кюлют, а увлекшись, он уверял, что это заколдованная гурия из окружения пророка Гавриила.
Поп Богумиров тосковал давно об этой козе.
Вот бы улучшить породу своего стада, которое, разбредясь сейчас среди скал, паслось и резвилось, то исчезая за валунами, то неожиданно появляясь среди неприветливых серых утесов, объедая редкие кустики травы и заячьей капусты.
Водопад шумел, над Балканами загорались первые звезды.
— Послушай, Исрим, — сказал поп Богумиров, — не так уж твоя коза и прекрасна, но мне бы она пригодилась. Моя коза, которую я оставил на племя, с божьего соизволения, сдохла. Видать, понравилась господу. — Поп перекрестился.
— Аллах велик, — воскликнул мулла, — но эта коза не продается.
— Хорошо, мулла, — продолжал поп, — аллах твой не так велик, как православный господь. Творил ли он где у вас какие-либо чудеса, посылал ли к вам чудотворцев? Смилуется господь бог, ежели ему будет угодно, из меня еще получится чудотворец, а ты так и останешься глупым нехристем. Я смогу воскрешать мертвых, ежели господь соизволит, а ты до самой своей смерти так и будешь вопить с мечети — «Аллах иль аллах» — да и кружить при этом, как овца, больная вертячкой.
Мулла вознегодовал:
— Ах ты, тупой гяур, ведь наш Магомет просто запрещает воскрешать мертвых. Хороший же у вас бог, если он и мертвецам не дает покоя. Но коли заявишь клятвенно, что не умеешь воскрешать мертвых, продам тебе козу.
Поп задумался. Оно конечно, коза Мири — давняя его печаль, но ведь придется кой от чего перед этим поганым нехристем и отречься.
Мулла продолжал безучастно курить свою трубку. Сизый дымок поднимался над тихим, вечерним простором, расстилаясь по скалам. В душе попа происходила отчаянная борьба. Козовод схватился в ней с верующим.
— Мулла Исрим, нехристь ты несчастный, — наконец отозвался поп, — признаю и подтверждаю, что не могу воскрешать мертвых. — Он перекрестился. — За сколько же теперь ты отдашь мне козу?
Начались долгие торги. Мулла просил за нее две козы и сто пиастров.
Поп давал одну козу и пятьдесят пиастров, но готов был согласиться на условия муллы, если только тот заявит, что аллах вовсе не велик.
Теперь уже поп безучастно попыхивал трубкой.
— Аллах не бог, — сознался мулла, потому что сто пиастров — немалые деньги.
Так приобрел поп Богумиров у муллы Исрима козу Мири.
Наутро неверные псы привели к попу козу Мири. Был ясный, солнечный день, какими отличается на Балканах осень, когда небо такое ясное и голубое, что хочется петь. Горный поток ниспадал сверху от Малого Караджинаца к Большому, такой же чистый и ясный, как отражавшееся в нем небо.
Как я уже говорил, весело на душе у человека. Особенно большая радость у попа Богумирова.
Ведет он свою новую козу Мири на веревке, гордость своего козьего стада. Идет с ней от истока ручья, который выбивается из крохотного ключа там, под вершиной Мегадиште. Ясно, весело у него на душе.
Только что толкнул он в этот ключ козу свою, что прежде жила у муллы Исрима, и запел:
— Господи, помилуй!
Не пристало такой козе оставаться мусульманской.
Пятнадцатый номер
Бывают и у обывателей свои скандальчики. Таким небольшим скандалом ознаменовался канун свадьбы уездного начальника Му́́жика.
Уездные начальники — люди добродетельные. Уездный начальник Му́жик, готовясь к сочетанию браком с барышней Бурдовой, даже краснел, когда речь заходила о том, в какой гостинице проведут они ночь перед свадьбой: жених, свидетели и невеста. Господин императорско-королевский школьный советник шепнул ему что-то на ухо, но Мужик возмущенно оборвал его.
Да за кого он его принимает? У всех будут отдельные номера: у жениха, у свидетелей, у невесты!
Барышня Бурдова тоже зарделась, когда ей на ухо шептала что-то барышня Лилингова. Никогда! У каждого будет своя комната. У нее, у свидетелей, у жениха.
Ибо решено было сыграть свадьбу в Праге.
Перед отъездом уездный начальник вызвал служителя своей канцелярии и дал ему двадцать крон.
При этом он обратился к служителю с речью, прося его выпить за новое счастье начальника, но не напиваться. Служитель обещал, но не сдержал слова, что само собой разумелось.
Затем уездный начальник заглянул в винный погребок, где выслушал еще парочку скабрезных анекдотов, после чего отправился к невесте и свидетелям.
Свидетелей он застал в черных костюмах и в розовом настроении.
Так что среди экскурсантов в Прагу царило безоблачное веселье.
Они поселились в лучшей гостинице, где как раз начинал свою карьеру коридорный Ваничек. Он был добросовестный человек.
Его обязанностью было чистить обувь постояльцев. И именно Ваничек изобрел метод, позволяющий не путать ботинки, которые он уносил от нумерованных дверей с выражением трудолюбивого садовника, собирающего урожай.
Держался Ваничек при этом достойно. Толстым мелком писал он на каждой паре обуви номер тех дверей, за которые ее выставили, а утром, в соответствии с этими номерами, расставлял у дверей вычищенные ботинки и в непоколебимом спокойствии ожидал награды.
Ботинки он чистил, подпевая себе вполголоса какой-нибудь военный марш. Обычно это было вот что:
И в такт маршу он шваркал щеткой по ботинкам и туфлям. Он мог бы порассказать многое, но был молчалив в этом отношении, как печки в номерах.
Он безмолвствовал, как ночные тумбочки.
Лишь порой, когда ему вспоминалась какая-нибудь историйка, слабая улыбка пробегала по его лицу, чтобы тотчас расплыться в сапожной ваксе.
Вся жизнь Ваничка заключалась в мазях для обуви. Все его помыслы вращались вокруг башмаков, и в воспоминаниях его властвовали щетки — жесткие для грязи, те, что помягче, — для наведения глянца.
Ваничек был мастер своего дела. Когда он проходил утром по коридору и у каждой двери улыбались ему сверкающие сапоги и ботинки, прошедшие через его руки, он испытывал чувство отцовства, и вынимал тогда из кармана фляжечку тминной, и делал основательный глоток.
И проносились перед его внутренним взором сапоги, штиблеты, туфельки давних времен, но он о них молчал. Лишь один раз изрек он грубое слово — это когда в нижней распивочной заговорили о заезжей иностранной примадонне, хваля ее очарование, талант и красоту. Тогда Ваничек вдруг вскричал: «Да у нее нога как у слона!» Но он тут же осекся, покраснел, расплатился — и больше в той распивочной не появлялся.
Теперь он радуется новым постояльцам. Уездный начальник заказал уже отдельные номера для всех: для себя, для свидетелей и для невесты.
Сейчас они внизу, в ресторане, ужинают, пьют пиво из Феслау и смеются.
Пускай кто-нибудь даже и брякнет глупость — они все равно смеются, не столько из благодарности, сколько потому, что счастливы. В одиннадцать вечера они отправляются спать. Каждый в свою комнату — жених, невеста, свидетели.
В половине двенадцатого Ваничек уже собирает обувь. Перед каждой дверью он священнодействует, выписывает мелом номер на подметки и уходит со своей добычей по коридору, а в полночь уже шваркает щетками по ботинкам, тихонько напевая:
Но вот и свадьба. В церкви царит благоговейное настроение. Прогремели и стали коляски. Бабки на паперти наводят критику. Уездный начальник и его невеста шествуют к аналою. Обряд этой богатой свадьбы отправляет сам настоятель.
Жених и невеста опускаются на колени.
Едва они опустились, в самый торжественный миг, — все увидели их подметки… Как странно: на них выведена мелом большая цифра «15». У невесты и у жениха.
И по церкви разносится тихий шепот: «Скандал, скандал»…
Бывают свои скандальчики и у обывателей.
Деяния современного дипломата
Кое-когда, а особенно в последнее время, ходили толки о том, будто дипломаты лишены разума. Утверждение это может опровергнуть поистине классическая деятельность дипломата графа Рудольфа фон Дромадер. У него-то был разум, очень много разума, сейчас сами услышите.
Граф Рудольф Дромадерский происходил из старинной аристократической семьи, подарившей человечеству самого прославленного в мире идиота, графа Яна Дромадерского, мыслителя воистину всемирного масштаба, создавшего труд о. том, что земля не вертится. Впоследствии он был чрезвычайным полномочным послом при русском дворе, где и скончался, заслужив у тогдашних историков славу величайшего дурака на свете.
Граф Ян фон Дромадер имел сына Карла, страдавшего навязчивой идеей сделаться придворной дамой. Его лечили холодными обливаниями головы и сумели-таки выбить из него эту дурь. Карл оставил после себя сына Йозефа Антона, который в нежном возрасте упал с лестницы в замке и пробил себе череп, отчего у него развился так называемый травматический невроз. Дотянул он только до генерала; его-то сыном и является вышеупомянутый Рудольф. Когда Рудольф родился, собрался семейный совет, решивший, что этот отпрыск должен посвятить себя дипломатической карьере, дабы в империи возродилась давняя слава рода Дромадеров. Маленький Рудольф на это не сказал ни слова, только пришлось его перепеленать.
Таким было его первое самостоятельное дипломатическое деяние. Позднее выяснилось, что утечет много времени, пока он научится говорить. До восьми лет мальчик все называл словом «папа», кроме курточки, кофе и супа — их он именовал «мамой».
Но к десяти годам в нем стал заметен крупный прогресс. Медленно, но верно он научился-таки различать предметы, а стараниями шестерых учителей к пятнадцати годам умел уже без посторонней помощи подписать свое имя и даже прочитать его. Тогда к нему наняли еще троих учителей, которые положили много труда, чтобы подготовить молодого Дромадера к жизни. В восемнадцать лет благородный юноша уже без ошибки перечислял пять частей света, причем очень редко пропускал названия одной-двух из них. Интеллект его явно развивался бурно, и учителя признали необходимым, — поскольку ему назначено было стать дипломатом, — втолковать ему, что в мире существуют еще кое-какие государства. При своей понятливости и неукротимой жажде знаний Рудольф к двадцати пяти годам, то есть за неполных даже семь лет, усвоил уже названия всех европейских стран, а в тридцать лет поступил на государственную службу, где выучился игре в макао и баккара, к чему обнаружил врожденный талант. Его определили в министерство иностранных дел, куда он приезжал, чтобы выспаться после бессонной ночи.
Однажды министр иностранных дел, похлопав его по плечу, объявил, что посылает его с секретным поручением в столицу соседней второстепенной империи. Секретное поручение заключалось в документе, покрытом загадочными каракулями; в этом зашифрованном таким манером послании шла речь о некоем договоре между обеими сторонами, направленном против третьего государства, которое в последнее время залезло в очень уж заметные долги по причине большого количества пушек.
Граф Рудольф фон Дромадер взял портфель с важным государственным документом и, не мешкая, уехал в соседнюю империю.
По дороге с вокзала в отель граф заметил, что ему чего-то не хватает. Дело в том, что он забыл в вагоне свой дипломатический портфель. Но никакими силами не мог он вспомнить, что же такое он потерял, чего ему не хватает, а очутившись в отеле, никак не мог сообразить, зачем он сюда приехал и что ему делать в чужом городе.
Даже владелец отеля, вызванный по телефону, не в состоянии был дать ему какого-либо ответа на этот вопрос.
Тогда граф пошел в город: ему пришло в голову, что раз уж он сюда приехал, то неплохо бы закурить.
Войдя в первую попавшуюся лавку, он спросил пачку тонких сигарет.
— Простите, — любезно ответил хозяин лавки, — наша фирма москательная, а не табачная. Торгуем всевозможными болтами, гвоздями, инструментом, а также самоварами, из которых рекомендуем патентованный марки «Креос» с керосинной горелкой…
— Это дерзкое оскорбление! — воскликнул граф. — Вы отказываетесь продать сигареты мне, представителю иностранной державы!
— Патентованный «Креос» с керосином… — залепетал перепуганный москательщик. — Право, дорогой господин, это москательная лавка…
— Не миновать вам войны! — взревел Рудольф Дромадер. — Наше правительство не потерпит такого обращения! Мы рассеем вас по всем концам света, тогда, сударь, заплатите миллиард военной контрибуции.
В бешенстве он покинул лавку и ночным поездом вернулся на родину, ночью же поднял с постели министра иностранных дел.
Господин министр был совсем сонный, и, когда граф сообщил, что в соседней стране ему отказались продать сигареты, он ответил зевая:
— Дорогой граф, отправьте им резкую ноту, а сейчас — спокойной ночи.
Всю ночь граф Рудольф твердил: «Отправить резкую ноту, резкую ноту — о, черт, что же это такое?!»
Утром он поехал в город, непрестанно размышляя о том, что такое нота. И вдруг увидел над одним магазином вывеску: «Notenhandlung»[48].
Граф тотчас выскочил из автомобиля и ворвался в магазин.
— Мне нужна резкая нота! — крикнул он продавщице. — Самая резкая, какая найдется, черт побери!
— В таком случае возьмите «Марш Ракоци», — предложила та.
Граф кинул деньги на прилавок, взял ноты, уехал домой и там собственноручно увернул покупку в бумагу и надписал адрес соседнего правительства.
Скрежеща зубами, он сам отнес на почту ноты с «Маршем Ракоци».
Таким было самое значительное его деяние в области дипломатии.
Роман о ньюфаундленде Оглу
I
С виду ньюфаундленд Оглу был само благоразумие, однако же это был притвора и хитрец, каких мало!
Разговаривая на улице с другими собаками, он строил из себя моралиста; когда однажды кривоногий рыжий таксик рассказал ему про красавицу пана советника, гладкошерстную борзую, которая вдруг принесла кудлатых детей — вылитых пудельков, Оглу прямо взорвался:
— И поделом, смотреть надо за барышней лучше!
Впрочем, лишь только Оглу оказался вдали от старых приятелей, он сразу перестал изображать из себя моралиста: ведь положа руку на сердце — не было на свете пса более циничного, чем Оглу!
Но дома он за собой следил. Оглу понимал все, что о нем говорят, и раз считалось, что он больше всех любит старого хозяина, Оглу и старался не отходить от него ни на шаг.
Прочие домочадцы относились к старику без особой почтительности, потому что тот целыми днями слонялся по комнатам и всюду выбивал свою трубку.
И они говорили:
— Оглу, иди погуляй со стариком!
Оглу тут же бежал на кухню и, получив в награду кусок копченой колбасы или шкварку, шел к старому хозяину, лаял, прыгал на него, хватал за пиджак, кидался к двери, а тот дрожащим от умиления голосом пел:
— Гулять хочешь, Оглу? Милый мой, ты один меня любишь! Остальные ведь сожрать готовы! Пойдем, я тебе колбаски дам.
Но на улице радости как не бывало. Дело сделано, колбаса съедена, стало быть, и притворяться незачем. Оглу лениво плелся за хозяином и во всю пасть зевал. Притворство было самой отвратительной чертой его характера. На площади хозяин встречал своих знакомых. Оглу снова оживлялся, весело лаял, давая понять, что рад их видеть. Порой ему перепадало от них какое-нибудь лакомство. Проглотив его, он терял к людям всякий интерес: «На что вы мне сдались?» — садился и, скучая, глазел по сторонам.
Болтовня их его не занимала, он наперед знал, разговор пойдет о табаке: вот раньше, мол, был табак, не то что нынче!
«Взяли бы да не курили! — вздыхал Оглу. — А то и мне Остается, хозяин как чистит трубку спицей, все норовит табачную гарь с нее о мою шерсть вытереть. Ему бы так».
«Правда, он не вылизывает себя, — продолжал рассуждать Оглу, прикидываясь спящим, чтобы не играть с малышом Робертом, который обожал таскать его за уши, — но я-то моюсь языком! С какой стати мне страдать?»
Однажды хозяин, слоняясь по дому, забыл свою трубку на лавке в прихожей. Оглу схватил трубку и через черный ход дунул в конец сада, к выгребной яме, из которой садовник брал подкормку для клумб.
Бросив трубку в вонючую жижу, он как ни в чем не бывало вернулся в дом. А там тем временем началось светопреставление: старик орал, что жизнь его кончена, что родственникам недолго осталось с ним маяться, он, мол, давно видит, что всем здесь в тягость, и лучше бы они просто его уморили, чем лишать его любимой трубки. Оглу не отставал от хозяина, пока тот тщетно искал пропажу, притворяясь, что вот-вот возьмет след. Хозяин гладил Оглу и приговаривал:
— Вот кто мой единственный верный помощник! На́ колбаски.
Получив колбасу, Оглу улегся в гостиной на ковре и ощерил пасть. Это он так смеялся, черный кудлатый мошенник!
Не найдя трубки, старик несколько дней потерянно бродил по дому, а потом слег и призвал нотариуса.
Вначале Оглу корысти ради заходил полежать у его кровати, но, когда понял, что по причине всеобщей скорби поживиться ему ничем не удастся, он предпочел проводить время в кухне за ловлей мух, потому что, как он однажды доверительно поделился с рыжим таксиком, мухи приятно язык щекочут.
Пропажа трубки настолько потрясла старика, что через две недели пришлось вскрывать его завещание.
Все свое состояние он отписал богадельне. В ту минуту, когда оглашалась его последняя воля, Оглу подвернулся под ногу молодому хозяину, и тот дал ему пинка за то, что, гуляя со стариком, он таскал его к попечителю богадельни.
Кому бы из домашних Оглу ни попадался на глаза, все говорили:
— И эту черную бестию старый плут любил больше всех! Пошел прочь!
Собака постоянно напоминала им о старике, и на семейном совете решили Оглу продать. Поместили в газете объявление, подобное тем, какие на юге Америки давали о рабах: что-де по семейным обстоятельствам продается умный и добродушный пес.
Оглу понимал, о чем шушукаются в доме, речь шла о его судьбе, и ничуть не удивился, когда однажды во двор въехала повозка с ящиком и хозяева назвали его имя.
Оглу стало ясно, что придется отсюда убраться. Он мигом слетал за дом, быстренько придушил петуха и шесть курочек и тут же вернулся. Ящик уже стоял на земле, и он сам влез в него. Ему кинули куски хлеба, поставили ящик на повозку и повезли на вокзал.
Оглу для порядка разок-другой эффектно взвыл.
На вокзале он услышал голоса:
— Собака смирная, не сбежит.
Ящик куда-то потащили, бросили, раздался стук, грохот, свист, и Оглу непривычно закачало.
«Ну что со мной может случиться? — размышлял он. — Приеду на новое место, авось и там приживусь».
Желая сразу произвести хорошее впечатление, Оглу как следует вылизался и съел хлеб. «Надо все подчистить, — рассудил он. — Новые хозяева увидят, что у меня ничего нет, и дадут что-нибудь вкусненькое». В ящике было тепло, и он уснул. Проснулся Оглу, когда поезд остановился. Открыли ящик, молодая красивая дама погладила его первая и позвала: «Оглу!» По опыту он знал, что женщины любят ласковое обращение, и запрыгал вокруг нее. Когда же она достала из сумки две ливерные колбаски, он с восторженным урчанием умял их и тут же подумал: «Войдем в дом, — начну набивать себе цену, пусть увидит, как я тоскую по старым хозяевам».
Оглу последовал за новой хозяйкой на поводке, а в хорошо натопленной комнате сел перед ней и стал грустно на нее смотреть. Едва она произносила: «Тоскуешь, Оглу?» — он вздыхал и шел к двери. Но скоро ему это надоело, он сделал вид, что заснул, а сам тем временем предался размышлениям о том, что будет на ужин.
Ужин был на славу! Ему дали супа, картошки с маслом и отличных костей. Перед сном он дружелюбно вертел своим великолепным, хвостом и, засыпая, думал: «Пожалуй, здесь я буду счастлив».
II
Но уже на следующий день он убедился, что и здесь придется притворяться. Только они с хозяйкой вышли на прогулку, как к ним присоединился молодой человек, от которого несло мускусом.
Оглу не любил духов. Ведь они не пахли, а воняли! А мускус просто приводил его в отчаяние. Всем ароматам на свете Оглу предпочитал запахи из колбасных лавок и кухонь. По тончайшим нюансам он мог определить, что там варится и жарится.
Молодой человек, пахнущий мускусом, напоминал Оглу о зловонной яме. Однако он не подал и виду, а когда хозяйка протянула своему знакомому руку и ласково улыбнулась, он тоже прикинулся обрадованным и, восторженно взлаивая, весело запрыгал вокруг него. Молодой человек погладил Оглу и спросил:
— Ваш новый сенбернар?
Оглу оскорбился. Надо же, надушенный болван не способен отличить чистокровного ньюфаундленда от какого-то там сенбернара! Он зарычал и понуро поплелся за хозяйкой. Правда, она тут же поправила молодого человека, что немного его утешило:
— Вы ошибаетесь, это мой ньюфаундленд Оглу.
— Красивый пес, только очень похож на сенбернара.
Это уже переходило всякие границы, и Оглу покосился на него.
— На таком здоровенном псе, барышня, только воду возить!
Оглу снова зарычал и злорадно подумал: «Погоди, попадешься мне, когда я буду один, без хозяйки». Но как ни в чем не бывало продолжал идти за ними. Так они втроем и гуляли. Прощаясь у ворот, молодой человек словно бы между прочим повторил:
— И все-таки на такой собаке только воду возить!
Оглу шел за своей хозяйкой, внезапно он повернул назад, выбежал на улицу, догнал мускусного господина, перегрыз пополам зонт, который тот нес под мышкой, и спустя мгновение был уже дома.
— Куда это ты бегал, Оглу?
В ответ он удовлетворенно помахал хвостом. Каким вкусным показался ему ужин!
На другой день в гости пришли две молодые дамы, и хозяйка со смехом показала им письмо, недавно доставленное почтальоном, при этом она поглаживала Оглу, который был, конечно, в центре внимания всех трех дам.
— Ну и дурачок этот Индржих, вы только послушайте, что он мне написал! «Многоуважаемая барышня! Как только мы с Вами вчера расстались, меня догнал Ваш пес и перегрыз мой зонт, который я купил буквально накануне за 12 крон. Зонт шелковый и достался мне по случаю. Прошу Вас возместить убыток. Надеюсь на скорое свидание! В разлуке с Вами я так скучаю! Целую Ваши ручки! Ваш Индржих Гак».
— Я отправлю ему эти двенадцать крон и напишу такое письмо, что он не обрадуется!
Три дня спустя дамы пришли снова, и она дала им прочесть новое письмо от пана Индржиха.
«Многоуважаемая барышня! Уведомляю Вас о получении мною 12 к (прописью: двенадцать крон) за испорченный зонт. Я крайне удивлен Вашим заявлением, чтобы я больше не показывался Вам на глаза и что Вы такого от меня не ожидали. Зонт действительно стоил двенадцать крон, в чем вы можете убедиться по прилагаемому чеку, и действительно был из натурального шелка. Надеюсь, Вы верите мне хотя бы настолько, чтобы не считать, что я воспользовался этой неприятностью ради собственной выгоды. Странно, вот уже два дня Вы не приходите на обычное место наших встреч! Я в самом деле скучаю, и это могут подтвердить четверо свидетелей. Надеюсь на скорое свидание. Целую Ваши ручки! Ваш Индржих Гак».
— Кто он такой? — спросила одна из дам, выразительно постучав пальцем по лбу.
— Учитель математики, — услыхал Оглу и еще: — Ах, так!
С тех пор Оглу и его хозяйка избегали встреч с паном учителем, и Оглу был избавлен от необходимости притворяться. Он делал все, что ему вздумается, так как хозяйка не отличалась твердостью характера. Она даже купила было плетку, но, когда хотела его ударить, он сделал стойку, зарычал и взглянул на нее столь грозно, что она забросила плетку в угол, и он преспокойно ее изгрыз, а потом демонстративно таскал клочья по комнате.
Оглу познакомился с русским борзым из соседнего дома, держался он с ним чрезвычайно высокомерно и однажды небрежно бросил бедняге:
— Похоже, вы не чистых кровей!
После этого кудлатый борзой стыдился показываться на улице, а Оглу был очень доволен своей шуточкой.
Минула зима, а с наступлением весны Оглу стал раздражительным, как всегда в эту пору, потому что терял зимнюю шерсть.
«Что за досада ждать, пока вырастет новая, — думал он и порой вдруг решал: — А я не буду ждать!», но тут же одергивал себя и уныло озирался вокруг.
У хозяйки тоже было плохое настроение, потому что пан Индржих Гак все-таки ей нравился… если отвлечься от его математики.
Так и смотрели они с грустью друг на друга — Оглу на свою хозяйку, та на Оглу.
Это была грустная майская сказка. У него слишком медленно отрастала шерсть, а ей больше не писал пан учитель.
III
Но вот начался купальный сезон. Погода стояла прекрасная, вода в реке прогрелась, и Оглу опять повеселел. Шуба его снова была в полном порядке, и при всяком удобном случае он с радостью лез в воду.
Они гуляли по набережной вдвоем: Оглу и его хозяйка. Ей было ужас как скучно.
По набережной они выходили к загородным купальням и смотрели на купающихся.
Глядя на реку, Оглу о чем-то усиленно думал, пытался что-то вспомнить и не мог, хотя его не покидало какое-то смутное ощущение невыполненного долга. Хозяйка тоже пребывала в задумчивости, но она-то думала о совершенно определенном предмете, о коротко подстриженных усиках пана учителя, которые тот носил зимой.
В один из знойных дней она сидела на молу, а рядом с ней — черный Оглу.
Оба смотрели на воду. Вдруг хозяйка, показывая на пловца, который в хорошем темпе переплывал реку, сказала:
— Смотри, Оглу, это же пан учитель!
В мгновение ока Оглу бросился в воду и, громко фыркая, поплыл к пану учителю.
Ему ли не узнать негодяя, который принял его за сенбернара и заявил: «На этой собаке только воду возить!» Разве такое забудешь?
Прежде чем пан учитель обернулся, он почувствовал: кто-то схватил его зубами за трико и тащит к противоположному берегу, где сидит дама под зеленым зонтиком.
Его тянули с такой силой, что сопротивляться было бесполезно, и вот он уже вынесен из воды и лежит у ног дамы. Оглу, выбравшись на мол, встряхнулся, и от него во все стороны полетели брызги, как от поливальной машины, он остался очень доволен этой своей новой шуткой.
А пан учитель взглянул на даму и произнес:
— Прошу прощения, однако подобным образом людей выносят из воды только ньюфаундленды!
Оглу завилял от радости хвостом и незаметно ухмыльнулся: «Рад получить от вас удовлетворение», не дослушав учителя, который тут же продолжил:
— Чтобы снова не возникло недоразумения, ставлю вас в известность, что ваша собака порвала мое трико. Я ношу его всего третий день, оно из чистой шерсти и стоит пять крон.
IV
Оглу почти не изменился, даже когда эти двое поженились. Внешне к новому хозяину он относился хорошо, но сразу же после свадьбы изгрыз его туфли, а ошметки отнес в постель к служанке, чтобы хозяева подумали на нее.
Из упрямства Оглу кое-что проглотил, в том числе каблук, и он долго камнем лежал у него в желудке, так что Оглу не без основания предостерег потешного длинношерстного пинчера, вместе с которым по целым дням торчал у соседней колбасной лавки:
— Ах, милый друг, остерегайтесь туфель!
С возрастом он все больше впадал в детство.
Заговаривал на улице с совершенно незнакомыми собаками, а однажды, встретив в Карлине черного пуделя, посетовал:
— Прошу прощения, но сегодня прогулка мне не доставила ровно никакого удовольствия. Идти по ужасно длинному шоссе с дурацкими тумбами по обочине… для меня это теперь так утомительно!
Как-то Оглу, лениво развалясь, грелся у печки, а хозяин, кивнув на него, сказал жене:
— Неплохой коврик выйдет!
Оглу, услыхав это, по старческому слабоумию принялся вылизываться, радуясь, что он такой красивый.
Выжил из ума старикашка Оглу.
Примечания
Творчество Гашека в 1909–1912 годы с поразительной полнотой отразило политическую и социальную обстановку в Чехии той поры.
Это были трудные для чешского народа годы, когда все отчетливее начал обозначаться процесс превращения «патриархальной» Габсбургской монархии в современное империалистическое государство, сопровождаемый ускоренной милитаризацией страны, усилением национального гнета и полицейского произвола. Одновременно росли и силы сопротивления империализму — организованное рабочее движение, особенно усилившееся под влиянием русской революции 1905 года.
С этим беспокойным временем общего ухудшения условий существования народных низов совпал один из самых бурных этапов предвоенной жизни Гашека, полный крутых поворотов, взлетов и жестоких крушений.
Это был уже не тот, никому не известный начинающий писатель, путевые очерки которого время от времени появлялись в газете «Народни листы» («Национальная газета»). Теперь его юморески и сатирические рассказы охотно печатали почти все пражские журналы и газеты от сатирического журнала национально-социальной партии «Карикатуры» (редактором которого был его друг — художник Йозеф Лада) до социал-демократической газеты «Право лиду» («Право народа») и сатирического еженедельника «Копршивы» («Крапива»), от серьезного журнала «Светозор» («Обозрение») до бульварно-развлекательного «Весела Прага».
Издатель последнего Карел Лочак настолько доверял юмористическому таланту Гашека, что рассказы его, не читая, отправлял в типографию. Иногда Гашек один заполнял даже целые номера «Веселой Праги».
Имя Гашека в это время было широко известно в Праге, причем не только как писателя-юмориста, но и как завсегдатая трактиров, кабаков, нередко «клиента» полицейских участков. Такая репутация, отсутствие постоянной работы, как и недавняя принадлежность к анархистскому движению, были непреодолимым препятствием его брака с Ярмилой Майеровой, разрешения на который они давно добивались от родителей Ярмилы. И лишь лётом 1909 года, когда Гашеку удалось устроиться редактором в природоведческий журнал «Свет звиржат» («Мир животных»), разрешение было получено, и в 1910 году они поженились.
Беспокойная натура Гашека, его бьющая через край фантазия оказались не самыми подходящими качествами для редактора научно-популярного журнала. Изобретаемые Гашеком фантастические животные и не менее фантастические свойства, которые он приписывал существующим, вызвали массу протестов. Тираж журнала начал катастрофически падать. Чтобы не лишиться окончательно подписчиков и не погубить вконец репутацию журнала, издатель решил с Гашеком расстаться.
Используя свой недолгий опыт работы в принадлежащем издателю «Мира животных» собачьем питомнике, Гашек открывает торговлю собаками. Однако отсутствие коммерческих способностей, а также манипуляции с окраской животных и снабжение обыкновенных дворняжек пышными родословными привели к полному краху предприятия, Гашек был привлечен к суду.
Этот период жизни Гашека нашел отражение в рассказах «Моя торговля собаками», «Моя дорогая подружка Юльча» и др., в романе «Похождения бравого солдата Швейка» автор поручает Швейку торговлю собаками, а Мареку редактирование «Мира животных».
Одно из наиболее примечательных событий в жизни Гашека тех лет, получившее широкий общественный резонанс и надолго оставшееся в памяти пражан, была кампания по выборам в австрийский парламент, которую проводила весной 1911 года созданная Гашеком и его друзьями так называемая партия умеренного прогресса в рамках закона.
Это была остроумная и злая пародия на большинство тогдашних политических партий Чехии, да и вообще на всю политическую обстановку в стране.
Оппортунизм социал-демократии, ура-патриотизм младочехов, трусость масариковской «реалистической» партии, «научно» обосновывающей свое бездействие идеей «естественного развития», — все это нашло свое сатирическое воплощение как в самом названии «партии», ее «Манифесте», в характере проводимых «партией» предвыборных собраний, так и в выступлениях на них ее кандидата Гашека.
Гашек рубил сплеча, нередко задевая и тех, кто мог бы стать или фактически был его союзником в борьбе против реакции, например, левое крыло социал-демократической молодежи.
Об истории «партии» Гашек в 1912 году написал книгу (см. т. 5 наст. Собр. соч.).
Бурная деятельность Гашека в партии умеренного прогресса ни в какой степени не могла ему помочь обеспечить себе постоянное место работы. Почти весь 1911 год Гашек оставался безработным, и только осенью ему удалось устроиться репортером в газету национально-социальной партии «Ческе слово» («Чешское слово»).
Но и здесь он не удержался. Направленный редакцией на собрание бастующих пражских трамвайщиков, Гашек встал на сторону забастовщиков, обвинив профсоюзных вожаков (деятелей национально-социальной партии, ратующих за прекращение забастовки) в сговоре с предпринимателями и предательстве интересов рабочих.
Разумеется, он тут же был уволен.
Позднее в фельетоне «Как я выбыл из национально-социальной партии» он подробно рассказал об этом случае.
Все эти катастрофы, усугубляемые его неупорядоченной жизнью, не могли способствовать благополучию в семье. В апреле 1912 года, вскоре после рождения сына, Ярмила уходит к родителям.
Оставшись без дома, без семьи, без работы, Гашек снова отправляется странствовать.
Несмотря на следующие один за другим удары, Гашек очень много писал. 1911 и 1912 годы — рекордные по количеству напечатанных им произведений (124 рассказа в 1911-м и 125 — в 1912 году). Если добавить к этому 84 главы книги «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона», затем — ряд написанных им вместе с Ф. Лангером и другими коротких комических сценок, которые разыгрывались в ходе «предвыборной кампании», и изданные в 1912 году два сборника рассказов, получится внушительная картина.
Произведения Гашека этих лет — свидетельство его непосредственного участия в политической и общественной борьбе своего времени и прежде всего — во все крепнущем движении передовых демократических сил Чехии.
В этом отношении Гашек продолжил традиции, начатые старшим поколением передовых чешских писателей 90-х годов XIX века — П. Безручем, Й.-С. Махаром, С.-К. Нейманом — и подхваченные в начале нового столетия как молодыми литераторами анархистского толка (Ф. Шрамеком, Ф. Гельнером и др.), так и рабочей печатью.
Публикуемые в социал-демократической прессе стихи Франи Шрамека (вошедшие позднее в сборник «Синий и красный», 1906) стали боевым знаменем молодых сатириков девятисотых годов. Стихи и рисунки Ф. Гельнера, рассказы Гашека и Ольбрахта, карикатуры, стихи, сценки, анекдоты рабочих авторов придавали социал-демократической сатирической печати боевой, наступательный характер, который никак не вязался с оппортунистическими позициями ее вождей.
Особенно большой успех имели рассказы о Швейке. Образ бравого солдата Швейка явился гениальным художественным открытием Гашека, хотя стиль действий Швейка — саботаж под маской абсолютной лояльности — был обычным для персонажей произведений сатирической рабочей печати; простачок-хитрец выступал как прямой потомок героя уличных кукольных представлений Кашпарека, которому благодаря его псевдолояльности удавалось обманывать бдительность австрийских властей и выставлять их в смешном виде. Персонажи, близкие Швейку, есть в стихах и карикатурах Гельнера, у Ф. Шрамека (стих. «Приветствие») и у Ольбрахта («История Эмануэля Умаченого», 1909). Образ Швейка сам «просился» в литературу. Ташек не выдумал его, а, можно сказать, взял из жизни.
Образ сельского простачка-хитреца встречается и в ранних рассказах Гашека. Но только в Швейке писатель нашел наиболее яркое и убедительное воплощение этого типа, придав ему острое сатирическое звучание. Солдат, жаждущий служить государю императору до последнего вздоха, позволяет вскрыть идиотизм всей военной машины Австрии. А мотив неуязвимости Швейка связывает этот образ с традиционными героями фольклора (Гонза, Кашпарек).
Немало гражданского мужества понадобилось Гашеку при создании сатирических произведений, направленных против другого мощного оплота австрийской монархии — католической церкви.
Великолепный знаток церковных обрядов и служб, церковных книг и закулисной стороны жизни церковных служителей и монахов, Гашек считался среди молодых литераторов даже своего рода «специалистом» по борьбе с клерикалами.
А борьба была нелегкой. Приспосабливаясь к меняющейся социальной и политической обстановке в стране, существенно изменился и чешский клерикализм: происходило все более явное сближение церкви с государственным аппаратом, в особенности с его карательными органами; в ответ на рост рабочего движения и распространение идей социализма среди рабочих церковью было основано христианско-социалистическое движение; в невиданных ранее масштабах расширилась сеть католической прессы. Католическая реакция шла в наступление.
Гашеку удалось уловить эти новые качества чешского клерикализма и соответственно подготовить свои сатирические «контрудары».
Наряду с традиционными, написанными в бытовом реалистическом плане рассказами, обличающими пороки духовенства, Гашек создал и ряд фантастических сатирических сказочек, убедительно рисующих связь церкви с полицейским аппаратом государства («Случай у райских ворот», «Происшествие в аду»).
Своего героя — маленького человека — Гашек сталкивает со слепой и бездушной государственной машиной. В ее тисках гибнет торговец Вачкарж, который не может доказать, что он — это он («Торжество справедливости»), должен погибнуть человек вместо «провинившегося перед законом» кота («Несчастный случай с котом») и т. п.
В маленьких (два-три журнальных столбца) рассказах Гашек в гротескных образах раскрывает трагичный по своей сущности процесс расчеловечивания человека: попав в жернова государственной машины, маленький человек становится беспомощной жертвой (торговец Вачкарж, Франтишек Махулка), носители же государственной власти превращаются в тупое, немыслящее орудие этой власти (Штепан Брых, цензор Свобода).
В откровенно фельетонной манере написаны Гашеком произведения о деятельности тогдашних политических партий Чехии («Как я выбыл из национально-социальной партии», «Христианско-социалистическая партия в общих чертах», «Съезд младочешской рабочей партии»), никчемных «слугах народа», — депутатах и министрах, представителях буржуазной прессы.
Годы 1909–1912 стали временем становления политической сатиры Гашека, необычайно сильной в своей критической части, но нередко несущей на себе отпечаток не изжитого до конца анархизма. Сила и слабость Гашека-сатирика отражали силу и слабость чешской предвоенной литературы, силу и слабость всего прогрессивного лагеря Чехии того времени.
Несмотря на отсутствие у Гашека в предвоенные годы четкой политической платформы, критика порядков в стране и правительства велась им с демократических позиций, именно в эти годы он сблизился с рабочим читателем, эта близость определила социальную направленность его очерков (напр., «Куда поехать на дачу» и др.).
Во второй том Собрания сочинений Я. Гашека вошли произведения, публиковавшиеся в чешских журналах, газетах и календарях в 1909–1912 годы.
В 1912 году вышли два сборника рассказов писателя: «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории» и «Хлопоты пана Тенкрата» В 1924–1929 годах под редакцией А. Доленского было издано первое Собрание сочинений Гашека (1–16 тома), представившее значительную часть творческого наследия писателя.
Чешскими исследователями творчества Гашека (Зд. Анчиком, Р. Пытликом, М. Янковичем) была проделана огромная работа по выявлению и учету публиковавшихся в пражской и провинциальной печати произведений писателя. Результатом этой работы явилось издание полного шестнадцатитомного Собрания сочинений (1955–1973), включившего в себя все обнаруженные рассказы и фельетоны Гашека.
По тексту этого издания сделаны новые переводы для настоящего тома и сверены переводы прежних лет:
Črty, povídky a humoresky z cest, (Sv. 1), SNKL, Praha, 1955.
Loupežný vrah před soudem, (Sv. 2), SNKL, Praha, 1958.
Dědictvi po panu Safrankovi, (Sv. 3), Československý spisovatel, Praha, 1961.
Zrádce národa v Chotěboři, (Sv. 4), Československý spisovatel, Praha, 1962.
Fialový hrom, (Sv. 5), SNKL, Praha, 1958.
Utrpení pana Tenkráta, (Sv 6), Československý spisovatel, Praha, 1961.
O dětech a zviřatkach, (Sv. 7), SNKL, Praha, 1960.
Galerie karikatur, (Sv. 8), Československý spisovatel, Praha, 1964.
Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky, (Sv 10), SNKL, Praha, 1957.
Májové výkřiky, (Sv. 11), Československý spisovatel, Praha, 1972.
Многие свои произведения, особенно политические памфлеты, Гашек подписывал псевдонимами; в 1909–1912 годах он часто использовал псевдонимы Антонин Кочка, Йозеф Пексидер, Леопольд Чижек, а иногда просто брал для этого имена своих друзей — например, Ян Чулен, Эдуард Дробилек и др. (Всего известно около ста его псевдонимов.)
Некоторые рассказы, вошедшие в настоящий том, были известны советскому читателю еще в конце 20-х и в 30-е годы (многие из них переиздаются в наст, томе), большинство же было издано в 50–70-е годы в сборниках избранных произведений писателя: «Рассказы. Фельетоны», ГИХЛ, 1955; «Рассказы и фельетоны», Гослитиздат, 1960; «Крестный ход», Политиздат, 1964; «Марафонский бег», «Молодая гвардия», 1973; «Фиолетовый гром», «Детская литература», 1974; и др., в Собрании сочинений Гашека в 5-ти томах, «Правда», 1966. Несколько рассказов публикуются в новых переводах, около тридцати переводятся на русский язык впервые.
1909–1910
О святом Гильдульфе. — Напечатан в Календаре социал-демократической партии в Австрии («Дельницки календарж»), 1909.
Нравоучительный рассказ. — «Карикатуры», 21.1.1909.
Стр. 11. …последнее несчастье в Италии… — Речь идет о землетрясении в Мессине в 1908 г., когда был совершенно разрушен город (осталось около 9 % зданий) и погибло около 84 тысяч человек.
Клятва Михи Гамо. — «Беседы лиду», 22.1–5.2.1909.
Стр. 13. Железная столица — Надьканижа, центр железнорудного бассейна.
Стр. 21. Жупа — административная единица в Австро-Венгрии на территории Сербии, Хорватии и Словакии. Гайдуки — здесь: деревенские стражники.
Стр. 22. Дольные земли (Нижние земли) — южные области Словакии в Австро-Венгрии.
Об одной ужасной собаке. — «Свет звиржат», 15.2.1909.
Стр. 36. «Богема» Мюрже. — Речь идет о романе французского писателя Анри Мюрже (1822–1861) «Сцены из жизни богемы» (1851), послужившем основой для оперы Дж. Пуччини «Богема».
Антигосударственный заговор в Хорватии. — «Карикатуры», 18.3.1909.
Хорватия с 1526 г. находилась под властью Габсбургов (с 1868 г. — часть владений венгерской короны). Верховным правителем Хорватии был венгерский наместник — бан. Неоднократные вспышки национально-освободительных выступлений славянского населения жестоко подавлялись.
Рассказ Гашека — отклик на сфабрикованный властями провокационный Загребский процесс 1909 г.
Стр. 38. Раух Павел (1885–1930) — в 1908–1910 гг. хорватский бан, инициатор Загребского процесса.
Стр. 41. «Сокол» — чешская спортивно-патриотическая организация, основанная М. Тыршем в 1861 г.; сокольское движение получило распространение у других славянских народов Австрийской империи.
Стр. 42. Сербия — с 1882 г. независимое королевство.
Юный император и кошка. — «Карикатуры», 29.4.1909.
В старой лавке москательных и аптекарских товаров. — «Весела Прага», май 1909 — февраль 1910.
Первое мая советника Мацковика. — «Гумористицке листы», 14.5.1909.
Стр. 75. «Май — пора любви». — Перефразировка строки из поэмы «Май» чешского поэта-романтика К.-Г. Махи (1810–1836).
Животные и чудеса. — «Карикатуры», 27.5.1909.
Стр. 76. «Чех» (1869–1932) — главный печатный орган чешских клерикалов, известный своей травлей деятелей рабочего движения.
Ослик Гуат. — «Свет звиржат», 15.6.1909.
По долгу службы. — «Карикатуры», 27.7.1909.
Стр. 84. Марианская конгрегация — религиозная организация, созданная католической церковью для распространения своего влияния; кроме духовных лиц в нее входили и миряне.
Стр. 86. Лурд — город на юге Франции, место паломничества верующих.
Случай у райских ворот. — «Карикатуры», 5.8.1909.
Как мой друг Ключка рисовал святую Аполену. — «Весела Прага», 1.9.1909.
Д-р Карел Крамарж. — «Карикатуры», 4.10.1909.
Карел Крамарж (1860–1937) — чешский буржуазный политик и промышленник, глава младочешской партии (партии свободомыслящих, возникла в 1874 г., отколовшись от партии старочехов).
Стр. 96. Эпоха Баха, или «баховский абсолютизм» — период реакции в Чехии, наступивший после разгрома революции 1848 г. (1852–1860); назван по имени австрийского министра внутренних дел А. Баха (1813–1893). Малая Страна — район в Праге. Корпорация буршей — («Буршеншафт») — здесь: объединение немецких шовинистически настроенных студентов.
Стр. 97. «Час» («Время») — здесь: орган реалистической партии, выходил в 1887–1915 и 1920–1923 годах. Реалистическая или чешская народная партия, созданная в 1900 г. Т. Г. Масариком (1850–1937), выражала интересы чешской либеральной буржуазии и буржуазной интеллигенции, в 1905 г. переименована в Чешскую прогрессивную партию.
Стр. 98. «Народни листы» — с 1874 г. орган младочешской партии. «Ден» («День») — также младочешская газета, издававшаяся Л. Клумпаром, депутатом рейхсрата от младочехов.
Сеанс спиритизма. — «Карикатуры», 4.10.1909.
Фуражка пехотинца Трунца. — «Карикатуры», 12.10.1909.
При публикации часть текста была изъята цензурой, позже текст был восстановлен по сохранившимся в архивах редакции оттискам.
Съезд младочешской рабочей партии. — «Карикатуры», 26.11.1909.
В демагогических целях, для привлечения симпатий рабочих, буржуазная партия младочехов нередко именовала себя и рабочей.
Стр. 108. Виноградский бургомистр Вишек. — Вишек Йозеф — владелец мастерской по обработке камня. Сисова (Зюссова) Милослава (1887–1947) — младочешская журналистка. Социал-демократ. — Чешская социал-демократическая партия была основана в 1878 г. на нелегальном съезде в пригороде Праги Бржевнове. В конце 80-х годов стала частью вновь созданной австрийской социал-демократической партии. К концу 90-х годов деятельность ее лидеров приобретает все более реформистский, оппортунистический характер.
Стр. 110. «Народ» («Нация») — еженедельник младочешской партии, созданный для проведения антисоциалистической агитации среди рабочих; выходила с 1908 г. Бу-Гамара — предводитель марокканских племен, восставших против султана Абд-эль-Азиза, помогавшего французским оккупантам. В сентябре 1909 г. был схвачен и брошен в клетку к львам.
Д-р юриспруденции Йозеф Мысливец. — «Карикатуры», 2.11.1909.
Стр. 111. Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) — английский буржуазный историк, публицист и политический деятель.
Стр. 112. «Кршиж» («Крест»), «Мария» — католические журналы.
Стр. 113. Фома Кемпийский (1379–1471) — средневековый писатель-богослов, автор ряда религиозных трактатов, проповедующих смирение и аскетизм.
Стр. 114. Вацлав Пршемысл (ум: ок. 935/6) — чешский князь, способствовал распространению в Чехии христианства, за что был причислен церковью к лику святых; считался покровителем Чехии.
Министры д-р Жачек и д-р Браф. — «Карикатуры», 2.11.1909.
Браф Альбин (1851–1912) — чешский политик, член старочешской буржуазной партии, в 1909-м и 1911–1912 годы — министр сельского хозяйства.
Стр. 115. «Пражске уржедни новины» — правительственная газета, выходившая на чешском языке.
Стр. 117. Бинерт Рихард (1863–1918) — австрийский государственный деятель, с 1908-го по 1911 год — премьер-министр. Бинерт не смог примирить враждующие парламентские партии, борьба которых отражала острые национальные противоречия в стране; из-за оппозиции его пронемецкой ориентации со стороны депутатов от славянских народов вынужден был подать в отставку.
Удивительное происшествие с Франтишеком Махулкой, практикантом магистрата. — «Карикатуры», 15.11.1909.
Стр. 120. Диурнист — писарь, работающий в канцелярии за поденную плату.
Король Румынии отправляется на медведей. — «Карикатуры», 29.11.1909.
Приключения школьного инспектора Калоуса. — «Карикатуры», 7.12.1909.
По следам убийцы. — «Карикатуры», 13.12.1909.
Амстердамский торговец человечиной. — «Карикатуры», 13.12.1909.
Сочельник в приюте. — «Карикатуры», 23.12.1909.
Акционерная фабрика по производству яиц. — «Свет звиржат», 7.1.1910.
Стр. 146. Партия Кошута — «партия независимости», партия либеральной буржуазии, возглавляемая Ф. Кошутом (1841–1914).
Стр. 148. Хольд — 0,75 га.
Спасен. — «Карикатуры», 5.1.1910.
Пепичек Новый рассказывает про обручение своей сестры. — «Карикатуры», 5.1.1910.
Неприличные календари. — «Карикатуры», 11.1.1910.
Стр. 155. Австрийский Катон (Катон Старший, Марк Порций; 234–149 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, его имя стало символом непримиримости к любым нарушениям законов морали. Тройственный союз — военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии и Италии (1882 г.). Триест — крупный торговый порт на северо-востоке Италии. Триент (в настоящее время Тренто) — город на севере Италии. Выгодное географическое положение этих городов на пересечении торговых путей и довольно развитая промышленность делали их постоянными объектами конфликтов между различными государствами. По Сен-Жерменскому договору 1919 г. оба города отошли к Италии. Новая Кустоца. — В битве у Кустоцы (Ломбардия) 24 июня 1866 г. во время австро-итальянской войны, австрийские войска нанесли решительное поражение итальянской армии.
Его превосходительству кавалеру Билиньскому, министру финансов. — «Карикатуры», 18.1.1910.
Билиньский Леон (4846–4922) — министр финансов Австро-Венгрии в кабинете Бинерта (ноябрь 1908 — июнь 1911).
Камень жизни. — «Карикатуры», 24.1.1910.
Семейная драма. — «Карикатуры», 31.1.1910.
Судебный процесс по делу Хама, сына Ноя. — «Карикатуры», 22.2.1910.
Дачицкая история. — «Летем светем», март — октябрь 1910.
Стр. 194. Черное и желтое. — Имеются в виду его верноподданнические чувства (черный и желтый — цвета флага австрийской империи).
Первое апреля пана Фабианека. — «Свет звиржат», 1.4.1910.
Стр. 207. Ольшаны — Ольшанское кладбище в Праге.
В Гавличковых садах. — «Весела Прага», апрель 1910.
Стр. 210. «У Флеков» — старинная пражская пивная, упоминаемая уже в документах XV в.; славится своим знаменитым черным «флековским» пивом.
Стр. 212. Новый Риграк. — Ригеровы сады расположены в восточной части Праги, на стыке районов Жижков и Краловске Винограды (в наст, время — Винограды). Виндишгрец Альфред (1787–1862) — австрийский фельдмаршал, командовавший армией Габсбургов, подавлявшей революцию 1848–1849 гг. в Австрии, Чехии, Венгрии.
Стр. 215. Градчаны — район Праги, где расположен Пражский кремль — Град.
Монастырь в Бецкове. — «Карикатуры». 5.4.1910.
Стр. 217. Куманы — так в Западной Европе называли половцев — кочевые племена, появившиеся там в XI в.
Стр. 219. Нанония — владения, принадлежащие капитулу — совету при. епископе по управлению епархией.
На разведку. — «Карикатуры», 20.6.1910.
Стр. 220. …до поездки государя по вновь приобретенным территориям… — Речь идет о Боснии и Герцеговине, аннексированных Австро-Венгрией в октябре 1908 г. Бей — в странах Ближнего и Среднего Востока — титул родоплеменной, а затем феодальной знати; в султанской Турции — титул высших офицеров и чиновников.
Фонд пана Каубле на благотворительные цели. — «Карикатуры», 26.7.1910.
Бунт братьев Безкочек в 1901 году. — «Весела Прага», 1.8.1910.
Стр. 230. Радецкий (Йозеф Радецкий; 1766–1858) — австрийский фельдмаршал, подавлял революцию 1848–1849 гг. в Италии; разбил итальянские войска при Кустоце.
На родине. — «Карикатуры», 15.8.1910.
Солитер княгини. — «Карикатуры», 29.8.1910.
«Пражске уржедни новины». — «Карикатуры», 12.9.1910.
Как у нас варили картофельный суп для бедных детей. — «Карикатуры», 12.9.1910.
Забастовка преступников. — «Копршивы», 29.9.1910.
Стр. 250. «Право лиду» (1893–1948 гг.) центральный орган чешской социал-демократической партии. «Зарже» («Заря») (1897–1904 гг.) — социал-демократический журнал, выходил три раза в месяц «Копршивы» — социал-демократический сатирический еженедельный журнал, выходивший с 1909 г. Перед первой мировой войной в нем сотрудничали крупнейшие чешские писатели: М. Майерова, И. Ольбрахт, Й.-С. Махар, Я. Гашек, братья Карел и Йозеф Чапеки.
Стр. 251. Национально-социальная партия — буржуазная партия, основанная в 1897 г. по инициативе младочехов, стремившихся подчинить своему влиянию рабочие массы, демагогически использовавших для этой цели социалистическую терминологию. Возглавлял партию В. Я. Клофач (1868–1942).
Стр. 252. Аграрник — член аграрной партии, образовавшейся в Чехии в 1899 г., партия крупной и средней сельской буржуазии.
Финансовый кризис. — «Карикатуры», 10.10.1910.
Стр. 254. Альпине-Монтан — крупное монополистическое объединение, сосредоточивавшее в своих руках значительную часть горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности Австрии. Бедржиховские заводы — сталелитейные заводы в Моравии. Зброевка — здесь: военный завод в Брно.
Стр. 256. Заводы… Кольбена — крупный завод электротехнического акционерного общества в Праге.
Проблема любви. — «Карикатуры», 24.10.1910.
Трагическое фиаско певицы Карневаль. — «Копршивы», 27.10.1910.
Падение кабинета Винерта. — «Карикатуры», 31.12.1910.
Стр. 264. …поляки… о водных путях… — Речь идет о сооружении канала между Дунаем и Одером, проект которого был принят в парламенте в 1901 г. В 1911 г. верхняя палата отклонила статью расходов на строительство канала. Польский клуб (объединяющий депутатов всех представленных в парламенте партий) продолжал настаивать на утверждении этой статьи. Парламентские споры о канале Дунай — Одер были одной из причин падения кабинета Бинерта. Гломбиньский Станислав (1862–1943) — польский экономист и политик, один из организаторов польской национал-демократической партии в Галиции и первый ее председатель. В 1902–1918 гг. — депутат австрийского парламента, в 1911 г, — австрийский министр железных дорог.
1911
Смерть старого Фенека. — «Летем светем», 1.1.1911.
Стр. 266. Праздник… святого Иштвана. — Иштван I, Святой, Арпад (ок. 970–1038) — первый король Венгерского королевства, ввел в Венгрии христианство (977 г.); причислен католической церковью к лику святых; день святого Иштвана (Стефана) — 20 августа.
Стр. 268. Красно-бело-зеленые флаги — здесь: венгерские национальные флаги.
Дело государственной важности. — «Копршивы», 5.1.1911.
Стр. 270. Князь Оксенгаузенский. — Оксенгаузен — бывшее свободное имперское аббатство в Германии близ Вюртемберга. Гашека, несомненно, привлекла возможность использовать в сатирических целях смысловое значение этого названия («ochse» по-немецки «вол», в переносном значении — «дурак»).
Стр. 271. …после Турции и Португалии пришел черед княжества Оксенгаузен… — 27 апреля 1909 г. Национальное собрание Турции низложило султана Абдул-Хамида; в Португалии 1 февраля 1908 г. был убит вместе с наследным принцем король Карлуш. Об этом событии Гашек упоминает в письме своей невесте Ярмиле Майеровой от 2 февраля 1908 г.: «Посылаю тебе последний номер «Светозора» с моей американской юмореской и сообщением об убийстве португальских тиранов».
Заседание верхней палаты. — «Карикатуры», 9.1.1911.
Верхняя палата австрийского Имперского совета (рейхсрата состояла из принцев крови, князей церкви, высшего дворянства, а также членов, пожизненно назначаемых императором «за оказанные церкви и государству услуги».
Стр. 274. Виндишгрец Альфред (1851–1927) — президент верхней палаты австрийского Имперского совета (1897–1918 гг.), внук фельдмаршала Виндишгреца — душителя революции 1848 г.
Доисторическая обезьяна. — «Гумористицке листы», 24.1.1911.
Мятеж в австрийском флоте. — «Карикатуры», 24.1.1911.
Стр. 280. …в Португалии переворот. — Речь идет о буржуазной революции в Португалии, в результате которой король Мануэль II (1889–1932) бежал в Англию, а в Португалии была провозглашена республика (5 октября 1910 г.). …в Бразилии… поднять мятеж. — Имеется в виду восстание матросов бразильских военных кораблей 23 октября 1910 г. …австрийские мореплаватели открыли… Шпицберген и Землю Франца-Иосифа. — Шпицберген открыт ь XV в. русскими поморами, назвавшими его «Грумант». В 1596 г. произошло так называемое вторичное его открытие голландским мореплавателем В. Баренцем. Австрийская экспедиция попала на Шпицберген лишь в 1871 г. Земля Франца-Иосифа была открыта в 1873 г. австро-венгерской экспедицией, возглавляемой К. Вайпрехтом и Ю. Пайером.
Пятидесятилетний юбилей газеты «Народни листы». — «Карикатуры», 30.1.1911.
Стр. 284. Кочи Бедржих (1869–1955) — чешский издатель; в 1910–1915 гг. директор газеты «Народни листы».
Стр. 286. «Ческе слово» («Чешское слово») — орган национально-социальной партии.
Несчастный гондольер Витторе. — «Весела Прага», 1. 2.1911.
В рассказе отражены впечатления Гашека от странствований по Италии.
Смерть Сатаны. — «Копршивы», 2.3.1911.
Стр. 294. Монахиня 3-го ордена святого ФранцискаРечь идет о «тертиариях» — направлении внутри ордена францисканцев; тертиарии жили «в миру», обязуясь соблюдать определенные религиозные и нравственные правила.
Происшествие в аду. — «Карикатуры», 13.3.1911.
Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове. — «Карикатуры», 21.3.1911.
Стр. 299. Католическо-национальная партия — партия воинствующего клерикализма, выделилась из национальной партии (старочехов) в 1898 г.
Триумфальный въезд бухарского эмира. — «Карикатуры», 27.3.1911.
Рассказ был запрещен австрийской цензурой, поскольку в нем «осмеивается почитание Его Величества и царствующего императорского дома», и напечатан лишь во втором чешском издании Собрания сочинений Гашека по сохранившемуся в Центральном государственном архиве оттиску.
Дредноуты. — «Карикатуры», 27.3.1911.
Как пан Мазуха мстил за поруганную супружескую честь. — «Гумористицке листы», 14.4.1911.
Наследство Шафранека. — «Карикатуры», 24.4.1911.
Анонимное письмо. — «Карикатуры», 24.4.1911.
Стр. 311. Князь Фридрих, властитель Вальдецкого княжества. — Вальдек — небольшое княжество в средней Германии; князь Фридрих правил им с 1893-го по 1918 год.
Сердечное поздравление к именинам. — «Добра копа», 5.5.1911.
Служебное рвение Штепана Брыха, сборщика налогов на пражском мосту. — «Гумористицке листы», 22.5.1911.
Торжество справедливости. — «Карикатуры», 22.5.1911.
Стр. 320. Ломброзо Чезаре (1835–1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазной криминологии, выдвинул антинаучное положение о биологической предрасположенности к преступлениям.
Исповедь государственного изменника, или Тайна Петршинского бастиона. — «Карикатуры», 5.6.1911.
Стр. 323. Петршин, Страгов — холмы в Праге.
Стр. 325. «Трибуна» — итальянская газета. Небозизек — парк на склоне Петршина, бывший королевский заповедник.
Добросовестный цензор Свобода. — «Карикатуры», 19.6.1911.
Стр. 326. «Delirium confiscationicum canonicum» — «конфискационное бешенство». Придуманное Гашеком ироническое «научное» определение «болезни» австрийской цензуры, пытавшейся запрещениями и конфискациями прекратить распространение национально-освободительных а революционных идей.
Чаган-Куренский рассказ. — «Копршивы», 22.6.1911.
Несчастный случай с котом. — «Гумористицке листы», 23.6.1911.
Непоколебимый католик дедушка Шафлер в день выборов. — «Карикатуры», 3.7.1911.
Стр. 335. Христианские социалисты — члены чешской христианско-социалистической партии, возникшей в 1904 г.
Стр. 337. Ян Непомуцкий — католический святой, культ которого усиленно насаждался католической церковью.
Христианско-социалистическая партия в общих чертах. — «Карикатуры», 17.7.1911.
Стр. 340–341. «Власт», «Меч», «Чех», «Мир» — католические газеты и журналы.
Стр. 341. Санаторий доктора Шимсы — сумасшедший дом в Праге. «Политика» («Народни политика» — «Национальная политика») — газета консервативного направления, выходившая в Праге.
Сказка свечной бабы Альбрехтовой… — «Карикатуры», 11.7.1911.
БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК
Цикл юморесок о бравом солдате Швейке, написанный в 1911 г., занимает важное место в творчестве Гашека.
В бумагах, оставшихся после первой жены Гашека Ярмилы, сохранилось ее воспоминание о том, как возник у писателя замысел этого образа.
Ярмила Гашекова рассказывает: «Однажды весной Гашек, поздно вернувшись домой, сел на кухне к столу и попросил: «Дай мне бумагу, я хочу кое-что записать. Мне пришла в голову такая мысль, такая мысль…»
Я дала ему бумаги, он начал писать. Написал заголовок «Идиот в воинской части» и уснул с пером в руке.
На другой день, едва проснувшись, он сказал: «Вчера у меня появилась блестящая идея. Не знаю, что это было. Если бы только вспомнить!»
Найдя листок с заголовком «Идиот в воинской части», он обрадовался: «Да, это то самое! Но что дальше?»
Меня это очень удивило и запомнилось, потому что Гашек никогда раньше не размышлял таким образом о своих рассказах. Позже он написал рассказ «Бравый солдат Швейк».
Это была первая юмореска будущего цикла о Швейке — «Поход Швейка против Италии» («Карикатуры», 22.5.1911).
Там же были напечатаны и последовавшие за ней «Швейк закупает церковное вино» («Карикатуры», 19.6.1911) и «Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке» («Карикатуры», 17.7.1911).
Две заключительные юморески — «Бравый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином» и «Бравый солдат Швейк в воздушном флоте» — были помещены в журнале «Добра копа» (21, 28.7.1911).
Весь цикл вошел в первый сборник рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории» (1912).
По словам Гашека, этот сборник открыл ему дорогу в книжные издательства.
Стр. 346. Кадет — здесь: кандидат на должность офицера в австро-венгерской армии.
Стр. 353. Русины — так называли тогда жителей Закарпатья, украинцев.
«Счастливый домашний очаг». — «Карикатуры», 14.8.1911; полностью — «Веселы календарж образковы на 1912 г.».
Немецкие астрономы. — «Гумористицке листы», 25.8.1911.
Стр. 403. «Германия превыше всего». — Строка из немецкого шовинистического гимна.
Когда сносили старые стены. — «Карикатуры», 19.9.1911.
Способ господина полицмейстера. — «Копршивы», 28.9.1911.
Стр. 411. Панкрац — тюрьма в Праге.
Роман пана Хохолки, сборщика пошлины. — «Карикатуры», 30.10.1911.
Сватовство в нашей семье. — «Весела Прага», ноябрь 1911.
Интервью со связанным офицером. — «Карикатуры», 13.11.1911.
Рассказ написан Гашеком на основании подлинного события, о котором, в частности, сообщала газета «Ческе слово» в нескольких номерах в конце 1911 г. Не исключено, что эти заметки написаны также Гашеком. Цензура изъяла ряд мест, содержащих «оскорбление офицерского состава армии»; восстановить изъятое не удалось.
Как уездный начальник, пан Скршиванек, боролся с дороговизной. — «Добра копа», 25.11.1911.
Печальная участь вокзальной миссии. — «Карикатуры», 27.11.1911.
Стр. 430. Гауч фон Франкентурн Пауль (1851–1918) — австрийский государственный деятель, в 1897–1898, 1905–1906 и в 1911 г. — премьер-министр..
Стр. 431. Гаек-Домажлицкий Ладислав (1884–1943) — чешский журналист и писатель, друг Я. Гашека; написал книгу «Из моих воспоминаний о Ярославе Гашеке, авторе «Бравого солдата Швейка» и превосходном юмористе» (Прага, 1925). 1.X.1911 г. Гаек написал некролог о Фуксе, издателе «Света звиржат»; после смерти Фукса Гаек издавал этот журнал.
1912
Заметки пани Едличковой о моде. — «Веселы календарж образковы» на 1912 г.
Стр. 433. Барак и Грегр. — Речь, очевидно, идет о младочешских журналистах, Йозефе Бараке (1833–1883) и Юлиусе Грегре (1831–1896), издателе «Народних листов», подвергавшихся преследованию властей.
Мой золотой дедушка. — Альманах «Монмартр», 1912.
Стр. 436. Карлштейн — чешский замок (XIV в.) неподалеку от Праги, основан Карлом IV.
Стр. 437. Кралицкая библия — чешский перевод Библии, изданной в XVI в. в Кралицах.
Сказка о трагической судьбе одного порядочного министра. — «Копршивы», 1.2.1912.
Наказание с тетей. — «Весела Прага», март, 1912.
Преступная авантюра пана Тевлина. — «Весела Прага», март 1912.
Сыщик Гупфельд. — «Карикатуры», 12.3.1912.
Как я выбыл из национально-социальной партии. — «Копршивы», 14.3.1912.
Стр. 452. Д-р Гюбшман Отакар — адвокат и депутат парламента от национально-социальной партии.
Стр. 453. «Золотой гусь» («Злата гуса») — гостиница и ресторан на Вацлавской площади в Праге, резиденция руководства национально-социальной партии.
Упоминающиеся в рассказе персонажи — деятели партии; Симонидес — один из редакторов газеты «Ческе слово».
Стр. 456. Мартиниц и Славата. — Ярослав Боржита из Мартиниц и Вилем Славата из Хлума — чешские дворяне, королевские советники, предавшие свой народ во время Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), за что восставшими чешскими дворянами были выброшены из окон Пражского Града.
Хозяйственные реформы баронов Клейнгампла. — «Весела Прага», март, 1912.
Солнечное затмение. — «Добра копа», 26.4.1912.
Стр. 461. Фламмарион Камиль (1842–1925) — французский астроном, автор ряда научно-популярных книг по астрономии, метеорологии и физике.
Заседание сельского правления в Мейдловарах. — «Весела Прага», 1.5.1912.
Сословное различие. — «Весела Прага», май, 1912.
Краткое содержание уголовного романа. — «Весела Прага», май, 1912.
Пособие неимущим литераторам. — «Право лиду», 22.5.1912.
Конец святого Юро. — «Карикатуры», 20.5.1912.
«Любовь, любовь, ты всемогуща…» — «Весела Прага», июнь, 1912.
Стр. 480. Ружена Есенская (1863–1940) — чешская писательница. Последница (полевая русалка) — образ чешской мифологии.
Сыщик Паточка. — «Весела Прага», июнь, 1912.
Судебный исполнитель Янчар. — «Карикатуры», 17.6.1912.
Исповедь старого холостяка. — «Весела Прага», июль — декабрь, 1912.
Стр. 499. Либуше — легендарная чешская княгиня, по преданию обладала даром провидения и предсказала великое будущее Праге.
Куда поехать на дачу. — «Право лиду», 2.7.1912.
Отцовские радости пана Мотейзлика. — «Гумористицке листы», 2.8.1912.
Продолжение отцовских радостей пана Мотейзлика. — «Гумористицке листы», 30.8.1912.
Стр. 517. «Гугеноты» (1835) — опера Дж. Мейербера (1791–1864).
Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки. — «Карикатуры», 7.10.1912.
Святотатец в Хотеборжи. — 10.10.1912.
Стр. 521…чешский народ в 1368 году… — Имеется в виду широкое национальное движение чешского населения против создания двуединого государства Австро-Венгрии (1867 г.). На таборах 1868 г. выдвигались главным образом требования национального равноправия. Райс Карел Вацлав (1859–1926) — чешский писатель; герои многих его произведений — жители глухой провинции. «Гей, славяне» (1838) — песня на слова словацкого поэта С. Томашика (1813–1887), ставшая славянским гимном.
Стр. 522. Жижка Ян из Троцнова (ок. 1360–1424) — выдающийся чешский полководец и политический деятель эпохи гуситских войн, национальный герой чешского народа. «Кто вы, божьи воины?» (1420) — гуситский гимн, исполнявшийся перед сражениями.
Сербский поп Богумиров и коза муллы Исрима. — Первое Собрание сочинений Гашека, т. XV (1924–1929).
Пятнадцатый номер. — «Право лиду», 3.11.1912.
Деяния современного дипломата. — «Карикатуры», 23.12.1912.
Роман о ньюфаундленде Оглу. — «Гумористицке листы», 27.12.1912.
С. Востокова
Фотографии




Примечания
1
Святой Гильдульф, молись за нас! (нем., лат.).
(обратно)
2
Мурский округ, Помурье, по-венгерски Муракёз или Муравидек — территория у реки Муры, населенная венгерскими вендами. На западе граничит со Штирией, на севере с Железной столицей, на юге с Хорватией, где река Драва составляет ее естественную границу. (Примеч. автора.)
(обратно)
3
Добрый день (хорватскосербск.).
(обратно)
4
с божьей помощью (хорватскосербск.).
(обратно)
5
Во имя отца и сына и святого духа (хорватскосербск.).
(обратно)
6
оглашение (хорватскосербск.).
(обратно)
7
Христом богом… (хорватскосербск.).
(обратно)
8
дом (хорватскосербск.).
(обратно)
9
За несколько лет до описываемых нами событий в Венгрии был принят закон о гражданском браке, согласно которому брак должен быть сначала зарегистрирован в государственном учреждении и только после этого, по желанию, производилось венчание. (Примеч. автора.)
(обратно)
10
господь с вами (лат.).
(обратно)
11
Ныне отпущаеши… (лат.).
(обратно)
12
милость (лат.).
(обратно)
13
Живи и давай жить другим.
(обратно)
14
Господи (нем.).
(обратно)
15
золотое сердце (нем.).
(обратно)
16
Да, да, муха (нем.).
(обратно)
17
Ваше здоровье, господа! (лат.)
(обратно)
18
«Бумажные деньги в Австрии» (нем.).
(обратно)
19
право судить (лат.).
(обратно)
20
Разрешите доложить, ничего нового (нем.).
(обратно)
21
конфискован (нем.).
(обратно)
22
Отче наш, иже еси на небесех… (лат.).
(обратно)
23
С позволения сказать! (лат).
(обратно)
24
Конечно, мой друг (нем.).
(обратно)
25
То же самое (лат.).
(обратно)
26
милостивый государь (нем.).
(обратно)
27
с шарманкой, отец для бедняков (нем.).
(обратно)
28
Обращаем внимание читателей на изысканность стиля газеты. (Примеч. автора.)
(обратно)
29
Еще раз просим читателей обратить внимание на красоту стиля. (Примеч. автора.)
(обратно)
30
«Спорт в иллюстрациях» (нем.).
(обратно)
31
«Боснийская почта» (нем.).
(обратно)
32
«Лошади, собаки, птицы, скот. Болезни и лечение». Издание Эльман, сыновья и комп. Слау, Англия (англ.).
(обратно)
33
«человека разумного» (лат.).
(обратно)
34
Пресвятая богородица! (ит.)
(обратно)
35
«Христовы слезы» (лат.).
(обратно)
36
«Смилуйся надо мной, господи, благо велико милосердие твое» (лат.).
(обратно)
37
Вольноопределяющиеся! (нем.).
(обратно)
38
грязная скотина (нем.).
(обратно)
39
и у грязной скотины может быть доброе сердце (нем.).
(обратно)
40
Слушаюсь, господин лейтенант! (нем.).
(обратно)
41
понос (фр.).
(обратно)
42
«Германия превыше всего» (нем.).
(обратно)
43
«Город Дрезден» (нем.).
(обратно)
44
шаровидных (лат.).
(обратно)
45
ваше преподобие (лат.).
(обратно)
46
Гоп, моя девочка, гоп… (нем. диалект.).
(обратно)
47
приседание (нем.).
(обратно)
48
«Нотный магазин» (нем.).
(обратно)