| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Всемирная выставка в Петербурге (fb2)
 - Всемирная выставка в Петербурге 13627K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Марципана Конфитюр
- Всемирная выставка в Петербурге 13627K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Марципана Конфитюр
Марципана Конфитюр
Всемирная выставка в Петербурге
Глава 1, В которой Варя провожает Ольгу Саввишну и внезапно узнаёт чужую тайну.
— Слава Богу, всё! — сказала Варя. — Ну, умаялась! И как вы только, Ольга Саввишна, выдерживаете этакий душегубский режим? Шутка ли: одиннадцать часов без перерыва!
— Я привычная. Раньше тринадцать работали. Это нынче уж царь-батюшка, храни его Господь, послабление такое ввести изволил. А того раньше, случалось, до пятнадцати горбатились. Ничего, небось, не переломимся! Закалка...
— Хотелось бы мне, Ольга Саввишна, в ваши года быть такою же бодрой!
— Бог даст — будешь. Да это не скоро ещё! — Пожилая работница улыбнулась. — У нас сосед рассказывал, через сорок лет уже за людей машины всё будут делать. Только знай — кидай уголь, да ручку крути.
— Ну нет, не дай Бог! Это ж всех нас уволят тогда. Не хочу!
— Не боись, тебя Миша прокормит. Он парень толковый...
Выйдя за проходную бумагопрядильной фабрики, Варя и Ольга Саввишна несколько отстали от основной массы работниц. Ольга Саввишна действительно была ещё очень бодрой и без жалоб выдерживала фабричную смену, но ходила она уже медленно — как-никак шестьдесят пятый год шёл старухе. Варя, работавшая на этой фабрике всего три месяца, старалась брать пример со старшей подруги и угождать ей во всём, так как это была её будущая свекровь. Полгода назад, после смерти барыни, у которой Варя с самого детства была в услужении, она чувствовала себя в совершенном отчаянии и за неимением средств даже всерьёз подумывала о получении жёлтого бланка. О том, чтобы выйти замуж, к тому же не за какого-нибудь старика, а за молодого пригожего петербуржца, она не могла и мечтать. И вот — удача повернулась лицом к Варе! После смены нескольких мест, где либо труд был слишком тяжёлым, либо хозяева слишком злыми, она сумела устроиться на бумагопрядильную фабрику Шлиппенгаузена, а в скором времени поладить там со старейшей работницей Ольгой Саввишной, прийтись ей по душе, через неё познакомиться с её сыном Мишей почти двадцати двух лет от роду, а недавно получить от него предложение руки и сердца! Миша был здоров и трезв, хорош собой, работал на Голодае, на стройке павильонов предстоящей Всемирной выставки — словом, выглядел идеальной партией. Теперь оставалось лишь дождаться окончания Петрова поста, чтобы обвенчаться. За это время, конечно же, надо было быть осторожной, чтобы не разонравиться Мише, а главное — Ольге Саввишне, по-прежнему работавшей с Варей бок о бок и имевшей на сына существенное влияние.

Летний вечер в Петербурге был прохладным. К тому же днём прошёл дождь, который обещал вот-вот возобновиться опять. Ольга Саввишна куталась в шаль. Варя, в модной жакетке «жиго» поверх блузы и в шляпке несмотря ни на что пыталась выглядеть как городская дама и слегка приподнимала юбку каждый раз, когда перешагивала через лужу. Главное в такую погоду было не приближаться чрезмерно к проезжей части, чтобы какой-нибудь слишком лихой извозчик или шоффэр на паромобиле не окатил тебя грязью из лужи. День завтра был рабочий, так что время для стирки ещё не настало: если бы, не дай Бог, Варя перемазала свою юбку и постирала б её сегодня, завтра на работу ей идти было бы не в чем. Нет, она, конечно, не была какой-то нищенкой! На вторую юбку Варя уже почти накопила. То есть, даже уже накопила, если бы речь шла о магазине подержанного платья! Просто к свадьбе хотелось бы уж справить совсем новую, хорошую...
Часть работниц шла к чугунке: станция городской железной дороги «Клейнмихельская» находилась буквально в двуста саженях от проходной. Варе на неё было не надо: она жила здесь же, на Выборгской стороне, в рабочих казармах, до которых было пять минут пешком. Но Ольга Саввишна с Мишей снимали угол в какой-то большой квартире у Обводного канала, возле прошлого места работы обоих, и ехать туда надо было как раз городском паровозом (иногда на французский манер именуемом «метрополитеном»). Демонстрируя подобающую невестке заботу, Варя каждый день провожала теперь Ольгу Саввишну до «Клейнмихельской».
— Мишаня-то мой ночью знаешь, что? — сказала Ольга Савишна, когда эстакада с ведущей к ней кованой лестницей «ар-нуво» и ярким разноцветным теремком билетных касс уже была в их поле зрения. — Тебя ведь ночью звал! Всё: «Варя, Варя!»...
— Правда, что ли? — смутилась польщённая Варя.
— А то ж! Врать не буду! Видишь, любит он тебя! До того уж, видно, любит, что и ночью даже думает...
— Ой, надо же... Как мило...
— Он вообще, знаешь, спит беспокойно. Так что, если ночью закричит вдруг или что, ты не пугайся. Просто приласкай — он успокоится... И вообще, Варюша, ты уж береги его, заботься. Другого такого как он днём с огнём не найдёшь. Я стара уже...
— Ну что вы, Ольга Саввишна! Вон, вы же иных молодых здоровее!
— Да это так кажется... Ладно, пришли уж! Да завтра!

Теперь от эстакады двух работниц отделяла уже только проезжая часть. Обычно Варя не переходила её и прощалась здесь. Как обычно, они обнялись и расцеловалась. Ольга Савишна взглянула на дорогу: мимо неё пролетел рой велосипедисток-бесстыдниц: все в мужских штанах и шляпках, привязанных лентами к головами. За ними последовала пролётка: извозчик остановился около станции и высадил тучного господина, похожего на купца или фабриканта. Между тем, в другую сторону, обогнав пару паромобилей, пронёсся какой-то студентик на автопеде. Издали показалась коляска, окружённая конными казаками.
— Смотри-ка, — заметила Ольга Савишна. —Знать, начальство какое-то едет! Ну, они далеко, я успею.
Она быстро перешла дорогу и оказалась около лестницы на эстакаду как раз в тот момент, как начальственный экипаж с конным патрулём поравнялись с нею и с наблюдающей с тротуара за этим Варей. В тот же момент наверху, возле станционного теремка, раздался гудок, и состав из пяти вагонов, набитый рабочими, двинулся с места. То, что было дальше, Варя потом долго вспоминала, видя это словно в кинематографе, словно замедленно, крупным планом...
В последнем вагоне состава открылось окошко и чья-то рука выбросила оттуда какой-то свёрток.
Секунду спустя вспышка ослепила Варю, грохот ударил её словно молот по голове, незнакомая сила отбросила к близлежащему магазину, ушибла об его стену... Сверху со звоном посыпались стёкла витрины. А когда стекла кончились, гул в голове прекратился, его сменили общий стон и крик десятков голосов. Кричали испуганные обыватели, зовущие подмогу городовые, скакавшие мимо лошади, их извозчики, велосипедисты, шоффэры... И кричали умирающие раненые.
Варя нашла в себе силы подняться. На мостовой, которую только что как ни в чём не бывало пересекла Ольга Саввишна теперь зияла воронка. Остатки коляски начальника были охвачены пламенем: два казака, один вроде здоровый, второй весь в крови, тащили что-то чёрное оттуда. Ещё один казак склонился над лежащим на тротуаре своим товарищем. Очень бледный, щегольски одетый господин с обвязанной ленточкой шляпной коробкой стоял столбом меж раненых и смотрел остекленевшим взглядом в никуда. На вопящих от ужаса раненых лошадей не обращали внимания. И Ольга Саввишна, лежащая у подножия станционной лестницы в растекающейся луже крови, тоже как будто бы никого не интересовала...
Варя мгновенно перебежала через дорогу. Склонилась над свекровью:
— Ольга Саввишна! Вы живы?
Та в ответ застонала.
— Вы ранены! Только, пожалуйста, не умирайте! Вам надо внуков дождаться! Вы слышите!? — затараторила Варя, одновременно пытаясь припомнить, как читают отходной канон. Не факт, что священник успеет добраться, но без него это дозволяется и мирянину... По крайней мере, от «Отче наш» Ольга Саввишне точно уж хуже не будет. — Отче наш, иже еси на небеси...
— Варя! — Перебила её раненая.
— А? Что?
— Варя... — прошептала Ольга Саввишна, бледнея. — Я обязана открыть Мише одну тайну... Никак не решалась сказать... Дура старая... Откладывала... Всё, теперь конец уж... Передай ему, пожалуйста, что он...
Варя наклонилась над свекровью, не замечая того, как её единственная рабочая юбка пропитывается кровью. Она не верила своим ушам...
Глава 2, В которой Мишу сперва постигает неприятность, а потом беда.
В июне световой день долгий, а полностью в столице не темнеет даже ночью. Поэтому когда в девять вечера Миша Коржов со своим напарником Ваней Проскуряковым закончил укладку паркета в будущем Нефтяном павильоне на Голодае, у него возникло ощущение, что день ещё в разгаре, а он будто освободился досрочно и может позволить себе провести ещё пару часов в своё удовольствие.
— Может, на колесе покатаемся? — предложил Миша, имея в виду здоровенное колесо обозрения, установленное по случаю грядущей выставки около строящихся павильонов. — Дядя Яша рабочих бесплатно пускает, пока не открылось. Говорят, оттуда даже Зимний видно...
— Видал я тот Зимний сто раз, — махнул Ваня рукой. — Нет, давай домой, на боковую! Ты, что, не устал? Спать не хочешь?
— Устал, — признал Миша. — А спать я не очень люблю.
— Это как-так?
— Да дрянь часто всякая снится... Знаешь, будто бы пожар кругом, взрывы, стрельба, люди гибнут, а я слабый, маленький, даже бежать не могу...
— Как будто на войне, что ль?
— Ну наверно. Я там не был, я не знаю.
— Я тоже не был. Дед сказывал. Надеюсь, и не придётся! В газете, вон пишут, что в новом столетии люди без войн будут жить...
— Это если англичане в Африке уймутся к новому году. Да если китайцев утихомирят, — заметил не особо уважающий газетные предсказания, но интересующийся мировой обстановкой Михаил.
— Африка с Китаем не считаются, — ответил Проскуряков.
— А! Ну ежели так, то, пожалуй, и правда без войн обойтись может, — не стал спорить Миша. —А что, у тебя таких снов не бывает?
— Про пожар, стрельбу и взрывы? Нет, Бог миловал...
— Ну вот... А мне мать говорит, что у всех так бывает. Жалеет, видать, полоумного...
Миша вспомнил, что накануне, кроме привычных кошмаров, ему снилась Варя, невеста: как будто бы и она тоже с ним вместе попала в эту не то битву, не то просто перестрелку, не то бедствие стихийное. В эти личные подробности он решил Ивана не посвещать: и без того слишком разоткровенничался. Впрочем, Миша частенько делился со знакомыми, полузнакомыми и даже практически незнакомыми людьми подробностями этой своей, как он называл её, «болезни». Хотелось бы встретить товарища по несчастью: ведь не могло же быть так, что подобным недугом из целого миллиарда людей, населявших Землю, страдал лишь один он, Коржов Михаил!.. Но пока что ему не везло.
— Да ладно «полоумный», — сказал Ваня. — У меня вот сосед по казарме сказал, что царя надо свергнуть, а землю и баб сделать общими. Вот полоумный-то кто! А ты что? Ты нормальный. Вон и пол-то как мы ровно положили — прям ни щёлочки нигде! Это же надо: такая работа, такие деньги — и всё только лишь для выставки какой-то...
— Это да, — сказал Миша. — Тут деньги немалые вложены.
Он взглянул на плод своих трудов. Пол и вправду получился на заглядение. Сейчас, в лучах заката, на нём очень интересно отражались витражи, по новой моде украшавшие полукруглые, напоминавшие крылья бабочки, окна Нефтяного павильона. Один витраж изображал нефтеперегонный куб, другой — портрет его знаменитого изобретателя Менделеева, третий — виды Кавказа, четвертый — пейзаж городка в тех краях... Что за город это был, Миша не знал, и про себя именовал его Тифлисом, поскольку других поселений Кавказского края всё равно не мог припомнить. Оставалось только представлять, как великолепно будет выглядеть павильон, когда инженеры наладят здесь ток, и зажгутся электрические свечи в потолке!
— Ну что, по домам? — спросил Ваня.
Миша хотел сказать «да, по домам», но отвлёкся: с улицы послышались какие-то настойчивые, даже можно сказать, злые голоса. Высунувшись в последнее незастекленное окно, Коржов обнаружил идущих по стройке жандармов. Их было с десяток, и шли они быстро, уверенно — в сторону их павильона.
«Неужели на стройке скрывается какой-нибудь политический?» —успел подумать Миша про себя. Через секунду отряд был уже в Нефтяном павильоне.
— Проверка про приказу Министерства! —объявил один из них. —Тайников нет в полу?
— Каких ещё тайников? — обалдел Иван.
— Каких бы то ни было, — пояснил ему старший из синемундирных. — Сами не закладывали?
— Боже упаси! Зачем нам это?
— Ну, проверим. Так, ребята, начинайте!
После этих слов жандармы дружно начали отдирать свежеуложенные паркетные доски. Стамески и гвоздодёры они, как оказалось, принесли с собой.
— Вы что творите?! — Закричал Проскуряков. — С ума сошли?!
— Сказано: проверка! — Буркнул старший. — Велено изучить, не заложена ли где бомба жидами и нигилистами.
— Какими жидами?! Сатрапы! Мы только что пол уложили! — Ваня попытался налететь на предводителя жандармов, но Миша схватил его за рукав и не позволил наделать грозящих тюрьмою делов. — Представляете, сколько работы?!
— Вы тут на то и поставлены, чтобы работать, — ответил жандарм. — А нам от начальства задание дадено. Вам, мужичью, не понять, чай, какая тут важная стройка! На выставке сам Государь будет! Да гости ещё со всех стран! Да ещё изобретатель гениальный наш, который на весь мир всего один! Смутьяны такого повода Его Императорскому Величеству напакостить нипочём не упустят. Может, под паркет засунут бомбу, может, в стену, может в самый потолок даже... У вас тут потолок, как, разбирается?!
— Ничего не разбирается у нас тут! — крикнул Ваня, не переставая с ужасом смотреть, как идёт прахом его работа. — Прекратите сейчас же! Почти всё готово! Да мы из-за вас к сроку не успеем! Эй, Мишка, скажи ему!
— Это ты кончай орать, — сказал жандарм, не дав Коржову вставить слово. — Не то упеку за противодействие. Ты, что, заодно с террористами?!
— Чего?! — Только и сумел выдавить Ваня, поражённый столь абсурдным обвинением.
— Того. Я вас, шельму жидовскую, чую за десять саженей. Полиция царя православного защищает, а вы скандалите. Вон, —жандарм указал на Коржова, — мужик русский нормальный не спорит. Ему всё понятно.
— Ваня не жид и не террорист, — наконец, вставил Миша. — Вы работу нашу портите без толку, и ему это обидно.
Старший жандарм наградил его разочарованным взглядом, но от продолжения дискуссии воздержался. К этому времени его подопечные разломали уже около половины того, что было уложено, тайников на нашли и тем удовлетворились. Правда, в одном месте обнаружилась неровность вроде ямки, ни синемундирные пару минут обсуждали, не место ли это для схрона, совершенно игнорируя объяснения обоих рабочих, что это дефект, получившийся из-за спешки и привлечения необученных деревенских. Подозрительным жандармам показалось то, что ямка расположена точь-в-точь под той доской, на которую отражается борода Менделеева: в этом виделся им то ли знак, то ли просто удобный ориентир. В конце концов, они всё-таки пришли к выводу, обнаруженная ямка слишком мала, чтобы представлять опасность, и успокоились. На прощание старший велел Ване с Мишей и впредь воздерживаться от устройства под паркетом полостей, могущих стать резервуарами для бомб.
— И кругом смотрите, нет ли нигилистов! А то, вон, сегодня, опять взрыв на улице был! Их Сиятельство Министр Внутренних дел погибли. Да несколько прохожих ещё ранено. Вот так-то!
После этого жандармы удалились: видно, двинулись ломать павильон Хлеба.
— Ё-моё, — сказал Иван, когда они опять были вдвоём. — За весь день работа насмарку! Наделали дырок, сатрапы! Да сколько доски поломали! Придётся до конца всё разбирать, да снова класть... А что ты молчал-то, а, Мишка?!
— А что б я сказал-то? Они б всё равно не послушали.
— «Всё равно бы не послушали»... Эх ты! Этак, если ломать каждый день будут, мы никогда не закончим!
— Каждый день они ломать не будут, — сказал Миша.
— И что?! Мне от этого легче?! — Завёлся Проскуряков, словно это его напарник был виноват в разрушении паркета.
— Десятнику завтра утром расскажем, что приключилось. Он всё поймёт.
— Поймёт он, конечно! Он головы нам поснимает! Мы у него и виноваты будем, вот увидишь!
— Но они ж не только в нашем павильоне поломали, — продолжал Миша пытаться успокоить Проскурякова.
В ответ Иван послал его по-матерному и предложил, коли тот так спокойно воспринимает жандармские выходки, остаться на стройке на ночь и восстановить, что было сломано. Миша, как ему подумалось, резонно отвечал, что жандармов наслал не он, но готов остаться на пару-тройку часов и исправить пол, чтоб десятник с утра не ругался, но при условии, что Ваня останется тоже. Они уже готовы были разругаться и стать врагами, когда в павильон заглянул незнакомый мальчишка лет десяти.
— Который тут из вас Михаил Коржов? — спросил он бесцеременно, не поздоровавшись.
— Ну я, — сказал Миша.
Он тут же занервничал. Приятных поводов отправлять к нему посыльного на работу быть не могло.
— Невеста твоя кланяться велела, Варя Липкина. Говорит, твоя мать помирает...
— Чего?!
— Её взрывом поранило... На Фонтанке, в Александровской больнице для рабочих. К ней ступай...
Михаил в бессильном ужасе пошарил глазами вокруг. Что творится? Ещё один страшный сон? Он остановил взгляд на Иване и воззрился на него, словно взывая о поддержке и вопрошая — реальное всё или нет?
— Ступай к ней, — ответил Иван. — Пол я сам переделаю.
Глава 3, В которой Николай Львович остаётся без гурьевской каши, зато получает нечто гораздо более ценное.
Николай Львович с утра был не в настроении. Во-первых, повар Санька забыл вовремя запечь сливочных пенок, так что и гурьевской каши на завтрак не вышло. Пришлось довольствоваться кяхтинским чаем, обычными расстегаями с сёмгой, холодной телятиной, булками из пекарни мадам Дворжецкой и вареньем из крыжовника. Во-вторых дочка, Зиночка, снова чудить начала: объявила, что желает поступить на высшие женские курсы. Было понятно, что это она не всерьёз, а от скуки, но всё-таки неприятно: ещё не хватало потомице гетмана Разумовского, дочери действительного статского советника учиться всяким глупостям заодно с сомнительными девицами из мещан! В-третьих, убили министра Синюгина. Это был уже третий с тех пор, как Николай Львович получил место в Совете министра внутренних дел...
Вообще он был спокойным человеком. Добродушным. Дурным чувствам ходу не давал, держал в себе. Саньку не стал увольнять и не выпорол (тем более, пороть-то и нельзя теперь, дворня свободные люди считаются) — просто снял с него недельное жалование. Дочку тоже не ругал, а объяснил ей, что курсы нужны тем, кто без средств, либо дамам сомнительного поведения, а к ней, Зиночке, не относится ни первое, ни второе. Но вот убийство министра внутренних дел совсем выбило Николая Львовича из колеи. Теперь, на белой скатерти, между сахарными щипчиками и молочником с рисунками Кустодиева, перед ним была газета с фотоснимком того, что осталось от министерской коляски. Сцена гибели начальника, вчера ещё живого и ругавшегося, буквально стояла перед глазами у Николая Львовича даже тогда, когда он смотрел не в газету, а на Зиночку, сидящую напротив, или на руки заваривающего чай слуги, или на висящую в столовой картину Репина «Государь Александр II открывает Земский собор». Кажется, работа министра внутренних дел Российской империи становилась самой опасной профессией в мире: даже прокладка железных дорог через горы при помощи динамита или ловля скорпионов в Кохинхине не шли с ней в сравнение...
После убийства позапрошлого министра Николай Львович на совете предложил тому, кто займёт его место, впредь ездить не на коляске, а в паромобиле: он быстрее, значит, бросить в него бомбу не так просто. В Совете это предложение отклонили: сказали, мол, топливо для котла может усилить пожар при теракте и таким образом снизить шансы следующей жертвы покушения на выживание. После следующего убийства Николай Львович повторил своё предложение, присовокупив к нему идею установить на паромобиле устройство, метающее динамит, чтобы, если придётся, ответить смутьянам их же оружием. В Совете на это ответили, что смерти нигилисты не боятся, а возить с собою динамит слишком опасно. Теперь было бы неплохо вновь поднять этот вопрос. Недавно Николай Львович прочёл, что англичане в Южной Африке используют бронемобили, в которых есть перископы и пулемёты... А ну как купить у них несколько штучек? Небось, не будут жадничать! Как-никак Виндзорская старуха — это бабушка российской государыни. Могла бы и подарить родимой внучке пару-тройку этих блиндированных экипажей, если не хочет, чтобы Елизавета Федоровна повторила судьбу своей австро-венгерской тёзки... Нет, конечно, это не дай Бог, но от нигилистов ждать можно всего, чего угодно! А если повелеть разрисовать броневики кому-нибудь из «Мира искусства»: Билибину, там, например, или Бенуа, очень даже неплохо получится, не по-военному даже! Врубель, может, и мозаику наложит... Хорошая мысль, кстати, да! От мозаики броня и крепче будет.
Впрочем, всё это, конечно же, зависит от того, кого именно Государь изволит назначить новым министром внутренних дел. Если вдруг это окажется раздражающий всезнайка из либералов, то Николай Львович и словом не обмолвится насчёт броневиков — пускай взрывают! А если хороший какой человек, так уж будет стоять на своём. Сколько можно энэмам бесчинствовать в Петербурге?!..
— Вот вы, папенька, газету-то читаете, а новостей настоящих не знаете, — неожиданно прервала его думы дочурка.
— Это каких это настоящих? — поинтересовался Николай Львович.
— А таких. Вот вы помните Сонечку Глинскую? Ту, с которой мы в гимназии училась. Замуж вышла. И ребёнка ждёт уже. Вот так-то, папенька!
— Ну что ж, передай ей мои поздравления.
— А Липочку Осинцеву вы помните? Я с ней на коньках зимой каталась. Тоже замуж собирается. Жених — инженер! Управляет железной дорогой! Красивый!
— А в чине в каком?
— Я не знаю. Высокий, глаза голубые...
— Голубые глаза это не чин, — заметил Николай Львович. — Инженер это, конечно, хорошо, но интересно, до кого он дослужился...
— С чинами у них всё в порядке, — ответила Зина. — А вот сестру Липы, Полю, отец тоже замуж отдать обещал — за Маньчжурского губернатора! Хотя ей пятнадцать лет всего. Вот так-то!
— Так и губернатора такого еще нет, — Николай Львович улыбнулся. — Маньчжурию её, ещё присоединить надо! Как и Корею.
— Да? — Лиза захлопала ресницами.
— Да, доченька. Как Поля в возраст войдёт, так, наверно, и будет в Маньчжурии наш губернатор. А ты, Зина, им не завидуй. Я знаю, что скучно тебе. Тоже хочешь замуж и ребёночка?
— Да, папочка...
— Потерпи год-другой.
— Я состарюсь!
— Не состаришься, милая! В этом деле слишком торопиться ни к чему... Знаешь, что мне снилось нынче?
— Что же?
— А как будто я тайным советником сделался.
— Да вам, папенька, это на прошлой неделе ведь снилось уже!
— Да вот в том-то и дело! Я чую, не зря это снится! Чую, ещё немножко, и возведут меня в третий ранг! А там уж, доченька, перед нами такие брачные перспективы откроются, что на всяких инженеров с губернаторами даже и смотреть уже не станем! Вот увидишь, Зиночка, мы тебе такого жениха найдём, что все твои подружки обзавидуются! Только подожди ещё чуток, дай подрасти...
— Вы быстрей растите, папенька, а то мне больно скучно.
После этих слов Зина откушала кусочек сладкой булочки с вареньем, отпила глоточек чая и вздохнула. Николай Львович подумал, что его девочка всё-таки молодец: она уже выбросила из головы все эти глупые курсы и думает о том, о чём положено.
— А ещё у Шурочки Задворской шляпка новая, — тотчас же подтвердила Зина его мысли. — Она знаешь, какая? Диаметром целый аршин!
— Для чего же такая большая?
— Так носят! — ответила дочка авторитетно.

Николай Львович спорить не стал и хотел уже было спросить, сколько денег Зине надобно на эту аршинную шляпу, но в передней вдруг раздался шум, а через секунду в столовую, извиняясь, ворвался взволнованный лакей.
— Ваше превосходительство! Простите ради Бога... Но сейчас пришёл посыльный... Вам там... в Зимний вызывают!
При самом упоминании Зимнего Николай Львович встал, вытянулся во фрунт, вытер лицо салфеткой и придал ему самое серьёзное из возможных выражений.
— Папенька! Вас Государь приглашает! — пропищала Зиночка, объясняя происходящее скорее себе, чем отцу.
Тот не знал, что и чувствовать. Он догадывался о причине вызова и был срашно напуган и воодушевлён одновременно. Кажется, исполнялась мечта его жизни... Но как не вовремя, как же не вовремя!..
***
Престарелый министр императорского двора уже знал всё. Он попался Николаю Львовичу возле Государева кабинета и сказал:
— Даже не знаю: вас поздравить или лучше посочувствовать?
«Занимайтесь своими архивами и конюшнями, а в мои дела не суйтесь», — мысленно ответил ему Николай Львович. Но снаружи промолчал, только кивнул.
Всё было именно так, как он думал.
— Я посчитал, что никто лучше вас сейчас с этой работой не справится, — произнёс Государь Император Сергей Александрович.
Как всегда, взгляд царя был холодно-непроницаемым. Говорят, что его дед Николай Павлович смотрел примерно так же. Впрочем, старики-придворные рассказывали, что Николай всё-таки время от времени проявлял человеческие эмоции и вёл себя как подлинный отец. Сергея же Первого невозможно было представить ни идущим за гробом безымянного солдата, ни повергающим на колени беснующуюся толпу посреди Сенной. Прекрасный и холодный, устремлённый вечно внутрь себя, он словно сошёл с картины какого-то модного английского декадента. Нет, Николай Львович не роптал, конечно. Кто он был такой, чтобы царя судить? Да и понятно, что Петропавловская трагедия девятнадцатилетней давности не могла не оставить на императоре отпечатка — ведь в тот день он остался один из семьи... И всё-таки эта непроницаемость Государя за все годы службы так и не перестала немного пугать Николая Львовича. И мешала ему искренне любить царя... Чуть-чуть...

Он, конечно, горячо благодарил за назначение. Шутка ли — министр внутренних дел это, по сути, второй человек в государстве! Вот только в таком государстве, где этих министров поминутно убивают. Ох, стать бы министром хоть на год попозже, хоть на два!.. Ведь наверняка тогда как минимум часть этих террористов уже переловят и станет хоть немножко поспокойнее.
— Вы, Николай Львович, понимаете, конечно же, что поймать убийц Синюгина, как и троих предыдущих министров, для вас теперь не только дело чести, но и дело личной безопасности... — Сказал царь.
Ещё бы! Понимал, куда деваться.
— Кроме того, не забудьте о Выставке. До неё остался месяц, и обеспечить готовность построек и оснащения, а также обеспечить безопасность на самом мероприятии — тоже ваше дело.
Николай Львович ответил чем-то вежливо-изысканным. Оставалось лишь надеяться на то, что царь не видит, как он напуган свалившимися обязанностями.
— И ещё одно дело, — продолжил Сергей Александрович. — Во время убийства Синюгина одна пострадавшая женщина сообщила другой некие тревожащие сведения. Сведения эти требуют проверки и, в случае подтверждения, срочных действий. Мне хотелось бы, чтобы вы всё узнали без искажений из уст жандарма, присутствовавшего на месте и слышавшего лично разговор...
Глава 4, В которой Миша ищет встречи с одним человеком, а встречается с другим.
На другой день после взрыва Миша отпросился со стройки на пару часов пораньше и снова пришёл в больницу — всё равно на работе толку с него, полностью поглощённого мыслями о матери, было мало. В тот раз его к ней не допустили. Лишь сказали: «Жива». Но доживёт ли до завтра и встанет ли на ноги, не говорили. И остались ли ноги при ней — насчёт этого тоже молчали... Ночью Михаил почти не спал, перебирая в голове разные травмы, могущие возникнуть вследствие взрыва, их последствия и образы калечной...
В этот раз он снова попытался попасть к матери в палату — и опять же безуспешно. Сестра милосердия, дежурившая около входа, сказала ему, что от визитёров заносится много заразы, больным это вредно. Впрочем, к жандармам, которых внутри и снаружи больницы кишело ещё больше, чем вчера, это почему-то не относилось. Мише стало тоскливо от мысли, что сейчас его едва живую мать грубо допрашивает какой-нибудь голубой мундир, требуя сообщить приметы бомбометальщика, какового она, вероятней всего, и не видела, а родного сына к ней не допускают.
Ладно, по крайней мере, Ольга Саввишна Коржова была всё ещё жива: так сказала, справившись по книгам, сестра-привратница. Смирившись с тем, что свидания не добьётся, Миша вышел на улицу. Попробовал утешить себя тем, что через день-другой жандармы потеряют интерес к жертвам теракта, мать окрепнет, и тогда уж его, верно, и пропустят... Сел на лавку у больницы. Стал ждать Варю. Они сговорились встретиться здесь, у входа, но невесты ещё не было; видимо, с фабрики раньше времени её всё-таки не отпустили. А ведь тоже пострадавшая от взрыва! Хоть денёк-то дать ей отдыха могли бы... Впрочем, слава Богу, что Варя отделалась только порезами от стекла и звоном в ушах. Не хватало ещё, чтобы обе они были в этой больнице...
— Михаил? — прервал мысли Коржова незнакомец.
Коржов повернулся направо. Рядом с ним на лавке сидел респектабельный и по-щегольски одетый господин: на вид лет двадцать или двадцать пять; завитые усы, тщательно напомаженные волосы с искусным пробором, модный узкий галстук под туго накрахмаленным воротничком, стоящим так, что и вздохнуть, наверно, трудно. Костюм в полоску: видимо, не служит, отдыхает. Цепочка для часов ни золотая, ни серебряная: необычная, с эмалевыми вставками цветными, алюминиевая, что ли... Тросточка барская. В общем, понятно, что парень не деревенский и не фабричный. Вот только для инженера он слишком молод, для студента — без фуражки, для купца или фабриканта — какой-то уж больно щеголеватый... Из дворян, решил Миша.
— Извиняюсь, барин, это вы ко мне? — спросил он робко.
— Вы Коржов, Михаил? Я ведь прав?
— Правы, барин. Чем обязан?
С чего бы это вдруг дворянину общаться с ним, парнем со стройки?
— Я слышал, у вас мать при взрыве ранило, — заметил незнакомец, не представляясь.
— Угу, — кивнул Миша.
Он вспомнил, как минут десять тому назад, общаясь с сестрой-привратницей, уже видел краем глаза этот полосатый костюм подле себя. Барин следил за ним, что ли? Какой странный тип...
— Помню, как моя мать тоже однажды чуть не погибла... Бог миловал. Должно быть, вы в смятении сейчас?
— Как любой человек, чья родня при смерти, — ответил Коржов.
— Осмелюсь предположить, что не как любой! — сказал незнакомец.
— О чём вы?
— Ваша мать... Она ведь перед тем, как попасть в больницу, открыла вам некий секрет верно?..
— Какой ещё секрет? — Удивился Миша и, забыв о правилах хорошего тона, уставился на барина. — О чём вы? Да вы кто вообще такой?!
— Не волнуйтесь, господин Коржов, я желаю вам только добра. Как и нашей родине, — произнёс незнакомец напыщенно и совершенно неубедительно.
— Да желайте на здоровье. От меня-то что вам надо?
— Мы хотим помочь вам разобраться с теми сведениями, которые вы получили вчера от мамаши...
— Да не получал я никаких сведений, говорил же! Я её раненной даже ни разу не видел! Да вы меня спутали с кем-то!
— Я ни с кем вас не путал. Выходит... Значит, вам так ничего не передали?
— А что мне должны были передать?
— Я не уполномочен пересказывать. Меня послали только пригласить вас к нам и передать записку с адресом. А, коль скоро вы ещё не знаете о себе того, что знаем о вас мы, думается, что вам это будет тем интереснее, и сходить по этому адресу вы не откажетесь...
— Кто такие —«вы»? — спросил Коржов.
— Вы и это узнаете, если придёте и будете с нами сотрудничать, — по-декадентски рисуясь, улыбнулся барин. — Приходите завтра вечером в Свято-Егорьевский переулок, дом слева от булочной, третий этаж. И спросите там Арнольда Арчибальдовича...
Незнакомец сунул Мише смятую бумажку.
— Полный адрес тут. Вы грамотный?
— Естественно. Я в Петербурге родился.
— Прекрасно. Тогда ждём вас завтра...
— Послушайте, — сказал Миша. — Думаете, у меня есть время ходить по гостям? Завтра вечером я буду на работе, а затем опять приду сюда, буду пытаться попасть к матери. И, должно быть, послезавтра то же самое.
— Я понимаю, — кивнул незнакомец. — Не сможете завтра, тогда через два, через три дня. В воскресенье тоже можете прийти. Но не затягивайте.
— А если я не захочу идти к вам вовсе? — спросил Миша.
— Тогда мы вас похитим, — сказал барин.
После этого он встал и, не говоря ни слова, двинулся прочь, в сторону проезжей части, около которой был оставлен автопед — модная среди эксцентричных господ самодвижущаяся двухколёсная платформа. Вставил в платформу трость, оказавшуюся ключом и одновременно рулём от устройства, нажал на педаль, выпустил клуб пара и умчался.

Несколько минут Миша таращился на дорогу, словно бы ожидая, что незнакомец появится там ещё раз. Из оцепенения его вывела невеста, появления которой Коржов даже не заметил.
— На что это ты там глядишь? Ты здоров ли? — спросила она.
Миша отмер.
— Привет. Я в порядке.
— Ты глядишь как не в себе.
— Понимаешь, — Миша встал. — Ко мне сейчас какой-то тип вязался... Скажем так, очень странный.
Коржов описал незнакомца.
— Наверно, адвокат, — сказала Варя.
— Почему?
— Ну, мне так кажется. Адвокаты — подозрительные личности, преступников отмазывают... Тятя говорил, как завелись они при прошлом государе, так всё зло и началось.
— Может быть и адвокат, — не спорил Миша. — Кстати, знаешь что? Он почему-то считает, мол, мать перед тем, как в больницу попасть, мне какой-то секрет рассказала. Я ему сказал, что это чушь, что я и не был с ней, когда её поранило. А он всё равно за своё... Она тебе случайно ничего не говорила... в смысле... важного?
— Нет, — сказала Варя, отведя взгляд. — Ничего.
— Это точно?
— Ты, что, сумасшедшему веришь?!
— Не верю, конечно. — Коржов сменил тему. — А к маме опять не пускают... Ну хотя бы говорят, она жива...
Глава 5, В которой Венедикт думает о будущем России, а потом припоминает ее прошлое
Венедикт мчал вдоль Невы на автопеде, любовался проносящимся мимо «строгим, стройным видом», ощущал, как развеваются полы его сюртука и, несмотря на не очень удачный разговор с Михаилом, пребывал в необычно приподнятом настроении. И баржи, движущиеся с обеих сторон от возвышающихся над водою путей «метрополитена» слева от него, и расписанные в лубочном стиле паромобили, обгоняющие конку справа, и дамы в белых платьях с кружевными зонтиками, улыбающиеся со второго этажа этой самой конки, и мелькнувшая над ними реклама мужских подтяжек, которая украшала доходный дом с полукруглыми окнами — всё сегодня казалось ему необычно прекрасным.

Может, дело было в таком редком для столицы погожем дне. Может, в том, что Венедикту наконец доверили серьёзное дело, после которого он не только остался в живых и на свободе, но и узнал информацию, обещавшую обернуться переменами самого решительного характера. Эти перемены, как он ощущал, витали в воздухе! Если раньше казалось, что всё бесполезно, что всё навсегда, что бесчеловечную глыбу не сдвинуть никак, никакими усилиями и после Петропавловских событий она стала только крепче, то теперь откуда ни возьмись пришло ощущение, что Левиафан отсчитывает свои последние дни. И хоть слово «конституция» всё так же не звучало ни на площадях, ни в газетах, ни даже под одеялом между влюблёнными, хотя Победоносцев всё ещё держал страну, как Мёртвую царевну, в хрустальном гробу, хотя скорая Выставка готовилась стать триумфом Сергея Первого, а всё же ощущение того, что новый век будет совсем не тем, что прежний, просачивалось между каменными глыбами Петербурга и растекалось по неравнодушным сердцам...
Вчера он не бросил. Если бы из поезда не попали, ему пришлось бы выступить вторым номером и бросить — тогда он был бы уже либо в тюрьме, либо на том свете. Он готов был на это, но высшие силы решили иначе. Его шляпная коробка не понадобилась. Честно говоря, при виде того, что наделала бомба, брошенная из поезда, он был даже рад, что это было не на его совести. Зато, оказавшись на месте, даже оказав первую помощь паре лишних пострадавших, Венедикт смог услышать от раненой женщины нечто такое, что буквально всё переворачивало! И как же приятно, что разработку этого самого Михаила Коржова теперь поручили именно ему! На что-то подобное, судьбоносное, героическое, красивое он и надеялся, ввязываясь во всё это дело. С выслеживанием министерских экипажей под видом разносчика кренделей или ломового извозчика в полушубке, кажется, было покончено. Уж теперь-то он себя проявит! Уж теперь-то он — конечно же, с товарищами! — сделает то, что не удалось ни Радищеву, ни Рылееву, ни Петрашевскому... И они на небе будут им гордиться.
***
Добравшись до дома, Венедикт как обычно взглянул в окно на третьем этаже. Фикус был на месте, всё в порядке. Несмотря на поздний час, внизу, в приёмной медиума, вертевшего столы по пятьдесят копеек раз, толпилась публика. Всё же исключительно удачное место они выбрали: приходящие и уходящие товарищи всегда могли смешаться с толпой ищущих пророчеств легковерных и не привлекать тем самым лишнего внимания.
Из квартиры доносились голоса. Венедикт напрягся, но быстро понял, что всё хорошо, это не жандармы. Кажется, опять пришла соседка. Судя по всему, этой скучающей мимочке нечем заняться, вот она и взяла за привычку таскаться к соседям на чай, воображая, что Роза, изображающая жену Венедикта, скучает так же. Вчера, когда Роза только-только принялась разряжать не пригодившееся ему устройство, треклятая Валентина Архиповна заявилась к ним без приглашения и со словами о том, что ей-де невмоготу знать, что молодые супруги, приехавшие из Нижнего, пребывают в столице одни, без друзей и без связей, с одной экономкой... Сердце у него тогда едва не выпрыгнуло: кажется, разнервничался больше даже, чем за час до этого у «Клейнмихельской»! А Вера Николаевна призналась, что пошла за пистолетом, уже готовая устранить свидетельницу, если та успела всё увидеть... Не пришлось, слава Богу! А потом Венедикт рассказал, что услышал от раненой женщины, после чего Вера Николаевна и Роза были в таком шоке, а потом в таком восторге, что, хоть и планировали ликвидировать эту квартиру сразу же после того, как закончат с Синюгиным, решили отодвинуть меры конспирации, сохранить её ещё на несколько дней и пока не разъезжаться из столицы. Про Валентину забыли и думать. И вот она снова явилась...
Венедикт открыл дверь. Черт возьми, да, она, она самая!
— Доброго здоровья, Валентина Архиповна! Опять нас визитом почтили? Спасибо, что не даёте скучать Наташе, пока я на службе!
Он снял шляпу и повесил на крючок. Автопед и руль-трость поместил в специальный держатель у двери в прихожей.
— Стараюсь, Арнольд Арчибальдович! Наталья Кузьминична это такая милая дама, никак не могу допустить, чтобы она чахла тут в одиночестве! Вот зову её на суд сходить, преинтереснейшее зрелище намечается. Будут судить брачного афериста. Мой кузен присяжный, зал открыт, начало завтра! Думаю, будет не хуже кинематографа!
— Да я думал Наташеньку на острова свозить завтра, на пароходике покататься, — ляпнул Венедикт первое, что пришло в голову. — А вы сами в суд сходите непременно! Расскажете потом, что там случилось.
— В судах обычно весело, но душно, — вставила Роза. — Мне там кислороду не хватает.
— А вы Фёкле-то скажите, чтоб послабже шнуровала, — продолжила лезть не в своё дело соседка.
Фёклой по легенде называлась Вера Николаевна, игравшая роль прислуги при снимавшей квартиру молодой паре.
— Ах нет, так нельзя, так в Париже не делают, — томно выдохнула Роза, именуемая Натальей.
Она закатила глаза, и Венедикт восхищённо подумал, что у неё мастерски получается изображать скудоумную барыньку. Он бы от такой бежал подальше со всех ног. Жаль, что Валентина Архиповна не разделяет его предпочтений в людях...
Выложив им ворох всякой чепухи, соседка, наконец, дошла в своей бесцеремонности до того, что принялась расписывать, как духи, вызываемые медиумом с первого этажа, здорово могут помочь с наступлением беременности, ведь главной причиной скуки Натальи Кузьминичны было про её мнению, слишком долгое отсутствие ребёнка. Лишь через полчаса Валентину Архиповну удалось отправить восвояси: для этого Венедикту пришлось намекнуть, что он собирается приступить к производству потомства незамедлительно.
— Я думала, она никогда не уйдёт, — выдохнула Роза, закрыв дверь.
— Может, тебе к ней ходить и самой докучать? — предложил Венедикт, сам не зная, серьёзно или шутя. — Устанет от тебя и не придёт больше.
— Я с ума сойду! Только если Исполнительный Комитет решит, что это необходимо для дела, и мне прикажет... Ну как, ты нашёл его?
— Да.
С кухни вышла Вера Николаевна в костюме прислуги, совершенно не скрывавшем от проницательного взгляда ни её дворянского происхождения, ни блестящего ума, ни пылкого взора, ни женской красоты, которая и теперь, на пятом десятке, не была ещё утрачена совсем. Хотя на людях Вера Николаевна играла роль служанки Фёклы при паре молодожёнов, на самом деле именно она в силу своих и возраста, и характера, и опыта общего дела была главной в их ячейке.
— И что он?
— Что придёт — не обещал. Но и не отказался категорически. Я к нему примазался немножко, припугнул чуть, адрес сунул...
— Адрес? Ты дал ему адрес нашей квартиры?
— Ну да... Я подумал, что, если общаться с ним в общественном месте, то он может чем-нибудь возмутиться и поднять шум, привлечь полицейских. Мы ведь с вами ещё вчера решили, что, если Коржов пребывает в плену предрассудков, то нам может понадобиться длительная пропагандистская работа с ним. Для этого его нужно задержать при себе, ну а где это ещё удобнее сделать, если не на квартире...
— И всё же конспиративная квартира затем и называется конспиративной, что о ней не сообщают лишним лицам! — Критически заметила Вера Николаевна.
— У меня ж тут запасы хранятся! — добавила Роза.
— Однако согласитесь, что и ситуация у нас экстраординарная. Организация никогда не проводила операций подобной тому, что планирует предпринять с этим Михаилом! И потом, если так или иначе, мы планируем вводить его в свой круг, а в этой квартире не собираемся задерживаться более, чем ещё на одну неделю...
— Ладно, предположим, это так, — Сказала Роза. — А ты не говорил, кто мы такие?
— Нет, как раз постарался напустить таинственности, чтобы заинтересовать его.
— Хорошо, — сказала Вера Николаевна. — Пока ему о нас ни слова знать нельзя. Он ведь революционной необходимости не понимает. Так что для него мы — просто те, кто его мать чуть не убили... Или всё-таки убили?
— Он не плакал, так что, кажется, жива.
— Что ж, и это полезно для дела, — заметила «экономка».
— Я оставил там Федю, — сказал Венедикт. — У него физиономия неприметная. Он за Михаилом проследит, так что, если всё будет нормально, сегодня же мы будем знать, где он квартирует... Ах, да! Ещё важная вещь!
— И какая же?
— Не знает он.
— Чего?
— Да ничего!
— Как?!
— Да похоже, что жена ему ещё не рассказала. Кстати, я сегодня видел её рядом с ним, узнал: это та самая особа, которой сделала признание раненая пожилая работница. Так что тут всё точно, я не обознался.
— То есть, получается, ты это признание слышал, а от того, для кого оно предназначалось, его как раз скрыли, — заметила Роза. — Интересно, почему? Может, жена подумала, что раненая старуха бредит? Кстати, может, так оно и было, а?
— Со временем узнаем, — рассудила Вера Николаевна. — Только давайте не будем сразу отбрасывать вероятность того, что это всё-таки правда. Уж больно интересные перспективы откроются в этом случае! Мы ведь тогда с этим Мишей не просто Россию спасём! Нам тогда даже террора не понадобится!
— Дай-то Бог, — ответил Венедикт, перекрестившись
***
Ночью к ним пришёл Федя. Он работал фонарщиком, благодаря чему имел много свободного времени днём и мог, не вызывая подозрений, шляться по Петербургу в тёмное время суток и рано утром. Это был парень лет восемнадцати-девятнадцати, из образования имевший только два класса гимназии, но уже доказавший товарищам, что под рабочим картузом скрывается голова не глупее их, интеллигентов, а под синей косовороткой и чёрным суконным жилетом бьётся честное и отважное сердце. В организации Федя не то, чтобы состоял, но и не то, чтобы нет. Венедикт несколько месяцев назад разговорился с ним на улице, почувствовал, что парень не доволен своей долей и зарплатой, и предложил поработать на группу добрый людей, которые радеют за народ, за семь целковых. Федя сразу согласился и не задавал лишних вопросов. Разве что иногда интересовался, чем пролетарии отличаются от мужиков, да «Парижская коммуна» что за птица. Какие методы борьбы использует Организация, он довольно быстро понял, но участвовать в экспроприациях или в казнях чиновников не пожелал, а для политической и агитационной работы, естественно, не годился, не так и оставшись кем-то вроде помощника энэмов, но не одним из них. Зимой Венедикт подарил Феде валенки, а совсем недавно отдал свои старые сапоги, остававшиеся от извозчичьего наряда; тот назвал его братом за это, сказал, что энэмы добрее царя, и попросил ещё калоши...
— Проследил я за ним, — сказал Федя и продиктовал адрес Коржова. — Кстати, баба та не с ним живёт. Не баба она, в общем-то, а девка, я так думаю. Не жена, а, должно быть, невеста. Я её адрес тоже запомнил, небось, пригодится.
Не отказался Федя и от чаю с баранками, сказав, что уже зарядил новыми угольными электродами все дуговые лампы на своём участке. Теперь его круглые затемняющие очки, без которых электротехнику никуда, лежали на столе возле самовара и старинной керосинки, что давала ровно столько света, сколько нужно чтобы сидящие вокруг могли видеть друг друга, но не привлекали светом из окна внимания с улицы.

— К выставке-то, говорят, по всему Петербургу дуговые на лампы накаливания поменяют, — поделился неприятностью фонарщик. — Мол, дольше горят и менять каждый день их не надо. Ну и чтобы иностранцам показать, до чего русская мысль дошла! Ну, этого самого мысль... Ну?
— Лодыгина, — вставила Роза.
— Его, да, вот этого. У него, видишь, мысль, а мне, как, без работы сидеть?
— Ну ты насчёт пропитания не беспокойся. С голоду мы тебе помереть точно не дадим, да и крышу над головой организуем. Социалистическая ячейка — это ж как крестьянский мир, по сути, — улыбнулась Вера Николаевна.
— Да по миру идти-то не охота, — сказал Федя. — Ладно, в столице заводов немало, устроюсь куда-нибудь. Только вот придётся переучиваться. Да мастера терпеть подле себя. Да ещё на заводах за всё штрафовать норовят — и попробуй пожалуйся... Заводской человек несвободный, фонарщиком — лучше.
— Это не надолго, Феденька, — сказала Вера Николаевна. — Старому режиму остаётся совсем немного. Он уже трещит по швам. Чувствую: скоро весть о свободе прогремит на всю Россию! И не о той, поддельной, которую прошлый тиран соизволил сорок лет назад дать, но народ ограбил — о настоящей!
Венедикт обрадовался тому, как созвучны чувства Веры Николаевны его собственным. Если они двое думают одно и то же, значит и в самом деле — перемены носятся в воздухе!
А Федя сказал:
— Вот о прошлом тиране-то, кстати. Я тут за учебник истории взялся — курса-то не окончил, а среди умных людей дураком слыть не хочется. Про последних царей толком там ничего не написано, но мне о них основное известно. А вот про предыдущего, Александра Второго, там и вовсе нет. А я про него только то и знаю, что он крестьян, да сербов, да румын освободил. И что в Петропавловской крепости умер. Но что же там всё-таки было, в той крепости? И правда ли говорят, Вера Николаевна, что его и до того убить пытались?
— Было такое, — ответила «экономка». — Ну, коль хочешь знать, я расскажу. Только чаю добавь — рассказ длинный.
Федя кивнул и послушно потянулся к самовару.
— Я тоже послушаю, — сказал Венедикт. — Потом буду хвастаться внукам, которые будут учить в школе эту историю, что слышал её ещё при царе от самой участницы событий!
— Ну, я до внуков дожить не надеюсь, — заметила Роза. — Мы всё-таки все — люди обречённые. Но послушаю ещё раз с удовольствием.
— В школу играть собрались? — Засмеялась Вера Николаевна. А затем понизила голос почти до шёпота. — Ну, бог с вами. Вот как всё было. В семьдесят девятом году мы размежевались с теми товарищами, которые не принимали насильственных способов противостояния режиму. Они стремились снова и снова ходить к крестьянам, пытаться объяснить им, что не так с царизмом, заставить думать. Мы же поняли, что это бесполезно. К этому времени на царе, обобравшем крестьян до нитки, были уже жизни нескольких наших товарищей, повешенных и сгинувших в тюрьме, сошедших с ума в одиночках, заживо погребённых в «Секретном доме». Мы решили, что гибель тирана дезорганизует власть и всколыхнёт затравленные народные массы — и вынесли тирану смертный приговор.
— А вы — это?..
— В интересах дела я не считаю возможным называть вам ни имён, ни партийных кличек участников нашего кружка. Часть из них томятся в тюрьмах, но в любой момент могут предпринять попытку возвратиться и опять начать бороться. Кто-то сдался и живёт теперь как мирный обыватель. Есть и те, кто начал яростно отстаивать интересы царизма — и об их имена мне не хочется пачкать язык. Иные, как я, продолжают борьбу. Я могла бы назвать вам имена лишь тех, кого уже нет с нами — но скорее всего, вам, молодёжи, имена эти не скажут ничего. Вот, к примеру, слышал ли ты, Федя, про Желябова?
— Не слышал.
— Придёт время, ему памятник поставят... Именно Желябов руководил нашей первой попыткой избавиться от тирана. На железной дороге, вдоль пути, которым ожидалось следование царского поезда, было заложено несколько мин. Но судьба не оказалась благосклонна к нам. Мимо одной из них царь вовсе не поехал, вторая по неизвестным причинам не взорвалась, третья же лишь привела к крушению поезда с царскими слугами и багажом.
— Вы продолжили пытаться?
— О, ещё бы! Следующий план Желябова был просто потрясающим по своей дерзости! Он решил взорвать царя в его собственном доме. Отыскал рабочего-плотника, который устроился на работу в Зимний дворец, снабдил его динамитом — и тот за какое-то время натаскал туда в точности столько взрывчатки, чтобы взрывом пробрало до царской столовой. Всё было рассчитано математически — и расположение динамита, и его количество, и время, когда царь принимал пищу... И надо же было такому случиться, что именно в нужный день наш тиран опоздал к обеду!
— А я и не слыхал, что в Зимнем взрыв был! — сказал Федя.
— Разумеется, об этом предпочли скорей забыть, ведь это был удар в самое сердце царской власти — пусть и не смертельный. И тогда он имел важные последствия. Царь увидел, что у него нет ни кнута, ни пряника, чтобы бороться с нами, и отдал всю власть одному видному генералу по фамилии Лорис-Меликов. Тот решил вооружиться одновременно и пряником, и кнутом. С одной стороны, он убедил царя созвать народное представительство, ибо возникновение земств, имевшее место незадолго до того, многих наводило на мысли о всероссийском собрании гласных, о Земском соборе. С другой стороны, Лорис-Меликов усилил гонения на честных людей, и в начале следующего за этим восемьдесят первого года Желябова и ещё нескольких наших товарищей арестовали.
— Он был незаменимым? — спросил Федя.
— Нет, — сказала Вера Николаевна. — Никто из нас не незаменим. Дело казни тирана взялась довести до конца невеста Желябова. Я не знаю, жива ли она до сих пор, и на всякий случай не буду называть вам её имени... Но прежде нужно сказать о другом. Примерно в то же время один товарищ принёс нам записку практически с того света! От Нечаева! Из равелина!
— Федя, знаешь, про Нечаева? Это тот, кто «Катехизис» написал, — сказала Роза. — Не поповский, революционный.
Федя насупился. Стало понятно, что ни о Нечаеве, ни о его «Катехизисе» он не знает.
— Это был вожак одного из кружков предыдущего поколения, — пояснила Вера Николаевна. — Для нас он был учителем, героем, мучеником, дьяволом, богом — да всем одновременно! Поговаривали, что он ездил в Лондон и там получил благословение и от Маркса, и от Герцена, как будто бы назначивших его вожаком русской революции... До сих пор не знаю, правда это, нет ли... Словом, Нечаев сумел подать весть из «Секретного дома» и просил помочь с побегом. Мы решили, что надо освобождать его, однако же чувствовали, что сил и на то, и на это дело одновременно нам не найти.
— И вы решили отказаться от охоты на царя? — спросил фонарщик.
— О, нет, напротив: с освобождением Нечаева мы решили повременить. Невеста Желябова полагала, что у нас остаётся последний шанс достать, наконец, тирана, и считала себя обязанной довести до конца этот план своего жениха. Новую попытку назначили на первое марта: в этот день Александр, как всегда по воскресеньям, ездил на развод караула в Михайловский манеж — кроме этих еженедельных выездов, он из-за нас теперь редко покидал Зимний дворец. Обычный путь туда лежал по Невскому проспекту, а затем по Малой Садовой улице, где мы и решили готовить засаду: двое наших товарищей купили там лавку и жили под видом торговцев, приготовляя, между тем, подкоп, в который впоследствии была заложена мина. Провода от этого стофунтового снаряда вели внутрь лавки, где должны были в момент проезда царского кортежа быть соединены с гальванической батареей. На случай, если сила взрыва этой мины будет недостаточной, неподалёку от лавки предполагалось дежурить четвёрке метальщиков со снарядами из гремучего студня — такими же, Федя, как тот, что взорвался недавно у «Клейнмихельской». Я была свидетелем того, как наш Техник изготовил эти снаряды в ночь накануне...
— И опять у вас не получилось! — сказал Федя.
— Верно. В Манеж царь в этот раз поехал другой дорогой, и мина на Малой Садовой не пригодилась. Была надежда захватить его на обратном пути, но после развода вместо Зимнего он отправился Михайловский дворец к своей кузине. Тогда невеста Желябова велела метальщикам переместиться на набережную Екатерининского канала, полагая, что, скорее всего, путь царя обратно будет проходить по нему. Каково же было общее разочарование, когда Александр двинулся домой по Большой Садовой, а потом по набережной Мойки! Столько приготовлений — и всё впустую!
— Путь кружной и не самый удобный, — заметил фонарщик. — Видать, царь почуял неладное. Либо Бог ему шепнул...
— Ах, брось это, пожалуйста! — произнесла Роза. — Бог не на стороне кровопивцев! А шепнула ему жандармерия: Вера Николаевна сказала ведь, что ищейки уже шли по следу её товарищей и уже начали их арестовывать.
— Так и есть. К этому времени не только Желябов, но и ещё больше десятка опытных бойцов были в Петропавловских застенках. Этот-то факт и навёл нас на мысль, что с казнью тирана нам стоит повременить и сосредоточиться на освобождении Нечаева — а возможно, и его соседей по каземату. Тем более, что как стало известно вскоре, в тот же самый день, первого марта, Александр всё-таки одобрил созыв Земского собора. Это чуть было не привело к очередному расколу в нашей организации: часть считала, что если дарован парламент, то права на террористический способ борьбы мы уж не имеем, нелегальную деятельность следует ликвидировать, бросив все силы на то, чтобы продвинуть приличных гласных в народное представительство.
— Продвинешь их, ага! — Вырвалось у Венедикта.
— Ну, теперь-то мы уж это поняли, — отозвалась Вера Николаевна. — Однако в тот момент ещё была надежда на действительный переход к парламентскому правлению. Вернее, «парламентом» предложенную Лорис-Меликовым комиссию с представительством от народа называли только всякие Катковы, плевавшиеся ядом в своих верноподданнических газетах. Их злость воодушевляла интеллигентных людей: в день объявления о Земском соборе они обнимались на улице, плакали от радости и чуть ли не поздравляли друга друга с конституцией. О, да! Дошли даже до того, чтобы именовать начинание Лорис-Меликова этим столь неподходящим ему словом — конституцией. Всё это, конечно же, было ужасно наивно...
— А меня в детстве пугали Конституцией, — припомнил Венедикт. — Говорили, что она придёт и съест меня, если слушаться не буду. Мне казалось, это злая ведьма, а Парламент — её муж.
— Боже, ну и нелепость! — воскликнула Роза.
— А на самом деле её муж кто? — спросил Федя.
Все, не сговариваясь, обратили на него удивлённо-насмешливые взгляды, и молодой фонарщик, смутившись, поспешил поправиться:
— Да ладно, я шучу, я знаю сам!
У Венедикта осталось ощущение, что эти слова были не правдивыми, но заострять на этом внимания он не стал. А Вера Николаевна продолжила:
— Едва комиссия Лорис-Меликова, именуемая в народе Земским собором, собралась (а случилось это быстро, даже можно сказать, торопливо, уже в конце апреля, по окончании пасхальных празднеств) стало ясно, что всерьёз делить власть с представителями народа царь отнюдь не намерен. На рассмотрение ей было вынесено несколько вопросов совершенно пустого свойства: устройство прачечных в Дерптском университете, скамеек в Петровском парке и тёплых ретирад на Сахалине... Между тем, депутаты требовали серьёзного дела: отмены выкупных платежей и временнообязанного состояния, возвращения отрезков, наделения крестьян ещё землёй за счёт помещиков...Несколько недель всё внимание было приковано к этим жарким дискуссиям, сотрясавшим Таврический дворец. Кончилось тем, что Земский собор объявил самое себя Учредительным собранием и принялся сочинять Конституцию. Царизм не мог уже снести этого выпада: на следующий день Александр объявил о разгоне собрания. Вы, молодёжь, лишь с трудом можете представить себе тот вопль разочарования и возмущения, что пронёсся по всей России!
— И за это вы решили его всё-таки убить? — спросил фонарщик.
— Нам больше не приходилось колебаться, раздумывая, что делать, — сказала Вера. — Нечаев смог прислать из равелина такой план, равного которому по масштабу и дерзости не было раньше нигде никогда! Этот план позволял достичь всех нашей целей одновременно. Ну, по крайней мере, мы так думали...
Все благоговейно замолчали, понимая, что рассказ Веры Николаевны подходит к самому главному. Она же ненадолго замолчала, отпила из чашки чаю, вздохнула из-за чего-то известного одной ей, и далее продолжала:
— В подробности плана Нечаева я не посвящена: до реализации он держался в секрете, а после у меня не было возможности расспросить Сергея Геннадьевича. Знаю только вот что. Нечаеву удалось распропагандировать нескольких солдат из равелинной команды, и те согласились не только передавать на волю его письма, но и доставить ему с нашей помощью кое-какие предметы. Каждый из этих предметов, на первый взгляд, не представлял угрозы для порядка в крепости, но, получив их все вместе, Нечаев сумел соорудить из них оружие, конструкция коего была передана ему в зашифрованном виде от нашего Техника. Одновременно по просьбе Нечаева мы сделали схроны оружия и взрывчатки в различных местах Петропавловской крепости, включая Собор. И вот, одиннадцатого июня, в субботу перед Троицей, когда всё семейство Романовых прибыло на могилы предков для поминовения, в равелине подняли восстание. Нечаев освободился сам, освободил Ширяева, Мирского, Желябова, Тетёрку, Колодкевича, Тригони и других наших товарищей, сидевших в Алексеевском равелине и Трубецком бастионе. Охрана была частью перебита ими, частью разбежалась. Царская семья была изолирована в Соборе и истреблена. Прежде, чем об инциденте стало известно, и к крепости подоспели вооружённые силы, народовольцы захватили полуденную пушку в крепости и обстреляли из неё Петропавловский собор, под стенами которого оказались погребены не только Романовы прошлых веков, но и всё семейство наших дней...
— Не всё, как оказалось, — сказал Федя.
— Да. Почти всё. Знаменитый своей богатырской силой цесаревич по окончании бойни был найден ещё живым. Его провозгласили Александром III, перенесли в Зимний дворец, вызвали докторов... Но он процарствовал лишь один день, отдав богу душу назавтра. К этому дню уже было известно, что последним выжившим из семьи оказался Сергей Александрович, младший сын Александра II от первой жены. В это время он был в заграничном путешествии, в Палестине. И это его и спасло. Правда, для того, чтобы вернуться, ему потребовалось несколько дней, в течение которых, как мы надеялись, казнь царской семьи должна была всколыхнуть Россию, дезорганизовать верхи, послужить началом революции... Увы! Дворяне и чиновники сплотились вокруг нового тирана, обыватели забились по своим норкам, а до крестьян и вообще ничего не дошло... К тому времени, как Сергей со своей свитой сошёл с парохода в порту Петербурга, надежды на восстание уже были похоронены — вместе с нашими товарищами, поднявшими восстание. Все они были убиты подоспевшими к месту сражения преображенцами. Остался в живых лишь Нечаев. Его вновь схватили.
— И стало только хуже, — сказал Федя.
— Может быть... — И Вера Николаевна вздохнула. — Настала реакция. Сергей мстил — и нам, и не нам. Корпус жандармов утроился. Всюду внедрялись агенты. Арестована была не только большая часть нашей организации, но и масса случайных людей — недовольных студентов, вольнолюбивых земских учителей, чересчур красноречивых адвокатов... Не осталось ни толстых журналов, ни выборов в земства, ни городских гласных, ни суда присяжных... Тех, кто казался властям причастным к Петропавловской казни, судили офицеры по законам военного времени и, как правило, вешали незамедлительно.
— Вы не думали ещё раз попытаться что-то сделать?
— Прежних нас уж не было. Организация фактически прекратила существование. Те немногие, кто смог избегнуть ареста, рассеялись, замолчали, ушли в подполье или просто сдались, постаравшись забыть о своём революционном прошлом...Долгие годы казалось, что социалистическая мысль в нашей стране задавлена полностью — пока лет пять назад уже новое поколение молодых людей не начало вновь организовывать кружки. Часть из нас, стариков, примкнула к этим кружкам и, когда они в прошлом году объединились в одну Партию Народников-Марксистов, встретила друг друга в Исполнительном комитете. Ну, о том, что я не уполномочена раскрывать вам имена его участников, вы знаете. Впрочем, как и всю дальнейшую историю...
Глава 6, В которой Николай Львович приходит в ужас от поведения графа Толстого и глупости своих подчиненных.
На второй день работы министром внутренних дел Николая Львовича уже ожидали доклады троих подчинённых. Двое из них были в чинах и должны были отчитаться о подготовке выставки и о ходе расследования убийства Синюгина. Третий же, простой жандарм, похоже, неуютно ощущавший себя в министерском кабинете, был источником той переворачивающей сознание новости, которую поведал накануне Государь, и явился сообщить министру всё, что знал, без искажений, из первых рук.
— Павильоны обыскали на предмет взрывчатки или полостей, могущих служить для закладки оной, — рассказывал первый докладчик. — Всё чисто. Правда, выявили несколько подозрительных рабочих, которые сопротивлялись обследованию помещений. Не исключено, что это профсоюзники или сообщники нигилистов, так что за ними рекомендуется надзирать. Сама стройка павильонов подходит к концу, но отделочные работы несколько отстают от того, что предполагалось...
Ещё и отстают! Николай Львович шумно вздохнул. Никак профсоюзники саботируют стройку намеренно, чтобы посеять смуту! Нынче-то рабочий пошёл грамотный, так иной раз такой будет хуже интеллигента... Ладно, надо увеличить финансирование стройки, делать нечего...
— А что с экспонатами?
— Ожидаются — и в наилучшем ассортименте, за это не беспокойтесь! Бакинская нефть, вологодское масло, каслинское литьё, самарские трёхколёски, нижегородские автопеды, вагоны из Пермской губернии и всё как положено... Царь-Телеграф изготовлен и едет Великим Сибирским путём. Павильон «Мира Искусства» уже расписывают, в Павильоне Балета уже репетируют, костюмы сшиты. Сейчас верстаем черкесов, текинцев и самоедов в деревни аборигенов. Кстати, граф Толстой желает тоже выставляться...
— Это что ещё за глупости? — нахмурился Николай Львович, сразу сообразив, что речь идёт ни о ком ином из семьи Толстых, как о скандальном писателе, исторгнутом из Православной Церкви.
— Такое он желание изъявил-с, — сказал чиновник. — Говорят, что из протеста против выставок. Вы же знаете, Ваше Превосходительство: для Толстого паровые котлы всё равно что мельницы для Дон Кишота, ненавидит их сильнее, чем японцев... Помните, как в том году он на паровую сенокосилку-то ополчился?.. Осмелюсь доложить, впрочем, что, так как граф Толстой сейчас в Европе а-ля-мод, выставление его, например, в павильоне Агрономии, может быть весьма выгодным делом. Кстати, кубы украинского чернозёма для этого павильона...
— Ладно-ладно, — оборвал его министр. — А что с Олимпийскими играми? С ними-то уж в лужу мы не сядем?
— Никак нет! Круглый цирк для атлетов уже возведён, маршруты гонок для шоффэров и для велосипедистов разработаны, извольте видеть, вот, — чиновник положил на стол какие-то рисунки. — Только вот атлетов у нас нет. Это, конечно, не страшно, в принципе, французы с англичанами без нас посоревнуются... Но мне кажется, Ваше Превосходительство, что для империи это не авантажно. Не распространить ли по губернским дворянским собраниям приказ выставить хотя бы одного атлета с уезда?..
Николай Львович мысленно выругался: вот ведь манера пошла идиотская, людям на играх биться!.. Язычники, что ли?.. Будь его воля, он бы одним махом запретил это позорище. Но раз уж в Европе это модно и раз Государь желает тоже в этой моде поучаствовать... Придётся и в самом деле кидать клич по дворянам, чтоб спортс-мэн`ов подыскать — не доверять же такое серьёзное дело, как представление Отечества на всеплатнетных соревнованиях, простонародью! Ладно, и с того, чай, выйдет польза: удастся заткнуть рот интеллигентам, рассуждающим, по какому праву дворяне владеют лучшими землями, если уж полтора века, как не служат. Вот и послужат атлетами: не зря ведь говорят, что в новом веке вместо войн будет спорт. А если их в достатке не подыщется, Николай Львович ради Государя и сам выступит хоть в гребле, хоть в вождении трёхколёсок, хоть в забеге, хоть в вождении дирижаблей...
Ладно, всё это можно попозже обдумать. Что там с расследованием?
— Отыскали пятнадцать свидетелей, ехавших в поезде, и допросили, — начал второй докладчик.
— И что говорят?
— Один — что бомбу бросил мужик в крестьянской поддёвке, второй — что студент в фуражке, третий — что стриженая девица, четвертый — что дама в годах, — стал читать по бумажке чиновник.
— Что, все разное сказали?! — возмущённо перебил Николай Львович.
— Никак нет. Двое показали на мужчину средних лет в мундире путейца, двое — на еврея в ермолке, двое — на священника...
— Какого ещё священника?! — закричал министр.
— Не могу знать.
— Они издеваются?
— И этого не могу знать, вашпревосходительство... Ещё трое сказали про даму в турнюре.
— С чего вы вообще взяли, что это действительные свидетели?!
— Расспросили на ближних заводах, они объявились. Ещё объявление в несколько газет дали с просьбой прийти тем, кто видел.
— Очевидно же, что это не свидетели, а либо сумасшедшие, либо сообщники, которые хотят нас сбить со следа! Настоящих найдите!
— Так точно.
— А что говорит наш агент у энэмов?
— Говорит, что изо всех сил отговаривал от убийства, но его не послушали. Слышал, что у них там был ещё один бомбист, который ошивался около места на случай, если первый не попадёт, но ушёл, не бросив. А про то, кто был в поезде, говорит, что они этим с ним не делились.
— Вам известно, что этот агент бесполезен? — мрачно поинтересовался Николай Львович. — Вы сколько ему платите?
— Пятьсот рублей в месяц. Так точно, — ответил чиновник в обратном порядке.
— Рехнулись?! За половину этих денег можно завербовать гораздо более полезного информатора! Пройдитесь по студенческим кружкам, по поэтическим сходкам, по женским курсам! Поспрашивайте у фабричных, какие агитаторы к ним захаживают! Отправьте людей к земским и попытайтесь вывести их на откровенные разговоры! Вы обязаны найти выходы на террористов! Каждого второго из них как правило можно завербовать, если не за деньги, то за услуги! Умные жандармы за пару штанов переманивают нигилистов на свою сторону, остолопы!
Николай Львович разошёлся, принялся ругать чиновника, сказал, что провинциальная жандармерия в Саратовской губернии работает лучше, что заевшиеся столичные «охранители». В конце концов сказал то, о чём думал: им за месяц надо не просто раскрыть убийство Синюгина, а разогнать, обезглавить, по крайней мере, ослабить этих энэмов! Куда это видано, что бандиты, имя которых знает весь Петербург, взрывают направо и налево, а полиция бессильна пересажать их хотя бы наполовину! Чиновник кивал и со всем соглашался. В конце концов, Николай Львович разозлился настолько, что выгнал и его, и докладчика про выставку. Лишь после этого сообразил он, что жандарма с особым докладом действительно лучше послушать один на один...
— Так ты, значит, был на месте взрыва? — обратился к нему, несколько испуганному, министр.
— Точно так, Ваше Превосходительство.
— И что же ты услышал?
— Одна баба сказала, что сын её... ну... это самое...
— Стой! По порядку рассказывай.
— Слушаюсь. Значит, когда взорвалось, там одну бабу ранило, видно, фабричную. Другая подбежала к ней, молиться, причитать стала. А та ей говорит: «Мол, дура я, молчала, мол, так долго, как теперь как бы мне и не помереть со своим секретом». И дальше ей: «Миша — царевич!».
— Она пояснила?
— Так точно. Сказала, что когда Нечаев из Алексеевского равелина выскочил, да всю императорскую фамилию порешил, ейный муж самого маленького царевича выхватил из пожарища в суматохе, да и к себе взял. Говорит, сперва хотели царского дитятю возвратить, да привязались: своих не было.
— Речь идёт о Михаиле Александровиче, внуке Александра Второго? — спросил министр, вспоминая как во всех газетах двадцать лет назад писали, что во взрывах и пожаре, организованном вырвавшимися из крепости бесами, тела царской семьи так искорёжило, что останки двухлетнего Михаила не сумели выделить из угольев, оставшихся от его близких.
— Не могу знать, Ваше Превосходительство. Но должно быть, о нём. Он же маленький был в эту пору.
— Значит, раненая женщина была похитительницей великого князя, которая воспитала его как своего сына... А ты понял, кто была вторая?
— Вторая была молодая. Я так понял, что это какая-то её родственница, может быть, дочь... Хотя, если у неё не было своих детей, возможно, это жена похищенного царевича.
— Скажи, — министр задумался и перешёл на непривычный для себя задушевно-доверительный тон. — Ты правда веришь, что великий князь Михаил выжил?
— Та баба, она помирать собиралась, — ответил жандарм. — Уж не знаю, померла ли или нет. Но перед смертью, пожалуй, не стала б она сочинять-то...
— Но кто мог оказаться на месте и похитить ребёнка, кроме самого Нечаева и его сообщников? — спросил Николай Львович.
— Охрана Алексеевского равелина, — незамедлительно отозвался информатор.
— Разумно. Значит, надо поднять списки, кто в то время там работал... — ответил министр.
Он решил, что пошлёт за архивами незамедлительно, но внезапно замер и задумался. Потом заулыбался, отпустил жандарма и почувствовал, как настроение с каждой секундой становится лучше и лучше. Николаю Львовичу явилась замечательная идея, как решить все три проблемы одним махом: и выставку обезопасить, и энэмов наказать за из бесчинства, и снять все вопросы в истории с Михаилом...
Глава 7, В которой Варя перелезает через работниц и участвует в политических разговорах.
Варе везло. Во-первых, ни одна из травм, полученных при взрыве, не оказалась серьёзной: по крайней мере, так сказал фабричный доктор, на визит к которому ушло двадцать копеек и пять минут. Во-вторых, Миша поверил, что Ольга Саввишна и в самом деле не открывала Варе никаких секретов. В-третьих, юбку, постиранную вчера и провисевшую вместе с остальным бельём обитателей рабочей казармы в общей постирочной целые сутки, не украли. Она высохла и даже почти что не напиталась запахами устроенного неподалёку от ретирадного места. Юбку теперь можно было забрать и идти на боковую с лёгким сердцем.
До выключения электросвечей оставалось всего полчаса, и все сорок лежанок женского спального зала на втором этаже Симоновской казармы уже были заняты: её, Варино, место последнее ожидало свою постоялицу. Кое-кто уже спал, не обращая внимания ни на свет, ни на папиросный дым, ни на гомон соседей, ни на пару незнакомых мужиков, прилаживаюших к стене какую-то странную штуку, похожую на цветок колокольчика. Варя перешагнула через Прасковью, потом через Марью, протиснулась между Агафьей и Ксенией и почувствовала себя дома. Работница из ночной смены, которая спала на этой койке днём, аккуратно скатала свою рогожу, оставив место в почти полной чистоте — опять везение! Варя смахнула мышиный помёт, разложила мешки из-под хлопка, служившие ей постелью, уселась сверху.

Слева от неё отдыхала Дуня. Это была бойкая работница, которая часто ругала начальство, из-за чего получила прозвание «коммунистка»: например, совсем недавно она провела две недели в арестном доме за участие в маёвке. А ещё у «коммунистки» была вторая, сменная юбка, которую та милостиво разрешила Варе надеть сегодня взамен испачканной. Справа была тоже Дуня, другая. С ней на её койке жил трёхмесячный ребёнок, которого она прижила, как сама рассказывала, от какого-то пожилого лакея в надежде, что он на ней женится. Пока Дуня была на работе, за ребёнком за деньги присматривала семилетняя дочка другой работницы. Впрочем, присматривала она, кажется, не очень хорошо, потому что тот вечно болел и мать каждый день шептала ему на ухо какие-то молитвы и заговоры.
— Высохла уже? — спросила Дуня-коммунистка, указав взглядом Варину юбку.
— Ага. — Сказала Варя и ещё раз поблагодарила за одолженную вещь. — Я бы её тебе прямо теперь отдала, да как раздеваться, когда тут мужики эти! Что это за штуку они прилаживают?
— Это громкоговоритель называется, — ответила коммунистка, которая к тому же всегда была в курсе всех дел. — От него провод идёт в кабинет, где фонограф стоит с телефоном. Там мастер заводит — тут слышно.
— А что заводить будут? Вот бы романсы!
— Держи карман шире! Говорят, что церковную службу одну записали и станут включать каждый день.
— Для чего это?
— Да ясно, для чего! Хотят воскресный день рабочим сделать! А чтоб бабы не роптали, что их в церковь не пускают, им эту церковь в казарме таким вот манером устроили! Чёртовы буржуи-кровопийцы, чтоб им пусто!.. Хоть бы батюшка-царь всё узнал! Уж он бы в обиду не дал нас, во всём разобрался б...
— А что, Дуняша, — вдруг спросила Варя. — Вот хотела бы ты выйти замуж, например, за царя? Ну, если бы возможность подвернулась? А?
— Да Бога побойся! Ведь он же женат!
— Ну не за царя. За цесаревича.
— А разве он есть нынче?
— Да ты к словам не цепляйся! Вот если бы был — то хотела бы?
— Ну Варька, что за глупые мечтания? Сама-то вот подумай: если бы царевичи женились на работницах, то за кого бы тогда выходили царевны? За фабричных мужиков, что ль? Ну?..
— Царевичи бы не перевелись, если бы один из них, пусть самый завалященький, женился бы на одной из нас, — ответила Варя. — И потом, знаешь, все говорят, что в двадцатом веке всё будет по-новому, по-другому. Ну так ты бы хотела?
— На кой?
— А что, я бы хотела! — внезапно отозвалась другая Дуня, качающая ребёнка. — Царевич так царевич, чай, не хуже мужиков!
— На тебе, Дунька, даже лакей не женился, — ответила «коммунистка». — В общем, хватит вам, девчата, чушь нести: за такие разговоры, знаете ли, и в кутузку попасть недолго. Царь — он отец для всех нас! Он от бога! На таких, как мы, из их царского рода никто и не поглядит! Мы для них и не девки, а так — насекомые... Вот что.
Свет погас. Двое рабочих, всё-таки успевших приладить к стене свой так называемый громкоговоритель, ушли кое-как, спотыкаясь впотьмах о работниц. Варя сняла юбку, отдала её соседке. Улеглась. До гудка побудки оставалось не так много времени, чтобы выспаться, и надо было бы начать использовать это время прямо сейчас... Но сон упорно не шёл. И слова, сказанные Ольгой Саввишной тогда, когда она думала, что умирает, тоже не шли из головы.
Дуня правильно сказала: никто из царской семьи даже не посмотрит ни на одну из них, обыкновенных фабричных девчонок. Если Миша узнается, что он не родной своей матери, что он из царской семьи, он конечно на Варе не женится! Как пить дать, царевну искать себе примется! Немку какую-нибудь. Царица, она немка ведь должна быть, разве нет? А Варя навечно останется в этом клоповнике: будет гнуть спину на фабриканта и никогда не сумеет позволить себе койкоместа в квартире, тем более — комнаты целой...
Нет, открывать Мише тайну до свадьбы нельзя ни за что. Да и после не следует. Ну его, всё это царство! И вообще, какой из Миши государь?! Что он смыслит в подобных делах? Бог даст, будет всё-таки наследник у Сергея Александровича, ведь они с женой ещё не старые — ему и следом царствовать. А они с Мишей как-нибудь так, по-простому уж, как уж привыкли...
Знать бы только, что это за странный тип преследует Мишу и как он связан с запретным секретом! От него для будущего Вари определённо исходила опастность. Надо было его как-то обезвредить...
Глава 8, В которой Николай Львович ругает российскую и одобряет американскую архитектуру.
— А вот тут, изволите ли видеть, будут начинаться гонки велодирижабльщиков, — сказал начальник стройки. — И сюда ж они прибудут, с Божьей помощью.
Николай Львович огляделся. Пять минут назад они с начальником стройки поднялись на Голодаевские ворота, долженствующие стать наиглавнейшей достопримечательностью выставки. Ворота эти были сложены из длинных металлических жердей, переплетенных наподобие паутины в странную сетчатую конструкцию навроде песочных часов, соединенных донышками рюмок или, как любили умничать газеты, «гиперболоида». Две странные башни, лишенные внешних стен и сплетенные из стали так, как будто это ивовые прутья, служили опорами главных ворот Всемирной выставки: на каждой из них электрическими свечами было написано «Вперёд, в XX век!» — на левой — на французском языке, справа — по-русски. Верхние «рюмки» конструкций были крупнее нижних, и потому в вышине они соединялись, образуя над воротами площадку в виде восьмёрки. Попадали на эту площадку при помощи лифта, то есть американской подъемной машины на электричестве, размещённой в стеклянном цилиндре внутри каждой из опор. Николай Львович только что поднялся на левом лифте вместе с начальником стройки, его адъютантом, своим секретарём и парой писарей. Казаки министерской охраны в лифт не поместились, так что пришлось оставить их внизу: начальник стройки уверил министра, что наверху точно нет ни бомб, ни нигилистов, и вообще подъёмник совершенно безопасный. До верху они добрались и в самом деле без приключений, да и вид из лифта открывался впечатляющий; а уж оказавшись наверху, Николай Львович вообще увидел Петербург как на ладони... И всё же ему была не очень-то по душе эта вавилонская башня. Да и голова от высоты такой кружилась.
Но служба есть служба.
— Отсюда стартуют? — Спросил он начальника стройки, кивнув на ряд отходящих от верхней площадки лепестков стекла и стали, напоминающих крылья бабочки.
— Точно так, Ваше Превосходительство! Это дебаркадеры. Велодирижаблисты должны будут добраться до центра города, собрать бумажные флажки с Адмиралтейской иглы, шпиля Петропавловской крепости, Александровской колонны и других высоких мест. Таким образом, они продемонстрируют умение не только развивать скорость, но и маневрировать, прокладывать маршрут и менять высоту. Победителем станет тот, кто вернётся первым и доставит флаги всех цветов. Кстати, сами они уже изготовлены на фабрике Варгуниных и во избежание подделок защищены орловской печатью... А вот эти места, — начальник стройки указал на небольшой зрительный зал, расположенный здесь же, на высоте, — эти места займёт наиболее респектабельная публика, имеющая средства наблюдать дирижаблистов непосредственно. Все остальные смогут свободно смотреть на соревнования с земли.
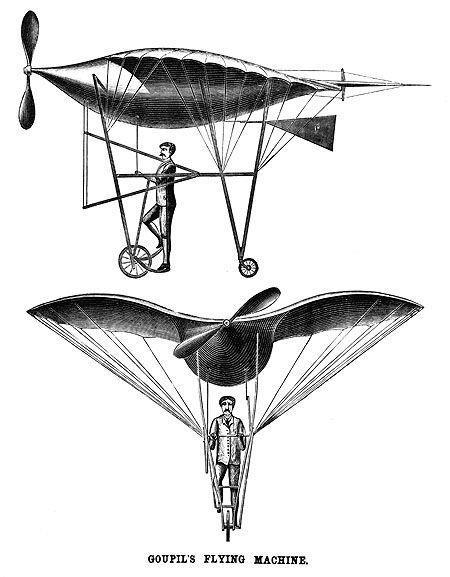
Министр кивнул. Вообще, сама идея соревнования велодирижаблистов была ему не по вкусу: это транспортное средство в Петербурге с самого момента его появления было зарезервировано за Охранным отделением; теперь же получалось, что хоть на день, но случайным людям в руки давалось особое средство, составляющее привилегию блюстителей общественного спокойствия и способ устрашения злоумышленников... Стальная марля из гигантских прутьев вместо ворот его тоже не приводила в восторг. Неужели нельзя было возвести нормальную триумфальную арку с греческими колоннами, барельефами атлетов, гениями в крылатых сандалиях и конной повозкой наверху, как это делалось во времена хорошего вкуса?! Разумеется, этот проект не мог строиться без утверждения Государя, и всё же...
— А что, сударь, ежели честно: нравится вам самому-то вся эта конструкция?
— Конструкция изрядная, — уклончиво ответил начальник стройки.
— Как по мне, так хуже Эйфелевой башни! — выругался министр. — Впрочем, это не в ваш огород камень! Просто зодчие нынче пошли... Даже зодчими назвать язык не поворачивается!
— Нынче, Ваше Превосходительство, вместе зодчих уже инженеры! — Заметил начальник. — Эти ворота, если Вашему Превосходительству угодно знать, такой инженер Шухов разработал. Он нынче в моде. Нефтяные резервуары проектирует ещё. И нефтепроводы.

— Докатились! — Ответил министр. — А впрочем, пустое. Уникальный летательный аппарат тяжелее воздуха русского гения тоже отсюда взлетать будет?
— Нет, он со стадиона. Вот, извольте поглядеть.
Начальник стройки вручил Николаю Львовичу бинокль и указал нужное направление. Ристалище модной округлой формы располагалось неподалёку от главных ворот, и его можно было увидеть и невооружённые взглядом, но бинокль позволял разглядеть детали.
— Там будут проводиться соревнования по стрельбе из лука, перетягиванию каната, гимнастике, атлетике, крикету и крокету. А в последний день стартует аппарат. Впрочем, наблюдать его полёт удобнее всего будет именно отсюда, и билеты на ворота для состоятельной публики будут, конечно же, продаваться.
— А взлетит ли он? — с сомнением спросил Николай Львович.
— Ну, Бог даст — взлетит... Инженеры творят невозможное...
— Ладно, — министр сменил тему. — А почему у вас на этом «стадионе» царской ложи нет? Я смотрю, все скамьи одинаковы. Как так?
— Не предусмотрена-с...
— Что значит, «не предусмотрена»?! Государю, что, смотреть соревнования вместе с чернью?
— Ну... В Афинах-с не было-с...
— Как не было? Ведь в Греции всё есть! Это вы, дурни, не доглядели! Немедленно построить, пока время есть!
— Так точно-с...
Ещё минут десять Николай Львович с помощью бинокля инспектировал постройки к предстоящему мероприятию: почти готовые стартовые площадки для пловцов на Неве, зрительские трибуны для наблюдения за плаваньем и греблей вдоль Петровской набережной, маршрутные метки для велосипедистов со специальными гнёздами для фотографов и кино-операторов... Разумеется, не мог он не полюбоваться и на павильоны самой выставки. Вот, итальянцы снова строили что-то в духе возрожденческого палаццо; испанцы возводили мрачное подобие Эскориала; французы плели новомодные кружева из стекла и стали; германские дредноуты и пушки собирались выставляться в окружении стен пряничного домика, как будто из рождественской сказки — кстати, он один был уже полностью готовым. Средневековый псевдо-замок Венгрии переходом соединялся с покрытым мозаиками австрийским, отчего-то показавшимся похожим на санаторий или модную больницу для истеричных. Под этим переходом ютился маленький киоск Боснии и Герцеговины — пока что отдельный. Трасвааль и Китай тоже имели свои павильоны — должно быть, в последний раз. Лично Николаю Львовичу больше всего понравился павильон США — он был выстроен по славной моде времён Очаковских и покорения Крыма и нёс дух порядка, стабильности и уважения к предкам. В общем, сразу было видно, что серьёзными людьми построен дом! Не то, что несколько жалких одно-двух этажных избушек, соединённых кривыми тропинками с торчащими кое-где столь же кривыми и жалкими деревцами, которые поставили на отведённой им территории япошки. Что за отсталая нация, XX век уже на носу, а они до сих пор по-человечески строить не научились! Вот англичане... Впрочем, на Британский павильон министр вообще смотреть не стал — противно было.

Русская часть выставки, ловко соединяющая новомодное извилистое декадентство и горделивую славянскость, хотя и была далеко ещё не достроена, обещала стать великолепной. Площадь павильонов была больше, чем у любой такой выставки прошлых десятилетий. Нефть, сталь, паровозы, паромобили, золото, хлеб, скот, элекроэнергия, «Мир искусства», «Могучая кучка», балет, теософия — кажется, не было ни единой области достижений Империи, которая не нашла бы места на экспозиции! И с популярными нынче деревнями аборигенов не только не подкачали, но превзошли! На прошлой выставке в Париже их было две, а у нас целых три будет: с кавказскими туземцами, с центральноазиатскими и сибирскими! Пусть не думают горделивые европейцы, будто русский народ хуже них несёт бремя белого человека!
— Прошу заметить, Ваше Превосходительство, что деревни сообщаются с павильонами, представляющими основные достижения хозяйства данных провинций. К посёлку текинцев примыкают павильоны Текстиля и Коневодства, с посёлку самоедов — павильон Золота, а черкесский аул непосредственно сообщается с павильоном Нефти. Таким образом, зритель будет незаметно для себя переходить как бы от дикости к цивилизации и видеть выставку единым целым, не отрываясь!
— Превосходно, — ответил министр, разглядывая, как на искусственной горе сбоку от Нефтяного дворца лепятся друг к другу свеженькие аккуратные сакли.
Потом он подумал, что надо распорядиться всё-таки вербовать в деревни грамотных туземцев, а не абы каких. Лучше даже чтоб гимназию окончили. А то пускать совсем уж диких в эту красоту опасно как-то: не дай Бог, всё разломают по темноте своей; а то и решат навсегда поселиться, потом их не выдворишь...
Додумать эту мысль до конца он не успел, потому что услыхал какие-то крики снизу. Опустил бинокль и увидел у подножия ворот человека в мундире Министерства внутренних дел. Тот, крича, размахивал какими-то бумагами.
— Пропустить! — крикнул Николай Львович своей охране.
Пять минут спустя запыхавшийся чиновник оказался наверху, подле министра.
— Ваше Превосходительство! Вы велели срочно сообщить по сему делу, если новости появятся! Потому я счёл нужным явиться сюда. Вот... — Докладчик показал на бумаги, которые ветер бесцеремонно трепал в его руках.
Министр сразу же понял, о чём речь, и велел начальнику стройки оставить его с подчинённым наедине.
— Подняли архивы по равелинной команде?
— Так точно-с! В последнем составе охраны служил Иван Коржов, из крестьян Ярославской губернии, 1840 года рождения. На суде клялся, что не знал о планах Нечаева. Свидетели утверждали, что он самолично убил одного из народовольцев по время бойни. После бойни со службы ушёл, умер пять лет назад.
— И почему вы думаете, что именно тот, кто нас интересует.
— У раненой старухи та же фамилия, Ваше Превосходительство! Коржова Ольга Саввишна, вдова.
— Допросили её?
— Допросили, так точно! Но она пока в бреду, так что толком поговорить с нею не представлялось возможным... Узнали только главное: у неё есть сын Михаил, двадцати одного года от роду.
— Михаил... Двадцати одного... — Повторил министр, прикидывая, сколько должно быть сейчас цесаревичу. Да, всё сходилось.
— Курьёзно, Ваше Превосходительство, то, что этот юноша работает как раз на сией стройке!
— Вот как! Где же именно? — Задумчиво произнёс Николай Львович, ещё раз осматривая в бинокль территорию будущей выставки, словно надеясь увидеть там неуместно выжившего Романова.
— Не могу знать-с! Разведаем-с!
— Разведайте, разведайте! А потом примите меры незамедлительно...
Глава 9, В которой Миша воздвигает идолов и уличает газетчиков во вранье
— А если не придёшь, сказал, то мы тебя похитим!
— Прямо так и сказал?
— Да.
— А он не цыган, часом, был? — спросил Ваня.
— Да нет же! Говорю, одет как барин! — объяснил ещё раз Миша. — Варя думает, что это адвокат. Хотя всё равно непонятно, на кой я им сдался.
В этот раз они белили потолок в будущем павильоне Текстиля. Пожалуй, он нравился Мише больше всех остальных на этой выставке: купол из стали и матового стекла, повторяющий очертаниями хлопковую коробочку он заприметил на стройке уже давно, а теперь, когда попал внутрь, оказалось, что и оконные рамы, и внутренние светильники тоже сделаны в виде плодов туркестанского золота. Самопрялки и самовязалки не хуже английских почему-то завезли и уже выставили в павильоне, не дожидаясь отделки. Так что после побелки их с Ваней, скорее всего, ещё ожидало несколько часов мытья машин от извёстки. Впрочем, был шанс, что они уйдут быстро, и отмывать экспонаты придётся кому-то другому...
— А как думаешь, может быть, сходить к ним туда в самом деле, а Вань? Не убьют же меня в самом деле! Кому вообще я сдался и на что — не понимаю! А то что да как разузнаю, так хоть голову не буду ломать над этой загадкой!
— Не знаю, — ответил напарник. — Вот я бы поостерёгся. Благонамеренные люди, они, знаешь ли, так себя не ведут. Туман вокруг себя не напускают, не запугивают, сразу говорят, какое дело.
— Вот и Варя так сказала, — вздохнул Миша. — Как тебе не стыдно, говорит, забивать голову разговорами с какими-то прохиндеями, когда у тебя мать в больнице и еле жива.
— Дело говорит, — заметил Ваня.
— А матери, что, хуже, что ли, будет, если я схожу, да разузнаю, кто такие ко мне сватаются? Меня к ней всё равно не пускают. А вдруг этот человек подошёл ко мне именно возле больницы, потому что у него есть какое-то чудодейственное средство для излечения таких пострадавших от взрыва?
— Дуля с маком, а не средство, — Ваня хмыкнул. — Я бы на твоём месте лучше отдал ту записку жандармам. Подозрительно всё это, знаешь ли...
— Жандармам, ага! — отозвался Коржов в том же духе. — Да много с них проку! Вот придут следующий раз наш пол ломать, тогда отдам.
Ваня, кажется, обиделся на то, что напарник настолько скептически отнёсся к его предложению. Следующие полчаса они работали молча, лишь изредка перебрасываясь фразами, касающимися только побелки и потолка. Миша думал то о матери, то про то, как нынче снова попытается в больницу к ней попасть, то о том барине: признаться, размышления о последнем несколько отвлекали от тягостных дум насчёт первой.
Когда до окончания смены оставалось не более часу, пришёл десятник и неожиданно заявил, что Коржову надо отправиться к павильону Голландской Ост-Индии и помочь там с отделкой. Ваня при этом остался в «Текстиле» один. Это было чуть-чуть странно, потому что до сих пор они всегда были напарниками. Впрочем, десятник объяснил, что помощь голландцам нужна только на сегодня, буквально минут тридцать, и вторых рабочих рук там не потребуется. Как правило, иностранные павильоны строили иностранные же рабочие: выполнение своих диковинных задумок модные архитекторы русским иванам, едва разбирающим французские или английский чертежи, не доверяли. Но иногда своих рук не хватало, и русских просили помочь. Словом, если поручение десятника и показалось Коржову необычым, то лишь самую малость.
***
Павильон Голландской Ост-Индии напоминал собою трехэтажную шкатулку из резного железобетона, всю покрытую восточными узорами. Кое-где на карнизах стояли и сидели индийские божки. Ещё несколько их изваяний из камня лежало вокруг. Возле павильона, извергая клубы пара, пыхтел кран: он как раз поднимал эти статуи и размещал на фасаде, где их прилаживали смуглые парни в тюрбанах.

Мише сунули рисунок архитектора и попросили стоять снизу, показывая жестами крановщику, куда двигать стрелу. В подобной работе Коржов был задействовал впервые и чувствовал себя не очень-то уверенно, да и не понимал, чем он, случайный человек, годится для неё лучше, к примеру, стропальщика, привязывавшего фигуры к стреле и в процессе подъёма топтавшегося без дела... С горем пополам они разместили одного божка, а потом ещё одного... Затем крановщик высунулся из машины и по-русски потребовал Мишу подкинуть дровишек в котёл. Коржов, до сих пор думавший, что в кабине сидит голландец или индус, слегка удивился, но по своей привычке промолчал. Обошёл машину сзади, открыл топку, заложил туда пару поленьев, складированных поблизости... Правда, в этот момент машина не к месту сдала назад, едва не наехав на Михаила.
Тихо выругавшись, он вернулся к работе. Очередной идол уже болтался на высоте третьего этажа. На несколько секунд Коржов уставился в рисунок, чтобы сообразить, для какой части здания предназначается этот божок... когда вдруг услышал свист над ухом, бессознательно дёрнулся в стону и едва не оглох от ужасного грохота.
Идолище упало буквально в паре вершков от того, где он находился.
Царица небесная! Он всегда знал, что от этих языческих изваяний добра не жди!
***
— Что, индус, уже закончил? — спросил Ваня.
— Самого они меня чуть не закончили, — мрачно ответил Коржов, возвратившись в «Текстиль». — Идиоты там какие-то работают! Безрукие совсем! Мало того, что без русского человека даже идолов своих расставить по зданию не сумели, так ещё и краном чуть не задавили, а потом одну из статуй мне на голову свалили! А в ней, почитай, пудов двадцать!
— Как ты жив-то остался?
— Да чудом совсем отскочил! Видать, Бог уберёг! И где только таких горе-работников набрали-то, ума не приложу!
— Так расставили тех идолов?
— Куда там! Я как кричать на них начал с испугу-то! А те — на меня, до по матери! А я тогда им тем же! Тут десятник прибежал — и ну нас материть уже всех вместе!
— Так ты же говорил, они не русские?
— Да бес их разберёт всех! — буркнул Миша. — Русские, не русские, один чёрт — косорукие болваны! Да их каменные боги их ловчей, небось!
Ещё минут пятнадцать он ругал на все лады крановщика, стропальщиков и всех остальных, кто имел отношение к павильону Голландской Ост-Индии. Потом постепенно остыл. Ладно, с кем не бывает на стройке-то... Дело такое...
— У меня дядьку на стройке покалечило, — заметил Иван, как бы подтверждая нормальность происходящего.
В общем, через полчаса, к концу рабочего дня, Коржов уж почти и забыл, что с ним приключилось.
***
После смены Михаил двинулся к станции городской железной дороги, чтобы вновь отправиться в больницу, где лежала мать. На беду, поезд ушёл у него прямо из-под носа. Это означало, что следующего состава придётся ждать, пожалуй, минут десять. Чтобы скоротать время, Коржов взял номер «Петербургского листка» за две копейки и устроился на кованой скамейке, чья модная спинка в виде смеси крыла бабочки и листика рябины оказалась на удивление неудобной. «Должно быть, это всё для важных дам в корсетах сделано, — подумал Михаил. — Не для наших спин рабочих, очевидно».
Он быстро проглядел первую страницу, заполненную рекламой. «Крем Казими «Метаморфоза» от веснушек», «Феномен Е. Лаво — средство для ращения волос», «Люксфер призмы — новое единственное изобретение для проведения дневного ровного света в самые тёмные и отдалённые помещения», «Велосипеды «Товарищ» с большой уступкой», «Частная санатория для душевнобольных с отделением для хронических морфинистов...». Здесь ничего интересного не было. Дальше следовала часть официальная. В ней сообщалось о кончине министра иностранных дел Муравьёва, о спуске на воду нового крейсера, названного «Авророй» в честь какого-то старинного фрегата, и о приглашении сведущих в спорте дворян поучаствовать в Олимпийских играх, долженствующих иметь место при Всемирной выставке. Это всё Мишу тоже не увлекло. Из отдела иностранных телеграмм и надеяться не приходилось вычитать что-либо занимательное: «В Тянцзине обстреливаются большими орудиями Иностранные концессии, причём почти все сожжены, а американское консульство разрушено», «Колонна Гамильтона собирается открыть сообщение между Преторией и Наталем и воспрепятствовать соединенному действию трансваальских и оранжевых буров», «Султан выразил горячее сожаление по поводу кончины М.Н. Мурьвьёва», «Хедив болен заразной формой воспаления горла»... До хедива Мише дела не было, да и до турецкого султана, в общем, тоже. В сообщениях о заграничных делах почему-то почти никогда не было хороших новостей: даже простого рабочего, не окончившего и гимназического курса, они наводили на мысли, что конец света не за горами. Пролистав результаты торгов на бирже, сообщения о распродажах имущества разорившихся, краем глаза проглядев театральные отзывы («за исключением одной лишь последней сцены, проведённой с достаточным воодушевлением, всё остальное носило отпечаток некоторой вялости и апатии, столь не свойственных обычному нервному подъёму артистки»), Миша открыл свой любимый раздел — городских происшествий. По чести сказать, здесь тоже редко обнаруживались хорошие новости, но и плохие имели такое свойство, что не наводили на мысли о конце света, а забавляли. Иногда даже, читая о каком-нибудь крестьянине, скоропостижно скончавшемся на Сенной площади, или попавшем под лошадь студенте, Миша испытывал некоторый душевный подъём от того, что случилось всё это не с ним, а с другими.
Происшествий, как обычно было много:
«С квартиры вдовы дворянина Пулевич, дом 6 по Гороховой улице, неизвестно кем через незапертое окно совершена кража шкатулки с 25 рублями денег и старого будильника, стоящего 2 рубля».
«В течение истекшей недели задержано нищих: 25 мужчин и 1 женщина».
«На И. Сидорова, работавшего на пароходе «граф Аракчеев», упал тяжёлый мешок с углём, который причинил ему перелом голени».
«Рабочий М. Коржов, трудившийся на возведении павильонов всемирной выставки погиб вследствие несчастного случая около павильона Голландской Ост-Индии. Труп отравлен в анатомический покой».
— Что-о-о?! — вырвалось у Миши. — Вы с ума сошли? Рехнулись!
Он ещё раз перечитал последнюю новость. Всё как было. Ему не мерещилось.
— Что там такое? — спросил незнакомец, молодой парнишка с поднятыми на лоб круглыми очками электротехника. За то время, что Коржов был на скамейке, он успел пристроиться рядом и теперь читал «Листок» бесплатно, через плечо.
— Да пишут, что я умер! — сказал Миша. — Представляете?! Вот тут. «Эм. Коржов» — это я. А я жив!
— Ну это ж хорошо, — сказал парнишка. — Может статься, это всё-таки не вы? Может, это ваш однофамилец?
— Нет, я! — ответил Коржов. — Я как раз на стройке выставки работаю. И меня сегодня возле павильона Голландской Индии чуть десятипудовым болваном не задавило!
— А, это уже хуже, — сказал парень.
— А до этого чуть краном не наехали! — вдруг вспомнил Михаил.
— Ещё паршивей. Сдаётся мне, уважаемый, что кто-то хотел вас убить. Этот кто-то заранее дал сообщение в газету о том, что вы умерли...
Миша раскрыл рот, не в силах вымолвить ни слова. Мысль об убийстве пришла ему одновременно с незнакомым собеседником. Но как, кому, зачем могло понадобиться?.. Растерянный, Коржов только и мог, что водить глазами по станции, по путям, по соседу, рядом с которым стояла тачка, полная угольных стержней навроде тех, что используют в яблочковских светильниках... «Фонарщик, что ли? — мелькнула пустая мысль. — Он с тачкой в вагон не пройдёт. И зачем он на станции?».
— Вот вы, Михаил Александрович, умных людей не слушаете, оттого с вами всякие гадости и случаются, — неожиданно проговорил незнакомец. — Пошли бы в Свято-Егорьевский переулок к Арнольду Арчибальдовичу — так небось бы и не было всей этой белиберды.
Коржов, едва начавший приходить в себя, вновь лишился дара речи.

Фонарщик встал, взялся за тачку и пошёл прочь как ни в чём ни бывало.
Миша только и смог, что проводить его шокированным взглядом. А затем по железному стуку колёс догадаться, что он пропустил и второй поезд тоже.
Глава 10, В которой Венедикт лежит между Сен-Жюстом и динамитом.
— Слушай, может, бросишь уже все эти условности? — Спросила Роза. — Плюнь на всё и залезай ко мне в кровать. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на соблюдение сословно-образованных приличий!
Поскольку они с Венедиктом снимали квартиру как муж и жена, спальня у них была одна и кровать в ней тоже. Вера Николаевна спала в кухне на сундуке, как и полагалось прислуге. Молодые же супруги должны были перед лицом и домовладельца, и всех соседей делить брачное ложе. Можно было бы, конечно, нанять квартиру с двумя отдельными спальнями, но это было слишком в духе «Что делать?» Чернышевского, и закономерно угрожало подозрениями в нигилизме. Некоторых держателей конспиративных квартир это приводило к настоящим брачным отношениям, тем более, что они зачастую мало с кем общались вне круга единомышленников. Так или иначе, что касается их с Розой, Венедикт был уверен, что соратница не испытывает к нему ни малейшего интереса. Сам же он считал, что половые отношения и влюблённости — это пошло и по-мещански. Уж по крайней мере, до тех пор, пока народные страдания не прекращены и не отомщены! В самом деле, ну какие могут быть романы, пока проклятые выкупные платежи высасывают из крестьян последние деньги?!
В общем, спали они по-отдельности: Роза в постели, Венедикт — рядом с ней, на полу. Кровать он уступил: разумеется, не из какой-нибудь старомодной манерности, к коей привержены типы, считающие, будто женщина — не человек, а потому нуждается в том, чтобы ей пододвигали чашку с чаем, открывали двери и целовали ручку! Уступил из строго научных соображений, согласно которым, женщины нуждаются в тепле больше мужчин.
Впрочем, спать на полу летом было почти и не холодно. Поэтому от предложения Розы он отказался.
— Нет, спасибо. Да ты спи, не беспокойся!
— Боишься меня обесчестить? — иронически отозвались сверху. — Не волнуйся, я за честь-то не держусь. Помнишь, как Нечаев-то писал? Для нас, революционеров, понятие чести так же чуждо, как любовь, дружба и прочие эти изнеживающие чувства... И потом, ты знаешь, я не планирую жить настолько долго, чтоб ещё и выйти замуж...
— Нет-нет, я не из этих рассуждений! Ты, должно быть, привыкла одна спать. Тебе там просторно. Зачем я стеснять тебя буду?
— Ну, как знаешь, — ответила Роза.
То ли Венедикту показалось, то ли в её голосе мелькнула обида.
На самом деле, от приглашения он отказался не из-за того, что якобы не хотел стеснять её, и не из предрассудков. Просто помнил, что под Розиной кроватью размещаются пять футов гремучей ртути, три фунта пироксилина и фунт динамита — Зимний дворец не взорвёшь, но опасность изрядная. Конечно, случись что, ему, спящему рядом на полу, тоже будет не уцелеть. Временами по ночам Венедикту даже казалось, что терпкий запах динамита достигает его ноздрей, расползаясь из-под кровати... В такие моменты он отодвигался поближе к стенке, говоря себе, что всё это ненадолго, что царизм вот-вот падёт и тогда вся взрывчатка пойдёт на прокладку туннелей в горах... Словом, это было глупо и трусливо, но на кровати он, вероятно, вообще не уснул бы, думая без конца о пироксилине.
Со стены на малодушного Венедикта осуждающе смотрели Сен-Жюст и Манон Ролан. Зачем Розе понадобилось иметь у себя и развешивать эти портреты в конспиративной квартире, он, в общем, понятия не имел. Сама Роза говорила, что нуждается в изображениях идейных учителей для того, чтобы поддерживать в себе боевой дух. Повесь она Маркса, Белинского или Герцена, это сразу раскрыло бы их, зайди в спальню какая-нибудь надоедливая соседка. «А этих двоих обыватель в лицо не узнает. Если что, я отвечу, что это мои бабка с дедом», — сказала соратница.
— А как думаешь, Михаила и в самом деле пытались убить? — спросил Венедикт, чтобы переключиться с неловкого разговора на деловой.
— Ну, Федя врать не станет!
— Я не в этом смысле. Федя мог не так понять, к примеру...
— А как ещё можно понять, если объект наблюдения прямо сообщает, что на стройке был организован несчастный случай, а в газете потом пишут, что он умер? Сомневаться не приходится. Спасибо Провидению за то, что Михаил купил газету, а наш Федя оказался на дежурстве!.. Или ты сомневаешься? Можешь сказать, почему? Может, тебе не по нраву необходимость брать Михаила теперь, не медля?.. — спросила Роза.
— Нет, раз надо, то надо... Я просто пытаюсь понять, не упустили ли мы чего-нибудь. Просчитать другие варианты. Убедиться, что мы не ошиблись, что у произошедшего нет никаких других объяснений...
— Пока ты убеждаешься, Коржова укокошат. Вера Николаевна всё правильно сказала: пора уже не только брать этого парня под контроль, но и постараться обнародовать информацию про выжившего Романова. Я завтра же обойду всех знакомых газетчиков, передам письмо связному, знающему держателя типографии... Кстати, через клуб столоверчения, который располагается у нас снизу, тоже можно пустить этот слух: там наверняка довольно любителей слушать и пересказывать всякие невероятности... Если публика будет знать о том, что младший царевич остался жив и находится в Петербурге, убить его властям будет уже далеко не так просто. В любом рабочем, пострадавшем на любой мануфактуре или стройке, будут видеть Михаила! Чёрт, мы двух зайцев убьем одним махом! А может, и трёх! И общество подготовим ко встрече с новым царём, и в живых его сохраним, и безопасности на предприятиях сможем содействовать!..
— А откуда мы точно уверены, что убить его пытались именно власти? Не могло ли быть так, что к примеру, какая-нибудь другая, ранее неизвестная нам, революционная организация тоже узнала про выжившего царевича и, предположим, решила доделать работу народовольцев?..
— Нет. Абсурд. Исключено! Венедикт, ну, право, что за глупости наивные? От кого ещё газетчики могли получить сообщение о несчастном случае до того, как он произошёл, как не от властей? Им же сводку дают прямо из полиции!
— А зачем Сергею Первому убивать Михаила? У него же всё равно нет детей. Династия на нём грозит прерваться. Объявил бы спасение племянничка божьим чудом, сделал бы его своим наследником, забрал бы ко двору — и все довольны...
— Венедикт! Ты, что, не понимаешь?! — Роза свесилась с кровати. — По павловскому закону престол наследуется по прямой мужской линии, от отца к сыну. После смерти Александра II в течение суток считался царём Александр III! А если после того в живых сохранились его сын и брат, то законным наследником должен быть именно сын! Понимаешь? Сергей — узурпатор! А Михаил — не наследник! Михаил сейчас — законный император!!!
Глава 11, В которой Николай Львович сперва прикрывается ребёнком, а потом прикрывает его собой.
Левой рукой Николай Львович придерживал мальчонку лет двух-трёх, сидевшего у него на коленях, а в правой у него была газета. Читать в трясущемся экипаже было неудобно, но выделить отдельное время на чтение прессы теперь он не мог. «Редакция опровергает вчерашнее сообщение о гибели рабочего М. Коржова на стройке всемирной выставки. — Прочёл министр. — Приносим извинения за досадную ошибку. На самом деле возле павильона Голландской Ост-Индии погиб водитель крана Пузырёв». Царствие Небесное, подумал про себя Николай Львович. Одним дураком стало меньше. А то никому ничего поручить невозможно!.. Вообще говоря, он-то и не думал, что получится. Несчастный случай на стройке — это было соизволение Государя. У самого Николая Львовича имелся план более искусных действий в отношении конкурента, представлявшего угрозу заведённого порядку.
Ребёнок захныкал. Кажется, его ещё и укачивало в карете. Министр опасался, как бы его спутник не испачкал экипаж, но не придумал ничего лучше, чем взять малого за плечи, потрясти его и строго сказать:
— А ну тихо!
Мальчишка захныкал сильнее.
— Ладно-ладно, не злой я! — решил сменить тактику Николай. — Потерпи, малыш, скоро приедем. А через несколько дней броневик привезут. На нём ездить ловчее, качать уж не будет тогда!
Однако до поставки английского блиндированного паромобиля, который Николай Львович заказал, едва заняв должность министра, надо было ещё дожить. Каждая поездка по городу вызывала у него мрачные ожидания и рисовала перед мысленным взором остатки колясок Синюгина и предыдущих министров, а также студентов с подозрительными свёртками на каждом перекрёстке. Пока то да сё, пришлось распорядиться посадить жандарма с пулемётом на крышу коляски, велеть кучеру ехать как можно быстрее и как можно более неудобным и непредсказуемым маршрутом, да вот этого ребёнка завести. Говорили, будто нигилисты, корча из себя пускай и разбойников, но разбойников благородных, воздерживаются кидать бомбы в экипажи начальственных лиц, если с ними там едут их дети. Рабочее законодательство запрещало нанимать людей моложе десяти лет, так что мальца пришлось взять у его мамаши в аренду. Она так обрадовалась этому, что даже спросила, не пригодится ли Николаю Львовичу ещё один грудничок, которого она готова будет уступить за сходную цену через восемь месяцев...
Да уж, с этими детьми одни проблемы! Причём, если дети взрослые, эти проблемы не уменьшаются, а растут. Вот Зиночка на днях огорошила его новостью, что хочет вступить в некое «общество друзей живой природы». Участники этого общества, как оказалось, заняты тем, что гуляют нагишом в Летнем саду, исполняют там языческие пляски и, как сказала Зина, устанавливают связи с «Душой мира». Участвовать дочке в таком непотребстве, конечно же, нельзя было позволить. Пришлось объяснить, что половина таких кружковцев наверняка морфинисты, а вторая — символисты и другие половые извращенцы. К счастью, Зиночка ввиду своего доброго и послушного нрава легко переключилась на разговор о нарядах и пообещала выкинуть из своей милой головки всю «Душу мира» в обмен на новое платье.
И всё же оставлять этого просто так не следовало. Зиночка давно просилась замуж, он всё медлил, но теперь тянуть не следовало. Дадут или не дадут третий чин — это теперь зависело от того, как долго проживёт Николай Львович на своей новой должности. Так или иначе, он достиг пика своей карьеры — и более богатых, чем сейчас, перспектив в выборе жениха у них с Зиной не будет. Ну, а поскольку, ему теперь поминутно грозит опасность, надо было тем более поскорее устроить судьбу дочурки, чтоб одна не осталась, когда нигилисты его укокошат...
Одним словом, Зину надо было начинать вывозить в свет. Вот только для этого ей нужна была сопровождающая дама солидного возраста и положения. Мать бедняжки давно умерла, настолько близкой гувернантки, чтобы доверить ей эту роль, тоже не было. Вот и пришлось...
Экипаж резко остановился. Позади раздался грохот. Николай Львович упал на пол коляски, неуклюже закрыв собой арендованного ребёнка. «Не успел», — успел подумать он, прежде, чем понял, что на взрыв тот грохот похож не был.
По выходе из коляски обнаружилось, что грохот был вызван сверзившимся с крыши пулемётчиком: ехали-то, как велел министр, очень быстро, вот и торможение слишком резким получилось. Николай Львович выругался про себя, поручил кое-как поднимающемуся с мостовой пулемётчику присмотреть за мальчишкой и мигом, чтобы только нигилисты не заметили, забежал в парадный подъезд большого доходного дома. Здесь жила сестра министра. К ней и ехал.
Николай Львович никогда не был особенно близок с этой сестрой. Она была намного его младше и ещё играла в куклы, когда он уже делал карьеру в Таврической губернии, где провёл несколько лет жизни. После возвращения он женился и продолжил зарабатывать чины уже в Петербурге: в это время обения ни с этой сестрою, ни со второю, ни с младшим братом у него тоже особенно не было, и чем они живут, он знать не знал. Какие там сёстры и братья, когда Государю служить надо, с крамолой бороться, чины зарабатывать! Слышал только, что Мария вышла замуж, а Софья, к которой он нынче приехал, вроде бы поссорилась с отцом, намеревалась тоже вступить в брак, но жених её куда-то делся, а подыскивать нового она наотрез отказалась. Последний раз они виделись на отцовских похоронах в девяностом году. Тогда Софья рассказала, что жених её погиб в Ахал-текинской экспедиции, а сама она решила посвятить себя учительству. Про себя Николай Львович рассудил, что это правильно, ибо внешность его сестры была столь же унылой, как и её болтовня о народном образовании.
То, что он увидел в этот раз, его вполне устроило. Встречать его вышла типичная старая дева в простом сером платье, с седеющей косой и толстыми щеками на простонародно круглом лице, вечно украшенном кислой гримасой. Похоже, она не работала, как собиралась, а просто жила на наследство родителей, довольствусь скромной квартирой и одной-единственной прислугой. «Значит, не откажет, — рассудил Николай Львович про себя. — Нам обоим это будет выгодно».
Брат с сестрой расцеловались, обнялись, прислугу тотчас же отправили ставить самовар и, оставшись наедине, Николай Львович без промедления перешёл к делу:
— Я смотрю, сестрица, скромно вы живёте. А не желаете ли, например, ко мне переехать? Хорошая квартира на Фонтанке, восемь комнат, штат прислуги, выезд свой. Электрические силы подаются, всюду лапочки лодыгинские, мебель, телефон поставят скоро... Дрова для всех печей — за счёт казны.
Софья ожидаемо растерялась, услышав такое щедрое предложение.
— Полагаю, это всё не просто так? — недоверчиво поинтересовалась она.
— Всего лишь за небольшую услугу, оказать которую, полагаю, вам и самой будет достаточно интересно... Моя дочка Зиночка в возраст вошла. Выезжать с ней пора. Я, как вы должно быть, знаете, теперь министром числюсь, занят очень. Да и в свете барышне более принято появляться с женской роднёй, нежели с отцом. Жену я уже девять лет как схоронил, в другой раз не женился, вдвоём живём с дочкой. Я, Софьюшка, конечно, понимаю, что мы с вами прежде мало знались. У вас, должно, дела иные есть... Однако же, может быть, всё же найдёте возможным за Зиночкой присмотреть? Работа не надолго. Сами знаете: за год с тех пор, как выезжать начнёт, ей надо замуж выйти. Полагаю, и за полгода уложимся: ведь Зиночка красива и с приданым...
«Да и я сейчас второй после царя», — хотел продолжить Николай Львович, но удержался, чтобы не вызвать в сестре слишком много зависти и не отвратить её таким образом от себя.
— Что ж, — ответила та. — В самом деле мы, братец, не так много знались. Я, признаться, думала, что вы за своей службой уже и забыли меня совсем, уже и не помните, что есть у вас сестра Соня... Но я вас не корю! Для человека вашего чина, которому доверяет сам Государь, который облечён такими полномочиями, что от него зависит благополучие всей империи, простительна небольшая забывчивость в отношении родственников. Однако, раз мы долго не общались, то я даже и не знаю ничего о вашей дочери. Насколько она благонравна? Не подвержена ли кружковщине, нигилизму или иным модным веяниям, портящим молодёжь? Чем занят её ум? И наконец, захочет ли она сама принять у себя в доме бедную тётку и пожелает ли прислушиваться к её советам?
— О, Сонечка, будьте покойны за всё это! Зина — добрейшая девушка! Она чрезвычайно послушна и благонравна, так что даже не припомню, огорчала ли она меня когда-то чем-либо! Уверен, что она совсем не будет против принять ваше покровительство! Зина ласкова со всеми, кого знает, и всегда слушает старших. Она, разумеется, никогда в жизни не увлекалась ничем дурным! Вот только...
— Что? — насторожилась Софья Львовна.
— Моя малышка несколько скучает, а чрезмерно живой ум и слишком развитая фантазия то и дело заставляют её склоняться ко всяким, так скажем, сомнительным начинаниям...
— Сомнительным? Как?! Дочь министра — и...
— Нет, вы не думайте, Сонечка, я не об этом! Не кружковщина, конечно. Так, по мелочи. То, знаете, на курсы собирается, то в поэтический клуб, то в единение с природой, то в спиритизм... Она, добрая душа, со мной всем этим делится, поэтому пока что удаётся отговаривать. Но долго ли удастся?! Я ведь занят. Так что Зиночке, кроме нарядов, полезно бы чем-то увлечься... но таким... вы понимаете... пристойным, безопасным! Не столоверчением, не толстовством. Не могли бы вы заниматься с ней ещё, к примеру, вышиванием или иностранным языком?
— Могу. Немецким.
— Немецким? Нет... Немецкий это тоже философия... Гегельянство, социал-демократия... Не поймите неправильно, Сонечка, я про вас знаю, что вы дама высшей морали и строгих правил!.. Но в наше время лучше к немцам не соваться.
— Ну, вышивать, я полагаю, ваша дочь умеет и без меня.
— Это да... Верно... Может, тогда что-то более современное? Но чтоб при том политически благонадёжное! Вы можете сходить с ней в дамский клуб поклонниц дирижаблей, например. Или посещать географическое общество! В конце концов, я не был бы даже против уроков вождения паромобилей!
— Что, в самом деле?
— Ну конечно, почему нет? Я ведь прогрессивный человек! У нас на Всемирной выставке целое паромобильное отделение ожидается — гордость Поволжья! Уверен: если Зиночка освоит самодвижущуюся повозку и сможет хвастаться этим катанием перед подругами, она сможет почувствовать себя независимой женщиной, и это гарантирует её от глупых желаний вроде политики, выборов, права развода...
— Вы весьма дальновидный родитель, — заметила Софья.
— Положение обязывает, — отозвался польщённый Николай Львович. — Мы, блюстители порядка, как родители для русского народа. Научились. Знаете, как говорит начальник Московского охранного отделения Зубатов? Надо дать пасомым овцам малую толику свободы — так вы создадите у них иллюзию самоволия и отвратите от опасных поползновений и пугачёвщины... Зубатов, он, к слову, умнейшая голова — даром, что в сюртуке! У них в Москве ни один кружок без нашего сотрудника не обходится, каждого вольнодумца на карандаше держат! Не то, что в Петербурге...
— Всё вы, братец, о службе!
— Увлёкся. Прощения прошу! Ну так как же вы, Сонечка, Зиной займётесь? Ей-богу, она очень благонравная! Только порой увлекается всякой белибердой.
— У меня она не забалует! — отвечала Софья Львовна. — Велю складывать вещи и завтра же буду у вас.
— Если желаете, можете ехать сейчас же, со мною, в моей коляске, — ласково предложил Николай, рассудив, что, если бомбист не посовестится взрывать министра с ребёнком, то уж взрывать министра с дамой и ребёнком он точно не станет.
Да и даму лучше видно с мостовой...
Глава 12, В которой Миша теряет книжку про глупого милорда и пять рублей, а потом приобретает дирижабль.
Клубы угольного дыма плыли справа и слева от поезда, теряясь в наступивших уже сумерках. Из окна вагона казалось, будто он несётся через бесконечную толщу серо-белой мглы, сквозь которую разглядеть очертания города можно было лишь в общих чертах. Дворцы, доходные дома, особняки, утыканные трубами корпуса заводов, грузовые пристани, рекламные аэростаты, висящие над Невой и обещающие полное ручательство за доброкачественность галош от Товарищества Российско-Американской Резиновой Мануфактуры — всё это уставший Михаил видел сквозь дымную завесу, словно элементы некоего другого, более загадочного, инопланетного мира. Впрочем, он, как и всякий столичный житель нимало не интересовался этими видами, а только про себя сетовал на недостаточно мощный котёл, недостаточно быстрый поезд и чрезмерно длинный путь до дома. Таков же был настрой и сонной синеблузной публики, наполнивший вагон и добиравшейся до своих углов после одиннадцати—или двенадцатичасовых смен.

Михаилу удалось даже присесть. До места, где квартировали они с матерью, оставалось ещё две станции, так что можно было развернуть новый номер «Петербургского листка» и ещё раз пробежать глазами по разделу происшествий. «Редакция приносит глубочайшие извинения за ошибочное сообщение о гибели рабочего М. Коржова. Извещаем, что на самом деле возле павильона Голландской Ост-Индии погиб водитель крана Пузырёв». Михаил читал это сообщение уже в третий раз, но ни в первый, ни во второй, ни теперь удовлетворения не почувствовал. Ответа на вопрос, действительно ли его пытались убить, так и не было. К этому добавились мысли о том, не этот ли самый Пузырёв и свалил истукана на голову Мише и связана ли как-то его гибель с тем инцидентом.
От тоски Коржов надумал почитать другую газету — ту, что держал в руках фабричный мужик по соседству. Оказалось, если заглянуть ему через плечо, можно было вполне разобрать то, что напечатано на середине листа. «Не доходил ли до вас, читатель, слух о том, что младший сын Цесаревича Александра, погибшего в Петропавловской бойне уж почти двадцать лет как, якобы выжил? Последнее время этот слух с упорством кочует по петербургским гостиным. Лично мы в него не верим, но, судя по тому, как он очаровывает всё больший и больший круг лиц, полагаем, что вскоре увидим его пересказ в виде пьесы на подмостках какого-нибудь из московских или же петербургских театров».
«Это надо же читать такую чушь, — подумал Миша. — Ладно, господа от скуки маются, так вот и сочиняют себе всякое. А нашему рабочему брату на кой чёрт собирать эту ерундистику?»
Мужик с газетой, словно бы услышав его мысли и обидевшись, тотчас сложил свой листок и вышел на ближайшей станции.
Михаилу отчего-то стало грустно. Чтобы поднять себе настроение, он ещё раз перечитал заметку о том, что жив. Но и в четвёртый раз это не сработало.
***
Ходу от станции до квартиры было минуты три. Когда-то они с матерью очень гордились тем, что смогли нанять жильё в таком выгодном месте. Нары второго и третьего этажа в комнате всего на шесть человек, возле самой станции, да к тому же всего за двугривенный в день — это была настоящая удача в переполненной рабочими столице! Правда, с тех пор уже стало немного теснее и чуть дороже... Зато привычно.
Если летом в разгар дня над Петербургом висел запах конского навоза, лишь местами перебиваемый чадом угольных котлов, то теперь, поздним вечером, отбросы лошадей смердели меньше, чем отбросы новых двигателей. Поток паромобилей, трёхколёсок, автопедов и телег не прекращался, несмотря на поздний час, хотя, конечно, был не столь густым, как в центре города. Шипение зажжённых фонарей перебил стрекот велодирижабля. Миша поднял голову: он самый! Голубой велодирижаль Охранного отделения двигался прямо над ним, щупая мостовую четырьмя яркими ацетиленовыми огнями. Два жандарма сосредоточенно крутили педали. «Интересно, по чью они душу? — Подумал Коржов. — В этом-то районе отродясь интеллигентов не видали! Любопытно!».
Ещё любопытнее стало Михаилу, когда он увидел, что дирижабль причалил на крышу того самого дома, где они с матерью квартировали. «Надо будет у соседей расспросить», — решил Коржов, зайдя в первый подъезд и начав подниматься на третий этаж из пяти.
Ключей от квартиры вдова Скороходова, держательница комнат, всем жильцам на руки не выдавала: то ли не доверяла, то ли просто не имела таковых в довольном количестве, так как и сама арендовала это жильё. Добравшись до квартиры, Миша как всегда постучался. Обычно ему отпирали после второго или третьего стука, но в этот раз даже и после четвертого дверь не открылась. Коржов уже стал беспокоиться, когда, постучав в пятый раз, он услышал за дверью шаги, а потом увидел в приоткрывшейся щели физиономию одного из своих соседей.
— Хозяйка не велела вас пускать, — заявил тот, не поздоровавшись.
— Как-так?! У нас на неделю вперёд всё уплачено!
— Моё дело сторона, — сказал сосед. — А что она велела передать, то и сказал.
— Пусти, поговорю с ней!
— Не пускать велели, ясно?
Дверь захлопнулась.
Михаил замолотил, что было силы, решив, что, во всяком случае, не даст нынче уснуть ни одному из постояльцев, если с ним не говорят по-человечески. Через полминуты физиономия соседа снова нарисовалась в дверном проёме.
— Шёл бы ты отсюда подобру поздорову, — меланхолично проговорил тот.
— Скороходову зови сюда! — решительно потребовал Михаил.
Звать держательницу комнат не пришлось. Через несколько секунд она сама обнаружилась с той стороны двери и повела себя как-то совсем уж не по-нормальному:
— Явился, мошенник!
— Какой я вам, мошенник, тётенька?! — обиделся Коржов. — Это вы как раз мошенница выходите, если деньги за кров принимаете, а сами гоните!
— Поговори у меня тут ещё, нигилист! — Пустила в ход новое ругательство Скороходова. — Всё знаю, кто ты есть!
— И кто я есть?
— Коммунист безбожный, вот ты кто! Против батюшки царя злоумышляешь! Думаешь полякам всю Россию подчинить! Да не получится! Следят за тобой люди честные! Следят за сообщают!
— Вы что, Татьяна Минишна?! Какой коммунист, какие поляки?! Вы меня, наверно, с кем-то путаете! Я Коржов, Михаил! Я со стройки! Мы с матерью квартируем!
— Ни с кем я тебя, ирода, не путаю! — ответила хозяйка. — И как звать тебя помню прекрасно. Думал, из ума старуха выжила, так можно в её доме и делишки проворачивать, бомбы готовить? Шалишь! Не тут-то было! Мне люди рассказали, кто ты есть!
— Да не готовил я бомб! И против Государя, ей-богу, не выступаю! — Растерянно оправдывался Коржов. — Вот вам, тётенька, крест!
— Жандармам объяснишься! — Зло ответила хозяйка. — Убирайся, чтоб ноги твоей здесь не было!
— Да вещи хоть отдайте! У меня порты вторые... да рубаха... да у матери бельё... да пять рублей... да книга ещё про милорда!
— Я в окно твои пожитки выкину, — сказала Скороходова. — А деньги удержу как возмещение ущерба моим нервам. Тебе твой милорд, поди, больше заплатит за то, чтоб ты смуту мутил!
Тут дверь снова захлопнулась. Михаил бросился к расположенному на лестнице окну, отворил его и на самом деле увидел, как его одежда падает из окон на мостовую — прямо под ноги расхаживающим туда-сюда голубым мундирам.
— Господа жандармы, поднимайтесь, он пришёл, он здесь! — раздался крик хозяйки.
Чёрт возьми! Эта безумная не только почему-то вообразила, что Миша — какой-то там нигилист! Она ещё и вызвала жандармов! Теперь придётся как-то объяснять им... Да что объяснять-то?! Коржов ни про каких нигилистов ни сном, ни духом. Скажет им, что это всё ошибка... Но поверят ли?
— Не поверят. Бесполезно объяснять. Надо скрываться, — вдруг раздался голос сверху.
Миша поднял голову и увидел на лестнице, ведущей на четвертый этаж, уже знакомого ему странного господина с усами и в полосатом костюме.
— Через минуту они будут здесь, — сказал тот, встретившись с Коржовым взглядом. — Вы им ничего не докажете, будьте уверены.
— Что же мне делать?! — вырвалось у Михаила обращённое скорее не к господину, а к себе самому.
— Убегать!
— Куда?!
— Наверх.
Снизу было слышно, как жандармы уже топают по лестнице.
— Там, на крыше, они оставили без присмотра свой дирижабль. Я сам видел, — сказал господин. — Бежимте туда! Нас как раз двое, чтоб управлять им!
У Миши была тысяча вопросов и тысяча возражений, которые надо было бы предъявить полосатому господину. Но не было времени. Ни говоря ни слова, он бросился вверх по лестнице за своим спасителем. В два счёта они добежали до пятого этажа, выбрались на крышу, коротко подосадовали над тем, что нечем закрыть люк, чтобы задержать голубых мундиров...
А через мгновение уже со всей силы крутили педали, отшвартовав голубой шар от специального приспособления, имевшегося с некоторых пор на каждой столичной крыше.
Глава 13, В которой Венедикт сперва посмеивается над Михаилом, а потом им восхищается.
Налегая на педали и осматривая столицу с высоты птичьего полёта, Венедикт думал о том, что удача всё-таки на его стороне. Вон он, царь Михаил — наконец, в их руках! В том, что скудоумная квартирохозяйка поверит записке, где говорилось, что её жилец Коржов состоит в опасном революционном кружке, были сомнения. В лучшем случае она должна была выгнать «Коржова», а Венедикт предложил бы ему переночевать у себя на квартире. Кто бы мог подумать, что эта Скороходова не только купится, но и даже вызовет жандармов! Ситуация вышла, конечно, рискованная, зато уговаривать Михаила принять помощь не понадобилось. Теперь царь, получается, обязан Венедикту своим спасением... и повязан с ним хищением жандармского имущества!
— Как вам вид столицы сверху, господин Коржов? Отсюда она кажется ещё более величественной, не так ли? — завёл разговор Венедикт.
Он сидел впереди и твёрдо прокладывал маршрут к Свято-Егорьевскому переулку.
— Вы бы, барин, представились, — отозвался расстроенный Миша из-за спины.
— Называйте меня Венедикт.
— А по-батюшке?
— Без отчества.
— Вы, стало быть, поляк? — спросил «Коржов».
— Ну что предрассудки?! «Поляк», «барин», «по батюшке»... Двадцатый век, сударь мой, на носу!
«При социализме это всё неважно станет», — хотел, было, продолжить Венедикт, но удержался: незачем пока было пугать царя своей политической программой.
— Мне всё равно, какой век, — сказал Миша. — Я там пять рублей потерял. И одежду. Видали вы, как эта сволочь всё в окно-то повыкидывала?
— Если вы будете держаться заодно с нами, то вскорости эта потеря будет казаться вам смехотворной, — загадочно отозвался социалист.
— Это почему это?
— Потому что в вашем распоряжении будут гораздо большие суммы... Кстати, Михаил, а что бы вы сделали, окажись у вас в руках случайно, скажем... ну... миллион?
— Будет вам чушь городить, барин. Едем куда, хоть скажите!
— Мы едем ко мне на квартиру. Там вы сможете отныне ночевать и укрываться от особ, пытающихся подстроить для вас несчастный случай на стройке выставки.
— А про это вы откуда знаете?! — тон «Коржова» сменился с тоскливо-нервозного на перепуганный.
— Мы следили за вами. Помните, у больницы я дал вам адрес, чтобы вы сами явились к нам? Послушай вы тогда, этих неприятностей с идолом не случилось бы. Но теперь вы понимаете, что вам грозит опасность. Мы — ваши друзья. Мы вас спрячем. И мы знаем, кто и почему желает зла вам.
Михаил замолчал на какое-то время. А следом сказал:
— Это всё бред какой-то. Я знать вас не знаю.
— Так что же? Узнаете.
— И жить у вас на квартире я вовсе даже не собираюсь.
— Сейчас, среди ночи, вам всё равно будет некуда больше податься.
— Послушайте! Как вас бишь там... Венедикт! Где мне жить, я сам уж как-нибудь решу! Просто оставьте меня в покое!
— Михаил, не скандальте. Крутите педали.
— Не стану.
— В таком случае, мы с вами упадём и разобьёмся. Я смерти давно не боюсь, а вот вам, полагаю, не улыбается испустить дух, расшибшись о мостовую, в куче конского навоза. У вас мать, невеста... Я прав? Вы же вроде как жениться собираетесь?
— Вы сумасшедший.
— Я часто слыхал это слово. Смею, вас заверить, на самом деле, я нормальнее многих так называемых приличных людей!
— Мне плевать, какой вы есть! Просто приземлите эту дьявольскую штуковину и дайте мне сойти с неё!
— Как, Михаил?! Вы не знаете? Велодирижабли не приземляются. Если посадить такую штуку, она больше не взлетит. Велодирижабли путешествуют от крыши к крыше здания.
— Прекрасно. В таком случае, причальте к ближайшей крыше, и я сойду.
— Вам не терпится попасть в лапы к жандармам?
Вот таким манером, пикируясь с Михаилом, заставляя его удивляться, слегка развлекая, слегка насмешничая, немножечко интригуя, Венедикт привёл «их» велодирижабль к Свято-Егорьевскому. Причалил он в паре кварталов от нужного дома, чтобы внимания соседей не привлекать. Спускаясь по чёрной лестнице с крыши, они с царём всё ещё продолжали скандалить, но, оказавшись на земле, «Коржов» был вынужден признать, что этой части города он не знает и среди ночи идти ему некуда.
— Будет вам уже, — мирно сказал Венедикт. — Что за смысл вести себя как барышня? Придёте, пообщаемтесь, один разок у нас переночуете. Мы расскажем вам, что мы хотим. Ну, а там разберёмся. Поймите, господин Коржов, ведь мы же вас в покое не оставим! Не сейчас, так потом, так какой смысл вам убегать?
Уставший царь сдался и согласился.
Они вместе прошли полверсты до конспиративного дома. Когда до него оставалось рукой подать, вдруг Венедикт ощутил запах гари, услышал какие-то голоса. Он почуял неладное. Кинулся к дому — и понял, что худшие подозрения подтвердились. Даже на фикус в окне смотреть было не нужно — случилось ужасное.
Дом их горел.
Верхний этаж, где располагалась конспиративная квартира, был объят пламенем. Медиум из столовращательного кружка, Валентина Архиповна, дворник и масса знакомых и незнакомых соседей носились по двору, выкидывали из окон свои пожитки. Несколько жандармов сновали тут же, не обращая внимания на погорельцев. Их взгляды были обращены на крышу здания, где металась Вера Николаевна. Лицо её, блузка и юбка все были в саже, но сдаваться она не намеревалась. В руке у соратницы был пистолет.
— Ваши дни сочтены! — прокричала она из ловушки. — Нас много! Не надейтесь! Долой самодержавие! Да здравствует партия народников-марксистов!!!
— Батюшки, — промямлил Михаил, увидев всё это. — Бедная бабушка! Со страху умом тронулась, кажись!
— Она не бабушка, ей сорок восемь лет, — ответил, не задумываясь, Венедикт. Его голос дрожал. — Это моя... Моя тётка...
Коржов ахнул.
— Вера Николаевна, держитесь, мы вас выручим!!! — воскликнул Венедикт, совсем забыв о конспирации, в которой, вероятно, уже не было и смысла.
— Мы спасём вас, мамаша! — добавил ему в тон Коржов.
— Как вы думаете, если я вернусь к велодирижаблю, а потом... — стало судорожно планировать Венедикт. — Ах, нет! Чёрт! Силами одного его не поднять, а троих он не унесёт... Михаил, а что, если мы с вами залетим дирижаблем на эту крышу, потом я сойду, она сядет на моё место и вы улетите вдвоём с ней как можно дальше?..
— А вы что ж?
— Её жизнь ценнее моей!
— Ерунду говорите, — ответил Коржов. — Это будет самоубийство. А самоубийство — грех великий.
— Но как же... Но что же... О Господи, Боже! Неужто я слаб, не смогу?.. — Венедикт стал метаться туда-сюда.
Он пытался перебирать в голове разные способы спасения Веры Николаевны, но в голову не шло ничего путного. Это он виноват, это он! После дела Синюгина надо им было и в самом деле разъехаться в разные города, ликвидировать эту квартиру, а не сидеть тут с запасами динамита!.. А что Роза? Должно быть, погибла. Видимо, нагрянули жандармы, и она, чтобы не даться им живой, привела в действие запас из-под кровати! Он должен был это предвидеть! Болван! Нет, не должна ещё и Вера Николаевна погибнуть из-за его глупости, из-за его нелепого прожекта с этим царём!..
— Михаил! Послушайте! Бежимте к дирижаблю! Я всё-таки должен! Заменим её на меня!
— Прекратите, — ответил Коржов. — Я сейчас. Я придумал.
С этими словами царь умчался в направлении проезжей части.
Венедикт ещё пару мгновений метался по двору, а затем услышал выстрел и увидел, как один из голубых мундиров упал наземь. Вера Николаевна действительно была одним из ценнейших товарищей в их организации! Она не теряла боевых качеств ни днём, ни ночью, ни в огне, ни в дыму, ни в смертельной опасности. Два оставшихся жандарма принялись палить по крыше, но достать Веру Николаевну не могли: та пригнулась, так что снизу её видно больше не было.
А в следующую секунду к их дому на полной скорости подкатил паромобиль Охранного отделения. Венедикт подумал было, что жандармы получили подкрепление, но через мгновение уже понял, что ошибся: машина неслась так, словно за рулём её находился безумец. Разделявшие такое мнение сатрапы бросились в разные стороны с воплями о похищении государевого имущества. Словом, видимо, это был один из тех паромобилей, на которых прибыли незваные гости, и которые дожидались их неподалёку. Исторгая клубы пара и дыма от работающего на максимуме котла, он сделал пару оборотов мимо дома, разогрелся окончательно, а затем врезался со всей дури в фонарный столб.
Светящийся шар на верхушке столба отключился, а сам столб повалился, словно срубленное дерево, на горящий дом.
«Да он просто гений! — подумалось Венедикту. — Может, в царской крови в самом деле особая мудрость?!»
Упав на дом, столб образовал нечто вроде наклонной горки. Верхняя его часть почти доходила до крыши. Тот аршин, который отделял их, помехой для Веры Николаевны не оказался: она смело прыгнула на столб и изящно, по-дамски, бочком, не позволив задраться ни верхней, ни нижней юбкам, скатилась на землю. Второго жандарма она застрелила, спускаясь. Третий получил свою пулю, едва ботинки Веры Николаевны коснулись земли.
Из машины выскочил «Коржов».
— Это точно ваша тётка?! — растерянно проговорил он, провожая глазами в ужасе разбегающихся погорельцев. — Что она...
Венедикт его не слушал.
— Вера Николаевна, друг сердечный! — просился он навстречу своей соратнице. — Слава богу, вы живы! Где Роза?
— Погибла, — ответила та, подтвердив его худшие опасения. — Кто с вами?
— Это Михаил. Тот самый! — гордый своим достижением, выдохнул Венедикт.
— Прекрасно. Пойдёте со мной, Михаил.
— Да зачем вы в людей-то стреляете?!.. — промямлил растерянно царь.
— Венедикт, нам надо разделиться, — сказала Вера Николаевна, не обращая внимания на бормотание «Коржова». — Скрывайтесь и ждите сигнала. Я выйду на вас. Михаил! Раз вы умеете управлять паромобилем, садитесь обратно за руль и езжайте, куда я скажу вам.
— Вот уж нет! — ответил Михаил. — Хватит с меня приключений. Довольно! Лучше я куда глаза глядят...
— Ваши глаза будут глядеть теперь только в тюрьму. Вы только что при свидетелях похитили жандармский паромобиль и спасли особу, которая застрелила троих жандармов.
— А до этого похитили их велодирижабль.
— Вам и десять минут не пробыть на свободе. Вас ищут уже.
— Вы теперь нелегальный.
— Да знать не желаю! — Разнылся «Коржов». — Оправдают меня! Невиновных в тюрьму не сажают.
— А вот и ошибаетесь. Хотя вот вам последний аргумент. — И Вера Николаевна наставила на Михаила свой пистолет. — Там ещё остались пули. И вы видели. Я не боюсь и не промахнусь.
— Если ваша цель убить меня, зачем тогда...
— Нет. Вы нужны нам живой. Но если станете упираться или попробуете сбежать, мне придётся прострелить вам одну или обе ноги. Я всё равно доставлю вас, куда нам нужно. Но думаю, нам обоим будет удобнее, если вы будете всё-таки передвигаться самостоятельно.
Михаил провёл глазами линию от дула пистолета до свой левой ноги и грустно произнёс:
— А ведь я спас вас только что...
— Премного благодарна вам за это. Теперь время спасти родину. В машину!
«Коржов» снова сел за руль паромобиля. Вера Николаевна поместилась на заднем сидении, не опуская оружия.
Венедикт, проводив их глазами, скользнул в подворотню.

Глава 14, В которой Варя проявляет чудеса красноречия, но не знает, что и думать.
Вечером Варя опять приехала к Александровской больнице для бедных, но Миши там не застала. Не было и его ни через четверть, ни через полчаса, ни через час.
И надо же было ему пропасть именно в тот день, когда к матери впервые стали пускать!
Варя сказалась дочерью Ольги Саввишны и вошла в палату. Будущая свекровь лежала бледная, отощавшая, как будто постаревшая не на пять дней, а на пять лет. При виде Вари она расплакалась, пояснив, что уже не надеялась, что они ещё встретятся на этом свете.
— И ну и зря, ну и зря, Ольга Саввишна! А я вам говорила, что поправитесь! К Рождеству уже плясать будете!
— Прям уж!
— Так и будет, вот увидите! Вы, главное, теперь уж отдыхайте, ни про что не беспокойтесь, выздоравливайте!
— А Миша где? — тотчас задала та, которой не велели беспокоиться, самый беспокоящий Варю вопрос.
— Да на стройке задержали! Представляете? К выставке не успевают. Вот и заставляют их работать день и ночь!.. Вы не волнуйтесь! Он уж завтра-то тут будет обязательно!
— Ты ему рассказала?.. — спросила Ольга Саввишна.
Она не договорила, но обе вполне понимали, о чем идёт речь. Варя и ждала этого вопроса, и отчаянно надеялась, что его не прозвучит. Что вся эта белиберда с царским происхождением окажется бредом повреждённого взрывом разума, дурным сном, галлюцинацией; что Ольга Саввишна даже не вспомнит о том, что сказала, решив, что пришло ее время. Не вышло... Что ж, подумала Варя, раз так, даже лучше, что Миша не с нами.
— Не сказала, Ольга Саввишна. Простите уж... Вы, небось, и сами знаете, что дело это нелёгкое — огорошить человека такой новостью. Я едва сама-то осознала. А уж Мише... Если честно, боюсь я...
— Боишься? Но чего, Варь?
— Что жениться не захочет. Вдруг решит, раз он царского рода, то и невеста ему тоже царственная нужна? Свысока начнёт смотреть вдруг... да работать не захочет...
— Скажешь тоже! Мой Мишенька, он не такой!
— Дай Бог, чтоб не такой был, Ольга Саввишна! Да только мы ж не знаем! Прежде ж не было такого, чтоб узнал, что он царевич! А вдруг гневаться будет на вас? А вдруг скажет: «Вы, чёрная кость, для чего вы меня подобрали? Остался бы где был, нашли бы его царские слуги, воспитывался бы у дядюшки своего Сергея, да и хлопот не знал бы»?
Ольга Саввишна помрачнела и не ответила. А Варя продолжала:
— Сами подумайте: на что ему знать? Если и промолчит, если и не разгневается на вас, так будет всю жизнь жить, страдая и думая, что мог бы в царских палатах сейчас наслаждаться, а угол у Скороходовой нанимает... Всю жизнь будет думать, что будто его обокрали. Что царство похитили. Шапку Мономаха синей блузой заменили. А?
Больная не ответила.
— А, положим, что заявится он в царскую семью и его примут. Что хорошего? Нынче для царей кругом опасности. Нигилисты, будь они неладны, только и думают, как бы кого ещё извести-то из государей. Им, чай, покою не будет, узнают если, что тогда-то, в Петропавловке, царевич жив остался. Они свою кровавую работу ведь доделать захотят! А? Как считаете?
— Твоя правда, Варь, — вздохнула Ольга Саввишна. — Я так же рассуждала. Потому и молчала всю жизнь. А тут, видишь, решила, что конец мне, так подумала, что правду Мише знать надо...
— Да что с неё, с правды-то с той? Вы его, Ольга Саввишна, воспитали, да в люди вывели, значит, вы мать — в том и правда. А что царская кровь — так она от нецарской не больно-то отличается!
— Ну добро... Так и будем считать... Станем, Варя, жить по-прежнему. Даст Бог, вот стану на ноги, поженитесь, детишек заведёте... А про что я сказала — забудь. Ни к чему, в самом деле...
— Забуду.
Но забыть, конечно, было не так просто. О происхождении Михаила Варя думала теперь беспрерывно. Нынче к этому беспокойству добавилось и другое — куда он запропастился?
Когда Варя вышла от Ольги Саввишны, мысленно удивляясь своему невесть откуда возникшему красноречию, Миши так и не было — ни внутри больницы, ни где-либо возле неё.
Оставалось лишь ждать, что объявится сам, либо надеяться встретить его здесь же завтра. Если Миша не обнаружится к завтрашнему вечеру, придётся сходить к Скороходовой, расспросить, подумала Варя, надеясь, что этого делать ей всё-таки не придётся.
Впрочем, лучше к Скороходовой, чем если подтвердится опасение, что Мишина пропажа как-то связана с тем, что вчера Варя всё же сходила к жандармам и там рассказала про странного человека, преследовавшего её жениха, и назвала его адрес...
А что, если Миша пошёл-таки в Свято-Егорьевский? Позволил там каким-то подозрительным субъектам уболтать себя, сидел там, может, пил с ними... А тут как раз жандармы и нагрянули по Вариной наводке. Мошенников повязали заодно с ними...
Нет, такого быть не может!
Если даже повязали, то ведь быстро разберутся и отпустят!
Ведь не может быть так, чтоб Миша пострадал из-за неё! Не может, да ведь?..
Глава 15, В которой Николай Львович слушает Шаляпина и ест севрюжью уху.
Поручив Софье Зиночку, Николай Львович решился претворить в жизнь уже много дней вынашиваемый план. Для этого ему, правда, надо было ни много, ни мало как оказаться на противоположном конце России. Впрочем, благовидный предлог для этого — инспекция охранных отделений в Сибири — легко нашёлся, а с запуском Великого Сибирского пути и потратить-то на дорогу придётся всего шесть-семь дней в одну сторону.
На ведомственном поезде Николай Львович не поехал, хотя на нём было бы даже быстрее: боялся подрыва. Решил, что спокойнее будет отправиться на «Стреле Амура» — роскошном составе повышенной комфортабельности, который дважды в месяц отправлялся из столицы и шёл до самого Владивостока. В светском обществе Петербурга, кажется, не было уж ни единой души, кто не прокатился хоть самую малость на этой гордости русского паровождения, принадлежащей компании «Черепановъ, Черепановъ и французскiй капиталъ». Если петербургский дворянин и рисковал ехать к восточному фронтиру, в неизведанные земли Зауралья — то уж только на «Амурском».
Всё в этом поезде было по высшему классу: оборудование его, от самого котла и до щипцов для конфект в ресторанном вагоне выделялось роскошью среди всего нового и новизною среди роскошного. Можно сказать, «Стрела Амура» была передвижной постоянно действующей выставкой российских достижений: не зря и на Голодае ей отводилась отдельная часть Павильона железных дорог. Сообщение из поезда с городами происходило через беспроволочный телеграф Попова. С помощью него же при проезде в районе Первопрестольной в салон-вагоне давалась трансляция «Царя Салтана» Римского-Корсакова — прямиком из Большого театра, лишь динамик к уху приложи — и наслаждайся. О часах подачи оперы оповещали афиши, лежащие в каждой каюте — изысканно-витиеватые, кружевные, словно шуховские башни, они были отпечатаны новейшим и точнейшим орловским способом. То же относилось и к обеденным меню. Двери ресторана и салона открывалась без человека, при помощи одной элекросилы и с участием столетовского фотоэлемента. Водку подавали в специально изготовленных славяновских стаканах. Ну, а о такой мелочи, как лодыгинские лампы во всех вагонах, уж и говорить-то было нечего.
Публика в поезде подобралась тоже самая лучшая. В первый день поездки, пока «Стрела» шла Николаевской дорогой от столицы до столицы, министр свёл знакомство в салон-вагоне с весьма очаровательной компанией. Граф, ехавший в Подмосковье для продажи вишнёвого сада; статский советник, служивший при министерстве народного просвещения, и генерал-лейтенант от паромобильных войск пригласили Николая Львовича присоединиться к ним четвёртым для партии в вист, а, сыграв несколько роберов, разговорились. Всех интересовала будущая выставка.
— Немцы, говорят, погодную машину выставлять будут! Из неё по облакам палят словно из пушки. Нужен дождь — можно вызвать, а если не нужен — так прекратить можно. Только вроде как угля она ест много. И тяжелая, без рельсов не проедет.
— Да всё враки! Нет у них такой машины! Её только сочиняют — да не выходит. Чертежи привезут и муляж, вот и всё.

— А вот у англичан поинтереснее! Я слышал, они там изобрели агрегат для чистки ковров. Он всасывает пыль, как шприц — лекарство! Аппарат подвозят к дому, длинный шланг просовывают в окно и собирают всю пыль при помощи механической тяги. Подумать только! Говорят, с одной квартиры он может высосать до полуфунта пыли, а с особняка — и целый фунт!
— Совершенно бесполезная машина! Что в ней проку, если прислуга может убираться в доме и ежедневно, и совершенно бесшумно, и обходится дешевле, чем все эти пожирающие топливо английские штучки? Как по мне, так это просто механика ради механики! Инженерское безумие.

— Э, нет! Вот где инженерское безумие, так это у французов! Говорят, они изобрели и хотят представить паровую гильотину!
— Да вы что?!
— Да-да! Вы не ослышались. Кажется, после последней революции они окончательно посходили с ума. Сперва эти «импрессионисты», потом непристойные танцы с голыми ногами и вот теперь...
— Австрияки наверняка снова не покажут ничего интересного, кроме вальсов, чардашей и полек...
— Не скажите! На прошлой выставке в Лондоне венские булочки награждены золотой медалью.
— Так то в Лондоне! Когда у них там что было по уму-то?!
— На этой выставке большая золотая медаль должна быть российская! Николай Львович, а правду говорят, что от России ожидается сенсация?
— Да-да, я тоже слышал! Господин министр, пожалуйста, откройте нам секрет!
— Будет показано изобретение некоего русского гения-самоучки? Так, по крайней мере, говорят все...
Николай Львович смущённо улыбнулся. Изобретение русского гения, ожидавшееся на выставке, было секретом Полишинеля. Запираться он не стал:
— Да, господа. Уж не возьмусь сказать, самоучка тот инженер или всё-таки что-то окончил... Но — да. В последний день выставки будет показано невероятное изобретение русского гения. Летательный аппарат тяжелее воздуха.
— Тяжелее воздуха?!
— Но разве французская академия не доказала, что аппараты такого рода летать не могут?!
— Всегда думал, что это абсурд сродни вечному двигателю.
— Однако же!
— Но кто этот гений?
— Можайский?
— Нет-нет, — отозвался министр. — Не Можайский. И тут вы можете меня не пытать. Фамилии этого гения я не запомнил. Как-то раз она мелькнула в связанных с выставкой документах, но, по чести сказать, оказалась совсем незнакомой и тотчас вылетела из моей головы. Боюсь, и вам она бы не сказала ничего. Думаю, господа, нам стоит дождаться выставки и лицезреть всё воочию!
Меж тем поезд прошёл станцию Горелово, а, как всем было известно, между Гореловым и Нееловым в ресторане происходила подача севрюжьей ухи. Так и вышло. Стоило благородной компании выяснить, что никто из них понятия не имеет, кто из русских инженеров мог бы быть создателем ковра-самолёта, как официанты пригласили всех откушать ужина.
Переместившись в вагон-ресторан, новые знакомцы Николая Львовича завели беседу, без которой в последние годы не обходилось ни одно благородное общество, — о благе России. На то, как улучшить её, мнение у каждого имелось отдельное.
— Хватит нам с Болгарией и Сербией играться! — сказал граф. — Не ровен час, уйдут они под немца! А то и обратно под турка! Присоединять братьев-славян надо! Да и румын заодно с ними тоже, чего мелочиться! А то, что, выходит, зря на Шипке мёрзли?
— Это всё подождёт, — таково было мнение генерала. — Сейчас главный делёж пирога где? В Китае! Вот закончат там с боксёрами — и действовать бы нам тогда скорее! Вокруг Владивостока территорию России скруглить надо. А то что — япошки сожрут ведь Маньчжурию! Не конкуренты же они нам, в самом деле! Если надо будет, разобьём их, но Шанхай наш должен быть!
— На юг надо, в Персию! — спорил с ним статский советник. — С шахом договариваться, медленно входить, чтоб не заметили! Железку построить туда. Вот у немцев Берлин-Багдад строят! А нам надо в Басру из Бухары. Да поторопиться! Не то там англичанка всё займёт! А с Афганистаном и вообще не церемониться. Ввести войска туда — и всё, дело с концом.
Все трое принялись упрашивать Николая Львовича, чтобы он как лицо, приближённое к Государю, передал Его Величеству их ценные соображения. Министр изящно уклонился от ответа, заверив всех, что в обязательном порядке передаёт императору все услышанные им умные идеи умных людей, но в то же время и не пообещав ничего конкретного. Тут как раз принесли бланманже и шампанское. Новые друзья Николая Львовича подняли бокалы за прогресс России в будущем, XX веке:
— За защиту Сербии от немцев!
— За победу над Японией!
— За наш Афганистан!
Потом их позвали обратно в салон смотреть оперу.
Поезд к этому времени стоял на станции Неурожайка, где его обступили какие-то оборванцы из местных, просившие милостыни. Чтобы не портить настроения пассажирам этим зрелищем, прислуга тут же опустила на окна салон-вагона большой белый экран. На него из специального устройства стали проецировать заранее снятую в Большом театре фильму. Устроившимся на креслах пассажирам раздали особые слуховые приспособления, проводами присоединенные к приёмному устройству телеграфа — и изысканное развлечение началось. Хотя Николай Львович и знал, что движущиеся перед ним картинки запечатлены заранее, очарование того, что он слушает настоящего Шаляпина, выступающего на сцене, сию секунду, увлекло его до крайности.

***
В Москву прибыли утром, перед завтраком. Стоянка была долгой. За время неё Николай Львович успел проснуться и сделать гигиенические процедуры в своей каюте. Тут к нему постучались. На пороге оказался человек с модной бородкой и несколько хитрым, чрезмерно самоуверенным взглядом. Сюртук на нём был гражданский.
Человек извинился за явку без приглашения, представился путейцем и протянул министру карточку. Там значилось:
«Сергей Юльевич Витте. Общество Центральных железных дорог».
«Из остзейских», — подумал министр.
— Покорнейше прошу простить мою дерзость, — говорил меж тем незваный гость. — Случайно узнал о том, что Ваше Превосходительство следует этим поездом и решил, что необходимо предупредить через вас Государя. Видите ли, какое дело: я десять раз говорил железнодорожным чиновникам о том, что ставить в Императорский состав грузовые локомотивы это опасно! Но никто меня не слушает! Передайте, пожалуйста, Государю: ездить ему с такой скоростью, как он ездит, грозит крушением! Россия рискует лишиться последнего представителя августейшей династии из-за лихачества кочегаров и переоценки наших насыпей...
Николай Львович кивнул, не удостоив выскочку ответа. Тот, вместо того, чтобы понять этот намёк и убираться восвояси, продолжал:
— А ещё передайте, пожалуйста, императору, что с Японией лучше не ссориться, потому как пропускная способность Великого Сибирского пути для поступления, в случае чего, военных грузов во Владивосток...
Тут Витте осёкся, столкнувшись с холодно-презрительным взглядом министра. Получив этот безмолвный ответ, самонадеянный умник, наконец, понял, что его непрошеным советам здесь не рады, и исчез.
«Ох уж эти немцы, — подумал Николай Львович, когда поезд тронулся, оставляя Витте на перроне. — Всю дорогу русских поучают! Нет, Бироны, прошло ваше время! Не пустим! Вот наглость... Сам-то даже не чиновник, а туда же, лезет умничать...».
***
К концу дня в Нижнем Новгороде из поезда вышла та часть приличной публики, что не покинула его ещё в Москве. Её места заняли дельцы, купцы, фабриканты, разбогатевшие крестьянские дети, скотопромышленники, золотодобытчики, дирижабельные магнаты и прочие неинтересные Николаю Львовичу личности. Между Вяткой и Пермью в салон-вагоне в одном углу обсуждали торговлю нефтью, в другом — производство корсетов машинным способом, в третьем — строительство школы в Никольск-Уссурийском уезде, в четвёртом ещё того хуже — устройство быта политкаторжан на острове Сахалин и писанину какого-то литератора на эту тему. После этого Николай Львович понял, что поговорить ему больше не с кем, и оставшуюся часть дороги провёл у себя в каюте за чтением «Собора Парижской Богоматери» Гюго.
До Читы, куда он ехал, оставалось ещё несколько дней ходу.
Глава 16, В которой Миша ищет, в чём подвох, но не находит.
— Вы — законный царь, — услышал Михаил.
Эти слова донеслись до его ушей не в первый раз. Позавчера, когда Вера Николаевна заставила его привести паромобиль к рабочей окраине, а потом под дулом пистолета войти в какую-то квартиру, где они заночевали вместе, Коржову уже была говорена эта фраза. Тогда Михаил пропустил ахинею мимо ушей, всю ночь думая, как бы убраться отсюда утром. На другой день, когда он не был отпущен на работу и лишен возможности дать весточку даже родным, а потом, вновь под дулом, наряжен в мундир служащего почт и телеграфов, пристёгнут к Вере Николаевне наручником и отвезён на какую-то дачу под Петербургом, то снова услышал невнятную белиберду о как будто бы царском происхождении. Сегодня его привели в чей-то заброшенный сенник со сгнившей крышей. Пробивающийся через образовавшиеся в ней дыры свет скупо падал на лица собравшихся в сарае людей и делал их ещё более мрачными и подозрительными, чем они в глазах Коржова были. И тут ему снова сказали:
— Вы — царь, Михаил.
И вот тут, на третий раз, в душу измученного страхом, переездами, погоней и непониманием происходящего пленника закралась мысль: а что, если это не просто шутка? Что, если не пустая болтовня? Что, если в действиях его похитителей и в самом деле имеется некий резон?..
В сарае, кроме Михаила, было пятеро: Вера Николаевна, которую он сто раз пожалел уже, что спас; толстощёкий усатый еврей средних лет; средних лет дама со скучным лицом, очень сильно напоминающая учительницу; молодой красавец лет двадцати пяти, беспричинно радостный, самодовольный, похожий на декадента; наконец, седеющий субъект под пятьдесят лет с бородой как у крестьянина, в очочках как профессор и с осанкой как у дворянина. Вот этот-то последний Михаилу и сказал:
— Вы — царь, Коржов.
Представился он Германом Александровичем, и пленнику показалось, что он здесь главный.
— Да какой я царь, помилуйте!
— Как какой? Самый что ни на есть настоящий, законный. Вам разве Вера Николаевна не рассказала то, как вы единственный были спасены во время выступления в Петропавловской?
— Рассказывала. Ну и всё равно...
— Вам тогда было два года. Наверняка какие-нибудь образы той бойни даже отложились в вашей памяти. Может, вспомните их, Михаил Александрович?
Миша вспомнил свои сны. Но говорить о них чужому человеку не захотел. Ответил вместо этого:
— Иванович. Иван был мой отец.
— То приёмный, — ответил «профессор». — А ваш родной отец был цесаревич Александр Александрович, сын Александра II, царствовавший несколько часов под именем Александра III... Скажите, Коржов, во сколько лет ваша мать родила вас?
— В сорок один. Что с того?
— А как долго они были в браке с отцом до того?
— Ну, лет пятнадцать, наверное, были. Что дальше-то?
Михаил продолжал упираться, хотя уже понял, к чему клонит Герман. Всё равно признавать правоту похитителей было противно.
— Есть у вас братья и сёстры?
— А вас это не касается!
— Вы правы, — отозвался собеседник неожиданно. — И правда не касается. Тем более, думаю, их нет. В любом случае, вы уже поняли, к чему я веду. Мне нужны не ваши родственники, а ваше понимание того, что заставило немолодую бездетную пару взять к себе ребёнка, к которому по нынешним абсурдным законам они даже не могли и приближаться.
— А я не считаю нынешние законы абсурдными! — заявил Михаил, почуяв в речах Германа Александровича какую-то противную себе нигилистическую гадость. Коржов уже давно подозревал, что его похитители это никто иные как политические преступники. — Я законы уважаю и царя чту! Это ясно?
— Ясно, отчего же не понять, — сказал «профессор». — Даже в чём-то разделяю ваше мнение. Ещё Белинский писал о том, что России нужно уважение хотя бы тех законов, которые уже есть. Ну так по этим-то самым законам, Михаил Александрович, вы и выходите государем! По указу Павла I трон после смерти Александра III должен был наследовать его сын при наличии такового — ну, то есть, вас — а не брат. Не Сергей. А Сергей — узурпатор.
— Сергей Александрович — законный император всероссийский, — испуганно пролепетал Михаил, услышав рядом с именем царя пугающее ругательство нигилистов.
— О, нет, Ваше Величество. Законный император это вы. А ваш дядя Сергей незаконно похитил вашу корону, попирая все священные устои.
Михаил взглянул в глаза Герману Александровичу. В них читались азарт, игра, хитрость, усмешка. Остальное же лицо собеседника оставалось непроницаемо спокойным. «Может, он из охранки? — подумал Коржов. — Проверяет?». Вслух сказал:
— Издеваетесь, что ли?
— Отнюдь. Приучаю вас к титулу.
— Не надо меня ни к чему приучать! — разозлился Коржов. — Скажите уже по-человечески: кто вы такие и что вам от меня надо?! Какого лешего вы держите меня здесь, в плену!?
— Во-первых, не в плену, а под защитой. Не забывайте, Михаил Александрович, о том, что вас ищет полиция: во-первых, по доносу вашей хозяйки, во-вторых, за похищение дирижабля, а в-третьих, за спасение Веры Николаевны, которую голубым мундирам не удалось уничтожить. Так что вы, конечно, можете высочайшим указом повелеть нам отпустить вас, но на вашем месте я бы так не делал: за решёткой, поверьте, не весело.
— Были?
— Случалось.
— Так кто вы такие? Поляки? Очередные заговорщики, злоумышляющие против царя-батюшки, я прав?
— Разве мы злоумышляем против вас, Ваше Величество? — подал голос румяный парень из-за спины Германа Алексадровича.
— Если бы мы так решили, то вас бы уж не было, — мрачно отозвалась немолодая «учительница».
— И почему это мы обязательно должны быть поляками? — обиженно произнёс еврей.
— Чего мы хотим, так это благополучия для российского народа, — высокопарно проговорил Герман Александрович. — Восьмичасовой рабочий день. Страхование для рабочих. Пенсии обездоленным. Отмена выкупных платежей и передача всей помещичьей земли в распоряжение крестьянским комитетам с тем, чтобы быть отданной в руки людей, которые её обрабатывают. Равные гражданские права для всех сословий. Право голоса для каждого. Созыв постоянно действующего и ежегодно переизбираемого Земского собора, который бы контролировал деятельность министров в общественных интересах... Жизнь в соответствии со справедливостью, а не сообразно с учением церкви и бессмысленным старыми устоями. Вот, собственно, и всё.
— А в чём подвох?
— Да нет подвоха.
— Быть того не может! — сказал Миша. — Мягко стелете! Знаю я вас, нигилистов! Сказки наивным рассказываете, а сами только и думаете, как бы царю-батюшке напакостить, да смуту водворить!
— А зачем нам эта смута? — спросил Герман Александрович насмешливо.
— Уж это я не знаю! Только думаю, что вам за это англичанка платит, чтобы ей под шумок весь Иран захватить! Чтоб России Иран не достался!
— Позвольте узнать, — всё так же насмешливо продолжал атаман нигилистов. — Вы рабочий вот. А вам лично как рабочему что было бы нужнее: восьмичасовой рабочий день при сохранении прежней зарплаты или Иран?
— Вы меня не путайте! — сурово отозвался Коржов.
— Да я вовсе и не путаю. Просто у вас как у рабочего интересуюсь: как вы смотрите на восьмичасовой рабочий день, страхование от несчастных случаев и пенсии не могущим работать?
— Мы в эти ваши сказочки не верим, — сказал Миша. — Вы только заманиваете нашего брата. А сами дурного хотите.
— Отчего же не верите?
— Оттого, что это невозможно.
— Почему же невозможно?
— Потому что господа не согласятся.
— А вот ежели сменить этих господ?
— Так то только царь может сделать, — ответил Коржов. — Он не будет. Ему господа не позволят. Он-то, может, и рад нас фабричных облагодетельствовать, да ему помещики с министрами и с фабрикантами нипочём этого сделать не дадут. Ведь это ж ясно.
— А отчего же он не сменит этих министров? — продолжал иезуитствовать Герман Александрович.
— Так нет у него других-то.
— Как же нет? Неужели же в статридцатимиллионной стране не найдётся нескольких умных и честных людей? А как же профессора из университетов? А как же сами рабочие? Сами крестьяне? Кому, как не им знать, что нужно народу? Отчего бы царю не назначить народных министров?
— Не по-царски это как-то, — сказал Миша и задумался. — Вообще говоря, может это и можно бы сделать. Но царь-то не знает!
— Да как же не знает? Вы знаете, Ваше величество!
Глава 17, В которой Венедикт посещает публичный дом и следует советам графа Пьера де Кубертена.
Ночь, когда был пожар, Венедикт провёл у своего гимназического приятеля, но уже следующим утром ушёл оттуда, чтобы не навести ненароком полицию на легального человека, не имеющего к Делу никакого отношения. Для следующей ночёвки он снял меблированную комнату на Лиговке под именем коллежского асессора Портнова, но на следующее утро принуждён был убираться и оттуда: из окон было видно, как вокруг афишной тумбы второй час ходит одна и та же личность в котелке и сюртуке мелкого служащего. Эта личность слишком сильно походила на филёра, чтобы Венедикт не обеспокоился. Пришлось бежать с квартир по чёрной лестнице, долго петлять по городу, соваться в подворотни, вламываться в дворницкие, ездить на извозчике кругами, вскочить в поезд метрополитена перед самой отправкой и в итоге, на надводной эстакаде, на полном ходу сигануть из вагона в Неву. Вытащившим его дворникам Венедикт сказал, что прыгнул ради воспитания культуры тела, по призыву графа Пьера де Кубертена, а ночевать на этот раз отправился в дом терпимости, где нанял девицу и, дав ей три рубля сверху, подвергать эксплуатации не стал, а лишь велел читать вслух очерки Короленко из старого сборника «В помощь голодающим», пока не уснёт. На другой день Венедикт вселился в грязную гостиницу на самом краю города.
Но подыскивать крышу на головой это было еще полбеды. Венедикт ждал, когда на него уже выйдут товарищи, — тщетно.
Каждый день он раза три ходил по Невскому от вокзала и до дворца туда-сюда, пристально вглядываясь в прохожих и ожидая, когда кто-нибудь из них похлопает по плечу и сунет в карман записку с конспиративным адресом. Рассматривал коробейников с кренделями, шляпными булавками и новомодными папиросами «Олiмпiада», вглядывался в лица извозчиков, надеясь, узнать в ком-нибудь агента энэмов, и всё без толку. Пару раз заглянул он в рабочую чайную, где нередко выступал сочувствующий пролетариату священник, через которого было бы можно связаться с партийцами; но ни священника, ни его паствы не встретил. В Знаменских банях, где товарищи, случалось, арендовали отдельные кабинеты для обсуждения подробностей перед тем, как пойти на очередного великого князя или на экс, тоже не было знакомых никого. Посещение могилы Чайковского на Тихвинском кладбище также ничего не дало: вопреки робкой надежде, записки для него там не оставили.
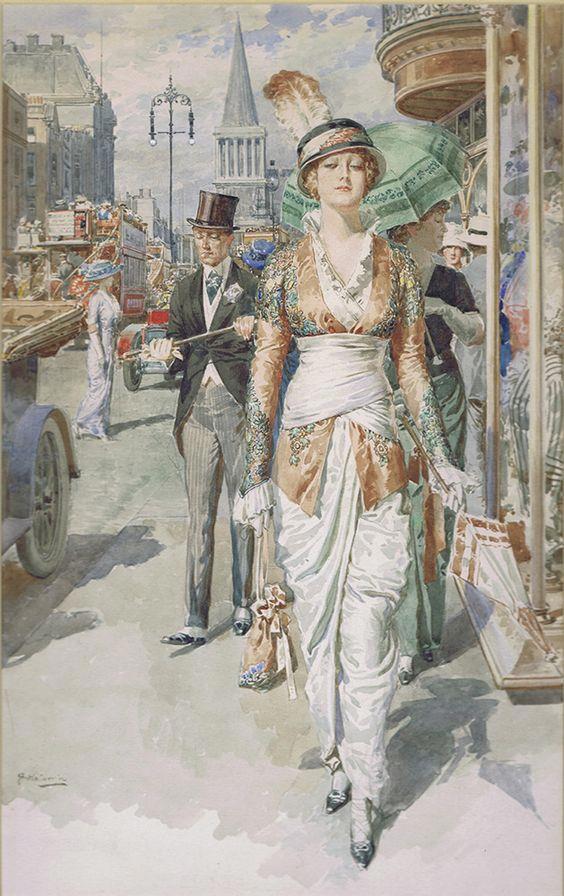
Неужели товарищи попросту забыли про Венедикта? Решили, что, раз в их руках есть царь, то террористическую работу следует ликвидировать, а, значит, обрубить контакты со всеми химиками, техниками, знатоками метания и выслеживания? Но что теперь делать ему? Заявиться в подпольную типографию — единственное партийное отделение, адрес которого был Венедикту известен? Нет, не дело. Дисциплина запрещала. Лишняя суета вокруг типографии могла навести на неё Охранку; кроме того, печатники всё равно не сказали бы Венедикту никаких явок и паролей. Можно было бы отправиться в Париж или в Женеву... Но без паспорта не выйдет. А если в Финляндию? Это, конечно, и близко, и безопасно, но там он вообще никого не знал и уж точно совсем оказался бы выключен из революционной деятельности.
Между тем, чутьё подсказывало Венедикту, что скорое появление истинного царя повлечёт за собою события невероятные, и его долг как энэма — встретить их в столице, чтобы принять участие.
Не зная, что еще придумать, Венедикт решил заявиться к квартирной хозяйке, которой совсем недавно наплёл про якобы революционные связи Коржова, поспрашивать про него. Может статься, что царь уже не находится у энэмов. Тогда он непременно бы вернулся за вещами или за возмещением того, что было потеряно...
Вышло так, что ответ на свой вопрос Венедикту удалось получить и без общения со Скороходовой. Поднявшись на этаж нужного дома, он увидел на лестнице просто одетую девушку, стучавшуюся именно в ту дверь, которая интересовала и его самого.
— Нужно что? — спросили из квартиры.
— Я Миши Коржова невеста, — ответила девушка. — С мамкой у вас квартирует. Он дома?
— Он давно тут не живёт!
— Не живёт?!
Дверь открылась. Стоящая на пороге хозяйка критически оглядела незваную гостью и произнесла:
— Уж дня три, как прогнала его. Ты что, девка, не смотришь, за кого замуж собираешься?! Это ж чёртов нигилист, бес его в душу! Выгнала я его, пусть больше не появляется, нечисть жидовская!
— Подождите! — Опешила девушка. — Что вы?! Он русский! Вовсе он не нигилист! С чего вы взяли?
— Люди добрые сказали, — сообщила Скороходова. — Да я уж и сама-то догадалась: больно складно рассуждает, да еще говорит, что в газете неправда написана! Знаем таковских!
— Постойте... Так вы его выгнали... И что же, он с тех пор не возвращался?
— А с чего ему возвращаться-то? Знает кошка, чать, чьё мясо съела! Я на него как полицию вызвала, так он у господ полицейских еще и их шар своровал!
— Что за шар?
— Ну летучий, понятно ж! Не дурак он, чтоб на место преступления возвращаться-то...
«И правда, — подумал Венедикт. — Не стоит маячить перед людьми там, где меньше недели назад похищал дирижабль Охранки».
Он узнал всё, что мог, и, никем не замеченный, двинулся обратно вниз по лестнице.
Глава 18, В которой Варя ориентируется по запаху и знакомится с сомнительными слухами.
Дождь лил с самого утра.
В Малом Сампсониевском переулке, где находились и Варина фабрика, и казарма, он прибивал к крышам чёрный дым, что обычно красиво стелился над трубами производственных помещений. После жидкая копоть катилась по водостокам или капала с крыш словно чёрные слёзы рабочих. Из-за туч в цеху с утра было темно, но мастер сказал, что жечь китовый жир до восьми вечера не велено. Варю это не особо огорчило. Все три свои операции она давно уже выполняла автоматически, почти не глядя. Да и мысли были не про освещение. Голову занимала гораздо более важная и тревожная дума: куда делся Миша?

Когда дали гудок, означавший конец рабочей смены, и большинство фабричных девчат, подоткнув повыше юбки, зашлёпали в казарму по чёрным лужам, Варя как тогда, в день взрыва, двинулась в противоположную сторону — к Клейнмихельской. Только в этот раз совсем одна.
Всю дорогу до станции «Выставка» она провела тупо глядя на сюртуки и костюмы-тальеры других пассажиров, клубы дыма, омывающие окна паровоза и мелькающие за стёклами большие рекламы средства от облысения, мужского бессилия и сползания носков. Многие из них сегодня тоже были все в чёрных потёках. Впрочем, Варе это было всё равно. Чтобы не мучиться от беспокойства, она старалась настроить себя так, словно ей плевать вообще на всё: и на дрянную погоду, и на собственную усталость, и на необходимость трусливо избегать визитов в больницу, чтобы не объяснять Ольге Саввишне, где её сын, и на то, чем кончился вчерашний визит к Скороходовой. Варя уверяла себя в том, что ни этой женщины, ни её безумных слов про нигилизм Михаила не существует, а визит на стройку — это вовсе не последний шанс найти Коржова.
Выход с железки был в самом центре строящегося выставочного городка, рядом с огромным колесом обозрения, которое как раз сейчас крутили, демонстрируя какому-то важному господину, прибывшему с инспекцией. Скрипело оно устрашающе. Прямо перед Варей пробежали несколько рабочих с тачками угля для этой конструкции. Их обогнал запыхавшийся господин в хорошей одежде с большой банкой масла.
Когда колесо остановилось, и его скрип перестал быть основным звуком на стройке, Варя сообразила, что двигаться ей надо не туда, откуда слышны стук клепальных молотков, скрежет пил и пыхтение кранов, а в противоположном направлении, туда, где располагались уже построенные павильоны. Она знала, что Миша отделочник, и шла на запах красок и побелки, в ту сторону, куда несли цветные стёкла и изразцы, куда тянули провода инженеры в очках-консервах, и откуда местами уже было видно свечение электричества.
Одним словом, для того, чтобы найти Ивана, Мишиного напарника, надо было приложить немало усилий, но Варе повезло, и она обнаружила его в будущем Павильоне Воздухоплавания, пробродив всего двадцать минут.
И работал Иван в одиночку.
— Ваня? — неуверенно шепнула ему Варя.
Он услышал. Повернулся.
— Ты помнишь, мы как-то видались? Я Миши невеста. Варварой зовут. Помнишь, нет?
— Помню, а то! — Иван разогнулся и раскрыл объятия наречённого своего напарника, так словно это была давняя знакомая из его деревни, прибывшая повидаться. — Что, Мишка-то где?
— Да я думала, ты, может, знаешь... Я затем и пришла, чтоб спросить... Он пропал...
— Ну!
— Пропал, да...
— А я думал, может, болен или что.
— Ты давно его видел?
— Да дней пять уж на работе не показывался. Десятник решил, что он запил. А я говорю: нет, Коржов не такой. Он непьющий. Его и капли выпить не заставишь, покуда работа не кончена! Верно сказал, а?
— Да верно... — Варвара вздохнула и опустилась кучу паркетной доски. — Ох, Господи, Боже ты мой... Что ж мне делать? Ну где мне искать его, Вань, а? Вот ведь был человек — раз! — и нету! Ну что это?!
— Всё в руце Божей.
— А ты не знаешь, где он может быть? Может, он куда-то собирался? Не рассказывал?
— Нет, — ответил Ваня. — Говорил только, какой-то господин к нему совался, звал на подозрительную квартиру. То ли педераст, то ли толстовец, бес из знает. Но ведь Михаил не из таковских! Он сказал, что не пойдёт туда. А больше...
— Может, что-то подозрительно было? А? Припомни?
— Ну... В тот день, как мать его поранило, у нас тут из охранки приходили. В Павильоне Нефти пол весь перепортили. Ругались, мол, на нигилистов мы похожи, да в полу, небось взрывчатку прячем. Мишка, кстати, с ними и не спорил, всё молчал...
— Это не странное. Нынче вся Охранка на ушах, везде шныряют, перед выставкой-то.
— А по мне, так очень странно, — сказал Ваня. — Сама-то посуди. Сначала твоего жениха обыскивает полиция, потом зазывают к себе декаденты, потом на него падает какая-то бандура с высоты, и он решает, что его убить хотели... А потом он исчезает. Что выходит?
— Ну и что выходит?
— Воля твоя, девка, а я бы на твоём месте всё понял: не хочет Мишаня жениться. Не хочет и всё тут. Его не заставишь.
— Ты, что, хочешь сказать, что он сбежал только для того, чтобы не жениться на мне?! — возмутилась Варвара. — Не хотел бы, так сказал бы! Язык у него есть, небось!
— Как знать...
— Городишь чёрт-те что!
— Я рассуждаю.
— Вот как Миша найдётся, скажу я ему про твои рассуждения! — ответила Варя обиженно. — Мы тебя на свадьбу звать хотели! А ты вот как!
— Это ежели найдётся, — сказал Ваня.
Варе очень не понравились последние слова, но она не нашлась, как оспорить их. Просто смолчала. А Ваня добавил потом:
— Ну а ежели не найдётся, ты приглядись. Есть ведь много хороших парней.
— Это ты что ль? Невесту у друга отбить хочешь?! Тьфу, как не стыдно!
Смутившись, Иван сменил тему:
— А знаешь, что жизнь-то изменится скоро совсем?
— Почему это?
— Строители сказали. Говорят, есть такой царь — народный, истинный. Он скоро явится, плохого царя скинет и начнёт управлять по-народному. О рабочих будет печься. А рабочих кто обижает, тех он накажет.
— Это, что, Иисус Христос? — спросила Варя.
— Не совсем. Но наподобие... И вот, когда он придёт и воссядет в Зимнем Дворце, тем, кто с ним, будет хорошо, а тем, кто не с ним... ууу!
— Ересь декадентская всё это. Ты, сектант, что ль? В хлысты записался?
— Я к тебе расположение имею и ценными сведениями делюсь! — С важным видом ответил Иван.
Варя хотела ответить, что с его стороны лучше было бы поделиться какими-нибудь сведениями о Мише и помочь его искать, но не ответила. Стало ясно: на стройку пришла она зря.
***
В казарме, как и предрекала это Дуня-коммунистка, передавали вечерннюю службу. Начальство уверяло, что это не фонографическая запись одной и той же литургии из ближайшей часовни, а прямая передача из самого Исаакиевского собора. Ходить в Исаакиевский собор работницам было некогда, так что в самом ли деле там служат вечернюю именно в этом часу, никто не знал. Да и из зарплаты за подачу Слова Божьего прямо до койкоместа удерживали не так уж и много: двенадцать копеек за месяц. Так что бастовать из-за громкоговорителя в казарме никто не стал, зато теперь каждый вечер работницы стояли лицом к нему, подпевая «Алилуйя» и крестясь в нужных местах на новомодное устройство. Переступать через Марью и Прасковью, идя к своему койкоместу, Варваре тоже уже не приходилось: теперь эти товарки не лежали, а стояли каждый вечер, но толкаться вокруг них, перелезая через пустые койки, во время литургии было уже как-то неуместно. Приходилось обходить длинной дорогой, вдоль всех стенок, чтобы не мешать девчатам спасать души — их единственную собственность.
Добравшись до своего места, Варя тоже стала лицом к репродуктору и принялась привычно кланяться, креститься и повторять за фонографическим батюшкой выученные с младенчества слова. Только вот покой и благоговение, кои положено было испытывать на литургии, не шли к ней. Гнать из головы мысли про Мишу сил уж не было. Неужто не вернётся? Неужто и правда исчез, потому что жениться не хочет? Как сказать Ольге Саввишне? Как пережить всё самой? И главное — не связаны ли глупости, которые болтала Скороходова, про то, что Миша якобы подался к нигилистам, с обыском на стройке, про который сообщил Иван? Что, если Коржов и в самом деле с нелегальными сошёлся?! Он мечтательный, он ласковый и мягкий, он хочет от жизни чего-то помимо рутины, имеет пытливый разум, не пьёт... Именно такие люди и попадают в лапы всяких кружковцев, народоспасателей, немцепоклонников!.. Сегодня он якшается со странными людьми, завтра на него падает идолище поганое, а послезавтра он взрывается в номере гостиницы из-за неосторожного обращения с кислотой, и его пальцы вынимают из рагу в кафе напротив... Да уж, Варя, хоть была необразованна, но всё же кое-где кое о чём была наслышана и знала, как бывает! Неужели Миша ощутил в себе зов царской крови и почувствовал, что Государь не по праву на троне?..
***
После службы Дуня справа принялась обтирать своего дитятю перчоной водкой: он опять чем-то болел, и это средство посоветовала знающая женщина, с которой мамаша вчера познакомилась у проходной.
— Ты бы лучше его доктору показала, — заметила Дуня-коммунистка.
— Нет уж! Знаем этих докторов! У меня от них мать померла. Как десятого брата рожала, горячка у ней началась. До того отродясь не болела. А тут с горячкой повезли её к врачу — и всё, преставилась! Даже и доехать не успела. Делай выводы!
— Тогда бабке покажи какой хорошей, — не унималась коммунистка. Варя знала, что Дуню слева хлебом не корми, только поспорить дай с любым о чём угодно. — А водкой лечиться неможно. Водка человека только губит, не иначе.
— Да мне она всё равно бесплатно досталась, — парировала мамаша. — Какой-то человек около фабрики бутылку дал.
— Так просто?
— Ага. Попросил зато сказать, что, если спросят, кто из поезда бомбу кинул, отвечать, молодой человек, мол, в фуражке студента.
— А ты видела, кто кинул на самом деле? — Встрепенулась Варвара, припомнив тот страшный день.
— Не, — сказала Дуня равнодушно. — Я в том поезде была, да не видала. Народу набилось в тот день просто пропасть! И фабричные, и просто незнакомые. Как оно рвануло, так те люди, что у окон были, как начнут кричать: «Еврей! Еврей в ермолке!». Все давай толкаться, да искать того еврея, а его и след простыл. А потом ещё кто-то кричит: «Это поп был!». Опять толкотня. Может, он и был там, поп тот, я не знаю, не видала. Там дышать-то было нечем.
— Зачем же ты согласилась говорить, будто это студент? — спросила Варвара.
— Всё одно, от них все беды, от скубентов, — и Дуня пожала плечами. — Я с одним сошлась, было, по молодости. Так он потом меня бросил. Сказал, я ему неинтересна, потому что про французскую головорубочную машинку не знаю. Так что от них только пакостей всяких и жди!
— Слышь, Дунька, а куда ты ехала-то на поезде в этот день? — обратила внимание коммунистка. — Нам же до казармы-то пешком рукой подать. Уж не на свидание ли? Небось нового студента подыскала? Или снова к этому лакею?
— Да, к нему...
— Ну!
— И что ж он?
— Да, что?
— Не надумал жениться покуда?
— Не хочет никак, — Молодая мамаша вдохнула, отставила бутылку и принялась заворачивать своего младенчика в постиранную тряпицу. — Я вот думаю, если второго рожу, то тогда уж...
— Ох, Дунька! — всплеснула руками Варвара. — Ничему-то жизнь тебя не учит. Чем цепляться за этого старого чёрта, нашла бы давно молодого, да работящего! Вон, сходи на «Треугольник» — там полно парней работает хороших, неженатых!
— Да кто ж меня с ребенком-то возьмёт, — вздохнула Дуня. — Я ж лучше за того держаться буду. У него зарплата как у околоточного — пятьдесят целковых в месяц! Да одежда. Да на кухне подъедает за хозяином. Он таким меня бывало угощал! О-о-о!
На лице Дуни справа смешались страдание, покорность судьбе и мечтательность. А Дуня слева сказала:
— Скоро нашей сестре не придётся с лакеями спать за конфекточку.
— Ты о чём? — Спросила Варя.
— О царе! — Коммунистка понизила голос. — Вчера мне профсоюзные девчата рассказали, что не долго спину гнуть нам на буржуев!
— Как так?
— А вот так! Говорят, в Петропавловке выжил один из царевичей! Его буржуи спрятали затем, что он хотел их наказать всех, а народу нести землю, правду, страхование и восьмичасовой рабочий день! Потому его заперли и двадцать лет на цепи продержали в подвале. А царём Сергея сделали, который про народные страдания не знает и знать не хочет. Да только тот, другой царь, с цепи вырвался! И скоро всем нам явится! Вот так-то!
— Дай-то Бог, — сказала Дуня справа. — Ежели придёт царь справедливый, так, может, он Логгина Дормидонтыча наконец-то жениться заставит.
Глава 19, В которой Николай Львович оказывается в худшем месте России и общается там с худшим человеком.
Чита оказалась самым захолустным городишкой, какой только видел Николай Львович за свою жизнь. Паромобиль тут имелся всего один — в собственности у военного губернатора Забайкальской области. Можно было бы, конечно, взять его на время для своих нужд, но Николай Львович решил, что современная машина посреди бурятской степи привлечет излишнее внимание, пересуды и помешает хранить дело в тайне. Поэтому он взял возок и лошадь в полицейском управлении и велел вознице ехать в Акатуй.
Сутки спустя он достиг своей цели. Сжимая в руках фонограф и на всякий случай имея за поясом револьвер, министр вошёл в самую тайную, самою тёмную, самую охраняемую подземную камеру Акатуйской каторжной тюрьмы.


В тусклом свете керосинки он увидел страшного оборванного старика — совершенно седого, с клочковатой бородою, косматыми длинными волосами, в ручных и ножных кандалах поверх грязной и рваной одежды. На шее старика было металлическое кольцо, от которого шла цепь, прикреплённая другим концом к стене. С одной стороны от узника была куча соломы, с другой — поганое ведро, учтиво опорожнённое стражей перед визитом большого начальства. Тем не менее, запах в камере был самый омерзительный. Николаю Львовичу показалось, будто он спустился в склеп или в могилу, где гниёт давно оставивший мир живых покойник. И оттого ещё странее, ещё удивительней ему было видеть взгляд заключённого — злой, подозрительный, хитрый и очень живой.
— Ну, здравствуйте, Сергей Геннадьевич, — произнёс министр.
— Кто вы? — спросил узник.
В его голосе послышались надежда, страх, заинтересованность и обречённость одновременно.
— Министр юстиции Российской империи Кунгурский Андрей Андреевич, — назвался Николай Львович именем самого неприятного из своих коллег.
Открывать своего настоящего имени главному преступнику страны он не собирался. К тому же был уверен, что погребённый уже два десятилетия в самом страшном застенке империи не читает газет и не знает ни лиц, ни фамилий министров, ни того, к чьим полномочиям нынче какая проблема принадлежит.
— Империи... — С отвращением произнёс Нечаев. — А я уж было думал, что власть пала и меня решили выпустить.
— Ошиблись, милейший! Ещё раз ошиблись. Как тогда, когда убили Иванова. Как тогда, когда устроили чудовищную бойню в Петропавловской. Ошиблись. Вы всё время ошибались. Действия таких, как вы, не привели и никогда не приведут к перемене государственного строя. Убьёте одного царя — другой придёт. Неужто вы не поняли? Российская империя — навечно. Она крепка как камень.
— И вы притащились из Петербурга только для того, чтобы сообщить мне это, господин министр? — Нечаев усмехнулся. — Вот так честь!
— Нет, — ответил Николай Львович. — Не только. Я хотел убедиться, что вы осознали, что ваши усилия тщетны. А затем я хотел предложить вам стать на правильную сторону истории.
— Что вы имеете в виду? — Настороженно, но любопытно спросил террорист. — Уж не думаете ли вы, что я стану каким-нибудь стукачём для вас?!
— О, нет, Сергей Геннадьевич! Я знаю: масштаб вашей личности не потерпит второстепенной роли. Если вам кем и быть, то только правителем всех террористов России! Царём террористов! А, может, царём стукачей?..
— Ума ни приложу, что вы городите, — растерянно отозвался Нечаев. Впрочем, через уже через секунду, он видимо, понял, что прозвучал слишком несолидно и неуверенно, и поспешил спрятать это под едкой остротой. — Если таких бестолковцев, как вы, назначают министрами, видимо, дела у царизма не так уж и хороши, как вы утверждаете!
— Не спешите с выводами, Сергей Геннадьевич. Вы ведь, верно, хотите на волю?
Нечаев переменился в лице:
— Прекратите! Хватит лгать! Не в ваших полномочиях меня выпустить!
«Нервно лает, как голодная собака, перед которой вдали замаячил большой кусок мяса», — довольно подумал министр. А вслух он сказал:
— Не в моих. Но зато в моих силах помочь вам бежать.
— Для чего? — после пары секунд тишины произнёс террорист.
Его голос звучал глухо и срывался, словно у гимназиста на первом свидании.
— Чтобы вы стали тем, кем должны были — самым влиятельным русским революционером. Кумиром молодёжи. Новым Герценом.
— И какую плату вы с меня потребуете? Чтобы я сдавал товарищей Охранке?
— Не всё время. И не всех. Только самых непослушных, как Иванов. Тех, кто увлекается нелепой самодеятельностью. Тех, от кого никакой пользы ни нам, ни вам. Ну и, разумеется, ещё тех, кто окажется настолько самонадеянным, что попытается отобрать у вас звание царя террористов... Ах, да! Если вам понадобится угробить какого-нибудь министра или губернатора, вы спокойно сможете получить от нас его адрес, распорядок визитов, внешний вид выезда и динамит. Единственное: выбор самой, цели, разумеется, за нами. Впрочем, уверен, что ликвидация какого угодно высокопоставленного лица будет вам, Сергей Геннадьевич, лишь на руку. Пара-тройка таких акций — и вы будете объектом восхищения не только среди отечественных кружковцев, но и между всеми анархистами Европы, в любых этих ваших Интернационалах!
— Другими словами, вы собираетесь уничтожать с моей помощью неугодных субъектов? Будемте честны, Андрей Андреевич! Неужели власть уже настолько ослабела, что, вместо того, чтобы сместить пару неугодных чиновников, она выпускает из узилища своего злейшего врага лишь затем, чтобы тот их убил?
— О, нет! — Сказал министр. — Мне вовсе не истребление чиновников нужно. Без этого можно совсем обойтись даже, если вам неинтересно. Главное для меня — это чтобы вы забрали под своё влияние всю эту беспокойную молодёжь, всех этих кружковцев, поклонников Маркса, стремящихся облагодетельствовать народ... Всех этих безработных инженеров, которые с тоски подались в земские учителя и пропагандисты... Этих химиков, воображающих, что их бомба улучшит крестьянскую жизнь... Этих старых народовольцев, которых не добили двадцать лет назад, или которые бежали из ссылки, и на пятом десятке никак не уймутся... В общем, мне нужен кто-то, кто будет их всех контролировать.
Нечаев удивлённо смотрел на Николая Львовича и не перебивал. Тот продолжил, совсем уже прямо:
— Мы знаем, что революционной заразе никогда не разрушить Российской Империи. Также мы знаем, что эта зараза неистребима. В таком случае, не лучше ли для всех, если у этой интеллигентщины будет один общий главный вожак? Через вас мы сможем вступать в переговоры с молодежью, изымать из ее среды самых безумных, узнавать её мечты, её желания. Вы ж, в свою очередь, сколько угодной читайте своих иностранных социалистов, проводите конференции и съезды, собирайтесь у Казанского собора... Можете даже учить крестьян грамоте, если не будете пропагандировать бунт! Одним словом... — Тут министра осенило. — Одним словом, предлагаю вам, по сути, стать начальником парламента! Только парламент у нас будет не такой скучно организованный, как у британцев, а незримый, всенародный, нигилистский!
— Что за нелепые враки! — Нечаев расхохотался. — До парламента договорились! Этак скоро до республики дойдёт! Право, чем дальше вы говорите, Андрей Андреевич, тем сильней у меня ощущение, что что-то не так! Уж не началась ли революция?
— Ничуть. И не мечтайте.
— Не вляпалась ли Россия в какую-нибудь войну со всем миром навроде Крымской?
— И этого не дождётесь. Благодаря изобретению пулемёта, а также грамотной комбинации блоков на международной арене, двадцатый век будет веком и вовсе без войн!
— Ну, допустим, поверю... А скажите, жив ли царь Сергей? Не умирает ли? Не обнаружилось ли у него какой-нибудь неизлечимой болезни, что вы так засуетились? У него ведь нет наследников, я прав? Весь Петербург знает, что царь Сергей не интересуется женским полом! — Нечаев препакостно ухмыльнулся. — Мне тут, сударь, газет не приносят, однако, подозреваю, что он не только не дал потомства, но и не женился! Ну, а от остальных так называемых Романовых мы всё же Землю Русскую очистили, хе-хе! Скажите правду, министр: последний царь в России умирает, и вы готовитесь с большим переменам, не так ли?
— И снова вы кругом ошиблись, господин Нечаев! Государь женат и здравствует. Да и Романовых вам удалось истребить отнюдь не всех. Вот Михаил, например, объявился живым, младший сын Александра Александровича... Всё-то вы, нигилисты, делаете тяп-ляп... Ничего до конца не доводите... Всюду вам помощь нужна...
— Мы с детьми и не воюем, — ответил Нечаев. — Ну, а ежели он только объявился, то живёт не во дворце, я полагаю? Без охраны? Если так, то не сомневаюсь, что найдутся желающие закончить то дело, которое мы не доделали.
— А вы сами? — вдруг спросил министр.
— Что — сам?
— Закончить. Дело.
Нечаев смерил его взглядом, словно проверяя, не померещился ли ему этот удивительный собеседник. А затем продолжил:
— Вот забавно. В тюрьме двадцать лет сидел я, а с ума сошёл мир, что на воле... Я ослышался или министр юстиции выпускает меня для того, чтобы я уничтожил великого князя?
— Для того, чтобы вы уничтожили самозванца, который, как Гришка Отрепьев взял себе имя давно погибшего царевича, и пытается разжечь смуту! — Ответил Николай Львович. — Если мы арестуем его, непременно найдутся какие-нибудь легковерные, которые скажут, что это и был настоящий наследник престола. Если он останется расхаживать на свободе, то продолжит вносить сумятицу в умы обывателей и ставить под сомнение законность Государя. Для всех будет лучше, если этого Лжемихаила уберут революционеры. Мы получим спокойствие и порядок, без бессмысленных роптаний. Вы, как я уже сказал, — титул главного смутьяна всей Европы. Не вижу ни малейшей причины, чтобы вам предпочесть пребывание в Акатуе свободе и обожанию ваших пособников.
— А если я не стану действовать по вашей указке и примусь вести себя так, как мне заблагорассудится? Например, подниму в Петербурге восстание? А? Что тогда?
— Ну, во-первых, — ответил министр, — у вас не получится. А, во-вторых, ведь я не просто так пришёл сюда с фонографом. Ведь наш диалог сейчас записан. Тотчас, как выйду отсюда, я помещу восковой цилиндр в сейф, откуда никто никогда его не достает, если вы станете честно держаться договорённости. Но как только вы решите обмануть — тотчас же всей интеллигентной общественности станет известно, что вы сговорились с министром Кунгурским!.. Ну? По рукам?
Глава 20, В которой Миша спрашивает, точно ли энэмы его не обманывают, а потом спрашивает это ещё раз.
Две недели пробыл Миша у энэмов. Сперва его держали на той же даче, потом перевезли на другую, ещё укромнее. Кормили его хорошо, даже лучше, чем в дома, почти как на Пасху. Не били, не мучили. Только вот ни из дому не пускали, ни даже весточки родным дать ну никак не позволяли: говорили, что это опасно, и что полиция и охранка могут вычислить его, и всё закончится примерно так же, как и с квартирой горе-конспираторов Доры и Венедикта. Про то, насколько и почему неравнодушно теперь к Мише петербургское начальство, он уж понял. Царское происхождение, как и прежде, было для него как бред, как сказка, выдумка... Но что же было делать, коль всё сходилось! Последние дни он даже рассматривал фотографию покойного цесаревича Александра Александровича — и в самом деле, нашёл у себя сходство с ним. Энемы обещали вскоре найти и изображение Марии Федоровны, его жены — после лицезрения его у Михаила, по их словам, должны были отпасть последние сомнения.
Каждый день с ним вели политические беседы. Сперва Михаил воспринимал их как какое-то мошенничество, уловки смутьянов, попытки вовлечь себя в нечто неподобающе-извращённое. Потом — как непонятное занудство. Но затем ему закралась мысль вдруг, что ведь в этих политических речах будто что-то есть! Фабриканты не должны мучить рабочих, помещики крестьян, господа все вместе — обывателей... Правительство должно радеть о народе и устраивать такие законы, чтобы свести к минимуму страдания такового... Выкупные платежи несправедливы, штрафы за опоздания на фабриках несправедливы, ограничения для инородцев несправедливы... Да, все эти вещи звучали слишком хорошо, слишком соблазнительно, чтобы не быть обманом! Но в чём тот обман, Миша всё же не понимал и всё более позволял речам таким проникнуть в свою голову. В конце концов, они сообразовывались с учением Христа! И, по чести сказать, куда больше сообразовывались, чем наличествующие порядки! В конце концов, Коржов даже подумал, что, может, раз он влип в эту историю, то Бог и вправду хочет, чтобы он, невесть откуда родившийся, сыграл роль царя и облегчил народную участь... А может даже и подготовил бы страну ко второму пришествию.
— В общем, я всё понял. Я готов, — сказал он как-то утром Герману Александровичу, больше всех остальных говорившему с ним о политике.
— Превосходно, Михаил! Мы не сомневались! — Ответил тот, обняв того, кого совсем недавно обзывал «Ваше Величество». — Наконец-то нашей стране выпала удача — получить истинно народного Государя! Государя, который вырос не во дворце, а в тёмном углу петербургской доходной квартиры, между дымных труб завода, а цеху, на стройке! Царя, который знает нужды трудового класса не по наслышке и будет править для народа, а не для господ! Царя, который позволит нам отказаться от крайнего средства, террористической борьбы, и построит социализм, как мечтал сделать Герцен, бескровно!
— Кстати, вот о терроризме, — сказал Миша. — Так вы точно не взрывали мою мать? Ведь вы не врёте?
— Нет, конечно! — Герман Александрович немного переменился в лице. — Да вы ведь знаете, её вообще никто не взрывал! Взрывали-то Синюгина! Она там просто рядом оказалась.
— Это — знаю. Но Синюгина — не вы, да?
— Нет, не мы. Наша организация лучшая и крупнейшая в России, но есть, ведь вы знаете, и другие... Бывают ничего ребята, честные, толковые, которые рабочих агитируют у проходных, то нет-нет, да и пристрелят какого-нибудь особенно бессовестного начальничка, обижающего народ... А есть просто разбойники: грабят больницы, бани, лавки, что угодно, берут там по десять-пятнадцать рублей, называя всё это экспроприацией... Это мог быть кто угодно. Синюгина, знаете, многие ненавидели!
— Ладно, хорошо, — ответил Миша. Он вообще-то уже слышал это объяснение, но теперь как-то захотел получить его еще раз, для пущей верности. — Ну, а если я буду царём, вы ж поможете мне, да? О народе я радеть хочу, а что за «социализм» такой, честно говоря, так и не понял.
— О, поможем, конечно! И думаю, что не только мы! — Герман Александрович снова переменился в лице и стал очень радостным. — Когда станет известно, что к власти пришёл настоящий народный царь, я уверен, что тысячи образованных людей, тысячи профессоров из университетов, народных учителей, земских статистиков, всех, кто знает науки и любит Россию, придут к вам на помощь! От вас, Михаил, нужны лишь воля, честность и справедливость! А интеллигенции для помощи достанет!
— Предложим. Ну а как я власть возьму? Царь Сергей-то, небось, не горит желанием уступать мне место!
— Когда станет ясно, что вы настоящий, живой Михаил, что потомок Романовых, власть Сергея потеряет легитимность, — туманно ответил глава революционеров.
— Кого потеряет?
— Законность. Ну, в смысле, когда все узнают, что царь по закону не он, а вы, от него наверняка отвернутся и царедворцы, и просвещённая публика, и весь народ. Его уже не будут признавать за императора.
— Его выгонят из Зимнего дворца и позовут туда меня? — С сомнением и надеждой спросил Коржов. — А если не захочет уходить?
— Ну, как это всё технически будет осуществляться, мы пока точно не представляем, — признался Герман. – Может статься, он просто сбежит. Может быть, собственное окружение шарахнет его табакеркой по голове, словно Павла I, или заставит отречься и уйти в монастырь, как Шуйского. Лично мне, конечно, нравится картина, как народ поймёт, что узурпатор не пускает во дворец истинного монарха оттого, что тот готов радеть о простом люде; тут случится восстание; рабочие Петербурга ворвутся в Зимний дворец... Хотя это, в общем, маловероятно. За последнюю четверть века мы выяснили, что поднять русский народ на революцию — непросто.
— И что тогда делать?
— Вам? Не подвергать себя опасности. Сидеть пока у нас и не подставляться жандармам и прочим агентам Сергея. Ну, а мы работу уже начали! Через чайные, газеты, профсоюзы и рабочие кружки мы распространяем сейчас сведения о том, что существует законный царь, что он выжил в Петропавловке, и если придёт к власти, будет править для народа! Я видел уже несколько газет, где с пеной у рта уверяли, что вас нет на свете! Судя по тому, как старательно внушают обывателям эту мысль, наша информация циркулирует хорошо и уже начинает пугать царедворцев!
— И долго мне прятаться?
— Ну, до тех пор, пока наши сведения не распространятся в достаточной степени, и пока общество не наполнится ожиданием и готовностью вас принять. А затем вы им явитесь... Мы вас покажем народу...
— Покажете? — И Миша усмехнулся. — Вы так говорите, словно я какой-нибудь экспонат со Всемирной выставки...
— А что, это идея! — Герман Александрович встрепенулся. — Всемирная выставка и в самом деле была бы прекрасным местом, чтобы явить вас миру! Огромное стечение людей со всего света, тысячи глаз, кинокамер и фотографических аппаратов... Если вы там появитесь, то у Сергея не будет шансов сказать, будто вас там не видели! О, я уже представляю, как французы из «Патэ», не веря глазам своим, будут фиксировать на киноплёнку решающий поворот в судьбе нашей страны... То, чего мы все так долго ждали... Да, и времени, оставшегося до Выставки, нам должно хватить!
— Но как мы докажем, что я — настоящий царевич? — спросил Михаил. — Разве мало было самозванцев? Меня сразу же сочтут одним из них.
Мечтательное выражение сползло с лица Германа Алексадровича.
— Да, — сказал он. — Вот это проблема. Вообще, мы уже думали над этим... Вот пишут, в Австро-Венгрии какой-то учёный выявил, будто кровь каждого человека принадлежит к одной из четырёх групп. Эти группы, разумеется, как всякая особенность организма, должны передаваться от отца к сыну. Мы думали о том, что, если выяснить группу, к которой принадлежит кровь наших Голштин-Готторп-Романовых, сравнить её с вашей...
— Но если групп всего четыре, получается такая же кровь у четверти людей на Земле, — сказал Михаил.
— Да. К тому же, может статься, что открытие ошибочное, да и времени на то, чтобы выписать этого профессора к нам из Вены, уйдёт Бог знает сколько... Если он, конечно, не приедет сам на Выставку... В любом случае, сильно рассчитывать на этот метод не стоит. Так, дополнительный аргумент, если вдруг получится... Фотографии ваши и ваших родителей, разумеется, мы задействуем. Кстати, Михаил! Отпустите бороду. Так и в целом солиднее будет, и на Александра Александровича ещё больше станете походить!
— Это всё не очень убедительно, — заметил Коржов.
— Да, — Герман Алексадрович вздохнул. — Ещё мы подумали о том, что хорошо бы найти няньку царских детей, которая возилась с ними двадцать лет назад. Кажется, одна из нянек погибла в Петропавловском соборе вместе с семьёй, но ведь у неё наверняка должна была быть сменщица, а то и не одна!..
— Что проку с няньки? Как она узнает? Я же вырос...
— Но если она вас купала и одевала, то может помнить какие-нибудь особенные приметы на вашем теле. Есть у вас, предположим, родимые пятна?
— Да нет, вроде...
— Жаль. Может, что-то ещё в этом роде?
— Мне кажется, моё лицо и моё тело выглядят как лицо и тело самого обычного русского человека, — ответил Миша. — Решительно, без всяких там особенностей. У меня даже шрамов после побоища не осталось. Ну, кроме душевных...
— Печально. Тогда, может быть, при вас были какие-нибудь вещи, когда ваши приёмные родители подобрали вас? В крайнем случае, нянька могла бы опознать вас по этим вещам.
— Я не знаю. Это мать надо спросить, — сказал Коржов. Вспомнил о ней и тотчас же затосковал. — Я даже не знаю, жива ли она... Вы меня не пускаете.
— Но вы же понимаете, это ради вашей безопасности! Ради блага всей страны и всего народа, по сути дела!
— Понимаю... Но если бы я смог навестить мать, это придало бы ей сил для выздоровления, и у нас был бы важный свидетель. И к тому же, я мог бы узнать о неё у царских вещах, которые при мне были. Всё это помогло бы мне воцариться, и таким образом, стало бы тоже на благо народу...
— Вы быстро учитесь и превосходно соображаете! — Одобрительно отметил собеседник Михаила. — И всё же... Всё же это лишний риск.
— Да я только туда и обратно! В больницу — и к вам! В один день! — Уверял Михаил.
— Дня царским ищейкам вполне хватит, чтоб с вами разделаться.
— Да нет же! Я быстро!
— Это вам сейчас так кажется. А потом окажется, что надо ещё сходить на квартиру, навестить невесту...
— Я ей через мать просто записку передам.
— И всё же нет. Мы должны обдумать, как связаться с вашей матерью и узнать о бывших при вас царских вещах, но вам ехать в Петербург, тем более, одному — опасно слишком.
— Можно подумать, все жандармы России за мной охотятся, — скептически отозвался Коржов. — Я всё ж, чай, не Ванька-Каин. У них, небось, и без меня работы хватает...
— А вот я как раз подозреваю, что на ваши поиски брошены весьма существенные силы, — сказал Герман Александрович. — И они ещё всё больше с каждым днём.
Это утверждение показалось Михаилу очень спорным, но ответить он не успел, потому что в ту комнату, где они находились, вбежал один из революционеров — молодой румяный парень, которого Миша видал в первый день нахождения здесь, а теперь уже знал, что его звать Егором. Егор был весь растрёпан и размахивал газетой.
— Нечаев! Нечаев сбежал! — закричал он с порогу.
— Что?! Как?! Быть не может! Покажи! — засуетился Герман Александрович.
— Вот же! Чёрным по белому писано! Сбежал из Акатуйской каторжной тюрьмы неделю назад и скрылся в неизвестном направлении! — Зачитал Егор торжественно. — Вот человечище!
— Ну, Нечаев! Ну, хорош! Ну, сукин сын!
— Ни в одном каземате его не удержишь!
— И верно! Небось, снова, как тогда, свою стражу всю распропагандировал, да, Герман Александрович?
— Мы не знаем, здесь такого не написано...
— Написано, что всю охрану Акатуйской тюрьмы скопом поувольняли — и под арест! Ни единого солдата не оставили! Ох, чую, развёл там Нечаев у них агитацию! Вот ведь кудесник!
— Да, кудесник, это точно.
— Что же, Герман Александрович, должно быть, в Петербурге нам его ждать теперь? Небось, аккурат к выставке поспеет?
— Ох, Егорка, он там шуму наведёт! Да-а-а-а... Неужто Фортуна решила совсем повернуться лицом к исстрадавшейся русской интеллигенции? Сперва — царь, теперь — Нечаев...
Миша кто такой Нечаев не знал, а если и слышал когда, то не помнил. Он хотел было спросить, за что такое сидел этот человек и чем его побег так замечателен, но решил не пока не соваться к Егору и Герману, не мешать их ликованию, пока его не вспомнили. И лишь когда один из них заметил, что такого важного человека, как Нечаев, сейчас, наверняка всеми силами станут искать и полиция, и Охранка, залез в беседу:
— А что, Герман Александрович? Ежели сейчас все за этим Нечаевым станут гоняться, так, может, не до меня им теперь окажется? Может, можно теперь в Петербург? На денёк? А?
— А тебе это зачем? — спросил Егор.
Коржов объяснил.
— Ну, про царские вещи и правда узнать надо. Может, отпустим? Кажется, сейчас для этого и правда подходящий момент, — рассудил молодой революционер.
— Ладно, — Герман улыбнулся. — Раз Нечаев на свободе... Мы подумаем.
— Подумаем, — подержал его Егор и подмигнул Коржову. — Ты ведь, Миша, теперь осознал, какова наша цель, да? Сбежать не захочешь? Ты с нами?
— Я с вами. Осознал... Ведь мою мать не вы взорвали, верно?
— Разумеется, — сказал Егор. — Не мы.
Глава 21, В которой Николай Львович выявляет нехватку спортсменок, а потом сам частично ее ликвидирует
Может, Николай Львович и дал маху с отпущением Нечаева на свободу. По пути обратно в Петербург он думал об этом вновь и вновь, но в конце концов решил, что сделанного всё равно не воротишь, а что «клин клином вышибают» придумали ещё древние латиняне, которые в интригах знали толк. Основная надежда министра была на немолодых годы и подорванное тюрьмою здоровье Нечаева: несмотря на все свои таланты негодяя, тот — министр знал — был сильно болен и вряд ли должен был прожить на свободе столько, чтоб успеть существенно напакостить... Впрочем, если это всё-таки случится, и вольный воздух излечит его паче чаяния, ответственность за побег опасного преступника всё равно несёт охрана Акатуйской тюрьмы, которая уже в полном составе пересела по ту сторону решётки...
Путь обратно отнял ещё семь дней. И, хоть это в это потерянное время и удалось вместить инспектирование некоторых сибирских учреждений, а телеграф позволял сообщаться с министерством и делать кое-какие дела прямо из поезда, работы к приезду Николая Львовича в столицу всё равно накопилось немеряно.
Прямо с вокзала министр отправился на Фонтанку, в свою контору.
Там его уже ждали доклады.
— В Свято-Егорьевском переулке ликвидировано гнездилище террористов, без сомнения тех самых, кто убил господина Синюгина. Так что это дело можно считать полностью раскрытым, — докладывал вскоре один из чиновников министерства. — Их притон находился ровнёхонько над притоном каких-то сектантов и колдунов. Очень злачное место! Наши бравые ребята ворвались туда и смело вступили в бой с анархистами. Уложили пятерых. Правда, эти черти привели в действие свой запас взрывчатки, и устроили в квартире адский пожар, ввиду чего тела их опознать и предъявить не представляется возможным. И ещё трое наших погибли в неравном бою...
— Так, стало быть, я теперь могу ездить по улицам, ничего не опасаясь? — С мрачной насмешкой поинтересовался министр. Что-то подсказывало ему, настолько геройский отчёт вряд ли может быть полностью правдивым.
— Ну... — Смущённо ответил чиновник. — Я бы не рекомендовал пока полностью расслабляться... Кстати, ваш броневик уже прибыл.
— Отлично. А что насчёт выставки? — Николай Львович повернулся к другому своему подчинённому.
— Павильоны достроены все, остаётся лишь внутренняя отделка, — принялся докладывать тот, хаотично выкладывая перед министром отчёты строителей, письма иностранных делегаций, сообщения таможни о ввезённых экспонатах и счета за материалы и работу. — Царь-Телеграф уже прибыл. Только что встретили домик из Каслинского литья — прямо сейчас его размещают внутри павильона. Клетка для графа Толстого готова...
— Какая клетка? — Удивился Николай Львович.
— Хорошая клетка, красивая, модная, в стиле модерн. Проектировал Шехтель, — бесстрастно ответил чиновник.
— А, то есть, он всё-таки тоже будет выставляться! — Вспомнил министр. — А что с иностранными павильонами?
— Павильоны иностранных держав практически все уже тоже готовы, вот только Китай свой достроить не может. Пришлось направить на помощь китайцам наших рабочих. Правда, а месте оказалось, что там уже помогают японцы, и возникла небольшая потасовка...
— Потасовок не допускать! Впредь следить, чтобы японцы не мешали нашей помощи Китаю! — Распорядился министр. — А что с Олимпийскими играми?
— Спортc-мэн`ов сверстали. Вот только в крокет игроков не нашлось ни единого. Но это ничего, жандармов выставим. Мы уже сформировали команду из самых ленивых: если плохо служат Государю на основной работе, пусть на Играх отдадут ему сей долг!
— Разумная мера! — Николай Львович склонился над переданным ему списrом атлетов. — В велогонках дворяне Тамбовской губернии... В плавании статский советник и князь... Ух ты, князь!.. В дирижабельных гонках почётные граждане... В беге купец первой гильдии...
— Все приличные люди, Ваше Превосходительство! Вот только перетягивать канат записалась артель бурлаков. Господа в таком деле участвовать погнушались.
— Ладно, пускай бурлаки. Только проследите, чтоб их отмыли как следует, — решил министр. — Послушайте, а почему у вас тут только мужские фамилии?
— А какие ещё, Вашепревсх... Женщин, что ли ставить? — Удивился подчинённый.
— Ну а как, по-вашему? — Разозлился Николай Львович. — Иностранные бабы с нашими мужиками соревноваться станут?!
— Я не думал, что бабы участвуют... Вы не сказали...
— Всё вам надо, остолопам, разъяснять! Ясно, участвуют! Что ж вы за люди?! До начала всего ничего, а у вас ни велосипедеток, ни пловесс нет, никогошеньки! Болваны! А-ну быстро всех сверстать чтоб! Уже к завтрему!
— Так точно!
— Выполнять!

Чиновник удалился. Николай Львович выдохнул и вспомнил, что и сам узнал о том, что Игры 1900 года будут первыми с участием женщин только неделю назад в Чите, из местной газеты, публиковавшей переводные японские и английские колониальные новости. Впрочем, это, разумеется, не повод забывать субординацию...
***
Дома Зина бросилась ему на шею:
— Папенька!
— Соскучилась, дочурка? — Ласково спросил Николай Львович.
— Соскучилась-то соскучилась, однако ж и поважнее у меня к вам дело есть, — сказала Зина, отлипая и делая серьёзное лицо.
— Поважнее? Неужто тебе уже кто-нибудь предложение сделал?
— Это, папенька, нет ещё. Дело у меня к вам другое. Дозвольте велосипедный костюм заказать в лавке Штейера!
— Костюм? Велосипедный? Для чего тебе?
Тут вышла Софья. Вид у неё был как обычно сухой и унылый, но взгляд благосклонный, довольный — кажется, на братних харчах ей жилось неплохо.
— Вы, братец, велели Зиночке увлечение подобрать, — произнесла она. — Так вот мы с нею велосипедировать решили. Потому что, как древние говорили, mens sana in corpore sana. Нынче модно быть спортивной. А как педали накрутишь, намаешься — так уж и глупости думать и сил не останется! Я рассудила, что это полезное дело.
— Бициклеты мы сами купили, да ездим в обычной одежде! — Добавила Зиночка. — Тётушка сказала, что костюмы велосипедеток неоднозначные и не всеми одобряются, так что на них дозволение нужно от вас.
— Даже прямо специальные костюмы... — Проговорил Николай Львович, слегка растерявшись от неождианной новости. В стредствах он стеснён, конечно, не был, но раскидываться ими не любил, а в памяти тут же всплыло то, что перед отъездом он заказал Зине дюжину белых блузок с бельгийскими кружевами, юбок полдюжины разных цветов, новый зонтик от солнца, пять дюжин пар перчаток (для запаса), шляпку с вуалеткой, шляпку с эгреткой и... — Этот костюм в самом деле так нужен? Вы часто катаетесь?

— Каждый день! С утра после завтрака выезжаем, и ну по городу колесить! Пока из сил не выбьемся! — Ответила Зинаида.
— Доктора полагают, что солнце и свежий воздух полезны для здоровья юных девушек, — сказала Софья Львовна. — Всё лучше, чем без дела дома маяться... А уж вечером мы по визитам, да до салонам.
— Каждый день! — Удивился министр. — Что же Зина, ты не устаёшь?
— Немножко, папенька.
— А катаетесь только вдвоём? Никакие сомнительные особы к вам не цепляются?
— Да откуда же мне знать таких особ? — Сказала Зина. — Раз вот Липочка Осинцева прибилась к нам. А так ты всё вдвоём...
— А мужчины к вам не липнут?
— Им нам просто не догнать! — сказала Софья.
— Коли так, — решил Николай Львович, — закажем вам костюмы. Только вы велосипеда не бросайте. Раз пошло такое дело, будете служить Отчеству как спортc-вумен`ы на Олимпиаде!
— А девиц туда разве пускают? Я думала, нет.
— Вот я тоже так думал. Пускают однако ж. А у нас от державы и выставить некого... Вернее, велосипедеток-то на улице пруд пруди, да кто знает-то, благонравные ли они, да кто из них знатнее и красивее, чтоб выступить... И времени искать не остаётся. Так что выступите вы. Вы дамы благородные. В вас обеих я уверен.
— Но ведь мы только начали заниматься этим спортом, — растерянно проговорила Софья. — Нам нипочём иностранных атлеток не обогнать!
— Да и ладно. Кому это важно?
— Так там совернуются! Надо медали выигрывать!
— Да бес с ними. Кого они волнуют, те медали?.. Напишут газеты, что две благородных девицы Россию представили — вот и отлично. А золото, серебро... Да какая разница? Что у вас, серёжек, что ли, мало?
Глава 22, В которой Миша сперва лепит себе искусственные усы, а потом снимает их.
По всему выходило, что без визита Миши к матери и без расспросов её о вещах, каковые были при нём в момент спасения (или похищения, тут кому как нравится) не обойтись. Перед тем как отпустить его в Петербург, энэмы заставили Коржова налепить искусственные усы и обрядили его в офицерский мундир, заготовленный, кажется, ранее, для нападения на некоего высокого чина. Чувствовал себя во всём этом Миша глупо, но деваться было некуда: быть схваченным жандармами наверняка оказалось бы ещё более неприятно. Тем более, как будущему царю, ему пора было отвыкать от синей блузы и учиться носить, что положено Государю.
Егор, обряженный в шоффэрские очки вместе с синею извозчицкой поддёвкой, довёз его на паромобиле до самой Александровской больницы. Поставить там машину было некуда: возле лечебницы уже находилось несколько экипажей, а вокруг них слонялось изрядное количество то ли лакеев, то ли филёров, то ли тех и других.

— Вот чёрт! — Выругался Егор. — И надо же было нам приехать сюда в самое неудобное время! Видно какая-то барынька снова пытается обеспечить себе Царствие Небесное, навещая обездоленных болящих...
— Зато в толпе замешаюсь, и мундир мой вопросов не вызовет, — заключил логически Коржов. — Будут считать, офицер вместе с дамой приехал.
— Надеюсь...
Уговорились, что Егор подождёт Мишу неподалёку, в Измайловском переулке.
***
В многом Михаилу повезло. Он действительно сумел смешаться с окружением знатной особы, прибывшей облагодетельствовать больных рабочих, и добрался до палаты, не назвав своего имени привратнице, у которой — так говорили энэмы — наверняка имелось задание донести о Коржове, если он объявится, да и о любом другом визитёре мужского пола, прибывшем к Ольге Саввишне. Того, как он отлепил ненавистные усы и тайно спрятал их в карман, никто не заметил. Получилось даже безнаказанно ворваться в несколько женских палат и найти мать в четвертой по счёту. Повезло и с возможностью пообщаться с матерью с глазу на глаз: с Ольгой Саввившной в палате находилась только одна женщина, и та как раз спала. Правда, мать её едва не разбудила, закричав:
— Мишаня! Мишенька! Ну наконец-то! Да же где же ты пропадал-то?!

Коржов бросился к ней, обнял. После сразу же пришлось просить быть тише. Слава Богу, жива! Отощала, состарилась, побледнела, но вот она — тёплая мать, настоящая, материальная! Он так долго пытался пробиться в эту злополучную лечебницу — и кто бы мог подумать, в каком виде, с чем на уме и при каких обстоятельствах они всё-таки увидятся!..
— Где ж ты был так долго, что ж не заходил? Неужели эти сатрапы со стройки и вправду заставляли тебя столько работать, что ты даже не мог отлучиться? Варя сперва сказала, тебя там устроили сверхурочно, потом мямлила что-то невнятное, а после вообще приходить перестала... Я уже чего только ни думала! Каких только мыслей ко мне ни являлось ужасных! — Принялась говорить Ольга Саввишна. И сама же себя перебила: — А что ты в мундире, Мишаня? Неужто в солдаты отдали! Ой, Царица Небесная, батюшки, это за что ж такой ужас-то?..
— Тихо-тихо, маманя! — Зашептал Коржов, надеясь, что Ольга Саввишна последует его примеру и тоже понизит голос. — Никакой я не солдат. Это костюм. Ну то есть, маскировка, понимаешь?.. Когда-нибудь я обязательно объясню тебе, почему сейчас был так одет, но пока некогда...
— Нешто можно чужую одежду носить? — Удивилась больная. — Да как же ты можешь военное платье носить, если ты не военный? Ведь выходит, что не за того ты выдаёшь себя!
— Да ведь я, маманя, и так всю жизнь выдаю себя не за того, кто я есть, и ношу не ту одежду, которая полагалась мне по рождению, — неожиданно для самого себя резко ответил Михаил.
По тому, как изменилось лицо матери, он понял, что энэмы не обманули, и сходство Александром III с карточки и правда не случайное.
— Не пойму, о чём это ты, — пробормотала мать и спрятала взгляд.
— Будет, мама, всё ты знаешь, — сказал Миша. — Ты всё Варе рассказала. Та смолчала. Да нашлись другие люди, что услышали, да и мне и передали.
— Вот больная я, а бредишь ты...
— Да хватит, мама! У меня сейчас времени нет в эти игры играться. Я узнал, что... я вам не родной, — он проговорил эту фразу ещё тише, чем всё остальное, как бы стыдясь того, что мать подумает, будто он от неё отрекается.
Сказать о том, что знает о своём происхождении не решился, думал, мать и так поймёт, что ему известно всё полностью. Но та уцепилась за недосказанность:
— Если и так? Мы от бедной вдовы тебя взяли. Осталась одна с семерыми, не прокормить ей.
— И совсем не от вдовы... а в Петропавловской... — сказал Миша так тихо, как он только был способен.
На лице Ольги Саввишны отразился ужас, затем отчаяние, затем мрачная покорность неизбежному. Она смотрела так, словно за этим разговором непременно должно было последовать нечто ужасное.
— Ты, маманя, только не пугайся и не думай, будто я от вас хочу отречься или ещё что! Ты мне мать всю жизнь была и ей останешься! Бог весть, что без вас бы со мной было! Может, вырос бы испорченный. А вы честным человеком мне сделали! За то я за вас с батенькой молиться буду вечно! Только правду мне скажи, мать! Чтоб притворства между нами больше не было! Чтоб честно всё!
— Да что ещё тут скажешь-то... — вздохнула Ольга Саввишна.
Растерянная, она отвернулась к стене, но через секунду опять посмотрела на сына и спросила:
— Ты не гневаешься, Миша?
— Нет, конечно!
— И не бросишь меня?
— Ну, маманя, конечно, не брошу!
Ольга Саввишна как будто успокоилась немножечко, отмякла... Но потом опять взялась за старое:
— Я тебе, сынок, не хотела рассказывать, что ты приёмный, потому как обидно тебе это будет... На самом деле та женщина была не вдова. Мы взяли тебя на воспитание у одной гулящей девицы... А что Варе я наболтала, так чтобы ты себя ублюдком не считал, а то расстроишься...
— Мать! Ну какая ещё девица?!
— Девица гулящая, Фросею звали, пришла к нам...
— Не верю!
— Оно и понятно. От такой родиться никому не будет в радость, оттого ты и не веришь. Да то правда.
— Нет, мать! Правда это то, что ты сказала Варе, когда собралась помирать.
— Пораненной в горячке-то в голову что только ни забредёт...
— Ни за что не поверю, что в тот момент тебя ни с того, ни с сего потянуло сочинять сказки!..
Миша уже приготовился выслушать новое отпирательство матери, но та вдруг перестала вспомнить, грустно посмотрела и сказала:
— Ты поверь. Поверь уж лучше. Сам целее будешь.
— Что?! — Не понял Михаил.
— Да то и есть. Считай лучше, мы тебя взяли у девки Фроси. Так и мне, и тебе безопаснее будет. А то, — тут мать заговорила еле слышно, — приходили тут важные люди. Велели молчать. Обещали мне, ежели где повторю, что Варваре сказали, так худо нам будет...
Коржов замолчал и задумался. Вот, значит, как... В том, кто такие те «важные люди», сомнений не было. То, что говорили энэмы, подтверждалось: баре, окружающие старого царя, в желании сохранить своё влияние пойдут на что угодно, и пролить христианскую кровь, а то и царскую даже, для них не проблема. Но согласиться замолчать и забыть про всё будет означать отдать им победу! Отступить и позволить им и дальше угнетать простой народ! А что в обмен? В обмен Михаил всё равно не получит спокойной жизни. Про него не забудут...
— Так то если на людях повторишь, — попытался он переубедить мать. — Мне-то можно. Нас никто не слышит.
— Бог весть, слышат или нет, – вздохнула та.
— Не могу ж я жить на свете, сам не зная, кто я есть такой, — давил Коржов на жалость.
— А многие живут и знать не знают, — мать не отступалась.
— Это потому что не задумывались. А я задумался, я такое узнал, о чём раньше и думать не мог. Что ж мне, до старости теперь маяться, голову ломать, что да как было, гадать, обманули ли, нет ли...
— Лучше маяться до старости, чем угодить в какую-нибудь беду прямо сейчас, — ответила Ольга Саввишна. — Да и что я скажу? Ты, выходит, всё слышал. А мне уж добавить и нечего...
— При мне были какие-нибудь особенные, узнаваемые вещи, когда вы меня нашли? — напрямик спросил Михаил.
— Зачем тебе, сынок?
— Мне нужно знать.
— Да что в том толку?
— Это чтобы самозванцем не дразнили.
— Да ты что?! — Перепугалась Ольга Саввишна. — Неужто... Да ведь это ж...
— Это мой долг перед русским народом, — сказал Михаил.
— Ох ты, Господи... Что же творится... Делов я наделала...
— Мать, я должен. У меня... служение есть.
Мать серьёзно посмотрела на Коржова, а потом перекрестила.
— А и правда. Кто я, в сущности такая, чтобы с царственной особой спорить?.. Если Господь тебе, Миша, велит искать трона, так, значит, и нужно... Помнишь, у меня тулуп есть зимний старый, которым я укрывалась? Там в подкладке золотой крестик зашит. Солдатские дети таких не носят. Он на тебе был, когда мы тебя подобрали. На нём знаки царские...
Глава 23, В которой Варя сперва готовится рассказать правду, а потом сама хочет услышать её.
Варя подходила к Александровской больнице, мысленно тренируясь говорить слова, которые скажет Ольге Саввишне в ответ на вопрос, куда делся Миша. Фразам про то, что его задерживают на работе, старуха уже очевидно не верила. Варя думала наврать то про какую-нибудь нетяжёлую болезнь, то про внезапно выпавшую замечательную возможность заработать на стороне, то про тренировку для участия в Олимпиаде, куда Коржова якобы неожиданно подрядили... Но, в конце концов, все эти варианты были плохи, потому что выглядели очевидным враньём, а, значит, заставляли бы больную волноваться ещё больше. В общем, Варя решила не прятаться больше, не врать, а сказать всё как есть. Ольга Саввишна шла на поправку, и узнать об исчезновении сына ей пришлось бы так или иначе после выписки на следующей неделе...
«Миша пропал. Я не знаю, где он, но уверена, что скоро он найдётся», — беззвучно шевеля губами, проговорила Варя.
И в ту же секунду остолбенела, увидев выходящего из больницы Коржова.
На нём был военный мундир. Варю пронзило осознание того, что эта смена внешности не могла быть ничем иным, как признаком желания Михаила её бросить, не жениться и вообще жить некой другой жизнью, где нет места ни отделочным работам в павильонах, ни простой фабричной девушке... Но так легко отдать лучшее, что случалось с ней в этой жизни Варвара не собиралась!
Со скоростью новейшего паровоза кинулась она к Михаилу, ухватила за рукав и закричала:
— Миша! Мишенька! Ты где же это был-то?! Неужто решил меня бросить?!
Миша вздрогнул так, как будто на него выскочил медведь, а не родная невеста. Это было плохим признаком.
— Ой, Варя! Ты откуда здесь?
— Как откуда? К Ольге Саввишне иду! Её ведь, кроме меня, и навестить-то некому! — Немедля перешла в атаку Варя.
— Нет, не «некому». Я вот пришёл.
— Ты пришёл! Две недели спустя! Она там все глаза себе проплакала, ждала пока! Я тоже!
— Прости меня, Варя...
— Не хочешь жениться? Другую нашёл, да? Получше?
— Никого я не нашёл. Хочу жениться. Только со мной тут такие дела происходят... Да ты, впрочем, знаешь. — Тут Миша в лице изменился. — Кстати, Варя, почему ты не рассказала мне?..
— Про что не рассказала?
Сердце Вари застучало, как вагон по рельсам. Неужто он всё узнал?! Но они же с Ольгой Саввишной решили... Теперь всё... Уже точно не женится...
— Про то, что рассказала тебе мать в тот день, когда её ранило, — сформулировал, тем временем, Коржов самое страшное.
— Да она мне ничего такого и не рассказывала... — пролепетала девушка, растерявшись.
— Ну, конечно, не рассказывала! Ясно. Опять та же песня... А впрочем, на нет и суда нет. Пусти, меня ждут, мне идти надо!
— Кто ждёт? Девушка другая?
— Нет, не девушка.
— А кто ж тогда?
— Друзья.
— И какие-такие друзья? Ванька, что ли? Так он тебе вовсе не друг!
— Варя, хватит! Я позже скажу всё. Идти надо. Будет! Пусти!
Но не тут-то было! Та вцепилась в его руку мёртвой хваткой. Было чувство: если дать сейчас уйти, то не воротишь.
— Не пущу никуда, так и знай! Где это видано, чтоб от своей семьи, от своей невесты пропадать на две недели, потом как ни в чём не бывало являться, а потом опять бежать к друзьям каким-то! Нет уж, здесь же всё выкладывай! Где был?!
— Варя, позже...
— Сейчас же!
— Пусти уже!
— Вот расскажешь, где ты был, и отпущу тогда!
— Говорю же, мне некогда! Там человек меня ждёт! Придёт время, всё расскажу!
— Да когда оно ещё придёт-то, время то?..
— Если не будешь мешаться, то скоро! — Сказал Михаил, начав злиться. — И вообще! В конце концов, ты мне ещё не жена, чтоб меня допрашивать! А если и была бы, не позволил бы!
— Ах, так!?
— Да, вот так вот! Тебе мать секрет доверила, чтоб мне его сказать, а ты что сделала?! Всё скрыла. Обманула. Для чего? Я ведь после того, как тот барин на автопеде ко мне стал вязаться, ещё специально спросил: не передавала ли мать чего-нибудь важного для меня! А ты что? Соврала!
— Да я думать не думала, что это она всерьёз! — Оправдывалась Варя.
Ей в голову пришло, что, если Миша в самом деле царь или царской крови, то она, простая девка, ухватившая его за рукав при всём честном народе, ведёт себя совершенно неподобающе. Не могла Варя скандалить с Государем! Значит, Миша им и не был! Так что девушка добавила:
— Не верю и теперь! В горячке, при смерти, чего только ни бредит человек! А ты уже решил, что в самом деле...
Миша посмотрел на Варю жёстко, и как ей показалось, в чём-то даже по-царски.
—... Нет, ну, если ты думаешь, что это правда, давай вместе попробуем разобраться в этом вопросе. Я ж не против... Я просто не знала...
— Ну, знаешь теперь, — сказал Миша.
— А ты мне и где был расскажи, чтоб я тоже всё знала! Чтоб больше так не было!
— После.
— Сейчас же! Не то закричу!
— Прекрати!
— Ей-богу закричу!
— Ты, Варька, дура! Хочешь, чтоб меня в полицию забрали? Или чтобы охранка схватила? Меня эти сатрапы и без того нигилистом считают — притом ни за что совершенно! И так с квартиры выгнали уже из-за клеветы! Так тут ты ещё туда же!
— Так значит, оклеветали тебя? Ты не нигилист? — Спросила Варя.
— Нет, конечно! Какой нигилист?! Ты смеёшься?
— А отчего полицию «сатрапами» обзываешь? Это нигилисткое словечко!
Миша замешкался. Несколько секунд он, видимо, искал, что ответить, но не нашёл и сказал:
— Иди к чёрту!
— Ах, так? — Разозлилась невеста. — К чертям посылаешь?! Пожениться не успели, а уже к чертям, вот так да?! А-ну, рассказывай сию же секунду, где пропадал! Не то больше меня не увидишь!
— Уймись.
— Не уймусь! Ежели сейчас же не расскажешь, где ты был, пойду в казармы «Треугольника»! Да лягу там с первым попавшимся!.. А прежде... Эй, полиция!
Ещё несколько минут они пререкались. Варя угрожала, шантажировала, требовала, старалась жать на все рычаги Мишиной души, до каких только сумела дотянуться. Прохожие поглядывали на них всё с большим любопытством и подозрением, а под конец уже начали скапливаться вокруг. Наконец, Коржов не выдержал:
— Ладно. Но только пошли в переулок, подальше отсюда.
Они отошли от больницы, углубились в жилые кварталы и зашли в безлюдный двор-колодец какой-то мрачной семиэтажной громадины.

— Ну, рассказывай! — потребовала Варя.
Глава 24, В которой Миша достаёт крестик, но при этом все достают его самого.
— В общем, в тот день Скороходова не пустила меня домой, потому что кто-то наболтал ей, что я якобы кружковец, — начал Миша. — Эта чокнутая выбросила в окно мои вещи, даже вызывала полицию! Было ясно, что никто мне не поверит, надо прятаться! По счастью, рядом как раз оказался тот тип, который до этого лез ко мне с разговорами и зазывал к себе в Свято-Егорьевский переулок...
Дальше он рассказал всё, как было: и про кражу велодирижабля, и про пожар, и то, как спас дамочку, сразу же взявшую его в плен, про автомобиль, про дачу, про долгие разговоры со своими новыми знакомыми... Старался покороче, ведь Егор там его ждёт. Не получалось. Варя без конца выспрашивала подробности. Да и сам Коржов внезапно обнаружил, что соскучился по своим, что его душа желает поделиться с кем-то близким...
— Так значит, ты всё-таки нигилист! — Трагическим голосом заключила Варя, когда он договорил.
— Да вовсе нет!
— Он самый! Ты теперь в кружке. Ты с ними!
— Я не с ними, — сказал Миша. — Точнее, с ними в той же точно степени, как и с любыми добрыми людьми.
— Но они же не добрые люди!
— Они хотят отдать землю крестьянам, защитить рабочих от хозяев и облегчить положение инородцев. Разве это не доброе дело?
— Облегчить положение инородцев! — С ужасом повторила Варвара. — Да зачем доброму человеку в своём уме думать о каких-то инородцах!? Они Христа распяли и Россию-матушку распять хотят, понятно?! А что говорят про рабочих и про крестьян, так то для отвода глаз!
— А вот и нет. Во многих странах это уже сделано. А что до инородцев, так их обижать не надо оттого, что обижать вообще никого не следует. Потому что перед Богом все равны! «Нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного»...
— Они тебя испортили!
— Никто меня не портил.
— Нет, испортили! Насовали тебе в голову всякой околесицы, а ты и поверил! Всем давно известно, что энэмы существуют для того, чтобы помешать Государю ступить твёрдой ногой по Афганистану!
— Мне до Афганистана дела нет, — сказал Коржов, с удивлением отмечая, что невеста говорит почти что теми же словами, какие он сам совсем недавно адресовал своим похитителям. — И зачем энэмы существуют, тоже неинтересно. А важно лишь то, чтоб они помогли мне занять моё место! Законное!
— Ты что ж это? Веришь?..
— Да, верю. Мне кажется, в глубине души я давно уже догадывался о чём-то подобном.
— Царём хочешь быть? — прошептала Варвара.
В её голосе слышалось то ли презрение, то ли ужас, то ли жалость к сумасшедшему. Кажется, она испытывала всё это вместе. Мише стало очень больно, что будущая жена, для которой он ни много, ни мало уготовал роль царицы, так скверно относится к высокому долгу, который он на себя принял. Захотелось сказать колкость, разругаться, начать оправдываться, предъявить ей разом все доказательства своего происхождения, чтоб убедить и заставить раскаяться... Но Коржов сказал только:
— Я должен.
— Да что ты там должен-то?
— Выполнить Божье предназначение. Занять место, для которого я создан. Избавить народ от страданий! Стать тем, кого русские люди веками ждут!
— Возгордился ты, Миша...
— Отнюдь.
— Возомнил о себе!
— Вовсе нет.
— Гордыня — грех великий!
— Отказаться быть тем, в качестве кого Господь послал меня на эту землю, тоже грех, — ответил Михаил.
Варвара покачала головой:
— Задурили тебе голову кружковцы! Задурили... Слишком ты, Миша, легко под влияние людей попадаешь!
— Дались тебе кружковцы! Какая разница, от кого я узнал правду и кто поможет мне вернуть... ну...
— Есть, есть разница! Шапка Мономаха, взятая из рук подлых людей, счастья не принесёт!.. Лучше скажи: ты не думал о том, что тот Венедикт, так удачно оказавшийся подле тебя на лестнице у Скороходовой, и наговорил ей про тебя? Откуда он там взялся?
— Он давно за мной следил.
— Значит, знал, где ты живёшь. И вполне мог оклеветать тебя перед домовладелицей, чтобы заставить оказаться на улице и взять под своё влияние! Сам подумай, кто ещё мог это сделать?
Миша задумался. Пока они летели от жандармов на дирижабле, ему было некогда рассуждать на эту тему. Следом же стали происходить такие события, что стало уже и совсем не до мыслей про Венедикта. За всеми делами Коржов как-то забыл подумать о том, кто оклеветал его... Между тем, Варино рассуждение звучало разумно...
— Это всё не имеет значения. Важно только то, кем я рождён и что я должен, — сказал он в конце концов.
— Не имеет значения?! А то, что эти разбойники чуть было не убили твою мать, для тебя тоже значения не имеет? То-то Ольга Саввишна обрадуется, когда узнает, что ты спознался с теми самыми, из-за которых она едва не отправилась на тот свет!
— Это не они, — ответил Миша.
— Не они?! А кто? Султан турецкий?!
— Я не знаю, кто. Не важно. Всё равно это не выяснить. Я спрашивал, и это не они. Сейчас есть много групп бомбистов, понимаешь?..
— Как ты можешь быть таким наивным?! — Вскричала Варвара.
— Не наивный я. Я спрашивал. Не раз.
— Спрашивал! Да так тебе и скажут! Этим ребяткам человека живого убить как раз плюнуть, а ты о вранье! И какие ещё «много групп бомбистов»?! Всем известно, что министра Синюгина убили энэмы — так же как и троих предыдущих министров внутренних дел! Это главные разбойники в стране!
— Кому «всем известно»? — спросил Михаил, ощущая неприятное сомнение внутри себя.
— Да всем! В газете писано!
— Там много что пишут. Ведь я тебе рассказывал, как там написали, будто бы меня идолом раздавило?
— Это по ошибке. А то правда. Этих иродов квартиру в Свято-Егорьевском полиция разгромила недавно. Там нашли три пуда динамита! Не слыхал?
— Нет, — ответил Коржов машинально.
— Эх ты! Даром, что грамотный! В цари собрался, а сам в газетах ничего, кроме происшествий на стройках, и не читаешь! По всему Петербургу только и говорят про то, как гнездо этих бесов накрыли! А там, кроме трёх пудов динамита, десять боевиков с браунингами сидело, а при них ещё и дьявольские знаки, книги всякие нерусские, химические колбы, да план движения министерской коляски! Только эти дьяволы живыми не дались. Троих наших ребят перебили и дом весь потом подорвали!
— А как же тогда нашли книги и план? — спросил Миша.
— «Как-как»! — Разозлилась Варвара. — Как надо так, и нашли, значит! Я, что, выдумывать буду?! Что писали, то тебе и пересказываю!.. Впрочем, ты может, и лучше меня это знаешь... Этот барин в полосатом, он тебя как раз в Свято-Егорьевский звал, верно? Тот пожар, где ты бабу спасал — то и было?
— Не знаю, — ответил Коржов.

Мысль о том, что всё-таки связался с практически убийцами своей матери, испортила ему весь настрой, так что думать про то, сколько боевиков, сатанинских книг и злодейских планов в действительности находилось на той квартире, куда они прибыли с Венедиктом, не хотелось совершенно. Мише стало казаться, что, если он всерьёз начнёт думать на эту тему, то додумается до чего-нибудь такого, от чего сам придёт в ужас... Или, в лучшем случае, будет выглядеть полным болваном перед Варварой. Так что он сказал:
— Я той газеты не видел. Сомнительно всё это.
— Не видел, так покажу! — С готовностью ответила невеста. — Пошли ко мне в казарму! Она там. Я её для ретирады сохранила.
— Не сейчас же! Меня друг ждёт. Вот чёрт!— Спохватился Коржов. — Мы так долго болтаем! А вдруг он уехал?
— Уехал — и слава Богу! — отозвала Варя. — Нам друзья-бандиты не нужны.
— Да что ты смыслишь?!.. Ладно... Побежал я.
— Я с тобой!
— Да ты ещё зачем там?!
— Посмотрю в глаза этому негодяю и потребую его признаться, кто напал на Ольгу Саввишну!
«Бред какой», — подумал Миша. Но вслух не сказал: устал спорить. Да и в самом деле, слишком много времени уже он потратил на разговоры! Не обращая внимания на то, следует за ним Варя или не следует, Коржов выбежал вон из двора и помчался в Измайловский переулок.
***
Ни Егора, ни его паромобиля в переулке не нашлось.
— Ироды, они ироды и есть, — заявила Варя, прибежавшая следом за Мишей. — Без обмана жить не могут! Рта открыть не могут, не соврамши! От таких нечего и ждать, чтобы они слово держали.
— Он просто устал меня ждать, — сказал Миша. — Наверное, решил, что меня арестовали. А может быть, арестовали его самого...
— Ну туда ему и дорога! — не унималась невеста.
— Не лезла бы ты лучше не своё дело! — Разозлился Коржов. — Пришла, мне все планы смешала... Лезешь с поучениями вечно! Что я, маленький?! Думаешь, не разберусь без тебя, что мне делать со своей жизнью?!
— Грубый ты стал, Миша. Говорю же, испортили тебя эти интеллигенты...
— Да ну хватит уже причитать! Я теперь не вообще не знаю, что мне делать!.. А ты тут со своими поучениями...
— Что делать? Да всё то же, что и раньше. Жить честным рабочим.
— Ага! Да меня со стройки как пить дать уволили уж давным-давно! Да и жить мне теперь негде... Это всё ещё если жандармы не схватят...
— Работу найдёшь новую. Мало, что ли, в столице заводов? А что до жилья, так в доме возле нашей казармы на четвёртом этаже как раз угол сдают...
— Откуда знаешь?
— Глаша рассказала. Это девушка из цеха. Там живёт. Если пойдём туда прямо сейчас, то наверняка успеем нанять лежанку. Говорят, там и просят по-божески...
Миша вздохнул. Варя вела себя так, что хотелось послать её подальше. Но ему действительно нужна была крыша над головой. И, что ещё важнее, крыша нужна была матери, которая твёрдо шла на поправку и только что сказала ему, что из больницы она скоро выйдет. Коржов постеснялся сказать ей, что лишился и их общего жилья, и почти всех вещей.
— Ладно, — решил он. — Можешь на самом деле пойти сейчас туда и договориться насчёт этого угла для нас с матерью?
— А ты?
— Мне надо сходить к Скороходовой, взять вещи матери. Надеюсь, там хоть что-нибудь осталось.
— Я с тобой!
— Нет, не надо. Этот угол могут сдать, пока мы ходим.
— А ты снова не исчезнешь?
— Не исчезну. Мне некуда деться... Да, вот мундир ещё забери. Надоело военным рядиться, – сказал Михаил, оставаясь в рубахе. – Тепло вроде нынче.
Они договорились встретиться у Вариной казармы ближе к ночи и расстались.
Миша двинулся на бывшую квартиру. Оставшись один, он испытал некоторое облегчение. Посвещать невесту в тайну золотого крестика не хотелось.

***
За вещами матери Скороходова ожидаемо не пустила: сказала, что все они уже «разошлись по добрым людям». В надежде на совесть бывших соседей Михаил всё же дождался одного из них возле дома. Это был Колька Сапожников: он тоже работал на стройке, и тоже отделочником, только в другой бригаде. Собственно, при помощи Коржова и он эту работу и получил. Теперь Колька отдал свой долг: от него Мише стало известно, кто присвоил тулуп: его новой владелицей считала себя немолодая мотальщица, обитавшая на соседних нарах.
– А сам-то где так долго пропадал? – спросил Сапожников. – Я думал, что тебя арестовали.
– И на стройке так сказал? – спросил Коржов.
– Нет, на стройке ни-ни! Я ж не враг тебе! Сказал, что ты в запое. Они поняли.
– Не уволили?
– Не знаю, если честно.
– А мотальщицу ту можешь мне позвать? Чтобы вышла и тулуп с собой взяла? Скажи, я добрый, – попросил коллегу Миша. – А где пропадал, я потом расскажу. Долго очень.
Колька согласился, и вскоре на улице показалась бывшая соседка с материным сокровищем в руках. Узнав, что Ольга Саввишна жива, она несколько устыдилась и позволила Коржову вытащить из подкладки то, что он назвал семейной реликвией. Правда, увидев, что в тулупе было золото, мотальщица заметно огорчилась и сказала, что самой одежды уж не отдаст — заберёт в вознаграждение за честность. На вопрос, в чём же теперь Ольга Саввишна будет ходить зимой, она упорно повторяла, что другая на её месте не только оставила бы себе крестик, но и разговаривать с нигилистом бы погнушалась. Сговорились в итоге на том, что в обмен на тулуп и на все вещи матери, которыми, как выяснилось, мотальщица тоже уже успела завладеть, Коржов символически возьмёт с неё пять рублей — и не будет больше возвращаться к Скороходовой.
«Ладно, — подумал Миша разглядывая украшенный разноцветной эмалью крестик по пути к станции «метрополитена». — К зиме уж царём стану. Тогда матери куплю соболью шубу».
С обратной стороны крестика и в самом деле обнаружились царские знаки: герб Романовых — крылатый лев со щитом и мечом — и увенчанные шапками Мономаха инициалы «М» и «А». Обозначали они, разумеется, Александра II Освободителя и основателя династии Михаила Фёдоровича, избранного на царство, как всем известно, Земским собором и правившего в постоянном совете с ним же. Коржову подумалось, что в совпадении его имени с именем того, кто уж вывел страну из смуты почти триста лет назад есть некий знак. В тот раз народ взял царя из бояр, не решился посадить на трон, к примеру, Минина. А теперь сам Бог решил послать людям царя из самого чёрного люда — знакомого с нуждой, не боящегося тяжёлой работы, сочувствующего фабричному человеку, и при этом полностью законного. Династия Романовых не удалась: забыла о народе, онемечилась, потакала буржуям, избаловала дворян. Вот почему Господь отказал ей в своём дальнейшем благословении! Он позволил истребить эту семью для того, чтобы начать её заново. Начать с него, с нового Михаила Романова...
Миша уже был готов сравнить себя с Ноем, а Петропавловскую трагедию с великим потопом, когда краем глаза заметил какого-то типа в потасканном сюртуке: тот приблизился сбоку к Коржову и вдруг сделал резкий выпад, словно дёрнулся за крестиком. Миша успел сжать руку с реликвией в кулак. Через мгновение по ней хлопнула рука незнакомца:
— Сколько лет, сколько зим, Пётр Петрович! — послышался радостный голос.
— Вы, сударь, обознались, — сказал Миша.
Незнакомец сделал расстроенное лицо, забормотал извинения и вскоре остался далеко позади. Минуту спустя Коржов оглянулся и заметил, что тот всё ещё стоит на месте их встречи. Филёр или просто воришка? А может, показалось? Мог же в самом деле обознаться человек...
На всякий случай крестик Михаил надел на шею и решил не доставать его без надобности.
...Поезд «метрополитена» только что ушёл, так что нового пришлось ждать минут десять. Больше обокрасть Коржова, к счастью, не пытались. Дождавшись поезда, он благополучно доехал до «Клейнмихельской», думая дорогой попеременно то о Варе, то о маме, то об энэмах, то о многострадальном народе русском. Выходило, что перед каждым из этих лиц Миша был в долгу, и за отдачу которого долга ему браться первым, решить было сложно. Наконец, он увидел за окнами Симоновские казармы и, собравшись выходить, перебрался поближе к дверям вагона... возле которых нос к носу столкнулся всё с тем же субъектом в потасканном сюртуке! Тот, встретившись взглядом с Михаилом, округлил глаза, но не дёрнул ни единым мускулом лица.

— Вы, что, за мной следите? — напрямик спросил Коржов.
— Слежу? — Удивился филёр. — Да вы что, уважаемый?! Не имею чести даже быть знакомым! Обознались-с!
— Ничего я не обознался! Полчаса назад вы пытались украсть у меня золотой крестик, а потом сделали вид, будто приняли за какого-то Петра Петровича! — Миша решил вступить в бой.
— Понятия не имею, о чём вы.
— Да хватит притворяться!
Дверь открылась.
— Выходи давай! — Крикнули сзади. — Хорош препираться!
Людской поток вынес Коржова из вагона. Вскоре двери закрылась, и поезд с филёром уехал.
Глава 25, В которой Николай Львович слушает либеральные бредни, но не спешит закрывать их источники.
С Государем в Его кабинете сидел молодой офицер и ел мороженое и серебряной креманки. Когда Николай Львович вошёл, тот мельком взглянул на него голубыми глазами из-под пышных ресниц, похожих на новый Зиночкин веер из страуса, не выказал интереса и вернулся к своей пище. Наверно, это был тот самый преображенец, недавно зачисленный в свиту, о котором предупреждал министр государственного двора...
– Я вами недоволен, – сказал царь.
Николай Львович мгновенно встал по стойке смирно и приготовился к увольнению. «Зину выдать не успел!» – мелькнула мысль. За нею сразу: «Слава Богу, уж теперь-то не взорвут!».
Но увольнения, ни даже головомойки не последовало. Как всегда холодный и бесстрастный, Государь просто указал на кучу газет на своём столе и проговорил:
– Верстаете атлетов, а о главном позабыли! Полюбуйтесь-ка, что пишут! Вы совсем их распустили!
Сергей Александрович взял одну и газет и прочёл вслух:
– «В связи с приближающейся Всемирной выставкой с новой остротой встаёт вопрос об ограничении монархии. Достойна ли последняя держава Европы, придерживающаяся архаического самовластия, принимать экспозицию, являющую собой выражение прогресса и устремлённости в будущее?».
–Отвратительно, – сказал Николай Львович.
– А вот это? – Император взялся за другой листок. –«Нынче вся Россия, всё нутро её, народ русский глубинный вопиет единогласно: Конституции!!!».
– Либеральные бредни! – Озвучил министр государево мнение. – Мало того, что глупости пишут, так ещё и дурным языком.
– Вот ещё хуже. «В момент, когда внимание всей мировой общественности приковано к Российской империи, вековые наши проблемы имеют быть поставленными на вид с небывалою ранее остротой. Вскоре улицы Петербурга наводнятся путешественниками и атлетами из разных стран. Что же увидят эти люди? Сгибающегося под бременем выкупных платежей крестьянина? Рабочего, каждодневно идущего на фабрику с мыслью о том, что малейшая травма, болезнь или старость оставят его на улице? Женщину, лишённую и тех немногих прав, какие есть есть у её мужа, да которого она, впрочем, и изрядной вероятностью и выдана насильно, и с которым живёт от того, что ей некуда деться, без права развода...».
– Ещё и развод приплели! Вот бесстыжие морды!
– Они требуют права развода! Подумайте только! Я не потреплю, чтобы в земле, где я хозяин, посягали на исконные семейные ценности!
Офицер доел мороженое и принялся вылизывать вазочку.
– Всех закрою! Закрою сегодня же! – Заверил министр. – Дозвольте их названия записать...
– О, эти-то ещё не хуже всех! – сказал Сергей. – Настоящее зло это...
Он потянулся к газете, но оборвал себя:
– Оставьте нас, пожалуйста, Константэн!
Офицер встал и вышел. «Тут что-то похлеще обычных наших либеральных мечтаний!», – понял Николай Львович.
Проводив глазами свитского, Сергей взял из кипы ещё один лист и прочёл:
– «По рабочим районам столицы упорно циркулирует слух о якобы имевшем место девятнадцать лет назад чудесном спасении царевича Михаила Александровича. Не берёмся судить об истинности или ложности этих слухов: с нашей точки зрения, такое совершенно невозможно, однако же мало ли было вещей на свете, о коих судили так же, и всё ж таковые имели место? Отметим лишь вот что: образ давно почившего царственного младенца-мученика в умах наиболее тёмного и отсталого слоя общества необычайным образом превратился в некое подобие Спасителя. Поговаривают, что царевич был воспитан в семье пролетариев, а, следовательно, лучше других царственных особ осведомлён о нуждах фабричного мужика. Обитатели казарм на Обводном канале и Сампсониевских улицах доходят в своих мечтаниях до того, что провозглашают якобы чудесно спасшегося Михаила законным царём и со дня на день ждут его водворения в Зимнем дворце. Все эти нелепые мечтания, конечно же, необходимо пресечь, и отправка на рабочие окраины отряда преподавателей Закона Божьего была бы как нельзя кстати, особенно, если бы изысканием денег на жалование оным учителям озаботилась Городская Дума. И всё же не повод ли это обратить большее внимание на продолжительность рабочего дня на петербургских фабриках, и на санитарные условия в казармах?..»
– Не повод! – С готовностью отозвался Николай Львович. – И этих мы тоже закроем!
– Если всех закрыть, проблема не исчезнет, – отозвался Государь. – Вы хоть слышали, о чём он говорит? Рабочие окраины ждут нового царя! Если слухи о Михаиле дошли даже туда, могу представить, что болтают в гостиных и в земских собраниях.
– Что касается земских собраний, то к их закрытию у нас уже всё готово, Ваше Величество. Лишь дайте знак...
Сергей вздохнул:
– Успеется. Перед Выставкой и правда лучше выглядеть добрее...
– Разве Самодержцу Всероссийскому есть дело того, что там пишут в парижских газетах, Ваше Величество?
– Дело не в этом. При Борисе Годунове, как вы знаете, не было ни парижских газет, ни земских собраний, ни университетских кружков. И не помешало народу поверить в Лжедмитрия...
– Но вы-то не Борис Годунов, Ваше Величество! Вы законный царь! «По Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению»...
– А если нет? – Шепнул Сергей чуть слышно.
– Как же «нет»?!
– Что, если наш Лжемихаил это настоящий Михаил Александрович? И тогда по Павловскому закону императором после Александра III должен быть он...
– У Петра свой закон был, у Павла свой, а Вы, Ваше Величество, свой издадите, коли так надо будет, – сказал Николай Львович успокаивающим голосом.
Сергей опустил глаза и на несколько секунд о чём-то задумался. Затем он так же тихо обратился как Николаю:
– Как вы думаете... Только между нами... Если Михаил и правда выжил... Если он законный царь... Если я отнимаю корону у своего племянника... Насколько большой это грех перед Богом?
– Да это и вовсе не грех, – сказал Николай Львович. – А если и грех, то кто «хощет душу свою спасти, погубит ю: и иже аще погубит душу свою меня ради, обрящет ю».
– Это как же?
– А так. Если Вы, Ваше Величество и изволите взять на душу грех убийства племянника, то ведь это не ради себя. Это ради России! Вы всех нас спасаете! Ведь у этого самозванца ни воспитания нет, ни образования, ни понятия о нуждах государства... Ну чего он нацарствует?! Только страну разорит! Вот блаженной памяти Пётр Великий и сына родного не пожалел, на тот свет отправил, когда понял, что для царства не годится он! Всё — для отчизны! А это всего лишь племянник...
– Да, пожалуй, – ответил Сергей. Потом он вновь задумался на минуту, а после того неожиданно поинтересовался: – Вы, Николай Львович, должно быть, не знакомы с Бетти Моррисон?
– А кто это, Ваше Величество?
– Это няня-англичанка, проработавшая всю жизнь на нашу семью. Добрейшая старушка! Она вынянчила нас, младших детей Александра II, а когда у моего старшего брата начали рождаться дети, занималась ими тоже. Конечно, при нас, детях, состояло немало нянек, камердинеров, истопников и другой прислуги... Но мисс Моррисон единственная, кто дожил до наших дней. Можно сказать, это последний родной для меня человек... Последняя из детства... Когда все ещё воспитанники погибли, я дал ей пожизненную пенсию и квартиру в Аничковом дворце. Хотя старушка всё ещё надеется, что ей удастся понянчить моё потомство.
– Бог даст — так и будет...
– Но я не об этом. На днях я навещал добрую Бетти, и она поведала мне некую тревожащую историю. Неизвестные добились встречи с ней и стали выспрашивать, не было ли при маленьком Михаиле в день его гибели каких-нибудь особенных вещей. Она сказала о семейном крестике. Знаете, такой носили все у нас... – Император вытащил из-под мундира необычный нательный крест, золотой с разноцветной эмалью, и продемонстрировал министру. – Вот такой же. Тогда незнакомцы принялись спрашивать об особых приметах Михаила: какие у него были глаза, какие волосы, где родинки... Мисс Моррисон заподозрила недобрые намерения у этих людей и прогнала их.
– Уж не сообщники ли это того самого самозванца?!
– Скорее всего, так и есть. Кажется, они собирают доказательства для того, чтобы представить его миру...
– Нужно спрятать мисс Моррисон! Наверняка они захотят сделать к ней ещё один подход! Но мы этого не допустим! Выставим жандармский караул у её квартиры! А саму её давайте отправим в Сибирь! Или в Англию!
– Если мы так сделаем, то все газеты разом закричат, что, раз я пытаюсь отгородить об общественности единственную свидетельницу, значит, Михаил и правда жив.
– Мы закроем те газеты.
– Тогда другие газеты немедля решат, что те, которые закрыты, писали правду.
– Мы закроем и эти.
– Пустое, – сказал Государь. – В наше время газет слишком много. И грамотных тоже. Нужно действовать хитрее. Навестите мисс Моррисон и передайте ей вот что...
Глава 26, В которой Миша катается на колесе обозрения снова и снова.
Варя не подвела: проснулся утром Михаил уже в новой квартире, угол в которой нанял благодаря невесте. Здесь было привычно, примерно так же, как и у Скороходовой: тоже девять человек в комнате, такой же густой запах тела, табака и грязной одежды, те же двенадцать копеек за день... Только разговоры в первый вечер вышли странные какие-то, как будто политические. Один из жильцов принёс на квартиру листовку: такие, как он сказал, разбросали у них на заводе на проходной. В листовке говорилось: «Те, которые хочут помочь воцарению истинного скрытого государя Михайла Александровича нашего рабочего царя который даст народу землю и оплачиваймый отпуск от работы приходите завтра в чайную у Выборгской заставы». По поводу этого послания в комнате случился горячий спор. Один из постояльцев был уверен, что разбрасывает листовки никто иной, как полиция, с тем, чтобы перед выставкой переловить неблагонадёжных. Другой сказал, что агитация исходит от настоящих борцов за народное счастье, да только поддерживать их ни к чему, потому что без толку: «не жили богато, так не стоит и начинать», а «господь терпел и нам велел». Третий жилец сообщил, что желательно было бы передавить всех царей — и рабочих, и нерабочих, поповской кишкой раз и навсегда. На него все зашикали, впрочем, не слишком активно: видимо, с подобными речами этот жилец выступал не впервые.
Миша от участия в дискуссии воздержался. Он понятия не имел, кто это созывает народ для его поддержки. Да и вообще — для его ли? Недавние разговоры с энэмами, вера в особое происхождение, чувство избранности, долг перед народом — всё это теперь, среди рабочих, казалось ужасно далёким и уже не вполне настоящим. Должен ли он становиться царём? Миша больше не был в том уверен.
Рядом с кроватью лежала принесённая Варей вчера газета с большой фотографией дома в Свято-Егорьевском: зияющие чернотой окна третьего этажа, большие пятна копоти над ними, всё ещё поваленный фонарь... «Жандармы разгромили штаб-квартиру разбойников-анархистов», – гласил заголовок. В тексте сообщалось, что именно здесь располагалась основная база террористов, взорвавших Синюгина и предыдущих министров внутренних дел. «При штурме было уничтожено пятнадцать бандитов, но, увы, при этом героически погибли три жандармы», – сообщалось в тексте дальше. На примере сообщения о своей гибели Коржов уже знал, что газеты, случается, врут... Но слова про трёх жандармов были правдой: он сам видел три трупа, один из который был сделан таковым Верой Николаевной прямо на глазах Миши. Выходит, остальное тоже верно. Выходит, внутри здания его ждала целая толпа отпетых бандитов, и кто знает, что бы было, если бы не Охранка... А главное, получается, ответственность энэмов (или кто они там есть такие) за взрыв возле Клейнмихельской — тоже правда!
Значит, это всё-таки они чуть не убили его мать! Венедикт, Вера, Герман, Егор... Может, кто-то из них самолично и бросил из поезда ту злополучную бомбу! А потом врал в лицо... Ведь Коржов же их спрашивал! Спрашивал специально, и не один даже раз!
А они обманули.
Если врали в этом — в чём ещё тогда?
Думать об этом было обидно и вообще не понятно, в какую сторону.
Так что Миша решил пока выбросить из головы энэмов со всеми их штучками и заняться более насущным делом — сходить на стройку и узнать, уволили ли его. За двухнедельный прогул скорее всего должны были, но если и так, Коржов собирался затребовать причитающееся ему жалование. А, может, и устроиться обратно, если выйдет.
Золотой крестик, который он на всякий случай не стал показывать даже Варе, по-прежнему висел на его шее вместе с собственным, привычным.
***
Стройка сильно изменилась с тех пор, как Миша был здесь последний раз. Если сильно не присматриваться, можно было бы сказать, что всё готово. «Обратно уже не возьмут, – печально подумал Коржов. – До открытия осталось десять дней. Впрочем, и так было ясно, что в конце июля надо будет подыскивать новое место...».
Недалеко от конторы начальства попался Сапожников.
– Мишка! Привет! – крикнул он. – Раскусил я тебя в прошлый раз-то!
– Что значит — раскусил?
– Да то и значит. Под арестом ты был всё-таки. Признайся! Убежал?
– Да не был я вовсе ни под каким арестом, – ответил Миша. – И с чего ты это взял-то?
– Вчера к нам жандармы нагрянули почти сразу после твоего ухода.
– Да ну? Кого искали?
– Да тебя же и искали, бестолковый! Других нигилистов у Скороходовой отродясь не квартировало. Она-то им как на духу сразу и выдала: был, мол, тут такой подрыватель общественного спокойствия, похититель дирижаблей и кружковец. Но я, говорит, как узнала, кто он такой есть, так и выгнала сразу же...
– Да что вы все повторяете одни и те же глупости, – пробормотал Миша, беспокойно оглядываясь. – Никакой не нигилист я. Это выдумки.
– А мне нравятся нигилисты, – вдруг выдал Коля.
– Да ну?
– Ага, нравятся. Они за законного царя Николая, Богом, а не людьми предназначенного на царство! Ты слыхал про такого?
– Николая? В смысле, Палыча?
– Да нет же! Николая Александровича! Вот ты, Мишка, тёмный! Пропустил в арестном доме столько важного! Да про этого царя теперь все только и болтают! – Ответил Сапожников с какой-то безосновательной залихватской весёлостью. А потом пустился в объяснения: – Николай Александрович это внук Александра II и сын Александра III, процарствовавшего всего один день! Добрые люди предупредили его, что в Петропавловской крепости на Романовых произойдёт нападение, и в последний момент один героический отрок заменил Николая собою. Так он выжил. И скоро вернётся!
– Не болтал бы ты про политику прямо тут, при честном народе, – ответил Миша, про себя гадая, превратилась ли легенда о нём в легенду о его старшем брате или великих князей правда выжило несколько. – Лучше расскажи мне про вчерашнее.
– А что ещё рассказывать? Явились к нам жандармы. Сказали, что разыскивают опасного преступника по фамилии Коржов. Когда оказалось, что искать тебя в этой квартире нет смысла, они перерыли все вещи, оставшиеся от тебя и от твоей матери. Тулуп тот трясли, за который ты с Лапиной торговался... Похоже, искали там что-то... За что ты под арестом был? За кражу?
– Я что, похож, на вора? – Попытался обидеться Миша.
– А что тут такого? Неправедно нажитое бедному человеку украсть не грех. У меня дед тоже, когда ещё при крепостном праве служил лакеем, так тоже у барина крал помаленьку. Подумаешь!
– В общем, я не воровал и вообще не совершал ничего преступного, – подытожил Коржов. – Передай это и Лапиной, и Скороходовой, и вообще всем, кто будет интересоваться. А если будут обвинять меня в каких-нибудь преступления — не верь никому.
– А сидел ты за что? – Спросил Коля.
– Да я не сидел, говорю же! Меня в плен взяли. А после отпустили.
– Что ты мелешь? Я к тебе со всей душой, а ты мне чушь городишь! За дурака, что ли держишь?! – Обиделся Коля.
– Да правда! Вот те крест!
– Кому другому ври... Правду говорят, что вас, сидельцев, что горбатых, до могилы не исправишь!
И Сапожников ушёл.
Миша не стал догонять и переубеждать его. Можно сказать, что он даже выдохнул с облегчением, избавившись от Колькиной компании: уж слишком опасные речи водил тут посредь бела дня, среди кучи народу. Раньше Коржов не особенно задумывался о таких вещах, считая, что жандармы забирают только нигилистов, врагов рода человеческого, а ему как честному рабочему и подданному царя беспокоиться не о чем. Теперь всё стало выглядеть иначе... Сначала этот филёр, пытавшийся выхватить крестик и поехавший с ним вместе на «метро», теперь жандармы... Кое в чём энэмы не соврали: они ведь говорили, что Сергеевым ищейкам хватит и суток, чтобы выследить и схватить Михаила в столице. Кстати, суток ещё не прошло...
Ситуация для Коржова обрисовалась, конечно, очень неприятная, но что с нею делать, он всё равно не имел понятия. Так что решил сделать то, зачем пришёл: потребовать своё жалование за последнюю неделю работы.
***
Дежурный приказчик в конторе, услышав фамилию Михаила, посмотрел на него так, словно увидел привидения. Впрочем, через несколько секунд он успокоился и спросил причину двухнедельного прогула.
– Запой, – сказал Миша.
– Мы вообще-то увольняем за запой, – сказал приказчик. – А последнюю зарплату удерживаем в качестве штрафа.
– Ладно вам, – сказал Коржов. – Я пошутил. Это один мой товарищ сказал, я в запое. Хотел поддержать его байку. Вы же видите моё лицо. Разве это лицо пьющего человека? Я болел на самом деле.
– За болезни то же самое.
– А если я скажу, что у меня были неотложные семейные дела? – полюбопытствовал Миша.
– Всё одно. За прогул увольняем, зарплата — в счёт штрафа.
Слова приказчика по самому их содержанию должны были звучать неумолимо и сурово, но произносил он их, напротив, как-то робко, неуверенно. Это придало Коржову наглости:
– Да как-так получается?! Я на вас, стало быть, горбатился, столько дней, а стоило несчастью приключиться в моей жизни, что не смог прийти на стройку, так вы, стало быть, и рады обокрасть меня?! Где это видано, чтоб человека зарплаты лишать?! За честно отработанные дни!
Вообще-то Михаил неплохо знал, какие порядки в отношении рабочих царят и на заводах, и на фабриках, и на стройках, так что на успех особенно не рассчитывал — просто думал душу отвести, хоть поскандалить. Тем сильнее было его удивление, когда приказчик ещё более испуганным и вялым, чем прежде, тоном, сказал, что сейчас посоветуется с начальством. Он велел Мише ждать и ушёл.
«Неужто выплатят?»
Нет, как-то подозрительно.
Повинуясь некому инстинкту, Коржов замер и прислушался. Под потолком жужжала муха. Из окон доносились звук пилы и пыхтение парового крана. В соседнем помещении, дверь в которое была приоткрыта, кто-то скрипел пером о бумагу. А потом донёсся шёпот того самого приказчика:
– Там этот... о котором говорили... ну, Коржов... Фимка, срочно пошли за жандармами!
Миша пулей вылетел из конторы.
Жандармы! В этот раз он точно ничего не объяснит им! Ни паромобиля, ни дирижабля не отберёт! Бежать некуда! Территория стройки большая, но на неё есть всего два входа. Пока он будет бежать до одного из них, оба, скорее всего, уже будут перекрыты голубыми мундирами! Значит, надо спрятаться на стройке... Только где? Ни в одном павильоне нет такого места, где поместился бы целый мужик незаметно.
А если...
Единственный шанс!
Михаил бросился к колесу обозрения.
Он давно хотел прокатиться на этой штуковине. Знал, что её смотритель дядя Яша пускает работников стройки бесплатно... Да всё недосуг было. Может быть теперь самая большая, самая заметная конструкция на всём Голодае поможет ему скрыться? Ведь где ещё прятаться, как не у жандармов под носом?
– Дядя Яша! Помогите ради Бога!
– Что случилось?
– Меня оговорили! Обвиняют в воровстве и в том что я будто бы не тот, за кого выдаю себя! Полицию вызвали!
– Батюшки!
– Дядя Яша, вы же знаете: я честный человек!
– Да что ж сделаю?..
– А спрячьте меня в колесе!
– Что же, ежели так... Полезай!
Миша бросился в ближайшую кабинку и залёг там на живот. Ему так хотелось скорее скрыться, что он даже не полюбопытствовал оглядеться вокруг, когда его убежище начало подниматься. Лишь оказавшись на самом верху и почувствовав остановку, Коржов собрался встать оглядеться.
Ух ты! Правду говорили! Голодай как на ладони! Вон царскую ложу на стадионе сооружают! А вон на арке входа с чем-то возятся: скамьи, вроде, красят для зрителей... Вон он, злосчастный павильон Голландской Ост-Индии, утыканный идолами. Вон Павильон Хлопка с белым куполом — как будто бы игрушечный!
А вот голубые мундиры идут к дяде Яше...
Столпились внизу. Говорят с ним.
Боже, только бы не выдал! Богородица, пронеси!
Миша снова лёг на пол кабины, стал молиться...

Когда он по три разу перебрал все знакомые молитвы и осмелился ещё раз глянуть вниз, жандармов рядом с дядей Яшей уже не было. Зато одна их часть крутилась у Павильона Нефти, а другая — около Павильона хлеба. После Миша видел, как обыскивали прочие павильоны, спортивные объекты, контору, даже остатки склада стройматерилов... Вон вывели откуда-то Ивана Проскурякова... Кажется, допрашивать ведут... Жандармов-то, жандармов! Словно всемирного разбойника какого ищут! Джека-Потрошителя!
Может, всё это просто из-за того, что Михаил связался с энэмами? Что, если его подозревают в терроризме?!
Или это свидетельство того, что царь Сергей всерьёз видит в нём соперника? Интересно, послали бы столько народу ловить не законного государя, а обыкновенного рехнувшегося самозванца? Нет, конечно! Хотя... Может, и послали бы, кто знает... Самозванцы-то в былые времена делов наделали...
Михаил подумал, что бы сам он стал делать на месте императора Сергея, если бы узнал, что обнаружился более законный, чем он наследник, который собирается править в интересах рабочих. Уступил бы ему место добровольно? Ну... Навряд ли.
Неожиданно вспомнилась история одного персонажа, который тоже был из мастеровых и считал себя царём — только не Русским, а Иудейским. Тогда те начальники, что во дворцах сидели, тоже не успокоились, пока не извели Его... Перспектива невесёлая. Впрочем, нет. Это грешные мысли, долой их!..
***
Обыскивали будущую выставку жандармы часа два. Всё это время дядя Яша заботливо продолжал держать Коржова наверху. Даже когда последний голубой мундир ушёл с Голодая, смотритель колеса предупредительно не спешил опускать Мишину кабинку. Лишь тогда, когда все успокоились и возвратились к обычной работе, спрятанный Коржов был возвращён на землю.
— Спасибо, дядя Яша! Все ушли?
— Вроде все... И как тебя, Мишка, угораздило-то такого шуму наделать? Всю охрану Петербурга поднял на уши.
— Ну, я думаю, всё же не всю...
— А я в жизни сколько голубых мундиров и не видал! Говорят, вора ищут, а сами стоят на ушах, словно ловят Нечаева...
— А вы знаете Нечаева? — откликнулся на знакомую фамилию Коржов.
— Да кто ж его не знает! Это вы, молодёжь, всё забыли. А кто в восемьдесят первым взрослым был, навек запомнил... Если б, Мишка, я тебя не знал, решил бы, что ты он и есть, этот самый Нечаев! Самый разыскиваемый преступник России! Это кто ж тебя подставил, а?
— Не знаю...
— Ты точно не крал? Побожись-как ещё раз!
Коржов побожился.
— А в краже чего именно они меня обвиняют? — поинтересовался он после этого.
— Золотое что-то вроде бы... Я точно и не понял. Ты сам-то не в курсе?
Миша показал пустые руки и вывернул карманы.
— Судя их по количеству, эта золотая вещь должна быть не меньше пуда. Сами, дядя Яша, видите: нет у меня ничего такого.
— Так может, объяснишь им по-хорошему?
— Нет... Без толку...
— Да, — тут же согласился дядя Яша. — Я бы тоже не пытался.
Обратно по стройке Михаил пошёл, втянув голову в плечи, глядя в землю и стараясь ни с кем не столкнуться глазами: не дай Бог, узнают и обвинят, что на полдня работу сорвал. По-хорошему, конечно, надо было бы уматывать со стройки как можно скорее, но уж больно хотелось оправиться. До отхожего места на стройке добрался Коржов без проблем. А вот на выходе из него он буквально нос к носу столкнулся с Иваном Проскуряковым. Тот знал его слишком хорошо, чтобы не заметить.
— Мишка! Ах вот ты, где, вор! Два часа сидел в нужнике?
— Какой я тебе вор?! Ты что городишь?!
— Да известно, какой. Я-то думал, ты просто кружковец: из тех, что хотят баб обоществить и всё имущество. А ты, оказывается, какую-то государственную реликвию своровал! Варю бросил, хорошую девку. Меня за двоих вкалывать оставил. А теперь ещё и стройке всей мешаешь!
— Как ты смеешь клеветать на меня так?! — вскипел Коржов.
— Не притворяйся! Тебя теперь все знают, кто ты таков есть! Да меня из-за тебя жандармы час мурыжили!
— Ты понятия не имеешь, кто я есть!
— Разбойник, вот кто!.. Люди! Эй! Жандармы!
К счастью для Миши, людей, кроме них двоих, возле нужника в тот момент не было: он был на отдалении от главных частей стройки, дабы не оскорблять своим видом и запахом рабочих, проверяющих чиновников и зевак. Так что прежде, чем Проскуряков успел до кого-нибудь докричаться, Коржов со всей силы ударил его под дых, а затем помчался прочь таким путём, который в тот момент казался наименее очевидным. «Может, хоть на треть версты уйти успею, пока он там оклемается», — мелькнуло в голове. Было ясно, что, едва придя в себя, Иван сразу пойдёт за жандармами. Что было делать? Пришлось вновь бежать к дяде Яше.
Тот оказался настоящим другом: не только снова позволил укрыться в кабинке и поднял её наверх, но и при появлении голубых мундиров сделал вид, что усердно ковыряется в механизме аттракциона, который, разумеется, как раз сейчас сломался.
Второй раз стройку обшаривали до самого вечера: Миша был готов поспорить, что и нужник обыскали, и не раз. Так или иначе, на колесе ему пришлось провисеть до тех пор, пока с Голодая не начали расходиться по домам не только жандармы, но и рабочие. Вот так история! Коржов провёл на стройке целый рабочий день, несмотря на то, что его оттуда давно уволили.
— Ну теперь уж, надеюсь, никто не привяжется, — сказал дядя Яша, опустив его на почти опустевшую и погрузившуюся в сумерки землю. — Уж не знаю, что ты натворил на самом деле... Но ловить такой толпою одного, ей-богу, дурость!
***
От стройки до своего нового места жительства Михаил пошёл пешком: помнил про то, что у станций столичной железки всегда есть полиция, а кроме того, экономил деньги, поскольку доходов в ближайшее время не предвиделось. Почти всю дорогу он озирался и то и дело норовил забиться в подворотню, завидев на своей стороне улицы какой-нибудь мундир. Наконец, дойдя до дома, успокоился. И зря: у здания, где Коржов квартировал теперь, стояли два паромобиля Охранного отделения. Чтоб развеять всякие сомнения, на крыше находился голубой воздушный шар.
Конечно, была вероятность, что вся эта братия искала не его, не Михаила... Но проверять не хотелось. Едва завидев голубых, он развернулся, и кинулся бежать, куда глаза глядят!
Потом, впрочем, подумал, что беготнёй тоже может привлечь ненужное внимание, и постарался идти спокойно. А ещё чуть-чуть позже подумал, что у него, кажется, нет другого выхода, кроме как заночевать прямо на улице.
Выбрав малолюдный переулок, он присмотрел там кажущуюся удобной скамейку. На ней, конечно, не выспишься, но, с другой стороны, завтра и торопиться особо некуда... Вот и господин с узкой бородкой с этой лавки как раз встал, освободилась! И газету оставил. Отлично. Ей можно укрыться.
Миша сел на скамейку. Ложиться пока постеснялся: пускай уж сперва окончательно потемнеет! От нечего делать развернул доставшуюся ему бесплатно газету. Яркий, чуть голубоватый свет располагавшегося рядом фонаря позволил без труда разглядеть первую страницу. На ней располагалась большая статья какого-то профессора, где доказывалось, что двухлетний Михаил Романов погиб в 1881 году вместе со всей семьёй, а слухи о том, что он жив, лишены оснований. Совсем лишены. Просто полностью. Напрочь. А те, кто в них верит — смутьяны, шпионы и идиоты.
«Надо же, уже второй раз за месяц читаю в газете о том, что я умер», – подумал Коржов и перевернул страницу. Дальше шёл его любимый раздел происшествий и криминала.
«Присяжный поверенный Козлюченко попал под лошадь на Фурштадской улице».
«Говорят, что ненавидимый всею Россией террорист Нечаев был накануне замечен в Знаменских банях. Заметивший, однако, не выражает уверенности в том, что это был именно устроитель Петропавловской трагедии, ибо без одежды опознание данного субъекта представлялось затруднительным».
«Летательный аппарат Охранного отделения зацепился за голову памятника императору Николаю Первому и застрял. Это происшествие привлекло немало зевак из праздношатающейся публики, однако к явному разочарованию оной закончилось благополучно. Освободившиеся жандармы в собравшейся толпе узнали разыскиваемого ранее участника противоправительственных сходок В.Ульянова и немедленно его арестовали».
«Ещё один арест пропагандиста. В Измайловском переулке в паромобиле накануне полицией был обнаружил участник банды «энэмов» Егор Созонов. После короткой погони он был схвачен. На допросе Созонов признался, что это он бросил бомбу из поезда в выезд Синюгина. Таким образом, это дело можно считать полностью раскрытым».
«В Александровской больнице умерла от ран вдова Коржова, получившая травмы от взрыва по время убийства Синюгина. Да упокоит Господь её душу! Невинная жертва!».
Час спустя Миша мчался по улице, не разбирая дороги. Сквозь пелену слёз полузнакомые улицы, и без того выглядящие странно в темноте, кое-где прорезанной светом яблочковских ламп, и вовсе неузнаваемыми. Впрочем, для Коржова это не имело значения. Что вообще теперь могло иметь значение?!..
Проклятые энэмы! Это всё из-за них! Эти чёртовы баре, которым почему-то не жилось их барской жизнью, просто взяли и разрушили его — простую, рабочую, но единственную и до встречи с ними почти счастливую! Они сделали Мишу нелегальным, превратили его в вечную мишень для синемундирных, лишили жилья и работы! Они спутали все его мысли, отобрали душевное равновесие, украли лад с самим собой, который был, своими россказнями о царском происхождении! Правдивые эти россказни или нет... Да какая разница!? В любом случае он предпочёл бы до самой смерти считать себя сыном своих родителей — и наплевать, в Петропавловской крепости или в сточной канаве они его подобрали! Но теперь нет и их! Проклятые энэмы убили его мать, единственного родного человека! Она ведь была полностью здорова! И работала не хуже молодой! Могла бы преспокойно дождаться внуков, а то и правнуков! Она должна была переехать вместе с Мишей и Варей в отдельную комнату, должна была гулять на их свадьбе, должна была радоваться их детям!.. Ничего теперь не будет. Всё бессмысленно. Эти бесы всё отняли! При этом они ещё врали! И прямо в лицо Мише! Рассказывали про какие-то другие организации, уверяли... Каким же болваном он был, что им верил!
За что, ну за что же?!
И как так случилось вообще?! Ведь она поправлялась! Говорила, скоро выпишут! И вот...
Теперь Миша даже не может похоронить её по-человечески. Если он явится в больницу за телом, то сразу же загремит в тюрьму. Можно биться об заклад, что полицейская засада в больничном морге давно уже наготове. В результате бедной мамочке придётся упокоиться в безымянной могиле, словно нищей, умершей в ночлежке...
От этой последней мысли Коржову стало особенно больно. Что есть силы он ударил кулаком по первой подвернувшейся вещи — афишной тумбе. Тумба не шелохнулась. Рука заболела, но легче не сделалось. В электротеатре «Живая фотография» на Невском проспекте завтра ожидался показ фильмов «Отбытие поезда с Николаевского вокзала» и «Крестный ход на Пасху в Курской губернии». Мать Коржова не была в кинематографе. И уже не побывает никогда...
В довершение ко всему ещё и дождь пошёл — как будто бы на небе кто-то решил, что для Коржова слишком жирно будет оставлять ещё возможность выспаться на скамейке!
Куда теперь идти? В ночлежный дом?
Оглядевшись вокруг, Миша сообразил, что он снова двигался в направлении Голодая. В голову не пришло ничего лучше, как вернуться туда и опять залезть в одну из кабин колеса обозрения — у нее, по крайней мере, крыша есть. Ночью на стройке, конечно, стоит охрана, но её совсем немного, да и места расположения Коржову известны.
Дороги до стройки оставалось всего полчаса, но и та не прошла спокойно: дважды Михаила окликали полицейские. Он поймал себя на том, как оба раза механически схватился за висящий под рубахой золотой крест — последнее, что осталось от матери, единственная ценная вещь, символ всех последних злоключений и при этом объект поисков Охранки. Наверное, рано или поздно Коржова всё равно схватят. И тогда будет лучше, если этой золотой диковинки с ним не будет — это оставляет хоть какую-то возможность доказать свою непричастность ко всей этой галиматье...
Рассудив так, прежде, чем идти на колесо, Михаил пробрался в Павильон Нефти. Он помнил, как жандармы перепортили тут пол, крича о том, что под его досками якобы можно что-то спрятать. Что ж, под полом, так под полом! Ночь была лунная, так что ориентироваться внутри павильона можно было и не зажигая света. На которую половицу падает свет из-под бороды витражного Менделеева, Коржов прекрасно помнил. Он поднял её, положил в образовавшуюся полость свою реликвию и аккуратно замаскировал следы вторжения.
А затем побрёл на колесо — третий раз за день.
Глава 27, В которой Венедикт сначала думает, что всё пропало, но потом наполняется новым энтузиазмом.
Было похоже на то, что Венедикта товарищи всё-таки бросили. Он знал, что порою приходится терпеть и ждать команды от Исполнительного комитета очень подолгу, по несколько месяцев даже. Но тут явно был не этот случай: ведь ждать не велели, сказали, сигнал скоро будет. Однако никакого сигнала от энэмов так и не поступило. Венедикт был готов на что угодно ради Организации: умереть, убить по её приказу, даже уступить самую почётную роль в деле спасения России, если будет надо, кому-то другому. Но его просто бросили! Видно, сочли недостойным. Забыли. Решили отделаться. Вспомнилось, как одной очень перспективной девице из высшего света, хотевшей работать в терроре и рвавшейся быть исполнителем, велели сперва съездить на воды и подлечить нервы: говорят, министры-душегубы виделись ей в просто обывателях на улице, а одного полицмейстера она посчитала переодетым губернатором Петербурга. Вера Николаевна тогда ещё просила Венедикта не предоставлять этой молодой особе никаких энэмовских фамилий и адресов. Неужели теперь с ним вели себя так же?! Неужели считали уже непригодным для дела?! Более обидной ситуации Венедикт и представить себе не мог. Если бы Исполнительный комитет приказал ему оставить революционную деятельность — он пожалуй что и подчинился бы. Но его не удостоили даже таким приказом!
Были мысли в самом деле бросить революцию, устроиться приказчиком, забыть о народных страданиях и запахе динамита... Но понял — не сможет. Решил присоединиться к какой-нибудь другой революционной организации. Сперва искал выходы на «Союз» Ульянова и Цедербаума. Эта партия, конечно, очень маленькая, вечно ссорящаяся со всеми, бесперспективная, но ведь надо же хоть где-нибудь участвовать! Потом прочитал, что Ульянова арестовали, и передумал. Вскоре нашёл ещё какую-то группу, именовавшую себя немного-немало новой «Народной волей». Сперва воодушевился, но когда узнал, что следующий планируемый теракт будет состоять в убийстве какого-то скотопромышленника, а экспроприация — в налёте на его квартиру, понял, что опять не туда сунулся.
Венедикт уже совсем расстроился и разочаровался: в товарищах, в других организациях, в себе...
... И вдруг в один день встретил Федю.
Теперь тот, как оказалось, обслуживал фонари в другой части города. Вот почему Венедикт не сумел отыскать его прежде!
— Барин! Вот так встреча! — Крикнул Федя. — Так вы мне галош и не подарили!
— Прости, друг, — произнёс Венедикт после того, как они обнялись и расцеловались. — Не было возможности. Дом наш сгорел, Роза погибла, а Веру Николаевну я из виду потерял.
— Ну это ничего, — ответил Федя, не особенно расстроившись этой новостью. — Я другого хорошего барина отыскал. Он сказал, галоши ещё лучше справит, самые моднейшие, с треугольником!
— Это что ещё за барин?
— Вроде вас такой, — сказал фонарщик шёпотом. — За народ радеет тоже. Говорит, что за мужицкие страдания отомстить пора всем господам. И ещё говорит, что война между фабричными ребятами и капиталистами теперь будет. Не на жизнь война, а на смерть. В общем, барин такой... Интересный...
— Всерьёз ли он это?
— А как же! Говорит, его синемундирные тридцать лет продержали в застенках. А теперь он, значит, вырвался и мстит будет!
— Тридцать лет?!
«Уж не Нечаев ли?» — Подумал Венедикт. Сердце его заколотилось от восторга. Неужели Федя сумел выйти на такую легендарную особу?!
— Да как ты нашёл его?
— В чайной с одним заводским мужиком повстречался. Тот меня с другим свёл, с тем, который разные бумаги раздаёт рабочим на проходной. А тот с третьим — который шрифт дома хранит. Этот третий с моим барином через каких-то студентов сошёлся: ищут, говорит, тут человека, какой в классовой борьбе опыт имеет. Я и вызвался. Мы с барином немного говорили. Только про галоши, да про месть, да про войну. Обстоятельно беседовать мы завтра будем с ним — во-о-он в том трактире!
— Федечка! Возьми меня с собой! — Потребовал Венедикт.
— У него, может, галоши-то последние...
— Не надо мне галош! Борьбы хочу! За народ душа болит! Чувствую, решительная схватка надвигается! Я не могу в стороне быть!
— Ну, раз так, конечно! — сказал Федя. — Он как раз про товарищей с опытом спрашивал.
***
Нечаева он узнал сразу же — хоть и видел его лишь на фотографиях и гораздо моложе, чем нынче. Не узнать этого хитрого прищура, этого отрешённого взгляда, говорящего о том, что для его обладателя не существует никаких границ, никаких правил, никаких дурацких предрассудков, невозможно было! Седая клочковатая борода делала Нечаева похожим отчасти на Маркса, отчасти на Льва Толстого — если подумать, то была деталь неотъемлемая для нынешних властителей умов. Даже некая небрежность и немытость во всём облике героя Венедикту импонировали, делая его похожим на средневекового монаха, презревшего плоть, воспарившего духом в иные миры — в те миры, где уже есть социализм...
В трактире они наняли отдельный кабинет. Чтобы не вызвать подозрений у хозяина заказали жареную пулярду, маседуан в дыне, бутылку водки и ещё какой-то снеди, за которую сразу же принялся Федя. Что до Венедикта и Нечаева, они так и не дотронулись до еды, безотрывно проговорив весь вечер. Может быть это было иллюзией, самообманом, но Венедикту показалось, что они нашли друг в друге тех, кого искали: как был счастлив он возможностью работать с легендарным человичищем, так и Нечаев нашёл в Венедикте именно такого образованного, дельного, горячего товарища, какого и искал.
— И какое же было последнее дело, в котором вы принимали участие в прежней организации? — Поинтересовался Сергей Геннадьевич, благосклонно выслушав восторги Венедикта.
— Мы выследили и взяли под свой контроль Михаила Романова, чудом спасшегося наследника престола! — С гордостью сообщил тот. — Вы, должно быть, о нём слышали? Сейчас слухами об этом претенденте полны все газеты.
— Ах, вот как! Да, слышал, ещё бы! Ведь об этом невозможно не услышать... Что же делали вы лично?
— Я скажу без ложной скромности: стоял у истоков всей этой истории. Я выступал запасным метальщиком в деле Синюгина, был на месте взрыва у Клейнмихельской, и, когда ранило случайную прохожую, услышал, как она собирается умирать и рассказывает про Михаила своей молодой подруге! Первая была женщина, которая усыновила его, вторая — его невеста. Я тотчас помчался к своим и про всё рассказал! Мы решили, что Михаил это превосходный шанс для России и нас самих. Он вырос в рабочей среде, он рабочий по духу! И при том законный царь. Мы решили сделать из него царя-рабочего. Надо было только выйти с ним на связь и дать понятие о социалистической теории...
— И что же было дальше?
— Мы с Федей его выследили. Выяснили, где живёт он сам, где его близкие. Потом мне пришлось провернуть небольшую интригу, чтобы его на ночь глядя выселили из квартиры. Ему некуда было деваться, кроме как пойти со мной... Вернее, полететь, так как за ним гнались жандармы, а мы, ну так уж вышло, позаимствовали у них велодирижабль... Затем мы прибыли на конспиративную квартиру, где, увы, была облава и пожар. Одна из моих соратниц погибла, но другая, которую тут же и спас Михаил, забрала его с собой на позаимствованном у синих мундиров паромобиле... Собственно, на этом для меня всё и закончилось. Мне было обещано, что со мной скоро свяжутся, но прошло уже три недели... Они то ли забыли обо мне, то ли решили, что я больше не гожусь для их работы...
— Неприятно... Но, как вы предполагаете, что было дальше? Что ваши бывшие товарищи делали с Михаилом после того, как он оказался в их руках?
— Полагаю, увезли в какое-нибудь укромное место и провели разъяснительную работу. Вера Николаевна говорила, что у энэмов есть несколько конспиративных дач — возле Сестрорецка и ещё где-то... Там обычно проходили все большие сходки, да и держать человека, которого ищет полиция, в городе было бы неразумно. Предполагалось, что некоторое время Михаил будет у партии кем-то вроде почётного пленника: до тех пор, покуда сам не осознает, кто он есть и какова его задача. Так что он, должно быть, на одной из этих дач... Если, конечно, они не решили вывезти его подальше, в Финляндию. Если все поехали с ним вместе, это может объяснять, почему они забыли тут обо мне, — осенило вдруг Венедикта.
На миг он почувствовал, что готов понять и простить бросивших его товарищей. Но Нечаев оборвал эти бессмысленные мысли:
— Ни в какой он не в Финляндии. И даже не на даче. У меня есть информация о том, что недавно Михаила и видели возле его бывшей квартиры. А сразу после этого — на стройке. Он на стройке же работал?
— Да...
— Рассказывают, что он снова заявился туда как ни в чём не бывало, намереваясь то ли забрать жалование, то продолжить работать как прежде. Впрочем туда сразу же нагрянули жандармы, но ваш Михаил ускользнул от них. Так что уговорить этого субъекта быть так называемым «рабочим царём» вашим бывшим товарищам не удалось. И мечтать было нечего!
— Если он в Петербурге... — Растерянно проговорил Венедикт. — Если он в Петербурге, и полиция уже ходит по его следу, то его наверно скоро арестуют...
— Не ожидал от такого умного человека, как вы, столь наивного суждения! — Заметил Нечаев, заставив своего собеседника сразу же устыдиться. — Хотели бы — арестовали бы! Жандармов в столице сейчас как собак... И вы думаете, они не в состоянии отловить одного-единственного субъекта, о котором известны фамилия, имя и внешность, у которого нет ни соратников, ни опыта побегов от полиции?! Прошу вас! Курам на смех! Неужели вы не поняли?!
— Чего?
— Вся эта история со спасшимся царевичем — ни что иное, как хитрая операция Охранного отделения!
Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Даже Федя оторвался от пулярды и прислушался.
— Как?! — произнёс Венедикт.
— Очень просто. Вера народа в доброго батюшку-царя просто неистребима! А раз так, почему бы жандармам ее не использовать? Они пустили слух о чудом спасшемся, да ещё и воспитанном в среде пролетариата царевиче, чтобы возбудить у масс надежду, что всё скоро дастся им само собой! Придёт добрый царь, накажет капиталистов, отдаст землю крестьянам, сделает восьмичасовой рабочий день... И для этого не надо напрягаться! Ничего вообще не надо! Понимаете? Сейчас, когда массы только-только начали осознавать свои революционные возможности, когда стали понимать, что обращаются с ними не по-людски, когда слово «социализм» начало звучать не только в образованных домах, но и в среде рабочих... Что предприняли?! Придумали очередного «доброго царя», чтобы отвернуть пролетариат от свойственной ему по самой природе революционности! Профсоюзы? Стачки? Митинги? Зачем?! К чему трудиться, если скоро добрый царь всё устаканит?! Что уж теперь говорить о терроре, средстве самом эффективном, самом действенном! Кстати вот скажите: ваша организация планировала совмещать обработку этого Михаила с дальнейшей террористической деятельностью?
— Мы решили, что террор уже не нужен, — растерянно проговорил Венедикт. — Ну, знаете, крайнее средство... На него мы имеем моральное право лишь в отсутствии других методов борьбы... А если можно мирно...
— «Можно мирно»! — Перебил его Нечаев. — Вот! Охранке удалось обвести вокруг пальца даже вас, основной боевой актив русской интеллигенции! А что говорить о народе! Усыпили, успокоили... Рассказали сладенькую сказочку... Ничего не надо делать, сидите смирно, вам рабочий Мишка всё устроит! Вместо того, чтобы покарать губернатора, который приказал выпороть целую волость, стонущую от непосильных поборов, вы бегаете за парнем со стройки, уговариваете его стать русским царём и ложитесь спать, полные розовых мечтаний! Это, что ли, революция?!
Венедикт обескураженно молчал. То, что составляло его мир, его надежды весь последний месяц, было полностью разрушено. Нечаев говорил совершенно логично. И как только сам Венедикт не додумался до всего этого?! В самом деле, позволил усыпить свою революционность! Позволил связать по рукам и ногам самой древней и жалкой верёвкой — и сам не заметил! Уж не в том ли было дело, что ему очень хотелось сыграть некую особенную роль в преображении России?.. Через сорок лет сказать потомкам: «А вы знаете царя Михаила, с которого новая жизнь началась у нас? Я отыскал его! Без меня его бы не было! Я автор»...
— Не горюйте, я вас не виню, — сказал, меж тем, Нечаев, сбавив тон. — По вам видно, что вы революционер самый настоящий, горячий, искренний. Только заблудившийся немного. А вот ваши товарищи, быстренько решившие свернуть террор в преддверии воцарения «добренького батюшки царя», оказались не теми, на кого может уповать страдающий русский мужик! Теперь и понятно, почему вы оказались за бортом этой организации. Вы слишком настоящий для неё! В вас так много духа борьбы, что вы просто не можете уживаться с этими благодушными дамочками в чепчиках, играющими в революцию как в куклы! Может быть, они поняли это... А может, просто самоуспокоились настолько, что решили распустить организацию, почивать на лаврах и ждать, когда всё разрешится само или с помощью этого Михаила.
— Логично... Быть может... Вы правы...
— Я прав. Поверьте, юноша.
— Признаться честно, вы меня обескуражили.
— А вот зря вы так! — Сказал Нечаев. — Чуть что не по вам — и сразу сдаётесь, да?! Нет уж! Это не по-нашему! С таким настроем-то империи не сковырнёшь! Я вот девятнадцать лет сидел в тюрьме, а до этого ещё двенадцать! И не обескуражился, ничего.
— Ну вы-то герой настоящий...
— Да бросьте! «Героем» может стать любой идейный человек. Надо просто действовать последовательно.
— И какова же, по вашему мнению, должна быть теперь последовательность моих действий? — Спросил Венедикт.
— Да всё просто. Убить его.
— Как?!
— Любым способом.
— Да нет, я не про это... Для чего нам... казнить Михаила? Он ведь не чиновник, не при власти... Он не сделал ничего дурного...
— Сделал. Он мешает революции. Ведь я уже сказал, что он питает глупую сказочку про доброго царёчка, усыпляет революционный инстинкт массы.
— Неужели вы считаете, он в сговоре с Охранкой?
— А неважно. Может быть, и не сговаривался. Может быть, его используют вслепую. Так или иначе: объективно он работает в их пользу! В их, не в нашу! И потом... Неужели вы думаете, этот Михаил и в самом деле стал бы царём для рабочих? Ну что за наивность! Неужели вы не знаете, как власть портит людей?! В лучше случае, в первые дни он попытался бы заботиться о народе! Быстро понял бы, что это не так просто и не выгодно — и стал бы просто царствовать для себя, как и сотни царей до него...
— Да, но... Он хороший человек, мне показалось... Знаете, он спас Веру Николаевну во время пожара!
— Нет смысла смотреть на индивидуальные доблести и преступления каждой отдельной личности, — отрезал Нечаев. — Мы должны видеть глубже! Глядеть в его суть! Важна объективная роль Михаила, а не какие-то его личные добренькие поступочки, понимаете?..
— Ну...
— Только не говорите, что изнеживающее чувство дружбы для вас важнее блага нашего народа!
— Нет, конечно! — Встрепенулся Венедикт. — Но вы считаете... Вы, значит, полагаете, что ликвидация Михаила пойдет народу во благо? Его ведь так любят... О нём говорят... Он стал в моде...
— Вот потому и во благо! — Ответил Нечаев. — Массы чересчур расслабились, уверовав в скорый приход царя народного. Нужно этот сладкий сон разбить! Нужно дать им понять, что благополучие трудового класса возможно лишь после свержения всякой монархии! Мы должны возбудить в массах революционный энтузиазм — ради них же самих!
— Если Михаил погибнет, все решат, что это царские ищейки его убили...
— Вот и славно! Большой шанс на революцию! Если заводские мужики, услышав о гибели своего кумира, двинутся на Зимний и прикончат там последнего оставшегося немца по фамилии «Романов», я смогу сказать, что прожил жизнь не зря! А вы?
— Ну... Да...
— По-моему, это блестящий шанс и для нас, и для всей страны, — торжественно проговорил Нечаев. — Понимаю, что вам жалко Михаила, как своё открытие, если можно так сказать, свою придумку. Но вы видите: я предлагаю использовать эту личность для начала революции куда более полезно и эффективно, чем вручать ему, неразумному, власть над всеми нами!
— Вероятно...
— Это чудо, что мы встретились.
— О да! Вы герой для меня! Никогда и не мечтал с вами общаться!
— А я и не мечтал найти такого подходящего человека для ликвидации этого Михаила, как вы, Венедикт.
— Я?!
— Конечно.
— Вы знакомы с ним. Знаете внешность. Умеете вызвать его доверие. Имеете опыт в его розысках и знаете уже, в каких районах он обычно околачивается. Ваш товарищ тоже в этом сведущ, — и впервые за весь разговор Сергей Геннадьевич обратил внимание и на Федю.
— Я сведущ, — сказал тот с готовностью. — Вы только не забудьте про галоши.
— Не забуду, — ответил Нечаев и ласково улыбнулся. — Приходите завтра оба вот сюда...
С этими словами он вытащил листок бумаги с заранее указанным адресом, датой и временем.
— Что там будет? — Спросил Федя.
— Учредительный съезд новой партии.
— Партии?
— Да. Настоящей революционной партии, который предстоит перевернуть всю Россию. А не кучки розовых мечтателей вроде той, где вы крутились прежде.
***
Учредительный съезд партии марксистов-народников — да, так её, не мудрствуя лукаво назвали! — проходил средь бела дня в какой-то квартире на Пятой Рождественской улице. «Уж не арестуют ли всех скопом? Больно людно!» — шепнул Федя Венедикту. «Я думаю, Нечаев дело знает», — ответил тот. Сегодня он был ещё больше очарован своим новым-старым знакомым.
Говорил Нечаев вещи очевидные, но не всеми почему-то понимаемые пока что: что революция в России назрела и непременно случится в ближайшее время; что к ней необходимо готовиться, наращивая своё влияние во всех сферах жизни, а больше всего — в нелегальных; что мирную борьбу придумали подкупленные Охранкой провокаторы, глупцы и соглашатели; и что террор, наконец, это главное средство сегодняшней интеллигенции.
— Мы доделаем то, чего не доделали в восемьдесят первом году, — объявил под конец лидер партии. — Очистим от царизма землю русскую. Сперва Михаил — будь он правда член этой семейки или же самозванец, нам всё едино. Затем — сам Сергей. И тогда уж — республика!
— Как во Франции! Конвент и гильотина! — Крикнул кто-то.
— Нет, буржуазные порядки, разнаряженные в греческие тоги, нам не нужны, — отозвались из другого конца комнаты. — Республика должна быть всемирной, социалистической и рабочей.
— Почему это рабочей? А крестьяне?
— Трудовой класс — единый!
— О России надо думать! Нам нет дела до всемирных учреждений! Немцы ваши не указ нам! Что проку с этих болтунов, если они и понятия не имеют о крестьянской общине?!
— Крестьянская община отмирает...
— Вот и нет!
— Это устаревший инструмент, насильно сохраняемый государством для того, чтобы держать крестьян в узде...
— ... Однако ж это и ячейка социализма одновременно! Ведь давно уже доказано...
— Оставьте! Только не надо заводить старую песню о якобы бунтарском характере русского мужика! Показал он свой характер... Что, в народ не находились?
— Мужику до нас и дела нет...
— И что прикажете?
— Строительство социализма в крестьянской стране это абсурд! Сначала надо реализовать буржуазно-демократическую программу.
— Сорок лет для вызревания капитализма вполне довольно.
— Да сколько откладывать?
— Взять уж всех да перевешать наконец-то!
— Думаю, начать надо с того, чтобы учредить Комитет Общественного Спасения.
— И отдать народу землю.
— Но не в собственность!
«Ишь как баре сцепились», — услышал опять Венедикт шёпот Феди. Сам же он нашёл обстановку на съезде чрезвычайно вдохновляющей! Наконец-то посчастливилось попасть в самое лоно, внутрь кипучей русской мысли! Вокруг — живая жизнь! Дискуссия! Не бесконечные ряды котлет, которые съедены и которые ещё предстоит съесть, не сонные купчихи с самоварами, сдувающие мух со старых пряников, не пыльные выцветшие обои на четырёх стенах, внутри которых влачится ежедневно однообразно-бесцельное существование... Нет! В этом сборище, среди этих людей, в этих речах слышалось нечто такое, ради чего, ощущал Венедикт, стоило жить и, конечно же, стоило умереть.
— Тише-тише, друзья! — Успокоил Нечаев собравшихся. — Помните, что наши споры власти на руку! Отложим же их до лучших времён! Нынче главная задача — сковырнуть самодержавие. Чтобы в этом преуспеть, нам надо держаться всем вместе. Сплотимся же теперь... вокруг меня!
Не у всех эта идея вызвала такой же энтузиазм, как у Венедикта. Часть людей зашушукалась, часть захлопала. Казалось, что дискуссия сейчас возобновиться. Но заново начаться не дала ей дама лет пятидесяти с простым русским лицом, седеющей косой и решительным взглядом. Она встала и сказала:
— Друзья! В самом деле, не время для споров. Сергей Геннадьевич сделал невозможное: второй раз, как девятнадцать лет назад, сбежал из самого страшного в стране каземата! Нам выпала возможность стать достойными памяти тех героев, что в восемьдесят первом году в Петропавловской крепости попытались избавить Россию от тирании. Мы можем доделать их дело... Мы можем сделать гибель Желябова... не напрасной...
Последнюю фамилию женщина произнесла едва слышно, с каким-то особенным чувством. «Уж не та ли самая это его невеста?» — мелькнула догадка у Венедикта.
— Перовская... — пронёсся шёпот в комнате.
Подумать только! Венедикт будет работать не только с Нечаевым! Ему посчастливилось оказаться в собрании настоящих легенд!
Впрочем, на съезде были, конечно же, не только старые герои, в которых Сергей Геннадьевич вдохнул новые силы и новую молодость. В основном тут была молодёжь. Несколько студентов — судя по мундирам и фуражкам. Несколько ребят рабочей внешности. Неряшливый парень в очках, с бородёнкой, как у попа, и в крестьянской поддёвке под пиджаком. Другой, с поэтическим взглядом и польским акцентом. Стриженая девушка с папиросой. И ещё одна, чья внешность заставляла Венедикта беспрестанно изучать её! Чёрные волосы, уложенные в подобие мягкого облачка, и яркие голубые глаза на фоне бледной кожи делали её похожей на экзотическую принцессу или языческую богиню из древних преданий. Тонкие, изящные черты лица и хрупкие, маленькие, как и вся её фигура, ручки наводили на мысли о мимолётности жизни революционера и красоте приносимой им жертвы. Но больше всего поразило Венедикта в этой незнакомке то, что она была в брюках! Ведь стрижкой и курением на пороге нового столетия было никого уж не удивить — это стали атрибуты каждой второй курсистки, порой даже самых замшелых воззрений. Но брюки! Только поистине смелая особа, всеми силами готовая бороться за равенство полов, способна была бросить такой вызов всему обществу! Ведь даже среди них, среди борцов, далеко не все были нацелены на решение не только рабочего и крестьянского, но и женского вопроса. Получалось, незнакомка была более отважной и радикальной, чем большинство находившихся в комнате. И в глупых спорах о сути крестьянской общины и способах действия она не снизошла принять участия: было видно, что сама для себя эта валькирия революции уже всё решила и нуждается в том, чтобы убеждать себя или кого бы то ни было.
А ещё незнакомка была чем-то похожа на Розу. Венедикт часто думал о ней. Было чувство, что они тогда не сделали, не успели чего-то такого, что было им предназначено... Он, конечно, по-прежнему считал межполовую любовь пошлостью и мещанством, не стоющей времени честного человека до той поры, пока не прекращены страдания народные... Но ведь не было ничего дурного в том, чтобы, по крайней мере, просто засвидетельствовать прогрессивной особе своё почтение, познакомиться и встать на путь сближения для создания в дальнейшем крепкого товарищества в целях плодотворной революционной деятельности!
В перерыве он подсел к красавице и представился.
— А меня называйте Матильдой, — ответила та.
Её голос был нежным и тонким, словно грань между учениями Бернштейна и Плеханова.
— Вам идёт это имя, — сказал Венедикт и тут же принялся ругать себя за то, что сморозил пошлость.
— Ну ещё бы! Я сама его придумала! — Весело отозвалась валькирия.
Разумеется, рисковать и без нужды открывать друг другу настоящие имена было ни к чему. Венедикт принялся глупо рассуждать о конспирации. Потом едва не дёрнулся поцеловать ручку новой знакомой — кажется, в последнюю секунду остановил себя от этого старорежимного жеста. Да что ж это такое?! Гимназист он, что ль, какой? Даже с дамой познакомиться не может?!
Так! Собраться!
— Знаете, Матильда, мне недавно замечательный экземпляр «Нищеты философии» в руки попал! Из первого издания! Хотите, почитать дам?
— Ах, увольте! На что мне? Ещё нищеты не хватало! — Вздохнула Матильда и делано отмахнулась.
Венедикт ещё раз мысленно обругал себя. Нашёл, с чем полезть! Старая книжка, с которой всё начиналось: ну, разумеется, дама, которая носит штаны, с ней знакома! И, конечно, своё мнение имеет! Ведь это же не какая-то гимназистка, которая только вчера услыхала слова «Маркс» и «секс» от какого-нибудь недоучившегося студентика, обещавшую сделать её взрослой женщиной!..
Боже, как глупо!
На счастье Венедикта неловкая беседа прервалась продолжившимся заседанием. Снова начали спорить о целях, о методах, о характере социализма, долженствующего определить физиономию грядущего XX века, о сущности крестьянина — бунтарской ли, общинной или мелкобуржуазной... Самому ему участвовать в дискуссии не хотелось: слишком уж напоминала она делёж шкуры неубитого медведя. Вместо этого Венедикт сидел и беспрестанно любовался Матильдой. Если такие яркие личности, как она или как Перовская, не погнушались принять участие в этом съезде, значит, и он не ошибся, примкнув к Нечаеву... И значит, идея Нечаева с ликвидацией Михаила, видимо, имела резон...
Глава 28, В которой Николай Львович удивляет сначала старушку, а после — ребёнка.
— Может, кто-то из этих? — спросил Николай Львович, выложив на стол несколько фотографий известных энэмов, уже побывавших в руках у стражей порядка.
Перед ним сидела стройная старушка, затянутая в тугой корсет и усыпанное рюшами платье с турнюром и по моде двадцатилетней давности. Рядом с местом, где он разложил фотографии, на белой скатерти, стоял молочный чай — две чашки из сервиза, посвящённого различным видам Индии.
— Нет, — сказала мисс Моррисон. — Этих здесь нет. Если они снова здесь появятся, я тотчас же дам вам знать, мистер министр.
Говорила она с очень сильным акцентом, но бегло.
— Это было бы отлично, уважаемая Елизавета Ионафановна. Только ещё больше Государю и мне как его посланнику хотелось бы, чтобы при следующем обращении к вам этих людей... или, впрочем, любых других незнакомых людей с тем же вопросом... вы бы сделали вот что... Ещё раз напомните: каков был из себя великий князь Михаил Александрович?
— О, прелестный мальчик! Очень ласковый. Очень добрый, порою ранимый... С ним было нетрудно! Знаете, он никогда не противоречил старшим! Может, не дошёл до того возраста...
— А внешность?
— Светлые волосы, голубые глаза... Честно говоря, в два года ещё трудно судить о том, насколько хорошим собою вырастет человек...
— Да, конечно. А рост? Может быть, вы припомните: был ли он крупным ребёнком или, быть может, напротив, ниже обычного в этом возрасте?
— О, он был довольно рослым! В царской семье все были высокими. Вспомнить хотя бы Государя Императора Николая Павловича... Вы застали его?
— Да. Немного... Мисс Моррисон! Если ещё кто-либо примется выспрашивать у вас о приметах великого князя Михаила, то отвечайте, что тот был маленького роста, черноглазый, черноволосый, вспыльчивый, непослушный и непоседливый...
Англичанка округлила глаза. Кажется, она решила, что ослышалась, так что Николай Львович ещё раз повторил просьбу на её родном языке, присовокупив:
— Это поручение Государя!
— О!
— А как насчёт отметин, шрамов, родинок, ещё примет каких-нибудь? — Спросил Николай Львович. — Были таковые у Михаила?
— Не припомню. Впрочем, много лет прошло... Хотя, думаю, если бы были какие-то явные, я бы запомнила.
— Впредь, Елизавета Ионафановна, отвечайте и этот вопрос тоже с точностью до наоборот! Придумайте, пожалуйста, какую-нибудь примету, которую сложно подделать. След какой-нибудь травмы, болезни... К примеру... Пусть будет рябой!
— Но тогда все подумают, что я плохо смотрела за ребёнком! — Возмутилась англичанка.
— О, нет! Не подумают! Уверяю вас: головы всех лиц, заинтересованных в этом деле, будут в тот момент заняты совершенно другими вопросами!
— Значит, Серж хочет, чтобы я лжесвидетельствовала... — растерянно проговорила старуха, которую, видимо, уже нередко посещали мысли о душе и загробном мире.
— Просто маленькая хитрость ради безопасности России! — Сказал министр. — Господь знает, что вы с добрым умыслом! Так мы сможем отвернуть народ от самозванца и предотвратить в стране мятеж!
— О! Мятеж! — Повторила мисс Моррисон, отпив из чашки с изображением бравых сипаев на фоне бескрайних маковых полей. — Мятеж, это, конечно, очень дурно!
***
От старой царской няньки министр вышел в целом удовлетворённым. Кажется, она слишком сильно протестовала против, скажем так, немного искажённого изображения Михаила. Маразмом мисс Моррисон вроде ещё не страдает, так что, пожалуй, действительно сделает то, что от неё требуется. Ну а свидетельству той, что купала и пеленала самого великого князя, всяким Коржовым их приятелям-нигилистам противопоставить будет нечего. Низкий рост, чёрные волосы — и баста!

У Аничкова дворца Николая Львовича в этот раз ждала не какая-нибудь старомодная карета, а долгожданный бронепаромобиль. Хотелось бы, конечно, чтоб какой-нибудь Билибин расписал его сценами из древнерусской жизни, но это сделало бы выезд министра слишком приметным. Так что решили просто выкрасить машину в чёрный цвет и намалевать снаружи надпись: «Перевозка оспенных больных». Было ясно, что, хотя броня и хороша, от покушений энэмов стопроцентной защиты она не даст. А вот надпись про оспу наверняка заставит злоумышленников и просто зевак держаться подальше от экипажа... Кстати, именно эта надпись и навела Николая Львович на мысль изобразить Михаила рябым – уж больно она ему нравилась, так в голове и крутилась!
Ребёнка министр уже тоже сменил. С тем, маленьким, было уж слишком много мороки! Пришлось не продлевать срок его аренды, вернуть матери, а вместо этого взять нового, десятилетнего, которого по закону уже можно было оформить на работу как прислугу. Он хотя бы сидел тихо, пялился в окно (не будут же энэмы кидать бомбу в больного оспой ребёнка!) и мог быть использован для разных мелких поручений.
Ехать до квартиры на Фонтанке было близко, но и эти несколько минут Николай Львович не преминул использовать для дела — посмотреть папку с докладами, ожидавшую его в броневике.
Так, что тут?.. Закрыли газету... Закрыли журнал... Опечатана типография... Изъят шрифт... Редактор сослан... Наконец-то, заработали ребятки! Так, а тут что?..
«Помещица Курской губернии Семикопытова позвала к себе на именины нескольких земских учителей, работающих при учреждениях разных уездов. Предоставить список находившихся на сходке уряднику отказалась».
Возмутительно! Что ещё за политические сборища?! Совсем у проклятой интеллигенции совесть отшибло в преддверии выставки, что ли?! Неужели не знают, что земцам из разных учреждений строго-настрого запрещено собираться вместе?!
«Выявить и выслать», — коротко написал резолюцию Николай Львович и взялся за следующую бумагу.
«Гимназистка Матюшина пожаловалась на то, что в прошлом месяце студент Дормидонтов пригласил её на подозрительное сборище, имеющее место в меблированных комнатах на Лиговском проспекте. Присутствующие на сборище субъекты сначала читали стихи непристойного содержания, называя это «символизмом», а потом принялись вызывать духов разных известных умерших. Дух великого князя Михаила Александрович им не явился, причём это было истолковано в том смысле, что он жив. После участия в сборище Матюшина сделалась беременной».
Ну и молодёжь нынче пошла! Куда мир катится?! Был бы жив Государь Император Николай Павлович, так живо заставил бы этого Дормидонтова жениться! А потом бы в солдаты забрил. Хотя может в обратном порядке... Теперь-то не то уж...
«Сборище разогнать, участников допросить. До лекций в университетах не допускать вплоть до окончания расследования».
«На Пятой Рождественской улице улице снял квартиру некто назвавшийся мещанином Порфирием Ильичом Гогиным и похожий на сбежавшего Нечаева. Соседи сообщают, что там регулярно проходят собрания подозрительной публики, в том числе, курящих дам, девиц в штанах и субъектов, которые носят под студенческим мундиром крестьянскую поддёвку. Слышали, как из квартиры доносились слова «бомба» и «республика»».
Ну, это без проблем! Свои ребята.
Николай Львович отложил этот листок и взялся за следующий.
«Ольга Саввишна Коржова благополучно скончалась в Александровской больнице для бедных. Поймать её сына пока что не удаётся».
Благополучно скончалась, это, конечно, хорошо. Жаль только, что так долго провозились с этим делом. Лучше было бы, если бы болтливая похитительница царских детей отдала Богу душу гораздо раньше: до того, как успела пойти на поправку и несколько раз пообщаться с родными! До чего же медленная и неповоротливая эта государственная машина! И что за проблема поймать Михаила, если он действительно находится в Петербурге?! Вот ведь, набрали на службу болванов, теперь разбирайся!..
***
Больше никаких докладов прочитать Николай Львович не успел, потому что приехал домой.
– Ты грамотный? – спросил он у мальчишки для поездок.
– Нет, барин.
– Ну и прекрасно. Теперь ступай на почту, да спроси, нет ли там писем для корреспондента под псевдонимом «Одинокий романтик пятнадцатый».
– Под чем, барин?
– Тьфу ты! Для одинокого романтика пятнадцатого спроси писем нет ли! А коли есть, то неси мне сюда! Ну, ступай!
Мальчишка насмешливо поглядел на министра, но ничего не сказал. Псевдоним, который тот избрал был, конечно, довольно нелепым и типичным названием человека, подающим объявление в «Брачную газету». Но именно затем он и был выбран – чтоб не вызвать подозрений. Слово «пятнадцатый» было добавлено во избежание путаницы с прочими искателями невест, тоже живущими в Петербурге и предпочитающими получать письма «до востребования».
Покуда мальчишка бегал на почту, Николай Львович зашёл в квартиру, спросил прислугу насчёт Зиночки и Софьи. Их дома не было: с самого утра велосипедировали. Это ж надо, как их увлекло! Ну и прекрасно. За обедом не придётся лишний раз смотреть на постную физиономию сестры и выслушивать глупую болтовню дочери.
Министр уселся за стол и велел накрывать. Пока Санька раскачивал самовар, наливал консоме эстрагон и оправдывался, почему соус сюпрем к бекасам всё ещё не готов, пришёл мальчик с письмом.
«Одинокому романтику пятнадцатому от Нежной суфражетки» – значилось на конверте.
Николай Львович заметил ухмылку, скользнувшую по лицу повара. Что, грамотный, подлец? А-ну, пшёл вон!
Оставшись один, министр распечатал конвент и прочёл:
«Милостивый государь Андрей Андреевич! Называть вас «превосходительством» я не стану, и не надейтесь: это ниже моего достоинства. За помощь с жильём, тем не менее, благодарю. Хочу, чтоб вы знали: если я и занимаюсь делом этого вашего Михаила, то не из сомнительного долга перед вами, а лишь только из желания до конца очистить Русскую землю от семейки кровопивцев. Кстати, в нашем обществе есть несколько довольно неприятных личностей, приверженных к ошибочным воззрениям. Я сказал им, что их способ конспирации неправильный, и, если они не будут слушать меня, то с большой вероятностью их арестуют. А вот их фамилии...»
По своему обыкновению, Нечаев, как змея, плевался ядом через слово. Но министру было ясно: они сработались. Кажется, по поводу Михаила можно более не беспокоиться. Даже людей, задействованных в его ловле стоит, пожалуй, перенаправить на что-нибудь более актуальное – на охрану Выставки, к примеру. Ну это, если, конечно, Нечаев всё сделает правильно...
Николай Львович встал из-за стола, предупредив, однако слуг, что сейчас вернётся. Быстро прошёл в кабинет, встал к конторке и там набросал:
«Милостивый государь Сергей Геннадьевич! Я чрезвычайно рад тому, что наше общее дело идёт на лад. О неприятных личностях в организации можете не беспокоиться: все они будут арестованы в ближайшее время. Уверен, что дело Михаила удастся вам наилучшим образом. Замечу лишь, что дело это следует устроить по возможности шумно, публично и так, чтоб никто уж не мог усомниться, что этот тип умер...»
Глава 29, В которой Миша сперва голодный и холодный, а потом сытый и пьяный.
Три дня Миша слонялся по городу. Ночевал, где придётся, как правило, на скамейках. В ночлежку идти побоялся: уж больно прожжённая публика там, говорят, обитала. Днём он отсиживался по разным укромным местам, стараясь выбирать такие, где полиции никак не придёт в голову искать его: в читальне медицинского училища, на роликовом катке, у дверей магазина готового платья, на угольной станции, где заправляли паромобили и автопеды... Правда, вскоре он настолько извозился и зарос, что пускать куда бы то ни было, кроме церкви, его перестали. Зато церковь оказалась очень кстати: один раз Миша случайно оказался на отпевании какого-то мертвеца и получил от его родных пару гостей поминальной кутьи. Так как денег на еду к этому времени не осталось у него уже совсем, он так расчувствовался, что даже прослезился, а потом упал на колени перед иконой и стал молить Господа о прощении за то, что ходил прежде в церковь не очень-то часто, соблюдал не все посты, а, что ещё хуже, связался с нигилистами-безбожниками. Было ясно, что всё происходящее с Мишей есть не иначе как наказание за дерзостные мечты о короне и позорную дружбу с убийцами матери. Верно Варя сказала тогда: «Христа распяли, а теперь и всю Россию желают распять!». Он, дурак, не послушал... Царём возомнил себя... А ведь добрым людям всем известно, что любая власть — от Бога! А коли власти нету, значит, Богу это и неугодно...
Несколько раз Михаила навещали мысли пойти к Варе, разыскать её возле казармы и фабрики, попросить помощи, вместе найти какую-нибудь временную крышу над головой... Но он гнал эти мысли: опасно! Если Охранка знала его адрес у Скороходовой, знала новый адрес у казарм, имела своих агентов на стройке, то уж наверняка она караулила и во всех тех местах, где ходила Варвара. Ещё больше хотелось пойти в Александровскую больницу, в анатомический покой при ней, проститься с матерью... Но и там, не сомневался Михаил, уже дежурили жандармы.
Словом, никаких внятных идей, что делать дальше, у Миши не было. Все его планы простирались не далее, чем на ближайший день или ближайшую ночь: где укрыться от дождя, где взять поесть, где заночевать нынче... Имея в виду этот последний вопрос, пришёл он одним из вечеров на Николаевский вокзал: говорили, скамей там в избытке, смешаться с толпой не составляет труда, а крыша защитит от непогоды.

Что же, слухи не наврали.
Удобную скамейку для ночёвки он приглядел себе сразу. Сел на неё, но ложиться решил не спешить: постеснялся. Казалось, снующие туда-сюда обыватели и без того уже бросают на него осуждающие взоры. Чтоб сойти не за бродягу, а за хоть чуть-чуть приличного субъекта, Миша даже с важным видом прогулялся туда-сюда и просил, скоро ли будет поезд на Гельсингфорс. Ему ответили, что на Гельсингфорс надо ехать с Финляндского, отчего Мише стало ещё неуютнее.
Около одиннадцати прибыл какой-то поезд, и здание вокзала заполнилось пропахшими дымом и испачканными копотью людьми с саквояжами, котомками, перевязанными коробками из-под шляп. От нечего делать Михаил принялся разглядывать пассажиров. Впрочем, пять минут спустя почти все они рассеялись, и вокзал вновь опустел. С приехавшего поезда осталась только шумная компания чернявой молодёжи. Это были несколько парней, одетые вроде фабричных (ситцевые косоворотки под пиджаками, плисовые штаны, у некоторых — кепки-восьмиклинки), но говорящие между собой не по-русски. Какое-то время они беспокойно толклись и оглядывались по сторонам, словно ожидая кого-то. Потом к компании подошёл богато одетый человек, который что-то сказал им, вызвав в ответ бурные возгласы недовольства, а потом отсчитал денег, дал их тому, что исполнял роль вожака этой компании, и ушёл. Нерусские ребята пошумели ещё несколько минут: решали, видно, что им делать дальше. Потом, кажется, придя к выводу, что на сытый желудок думаться будет лучше, расселись по лавкам, достали из сумок хлебные лодочки с запечённой внутри яичницей, пироги, колбасы, жареное мясо, куски сыра, большой жбан сметаны, мешок абрикосов...
От вида, а, главное, запаха всех этих угощений Миша едва не расплакался. И почему только вся эта еда дана тем, кто, кажется, совершенно, её не ценит?! Вот за что им всем такое счастье? Почему одним — сметаны и колбасы, а другим — лишь насмешки судьбы вроде призрачной короны и смерти матери?!..
Может, эти везунчики оставят какие-нибудь объедки, которые потом можно будет подобрать?.. Лишь бы только другие бродяги не утащили их раньше!
В общем, надо следить...
Хотя бы успеть просто налюбоваться и нанюхаться этих сокровищ...
Миша сам не заметил того, как голодным взглядом стал провожать каждый кусок, исчезающий во рту кого-нибудь из приезжих. Осознал, как неприлично он ведёт себя, лишь тогда, когда самый бойкий из компании, прямо взглянув на него, поинтересовался:
— Эй, друг! Хочешь есть?
Это было сказано с акцентом, но по-русски. Отказаться от угощения Миша в себе сил не нашёл. Да и незачем отказываться было.
Как оказалось, компания незнакомцев была его спасением.
Съев уже несколько первых кусочков, Миша повеселел и разговорился. Оказалось, что приехали его благодетели из Тифлиса — столицы Кавказского края — работать на Выставке. Один из них был молодым врачом, другой учителем гимназии, третий путейцем, четвертый статистиком, но в саквояжах у всех у них лежали черкески, папахи, кинжалы и другие атрибуты дикарей. В течение Выставки эти ребята должны были жить в саклях в устроенном на искусственной горе туземном посёлке, танцевать лезгинку для чистой публики каждые полчаса, а в остальное время наливать вино в рога, показывать трюки на лошадях и заниматься народными промыслами. Они рассчитывать заселиться в сакли уже с вокзала, но, хотя до открытия выставки оставалась всего пара дней, встретивший их начальник сообщил, что посёлок черкесов ещё не готов, и только и сподобился на то, чтоб сунуть деньги на гостиницу.
— А ты, друг, не знаешь тут скромной гостиницы рядом? — спросили у Миши.
Тот знал и был рад отплатить услугой за услугу. Ночью в Петербурге было зябко, и новые знакомые дали ему на дорогу одну из черкесок — так Миша оказался не только замаскирован на случай встречи с жандармами, но и почувствовал себя вроде как своим среди кавказцев. Когда же по пути он рассказал, что совсем недавно собственными руками отделывал павильон Нефти, к которому примыкает горская деревня, и видел, какие красивые виды Кавказа имеются там в виде витражей, ребята вообще решили, что их встреча суждена Господом Богом.

До гостиницы они дошли уже едва ли не лучшими друзьями. Успевшие узнать, что Мише негде преклонить голову, новые знакомые позвали переночевать его вместе с собой: всё равно кроватей в номере, который оказался им по карману, на всех не хватило, и паре человек пришлось бы спать на полу — так какая разница, было бы их больше или меньше на одного?
Гостиница была просто роскошной: там имелись не только чистые постели со сменяемым бельём, электросвечи, выметенный пол без окурков, но и даже современный водопровод — вода подавалась в самую ванную комнату. Михаил с наслаждением помылся. В ванной в зеркале он взглянул на свою заросшую за дни скитаний физиономию — надо же, ну чисто Александр III, одно лицо! Впрочем, сразу мысленно перебил он себя, может быть, всё дело лишь в электрическом свете и самовнушении.
Когда распаренный и счастливый Миша вышел из ванной, неожиданно оказалось, что у кавказцев с собой было несколько бутылок вина, и они уже находятся на столе, причём часть — открыта. Отказываться снова было незачем.
— А вам, магометанам, Алькоран разве не запрещает винопитие? — спросил только Коржов на всякий случай.
— Да что ты, какие же мы магометане?! — Рассмеялся самый разговорчивый из кавказцев, низкорослый, некрасивый, но бойкий парень, представившийся Иосифом. — Мы же грузины! Мы самые что ни на есть православные!
— Да?
— Ну конечно. Я вот даже в семинарии учился.
— Так ты поп?
— Нет. Не закончил. Надоели эти глупости.
Совсем недавно ощущавший невиданный прилив религиозности, Михаил не стал спорить с новым другом. Не ему учить добрых людей, без которых сейчас бы пришлось спать на жёсткой скамейке, голодным. Да и Иосиф его к себе очень расположил. Оказалось, что, хоть и он и не закончил семинарии, но, как и остальные его соседи по выставочной «деревне дикарей», был человеком науки: работал метеорологом и вычислителем в обсерватории. Как и Миша, он родился в семьдесят восьмом году; как и Мише, в декабре ему должно было исполниться двадцать два.
Ощущение того, что Коржов нашёл лучшего друга, подкрепилось вином. Нежданное счастье от пищи, тепла и уюта опьяняло уж само по себе; стоило добавить к этому один стакан вина, как Миша и вовсе растёкся. Ему страшно захотелось поделиться накопившимся — грузины не отказывались слушать. Поэтому за следующий час он поведал всё: про ранение и смерть матери, про общение с энэмами, про потерю жилья и вещей, про крестик, про колесо обозрения, про скитания и беготню от полиции. Потом, правда, спохватился, не много ли разболтал и не выдадут ли его, но Иосиф заверил, что тоже не любит жандармов и стучать им ни за что не будет. «Золотой человек!» — решил Миша.
— Так ты будешь искать власти или нет? — спросил Иосиф.
— Да даже не знаю. Куда мне? Если во мне и есть царская кровь, то всё равно по сути я простой рабочий...
— Но власть это весело.
— Да, но...
Миша полез в рассуждения о том, что сделать его царём это проект революционеров, а революционеры оказались обманщиками и убили Ольгу Саввишну. Так что иметь с ними дела нельзя, а без них ничего не получится. Может, конечно, и правильно было бы стать народным, рабочим государем, но ему с этой задачей справиться наверняка не удастся; да и вообще, царь, правящий в интересах рабочих, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Бог, конечно, что-то там замыслил, если послал Мишу родиться в семье Романовых. Но раз Он позволил стать царём Сергею, значит, такова Его воля. Впрочем, если Он же дал Коржову знать о его происхождении, то и в этом может быть какой-то важный замысел... Однако...
В этом месте Миша запутался в своих мыслях. Чтобы распутаться, он положил голову на стол, закрыл глаза, но ясности в голове от этого почему-то не наступило... Он просто уснул.
Глава 30, В которой Варя слушает коммунистические песни и участвует в коммунистических беспорядках.
— Истинно говорю вам: царь Михаил уже в Петербурге и много людей его видело! Жандармы за ним бегают повсюду, да поймать никак не могут, потому как Господь Бог его скрывает от их глаз! И всё потому что услышал Господь наконец-то молитвы народные! Послал нам спасителя! Если воцарится Михаил, то сделает господином рабочего человека, а фабрикант да помещик холопами станут! Главное теперь нам нашего народного царя не проворонить, не упустить! Да как явится он, так жандармов к нему не пускать ни за что на свете!
Дуня-коммунистка, выступавшая с этой пламенной речью, стояла ногами на своей койке — никакой другой подходящей трибуны в казарме не было. Но и того было довольно, чтоб её слушали: к Вариной соседке были обращены взоры всех находившихся в спальне фабричных девушек.
Да и сама Варя слушала. Она даже не могла не признать, что речь звучит убедительно. Странно было думать, что разговор идёт о том самом Мише, её женихе: скорее, можно было поверить в то, что скрытый царь Михаил существует на самом деле, но это, конечно, не он, не Коржов, наслушавшийся нигилистов и вообразивший о себе Бог знает что; почти наверняка это должен быть кто-то гораздо более величественный, серьёзный и подходящий для этой роли.
— Да верно ли? Откуда ты всё знаешь? — Крикнула Дуне одна из девчат.
— Знаю, бабоньки! — Сказала коммунистка. — Кто на Обводном живёт, давно о том судачат. Только до нас, как всегда, до последних доходит. А вот умные-то люди, кто в газетах разбирается, да в рабочий клуб заходит, да в чайных греется — те давно уж всё уразумели! Говорят, нашим страданиям последние дни пошли. Истинный царь вот-вот явится!
— Он, что, к нам в казарму придёт? — Прозвучало ехидное из угла.
— Ну, Матрёна, ну и дура ты! — Ответила оратор. — Голова тебе на что дана? Чтоб думать! Ну и думай! На кой чёрт царю по всем казармам шляться, чтоб себя явить, коли у нас тут Всемирная выставка будет? Зачем она вообще нужна, та выставка? Что в ней проку трудовому человеку?
— И зачем же?
— А затем как раз, чтобы царь себя явил! Не было ведь выставок таких у нас отродясь — и вот вдруг у думали! Ясно ведь, что это не затем, чтоб там самарские трёхколёски, да вологодское масло народу показывать! Это всё для того и устроено, чтобы народ там узрел своего Государя!
И снова Варя не могла не признать разумность Дуняшиных рассуждений. Она сама давно подозревала, что вся эта эпопея с Выставкой — не то, чем кажется. Только вот сказать не получалось. А теперь всё стало ясно. В руках у Вари было письмо от Миши, переданное ей сегодня каким-то грузином. Там значилось: «Варя! Мне пока придётся скрыться. Не волнуйся, не ищи меня. На квартиру я вернуться не могу, поэтому потребуй у хозяйки вернуть деньги. Михаил». Что это значило? Очевидно, что Ваня Проскуряков был прав, и собственное чутьё Варю тоже не обмануло: жениться Коржов не хотел. Было ясно, что он ухватился за мысль стать царём, бросил Варю и теперь распространял о себе слухи по клубам и чайным, что скоро явится. Осознавать себя брошенной было, конечно же, горько. Ещё того хуже, что Варя, теперь получалось, ничем не превосходила двух своих соседок Дунь, у которых не было ни женихов, ни мужей. К тому же выходило, что, раз Дуня-коммунистка так горячо проповедует Мишино воцарение, то она теперь вроде как ближе к нему, чем Варвара. Оставаться в стороне было нельзя, и Варя крикнула:
— Верно! Верно, Дунька, говоришь!
— Верно-верно! — загудела вся казарма.
— Давно царям пора народ спасать!
— И то правда! Двадцатый век на носу, а царя помещики как тыщу лет дурили, так и нынче продолжают! Уж пора ему узнать, что мы страдаем!
— Это раньше он не мог про нас узнать! А что теперь? Уже и телефон есть...
— ... Телеграф!
— Беспроволочный даже!
— Ой, девчата! А на Выставке-то, сказывают, будет какой-то там Царь-Телеграф выставляться!
— А что это?
— Бог его знает!
— Да что-что! Всё ясно! Это специальный телеграф размером с дом, литой, из золота! А ведёт он прямо в Зимний, в императорскую спальню!
— Так это, получается, мы с Выставки с царём Сергеем Первым можем связаться?
— Да на кой он...
— Ну нет!
— Пускай знает!
— Давайте, девчата, как Выставка будет, пойдём туда вместе, да и сразу ему оттелеграфируем, чтоб шёл куда подальше, потому как незаконный он выходит!
— Надо, надо сходить!
— И не раз! Мы же не знаем, в какой именно день Выставки явится Михаил!
— Каждый день, девчат, дежурить надо!
— В этот раз своего не упустим!
— Возведём Михаила на царство!
— Да здравствует царь Михаил Второй! — Торжественно заключила Дуня-коммунистка. А потом затянула: — Бо-о-оже, царя-я-я храни-и! Си-и-ильный держа-а-а-авный...
В этот момент раздался треск из репродуктора.
— Кончай, девчата! Служба сейчас будет! — Объявила Дуня-мать, перекрестившись.
Но вместо привычных звуков литургии из металлического цветка прозвучал голос начальника казармы:
— БЕСПОРЯДКИ ПРЕКРАТИТЬ!
— Ца-а-арствуй на сла-а-аву, на сла-а-а... — Упорно продолжали Дуня слева и её единомышленницы.
— ПРЕКРАТИТЬ ПЕТЬ НЕМЕДЛЕННО! — Перебил их грозный голос из фонографического раструба. — Никто не смеет петь без дозволения заводоуправления! Политические речи воспрещаются!
— Ах ты, гнида! — Закричала коммунистка и помчалась к репродуктору так, словно это был живой начальник. — Ах ты, морда жидовская, станешь ещё нам указывать! Довольно русской кровушки попили! Всё! Хорош! Даже думать не смей запрещать нам царя славить нашего!
Сторонницы Дуни загомонили. В нескольких частях казармы, впрочем, раздалось недовольное шиканье, но оно было почти неслышным. А когда коммунистка добралась до раструба, схватилась за него руками и принялась трясти, никто не попытался оттащить её. Напротив, несколько работниц вскоре присоединились.
— ПРЕКРАТИТЬ! — Надрывался начальник.
Несколько десятков голосов дружно послали его матом. Потом все как-то разом вспомнили, что плата, взимаемая за трансляцию литургии несправедлива, происхождение трансляции под вопросом, и вообще — электрографофон, как, вроде, называлась эта штуковина, создаёт у фабричных девушек ложное ощущение того, что в церковь ходить не надо, и тем самым губит их души.
Примерно через минуту раскачивания ненужной новомодной штуковины Варя ощутила, что тоже должна принять в нём участие. Она встала с лежанки... Но поздно. Репродуктор отвалился от стены и упал на пол вместе с несколькими девушками.
Этот факт вызвал всеобщее веселье.
Оно длилось до сих пор, пока в казарму не пришло живое начальство, и не объявило об увольнении Дуни-коммунистки и ещё трёх работниц, ломавших с ней вместе устройство.

Глава 31, В которой Венедикт наблюдает за угнетённым рабочим классом и получает план его спасения.
Пятый час болтался Венедикт у Симоновских казарм — и всё без толку. Ошибки быть не могло: Федя точно проследил и был уверен, что невеста Михаила обитает именно здесь. Венедикт даже видел её как-то раз выходящей из здания: он ведь уже встречал эту девушку как-то раз у квартиры вдовы Скороходовой. Словом, это было то самое место, единственное, пожалуй, где можно было надеяться встретить Коржова. Но его не было ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. Неужели с невестой поссорился? Или они всё-таки встречались в другом месте? Или время Венедикт выбрал не то?..
Кстати, что касается времени: сегодня тут творилось что-то странное. Работницы без конца входили и выходили из здания. А ведь был разгар дня, и им всем полагалось стоять у станков! Непонятно. Ещё из интересного: час назад Венедикт видел крупную потасовку между фабричными и теми, чьи костюмы позволяли распознать их как начальников. Случилось это после того, как из казармы с громкой руганью вытолкали нескольких девушек. Всё это, конечно, не имело никакого отношения к делу, но запомнилось Венедикту, поскольку стало его единственным развлечением на сегодня...
Впрочем, стоять дальше у казармы и смотреть на потасовки пролетариев не имело никакого смысла. Надо было ещё раз дождаться невесты Коржова, а потом тихонько следовать за ней в надежде, что она приведёт к нужному объекту. Но легко сказать — дождаться!
Венедикт грустно вздохнул и в очередной раз прошёлся по тротуару туда-сюда.
В этот момент рядом с ним затормозил неприметный чёрный паромобиль.
— Что это вы тут делаете? — Раздался знакомый голос.
Венедикт обернулся и увидел высунувшегося из машины Нечаева.
— Я слежу, — ответил он.
— И как, успешно?
— Не особенно.
— В таком случае, лучше садитесь в паромобиль. Побеседуем, прокатимся.
Венедикт послушно сел на заднее сидение рядом с Нечаевым. За рулём находится какой-то парень, смутно показавшийся знакомым, как будто виданным на съезде партии. Самому Сергею Геннадьевичу, проведшему по тюрьмам больше половины жизни и последний раз гулявшему на воле ещё в то время, когда главной новинкой была железная дорога по Радищевскому маршруту, уметь водить машину было неоткуда. И всё-таки Венедикт не удержался от того, чтобы бросить на шоффэра подозрительный взгляд.
— Не волнуйтесь, он наш человек, — сказал вождь. — Говорите свободно. Так что вы тут делали?
Он объяснил ситуацию.
— А Федя где? — спросил Сергей Геннадьевич.
— Ходит по рабочим кварталам и надеется наткнуться на Михаила в одном из них.
— Не слишком верный способ... А потом? Что после этого?
— Вы сказали, что считаете полезной ликвидацию Коржова...
— А вы сами?
— Если честно... Я послушаюсь партийного решения... Я выслеживать согласен, но само дело, думаю, было бы лучше поручить кому-нибудь другому... Наверняка найдётся человек, готовый подкараулить царского отпрыска в каком-нибудь дворе-колодце или переулке... с топором...
— Нет, это всё не то, — сказал Нечаев.
К этому времени паромобиль уже мчался на полной скорости по Большому Сампсониевскому проспекту.
— Во-первых, привлекать для исполнения приговора дополнительного человека, не участвовавшего в наблюдении, и, следовательно, плохо знающего объект и его окружающую среду, — это только помеха для дела. А, во-вторых, топором в переулке — нет смысла.
— Почему это нет смысла?
— Ну а кому будет интересно очередное убийство неизвестного в рабочих трущобах? Уверяю вас, что заинтересованные лица тут же скажут, что никакого царевича Михаила не существовало и вовсе. Чтобы дело имело смысл и резонанс, всё должно быть публично, на глазах у многих лиц, с фотографированием, может, с киносъёмкой. При этом сомнения в происхождении ликвидируемого объекта должны быть сведены к минимуму.
— Понятия не имею, как это провернуть, — сказал Венедикт. — Особенно касательно сомнений...
— Вы газеты-то читаете?
— Сегодня нет. А что?
— Значит, не знаете, что Петербургу грозит массовая рабочая забастовка...
— Что? Как? Когда?
— Да в ближайшее время. А как вы думаете, зачем мне понадобилось ездить к Симоновским казармам? Хотел посмотреть обстановку. Потому как именно с них всё и началось.
— А что началось?
— Несколько работниц вроде как устроили в спальном зале подобие митинга, на котором вслух кричали, что считают законным царём Михаила и что он должен непременно объявить о себе на Выставке — якобы в этом и есть её смысл. Затем они начали громить инвентарь казармы, вследствие чего несколько самых активных были уволены. Их товарки, не согласные с этим увольнением, объявили забастовку. Бумагопрядильная фабрика Шлиппенгаузена полностью стоит. А в знак солидарности с нею забастовало ещё два завода на Обводном...
— Ого! Да так и до всеобщей стачки, выходит, недалеко!
— Вот именно! Сейчас я мельком слышал разговор между работницами: они говорят, что бастовать надо до тех пор, пока не объявится Михаил — мол, дежурить на Выставке и быть готовыми. Если так пойдёт, то скоро Голодай будет переполнен рабочим классом, готовым узнать царя едва ли не в ком угодно!
— Так может, им царя и предъявить?
— А дальше что? Думаете, Сергей устыдится, увидев племянника, и сразу же уступит ему место?..
— Нет, конечно...
— А главное: хватит подыгрывать этой глупейшей вере в якобы доброго государя! Ну, Венедикт, вы же образованный человек! Вы же понимаете, что хороших царей не бывает! Как говорил Сен-Жюст, нельзя царствовать и быть невиновным!
— Ну, опыта рабочих царей в восемнадцатом веке ещё не было...
— И в двадцатом не будет. Поймите вы: как только Михаил или любой другой рабочий наденет корону, он тут же перестанет быть пролетарием и станет обычным царём-самодуром, таким же, как все. А вообще, если смотреть реалистически, короны этой не видать ему как своих ушей. Ну, положим, объявится он. Ну, пошумит народ по этому поводу. А дальше что? Полиция его по-тихому к рукам приберет, да на Акатуе сгноит. А рабочим скажут, царь сбежал. Через месяц его и забудут...
— Сергей Геннадьевич, заправиться бы надо, — подал голос шоффэр.
— Ну, как знаешь.
Водитель свернул к разноцветному теремку с русском стиле с большой вывеской «Продуголь». Такая же надпись имелась на фартуке мужика, который в ответ на окрик «Эй, человек!», шаркая лаптями, подошёл к машине и спросил у шоффэра:
— Вам сколько лопат, барин?
Венедикт с любопытство пронаблюдал, как «человек» засыпает топливный отсек машины уголь, а потом заливает в специальное отверстие воду из пожарного гидранта. «При покупке трёх лопат угля — вода бесплатно!» — сообщало объявление на угольном хранилище. Впрочем, заподозрить капиталистов том, что они упускают прибыль, было сложно. Кроме топлива, на заправке продавались всяческие вкусности: чай, кофе, калачи, ландринки, сушки...
— А фирменную конфекточку прикупить не желаете ли, барин? — Услужливо поинтересовался «человек», когда кончил с углём и водой. И с тоской продекламировал заученное: «Шоколад от Продугля — благородной дамы для!»
— Нет у нас тут дам, а то не видишь! — Оборвал его Нечаев.
— Вижу, что нет, а только что мне велено, то я и говорю, — мрачно ответил угнетённый пролетарий, взял целковый и убрался с глаз подальше.
Когда паромобиль покинул заправку, Нечаев риторически спросил:
— Вот видите, Венедикт, как по-рабски принуждает капитал вести себя работников даже той отрасли, каковая считается у вас воплощением прогресса?
— Как не видеть!
— В ваших силах помочь ему. Освободить.
— Как?!
— Убить Михаила же!
Встретившись в вопросительным взглядом собеседника, Нечаев принялся объяснять.
— Что даст появление на Выставке якобы истинного царя? Ничего, кроме пары дней шумных восторгов. Но что будет, если этот истинный царь будет убит там, и при всём честном народе? Массы будут уверены, что его уничтожил никто иной, как прихвостни Сергея. Возникнет ощущение, что у рабочих из-под носа увели последний шанс на улучшение их жизни. И вот тогда уж они отреагируют как надо! В России будет революция! Возмущённый народ двинется на Зимний, вот увидите! Он наконец-то поймёт, что надеяться ни на бога, ни на царя, ни на героя ему не стоит. И тогда... О, поверьте, я чувствую: перед ликом Русской революции померкнут все баррикады прошлого, все Бастилии, все клубы якобинцев! И восемьдесят девятый, сорок восьмой годы будут ничем по сравнению с девятисотым! Уверяю вас: если весь девятнадцатый век прошёл под знаком Французской революции, то двадцатый весь пройдёт под знаком Русской! И вы станете Камиллом Демуленом — тем, кто первый поднимет народ на восстание!
— Скорее, я буду Флесселем, — сказал Венедикт, усмехнувшись. — Тем, кто вызовет к себе народную ненависть и падёт одной из первых жертв.
— Какая разница? Вас, что, это пугает?
— Нет, конечно. Я уже прощался с жизнью пару месяцев назад, когда был запасным метальщиком в деле Синюгина.
— Вот и чудно. Тем более, я думаю, у вас есть хорошие шансы остаться в живых. Вы ведь будете окружены соратниками, когда сбросите Коржова...
— Сброшу?.. То есть...
— Ах, да! Я уже составил план. Смотрите. Каким способом нам лучше ликвидировать Михаила? Стрелять? Ненадёжно. Опыт Каракозова, Засулич, Соловьёва доказал это. Бомба? Слишком много лишних жертв. Пара жизней ради революции это, конечно же, не проблема, но дополнительные погибшие это дополнительные последствия, с которыми нам надо будет потом иметь дело... Так что это не годится. Тогда каким способом можно ликвидировать человека, если дело будет происходить на Всемирной выставке, спросил я себя. И тут же понял: сбросить с высоты! Это зрелищно. Это легко зафиксировать. Для этого не придётся добывать оружие или динамит и таскать их собой. К тому же, на выставке много высоких построек!
— Ворота?
— Да, я думал, о воротах. Но колесо обозрения — ещё лучше. В кабине не будет лишних людей, которые помешали бы осуществить наш план. Билеты туда дешевле, чем на ворота. Высота — максимальная в городе. Лететь будет долго, разобьётся непременно.
— А если у меня не получится выкинуть его из кабины? Я ведь это... Не атлет! Интеллигент я!
— Мы, конечно, дадим вам подмогу! Возьмите с собой Федю, если хотите. Кроме того, участвовать в этом деле в качестве исполнителей вызвались Софья Перовская и её дочка Матильда.
Эту последнюю фразу Нечаев произнёс как будто бы с лёгкой усмешкою, глядя на Венедикта не так как обычно, а чуточку ехидно, словно знает о нём больше, чем тот думает.
— Как... Матильда?! — У Венедикта перехватило дыхание. — Она дочка Перовской?!
— Ну да. А вы, что, не заметили? Они всюду ходят вместе. И вместе пожелали принять участие в исполнении того, что не сумели закончить Желябов и я.
— Ох... С ума сойти!
— А когда они узнали, что поручено это дело главным образом вам, то захотели участвовать в нём с ещё большим энтузиазмом, — добавил Нечаев. — Мне кажется, что вы им симпатичны.
Венедикт на секунду утратил дар речи. Симпатичен! Он! Матильде! Быть не может! И она — подумать только! — дочь Перовской! Вот откуда эта непреклонность, вот откуда ощущение того, что имел дело с необыкновенной особой! А взгляд Матильды — точь-в-точь взгляд Желябова со старых фото! Вот откуда в ней эта красота, это обаяние, эта аура девушки из будущего! Дочь Перовской и Желябова, подумать только... Принцесса Русской революции! И эта принцесса интересуется Венедиктом!
— Впрочем, я сказал им, что вы сами будете решать, кого брать с собой на дело, — безмятежно продолжил Нечаев. — Они понимают, что мужчина в данном случае может оказаться полезнее, и не обидятся, если вы предпочтёте им кого-нибудь другого. Хоть вот Янека... А что, Янек, пошли бы вы на дело?
— С удовольствием! — Сказал шоффэр. — Я бы лучше на Сергея, но и на Михаила не откажусь. Если партия прикажет...
— Нет, не надо! Я за равенство полов! — Поспешил вставить Венедикт. — Я да Федя да две дамы. Будет честно. Четверых нас вполне хватит, чтобы выкинуть в окно одного Мишку. И потом, если дамы уже заявились, зачем им отказывать...
Аргумент вышел складный. В первую секунду после того, как произнёс его, Венедикт думал, что прикрывает неловкими словами столь же неловкие желания, но через пару мгновений уверился, что именно поэтому и хочет работать с Матильдой и её матерью: ради женского вопроса, ради честности, затем, чтоб не обидеть... Нет, он, разумеется, не испытывал к Перовской-младшей никаких половых чувств. Венедикт не опускался до такого мещанства. А если и испытывал, то это не имело никакого, совершенно никакого отношения к их делу! Стопроцентно.
— Итак, — сказал Нечаев, — решено. Саму ликвидацию наиболее целесообразным считаю назначить на день закрытия Олимпийских игр. Народу тогда точно будет пруд пруди.
Игры собирались проводить в течение первых десяти дней Выставки. Именно на это время было запланировано большинство официальных мероприятий, важных конкурсов, особенных показов. Тогда же ожидался и максимальный наплыв иностранцев. На десятый день Игры должны были торжественно закрыться, а на Выставке собирались продемонстрировать главное русское чудо техники — летательный аппарат тяжелее воздуха. После этого Выставка будет работать ещё пару месяцев, но уже без помпезных и массовых мероприятий.
— В день закрытия и царь, наверно, будет, — сказал Янек.
— Точно, — поддержал Сергей Геннадьевич. — Если повезёт, то нам удастся сразу, там же, направить на него гнев народных масс! Ух и денёк тогда будет! Не хуже того, в Петропавловской! Сперва Венедикт — Михаила, потом пролетарии — в отместку за это Сергея! И всё! И республика!
— План гениальный, — заметил водитель.
— А вам как, Венедикт? — спросил Нечаев.
— Мне он тоже по душе, — ответил тот.
План был прекрасен всем, кроме того, что Венедикту надо было убить человека, который пока что не сделал ни для кого ничего плохого, был предметом народной любви, спас Веру Николаевну и уже успел вызвать в самом Венедикте подобие дружеских чувств... Но Нечаев... но Матильда... но Перовская... Но перспектива начать революцию, такая близкая, такая реальная... Нет, решительно, он должен был участвовать!
— План просто замечательный.
— В таком случае, ваша задача — успеть разыскать за оставшиеся дни этого Михаила и уговорить его прокатиться с вами на колесе в день закрытия Олимпиады, — подытожил Нечаев. — А мы позаботимся о том, чтобы ваша кабина остановилась на верхней точке.
— Разыскать его пока не получается...
— Старайтесь! Если видите, что ваша методика не даёт плодов — измените её, пока не поздно.
— Да, я думал об этом...
— Активнее думайте!.. Кстати, вы в курсе, что его мать всё-таки умерла в больнице?
— Да? Я не знал. Мне казалось, что, если она не погибла ни сразу, ни через день, то идёт на поправку...
— Она похоронена на кладбище для невостребованных умерших при Александровской больнице. Вы уже поняли, как можно это использовать?..
Глава 32, В которой Николай Львович обязывается пригласить на выставку сперва двадцать девиц, а потом ещё одну.
В этот раз с заданием Санька справился, и гурьевская каша к завтраку была на столе. Николай Львович готов был признать даже, что она вкусная. Только на плохое настроение министра это всё равно не повлияло. Не до каш было! В этот раз в разложенной на скатерти газете помещалось сообщение о том, что к забастовке на фабрике Шлиппенгаузена, начавшейся из-за увольнения нескольких скандалисток, певших в казарме злонамеренные песни и выкрикивавших злонамеренные лозунги, присоединились ещё семь заводов, включая Путиловский. Чёрт бы побрал этих пролетариев! Заняться им, что, больше нечем, как устраивать всё это безобразие ради какой-то пары дур, дебоширивших явно по пьяни?! Вот всё-таки что ни говори, а поспешил Государь Александр II с их освобождением! Совсем народ дикий ещё! Оценить благодеяние фабриканта, предоставившего недорогое жильё рядом с работой, ума не хватает; а вот портить хозяйское имущество внутри казармы — всегда пожалуйста!
Главная же пакость была в том, что эта никому не нужная забастовка началась именно тогда, когда в Петербург уже съехались иностранные гости, и до открытия Игр и Выставки осталось всего ничего: собственно, церемония ожидалась уже завтра, и это была отдельная головная боль для министра, ведь там должен присутствовать сам царь... Совпадение ли это было? Вряд ли. Николай Львович был готов побожиться, что дело не обошлось без вмешательства англичан. Виндзорская старуха наверняка заслала агентов, чтоб спровоцировать глупых рабочих на хулиганство, а потом писать в своих газетах, что русский царь не сумел обеспечить достаточного порядка на всепланетном мероприятии, и-де надо было делать его в Лондоне!
Пока Санька заваривал чай, Николай Львович вышел из-за стола, сделал шаг к телефонному аппарату, стоящему на резном, округлых форм, буфете, и снял трубку. Крутанул ручку сбоку.
— Алло! Барышня, соедините с министерством внутренних дел!
До министерства легко можно было добраться даже пешком, но прогресс позволял не давать себе и этого труда. В момент, когда отсчёт времени до открытия Выставки пошёл на часы, беречь стоило каждую минуту.
— Секретарь, дайте Никитина!.. Никитин? Запишите поручение! Да-да, это касается бастующих! Во-первых, сегодня же арестовать самых злостных участников...
— А как мы их узнаем? — раздалось на том конце.
— А уж это ваше дело! — Начал злиться Николай Львович. — Вам за что вообще-то жалование платят? Вот и думайте! Хоть раз включите голову, болваны!
— Будет сделано.
— Во-вторых, распространить среди рабочих информацию об уголовной ответственности за забастовки. И о том, что не работать — это грех!
— А это грех?
— Молчать!
— Так точно.
— В-третьих. Главное. Отправить по казармам и кварталам пролетариев агентуру с целью выявления действующих в народной среде английских провокаторов! Арестовать их как можно быстрее!
Вернувшись за стол, министр встретился взглядом с сестрой. Та копалась ложкой в каше с таким видом, словно ищет там ампулу с ядом.
— Неужто, братец, англичане уже и до наших рабочих казарм добрались? — Удивилась она.
— Как видите, сестрица. Результаты — налицо.
— Как бы они не добрались до гребешка с янтарной мозаикой, — вставила как бы между делом Зиночка. — Ну помните, того, что в лавке Нойманна? У него же и серёжки очень милые... Мне одни прямо в душу запали, весь день о них думаю...
— Мы ж договорились, что неделя без покупок, — недовольно отозвался Николай Львович.
— Ой, папенька, это же сущие мелочи! И потом, мы же про платья договаривались. Украшения — не в счёт.
— Ну ладно, ладно...
— А ещё как бы англичане не добрались до тех билетов на ворота, самых лучших! Их завтра на продажу выставляют. Вы же захотите с высоты взглянуть на то, как мы с тётушкой велосипедировать будем? А потом мы к вам поднимемся и вместе чудо техники посмотрим.
Продавать билеты на соревнования и особенные зрелища Выставки и Олимпиады в самом деле начинали лишь в день открытия — чтобы дать возможность приехавшим иногородним и иностранцам успеть поторговаться за них наравне с петербуржцами. Впрочем, министр внутренних дел, конечно же, имел возможность обзавестись билетиком и пораньше. Соревнования велосипедеток были последними и приходились на десятый день — как раз перед показом летательного аппарата тяжелее воздуха и закрытием Игр. Вообще-то Николай Львович планировал быть рядом с Государем в это время, но подумал, что двум первым лицам страны будет безопаснее находиться врозь. Да и если Зиночке так хочется, чтоб видел он её соревнования... Да, пожалуй, ради трёх мест на воротах в последний день и правда стоит раскошелиться.
— Не трёх, а двадцати! — Сказала Зиночка. — Что вы, папенька? Я ж Липочку Осинцеву позвать должна! И Полю! И, конечно, Соню Глинскую! И Танечку Леонтьеву! А также...
Перечень подруг, идущий следом, показался Николаю Львовичу бесконечным.
– Я, что, всем им обязан билеты купить?! Да я так разорюсь!
– Будет, папенька. Не разоритесь! Ведь я им уже обещала!
– Неужели вы, братец, хотите, чтобы ваша дочка находилась на воротах в окружении каких-нибудь сомнительных личностей вместо своих подруг? – Встряла Софья. – Эти места в самом деле могут выкупить английские агенты. И тогда уж Бог знает, что будет...
– Ох, ладно, бес с вами! Да будут билеты!
Министр вытащил салфетку из-за ворота. С этой чёртовой выставкой столько проблем! Уж скорей бы она вся закончилась!
***
Открытие Игр, вопреки ожиданиям, прошло без проблем. Николай Львович наблюдал его из отделанной бархатом царской ложи – да, таковую на стадионе всё-таки успели возвести! – сидя рядом Государыней. Государь был в тот день сверху, на воротах – тех самых, откуда министр не так давно обозревал стройку и билеты куда на последний день ему всё-таки пришлось приобрести в количестве двадцати штук. Рядом с царём, помимо отряда казаков с шашками, стояли Пьер де Кубертен и генерал от инфантерии Бутовский, предводитель олимпийского движения в России. Толпа затрепетала от восторга, когда выяснилось, что всех троих прекрасно слышно: организаторы позаботились о таких мало кому известных новинках как мегафоны, то есть переносные звукоусилительные машины. Итак, де Кубертен выступил с речью о том, что благодаря спорту грядущий XXвек обещает стать веком всеобщего мира и единения; Бутовский обратился ко всем кадетам, унтер-офицерам и юнкерам с горячим призывом не забывать о культуре тела и о гимнастике; после этого Сергей объявил Игры и Выставку открытыми, и под ружейный салют на воротах зажглось электричество в буквах приветствия новому веку.
После этого Шаляпин спел «Эй, ухнем», а лучшие юнкера со всей России под эту музыку продемонстрировали строевые упражнения замечательной синхронности, причём в конце составили своими телами различные гимнастические пирамиды до пяти человек высотой и до ста в общей сложности. Когда был построен двуглавый орёл, аплодисменты раздались такой невиданной силы, что Николай Львович с удовлетворением отметил: англичане зря стараются, и революция России не грозит.

Дальше шёл парад атлетов. Расположенный здесь же, на стадионе, оркестр поочерёдно играл делегатам от каждой страны выбранную ими мелодию для прохода. Греки шли под новомодный «Олимпийский гимн» Спиридона Самараса, германцы под старый добрый марш «Слава Пруссии». Подданные бесконечного Франца-Иосифа двигались, приплясывая, под марш Радецкого двумя отдельными группами. Исполнение «Марсельезы» на территории Российской империи как раз вчера было запрещено высочайшим указом Его Величества – так что союзничкам французам пришлось шествовать под Оффебахов канкан. Триумфальный марш Джузеппе Верди был, по мнению Николая Львовича, слишком напыщенным для такой провинциальной нации как итальянцы; впрочем, они сами, очевидно, так не думали. А вот выбор Северной Америки ему весьма понравился — заокеанские жители вышли под какую-то простенькую весёленькую мелодию вроде тех, каковыми сопровождают в электротеатрах показы фильмов; это было как бы указание то, что обитатели края земли ни на что особенное не претендуют. Когда заиграло «Правь, Британия, морями!», министр просто отвернулся. Впрочем, очень скоро, услыхав русский марш «Привет музыкантам», поспешил повернуться обратно. На своих спорт`c-мэнов было любо-дорого посмотреть: почти все в военной форме, офицеры; кто гражданские – чисто отмытые, в лучших костюмах; дамы, как букет белых колокольчиков, в одинаковых платьях и шляпках. Приближаясь сперва к ложе, где была Государыня, а затем к воротам, где Государь, атлеты становились во фронт, отдавали честь или снимали цилиндры, а дамы, естественно, делали реверансы.

– Это, право, очень-очень мило, – шепнула министру Елизавета Фёдоровна. – Превосходная организация!
– Стараемся, Ваше Величество! Бог даст, закрытие так же пройдёт, без сучка и задоринки!
– Серж нынче утром был очень расстроен тем, что мисс Моррисон не смогла здесь сейчас присутствовать. Она приболела. А ведь он звал её в эту ложу!
– Мисс Моррисон? – Переспросил Николай Львович. Беседовать под звуки оркестра было не очень удобно. – Ах, да! Она ведь для Государя вроде матери, не так ли?
– Так и есть. Ему очень хотелось показать ей этот чудесный праздник – и вот не вышло! Остаётся лишь надеяться, что Бетти станет лучше, и она хоть побывает на закрытии!.. Вы ведь тогда будете здесь, с нами?
– Я, Ваше Величество, планирую наблюдать его с ворот.
– Ах, вот как? Стало быть, вы с Государем поменяетесь местами?
– Получается.
– Так что ж, это хорошая идея! Думаю, вид сверху будет даже интереснее. И запуск аппарата тяжелее воздуха наверняка будет зрелищнее наблюдать как раз на воротах! Знаете, а может, вам позвать туда к себе мисс Моррисон? Она несколько смущается привлекать к себе внимание нахождением в компании Императора. А там и видно лучше, и на Бетти на саму смотреть не будут... Пригласите?
– Приглашу с огромным удовольствием, Ваше Величество, – ответил, как полагается хорошему подданному Николай Львович.
Ну вот, он заплатил уже за двадцать девиц, а теперь придётся ещё и за двадцать первую, престарелую!.. Нет, скорей бы всё это закончилось, в самом-то деле!
Глава 33, В которой Миша встречает сначала индуса на Невском, а потом привидение на кладбище
Оставаться с грузинами до бесконечности было бы невозможно – да и совестно, в конце концов. Эти добрые ребята и без того много сделали для Михаила. Но когда открылась Выставка, пришлось проститься: гостиницу команда из Тифлиса покинула, а места в деревне аборигенов для Коржова предусмотрено не было, да и танцевать лезгинку каждые полчаса он бы не сумел.
Словом, пришлось возвратиться на улицу, к жизни скитальца.
Впрочем, второй раунд бродяжничества показался Мише уже не таким ужасным, как первый: то ли привычка уже выработалась, то ли с обстоятельствами в этот раз везло. Во-первых, погода стояла отличная, без дождей. Во-вторых, за иностранцами, наводнившими улицы столицы, было очень интересно наблюдать. Вокруг то и дело звучали таинственные языки, расхаживали необычно выглядящие и необычно одетые люди. Коржов самолично увидел на Невском индуса в чалме, китайца с длинной косичкой, а уж белых господ в иностранных мундирах – вообще без числа. Эти люди делали привычную улицу праздничной и волшебной, подобно тому, как конфеты и свечи делают таковою простую лесную ёлку. Кроме того, несколько раз Мише удалось получить копеечку за мелкие услуги иностранным господам: например, показать им, в какой стороне Голодай или поднести у вокзала тяжёлые чемоданы.

Имелась и третья причина к тому, что на улице стало полегче: Миша меньше боялся жандармов. Он больше не сталкивался ни с навязчивыми филёрами, ни с попытками себя арестовать, и, быть может, зря, но несколько расслабился. Вероятно, дело было в том, что вся полиция Петербурга теперь была брошена на охрану Выставки и Олимпиады: кажется, им стало просто не до бродячего недоцаря. Новости, которые Коржов читал в газетах, подбираемых на скамейках и у ларьков, подтверждали предположение — блюстителям порядка в Петербурге нынче было чем заняться: им то приходилось спасать пловцов, вывезенных на лодках за версту от берега, чтобы соревноваться, но не справившихся суровыми водами Финского залива; то ловить атлета, который нарочно или нет метнул диск в голову какому-то чиновнику на трибуне и тут же дал дёру; то успокаивать рабочих, осадивших на выставке Царь-Телеграф и пытавшихся связаться через эту установку с Государем. Ко всему прочему, по Петербургу расползалась массовая забастовка: стояла уже половина заводов и фабрик. От работников баржи, куда Коржов осмелился сунуться, чтобы погрузкой чуть-чуть заработать, он услыхал, что жандармы теперь ходят по казармам и по рабочим кварталам, ища тех, кто сильнее других не работает, и англичан почему-то. Про англичан он не понял, да, впрочем, и ладно.

Суть была в том, что голубым мундирам пришлось хотя бы на время оставить его в покое...
И Миша решился!
Решился пойти к Александровской больнице и поискать на кладбище для одиноких умерших при ней могилу матери.
***
Раньше Мише приходилось слушать страшные истории про людей, отправившихся в место обретения последнего покоя ночью. Тогда он не мог понять – кому и зачем это может понадобиться? Однако чего только ни бывает в жизни! Теперь он сам шагал по кладбищу в темноте, уповая, что в это-то время его тут полиция точно не ждёт. Одинокий, продрогший, бродящий со свечкой от одного надгробия к другому в поисках знакомого имени, он сам напоминал себе какого-то придурковатого декадента. Мертвецов бояться было нечего, а вот встретиться с живыми, пусть даже с гражданскими, ему сильно не хотелось бы: наверняка примут за полоумного, будет стыдно.
Впрочем, когда хлипкий свет свечи выхватил слово «Коржова» на очередном надгробии, все эти суетные мысли вылетели из Мишиной головы. Он упал на могилу матери и зарыдал. Потом стал просить прощения: за то что не сводил в электротеатр, редко был в больнице, позволил обмануть себя убийцам, не сумел похоронить по-человечески... В голове всплывали всё новые и новые пункты, по которым он был виновен. Миша добавлял их к своей «исповеди», каялся так горячо, как умел, только легче не становилось. Наконец, он, выбившись из сил, упал на ещё мягкий холм и подумал, что хорошо бы его жизнь закончилась бы здесь же и сейчас же.
В этот момент за спиной отчётливо послышались шаги и шуршание дамских юбок.
«Воскресла!» – была первая мысль.
«На тот свет с собой утащит!» – сразу же последовала за ней вторая.
Миша тут же понял, что не хочет на тот свет и вскочил на ноги, готовый к обороне. Но перед ним оказалась отнюдь не покойница, а вполне живая женщина с гладкой кожей и в чистой одежде. Утерев слёзы и присмотревшись, Миша узнал Веру Николаевну – ту нигилистку, которую он имел глупость спасти от пожара.
– Михаил! – Выдохнула она. – Наконец-то я нашла вас! Вы и представить не можете, как мы корили себя за то, что всё-таки отпустили вас с Егором в Петербург! Думали уже, что навсегда потеряли вас из виду! Слава Богу, мне пришло на ум, что вы можете прийти на могилу матери...
Она сделала шаг к Михаилу, раскрыв объятия, но тот поспешил отступить назад и скрестить руки на груди.
– Да прекратите! Вам ли Бога поминать?! И как не стыдно?!
– О чём вы? – Удивилась нигилистка.
– Ах, «о чём»?! Снова будете лгать мне?! Здесь, стоя на могиле моей бедной мамы, снова будете говорить мне на голубом глазу, будто ваша организация непричастна к её убийству? Это кто-то другой, да? Не вы, да?!
На лице Веры Николаевны изобразился ужас:
– Михаил... Вы нужны нам... Нет, вы нужны России! Прошу вас, давайте оставим этот вопрос до лучших времён! Народу представился один на тысячу лет шанс заиметь царя-рабочего, а вы...
– А я у вас ещё раз спрашиваю: вы ведь мать убили?! Это вы, энемы! И вы врали мне!!!
– Это всё было ради народа... страны! Михаил! Ведь вы бы не стали иметь с нами дела, если бы мы признались!
– Конечно, не стал бы! И дальше не буду! Полицию вызову!
– А как же народ, Михаил? А как же восьмичасовой рабочий день? Всё, о чём мы с вами говорили...
– Было ложью.
– О, нет! Ложь была только в том, к какой организации принадлежал человек, бросивший бомбу в Синюгина! Но неужели вы думаете, что мы могли предугадать, что рядом с ним окажется ваша мама?! О, если бы мы знали...
– Мне не важно, – ответил Коржов.
– Отомстите нам, если хотите! Отомстите всей организации, но позже! Рабочие ждут вас на царство! Чем они-то перед вами провинились? Всё, чего хотят энемы, – обеспечить народное благо! Используйте нашу помощь, чтоб это сделать, спасите народ русский от вечного угнетения! А уж дальше отомстите – хоть всем нам!
– Что ж это вы, Вера Николаевна, всем скопом отомстить-то предлагаете? – Послышался внезапно голос справа.
Михаил и нигилистка, застигнутые врасплох, разом повернулись и увидели выходящего из-за толстого дерева Венедикта. Он был вновь в полосатом костюме, с руками в карманах.
– Что ж вы главного не скажете-то, а? – Продолжил он. – Что вы убили? Это ж вы самолично в том поезде были и бросили свёрток!
Глаза Веры Николаевны вспыхнули гневом и ужасом.
– Это правда? – Обратился к ней Коржов. – Это вы? Лично?
– Правда-правда, – поспешил ответить Венедикт вместо её.
– В газетах писали, Егор, – с сомнением произнёс Михаил.
– Он решил взять на себя вину, раз уж всё равно попался в лапы полиции. Но на Клейнмихельской его не было. Была Вера Николаевна со свёртком и ещё несколько человек из организации, которые закрывали её от глаз других пассажиров, создавали толкучку, выдумывали мнимых подозреваемых и, в общем, сбивали всех с толку. Ловкий план, а?
– Венедикт!
– Что, Вера Николаевна? Боитесь, что не все ваши заслуги перечислю? Да не бойтесь! Вы ж не только исполнитель, вы и автор плана этого! Покушение-из-поезда! Красиво, да? Метальщик сохраняется живым и на свободе, вот только на работниц, которые в это время идут на станцию, всем почему-то оказалось плевать!
– Венедикт... – Растерянно и возмущённо произнесла Вера Николаевна. – Зачем вы здесь вообще? И что вы делаете?! Зачем всё это?.. Неужто вы нам мстите за то, что мы с вами пока не связались?..
Глава 34, В которой Венедикт сначала делает, а потом думает.
Мстить за то, что организация не связалась с ним, Венедикт, разумеется, не собирался: теперь у него были дела и поинтереснее. На кладбище они с Федей попеременно дежурили уже третьи сутки, с подачи Нечаева рассудив, что могила матери это место, у которого Коржов просто обязан появиться в скором времени. И ведь надо же было такому случиться, что именно в ночь, когда зверь наконец-то явился в свою ловушку, здесь же оказалась ещё Вера Николаевна. Всё остальное было чистейшей импровизацией Венедикта: ему тут же пришло в голову, как блестяще можно использовать бывшую однопартийку, чтобы добиться искомого — расположить Михаила.
– Месть? – Ответил Венедикт. – Нет! Это мелко! Я таким не увлекаюсь! Я, Вера Николаевна, просто решил заняться восстановлением справедливости! Для того и выслеживал вас тут, на кладбище!
– Справедливости?!.. О чём вы?..
– А о том, к примеру, что всё время, что я был в организации, меня принуждали заниматься всякой дрянью: часами изображать из себя лоточника, выслеживая выезд Синюгина, хранить динамит, возить через финляндскую границу серную кислоту, разбрасывать всякие сомнительные листовки... однажды вы даже чуть не заставили меня стать убийцей! И за это — ни малейшей благодарности! Вы уверяли, что я творю всё это якобы ради народа! Но недавно я узнал, что вы действовали по заказу англичан!
Эта чушь про англичан слетела с языка у Венедикта как-то сама собой, по порыве сочинительства, неожиданно даже для него самого. Кажется, она была вдохновлена распространяемыми сейчас повсеместно слухами, что якобы именно подданные Виктории стоят за забастовками в столице.
– Венедикт! Вы бредите?!
Он сам точно так же ответил бы любому, от кого услыхал бы подобную ахинею. Но, судя по лицу Михаила, ему эти речи пришлись по душе. Да-да, это, кажется было как раз в его духе! Припомнив их беседу во время полёта на велодирижабле, Венедикт ещё добавил:
– И поляков!
– Это вас кто-то нанял, безумец! – Воскликнула Вера. – Вы, что, поступили в Охранку?! На кой чёрт вам очернять меня, когда вы сами выступали запасным метальщиком в деле Синюгина?!
– Но я не бросил! – С гордостью ответил Венедикт. – Я не бросил, хоть и был одурманен вашими кружковскими россказнями! Увидев, как работницы идут через дорогу, я сразу же понял, что ни за что не совершу взрыва там, где они могут пострадать! А когда вы из поезда совершили ваше ужасное злодеяние, и когда моему взору открылась картина пожарища со стенающими вокруг него ни в чём не повинными ранеными пролетарками, до меня дошло, что ваша компания это бандиты, шпионы! Никакие не защитники народа! Абсолютно!
– Да вы провокатор! Предатель! Всё с вами понятно...
С этими словами Вера Николаевна вытащила браунинг и направила его на Венедикта.
Он знал это оружие. Много раз видал его вблизи. Был в курсе, что Вера Николаевна никогда с ним не расстаётся. Уповал на него, когда к ним без приглашения заявилась соседка, которая чуть было не увидела то, что не предназначено для её глаз. Был свидетелем того, как три жандарма друг за дружкой отправились в ад, к Бенкендорфу, благодаря этому оружию.
И теперь оно смотрело на него.
Среди тёмного кладбища, среди места, где лежат останки тех, кто ушёл в небытие, на него смотрело дуло, похожее на туннель, ведущий туда же – в тёмную, пустую бесконечность.
– Вы всегда знали, что мы не церемонимся с предателями. Странно, что вы не восприняли это всерьёз, – произнесла Вера Николаевна, целясь Венедикту прямо в голову.
Он услышал, как она взводит курок.
Неужели и правда сейчас всё закончится?! Глупо, бессмысленно, бестолково...
Нет-нет! Он не дастся!
– Вы продажная тварь... Вы отброс человечества...
– Нет! Это вы!
С этими словами Венедикт выхватил из одного из карманов маленький револьвер и, не думая, выстрелил в Веру. Несколько минут назад, затевая скандал с ней, он ещё не предполагал такого финала. Но сейчас вся история, вся драматургия момента логически вывела именно к этому. Вознамерившись изобразить из себя мстителя за мать Михаила в его глазах, Венедикт был принуждён идти в этом до самого конца... Да и жить он хотел, как ни стыдно признаться.
Вера Николаевна упала на чью-то могилу, издала несколько хлюпающих вздохов, потом затихла. В темноте было не понятно, жива она ещё или нет, и проверять это Венедикту не захотелось.
– Но ведь это ваша тётя, – сказал Миша.
– Она и в этом тоже мне врала, – ответил ему Венедикт машинально. – И потом, ведь вы же видели: она напала первая.
– Ясно... – Ошарашенный Коржов вздохнул, бросил один испуганный взгляд в ту сторону, где лежала Вера Николаевна, а потом спросил: – Так вы, что, правда были с бомбой там, на месте взрыва?
– Да.
Картина того, что увидел там Венедикт, до сих пор стояла у него перед глазами, словно писаная Репиным. Даже мелкие детали в память врезались: обгоревший труп Синюгина в остатках от коляски, выражения лиц мечущихся туда-сюда казаков, девушка в жакетке, отброшенная взрывом к ближайшей витрине и сразу же засыпанная её стеклом, раненая старуха в серой шали поверх блузы в голубой горошек...
– Я был там и сразу понял, что энэмы творят зло. Кажется, я даже оказал первую помощь одной женщине. Помню, на ней была блуза в горошек и шаль, вроде серая... Она просто оказалась ближе всех ко мне. Конечно, раненых там было множество, я хотел бы помочь им всем, хотя бы перевязать, но...
– Шаль и блуза в горошек?! – Заглотил наживку Коржов.
– Да. Вроде, голубой. И юбка чёрная. – Шёпотом произнёс Венедикт.
От подступающего осознания того, что только что наделал, его начало потряхивать. В горле пересохло: говори он в полный голос, тот наверняка бы сорвался и выдал волнение.
– Ладно. Пойдёмте отсюда.
Они вместе, как будто бы так и пришли, направились к выходу с кладбища. По дороге Миша несколько раз переспросил, что произошло, в чём был смысл всех действий Венедикта, виденных им ранее и сейчас, и правда ли энэмы действуют по указке иностранцев и инородцев. Венедикт бесцветным голосом развил ему теорию о том, что организация ранее принуждала его творить непотребства, в том числе, преследовать и выселить из дома его, Мишу, – и всё ради Виктории.
– Я уже после взрыва на Клейнмихельской стал крепко сомневаться в них, а теперь вот нашёл неопровержимые доказательства того, что энэмы — иностранные шпионы. Достать бы их всех! Но пока только эта попалась. Это ей за всё! И за ваши беды, и за мать вашу...
– Да, – отозвался Коржов. – За неё... Это всё так безумно, так странно... Но, знаете, мне будто стало легче.
Венедикт кивнул молча. Он только что испытал нечто наподобие творческого подъёма и болтал с упоением древнего барда; теперь же силы его покинули. Перед глазами стоял образ Веры Николаевны. Зачем он?.. Как он мог?.. Она ведь была одним из лучших соратников, ветераном движения, примером для молодёжи... Столько дней они прожили под одной крышей...
Интересно, а она его убила бы? Поднялась бы рука у неё? Или просто так хотела попугать? Теперь не выяснишь...
Ладно, главное – он победил. Главное – он жив и Михаил под его властью. Да, пришлось пожертвовать соратницей, но чем только энэмам не приходилось жертвовать в этой жизни... Это всё ради...
Ради чего? Ради плана Нечаева?
Лучше не думать...
– Куда вам? – спросил Венедикт, когда кладбище осталось за их спиной.
Он намеревался получить ответ и как бы удивлённо сказать, что ему в ту же сторону.
Но Коржов сказал:
– Куда угодно. Я бродяга.
– Тогда пойдёмте ко мне. Хоть переночуете под крышей. Я тут меблированные комнаты снимаю недалеко.
– Я буду вам слишком обязан, – сказал Михаил.
– А, пустое! Вы вовсе меня не стесните.
Коржов согласился.
В этот раз не пришлось ни выживать его из комнаты, ни заставлять воровать дирижабль. Он шёл сам. Правда, не зная ещё, чем закончится эта дорога...
До комнат шли молча.
Зато в голове Венедикта мысли бились, словно клубы пара в перегретом котле.
Вера Николаевна... Учитель и товарищ... Как он мог?!
... А она как могла пообещать с ним связаться и просто бросить?
… Как могла хвататься за оружие, не выяснив предварительно, что и как?
Сама виновата! Революционер не должен игнорировать товарищей! Он должен во всём хорошо разобраться, а после уж действовать!
... Жива ли она всё ещё? Страшно представить, что лежит сейчас на кладбище, ещё дышит и не может позвать на помощь... А если умерла — ещё страшнее!
Чёрт, зачем он?..
... Ради дела. Роза верно говорила: им, революционерам, не стоит рассчитывать на долгую жизнь.
Если план удастся, и публичная ликвидация Михаила действительно даст тот эффект, о котором говорил Нечаев, гибель Веры Николаевны получится не напрасной. Выйдет, что она умерла ради революции — как и готов был любой из них. Жаль, конечно, что она не доживёт до свержения самодержавия... Но если увидит с небес, как толпа пролетариев штурмом берёт Зимний дворец и провозглашает республику в результате действий Венедикта, то наверняка там улыбнётся и простит его...
Глава 35, В которой Варя разоблачает сначала английские планы, а затем и французское надувательство.
– А я говорила, что вся эта задумка с телеграфом — чушь полнейшая! – Заявила Варя авторитетно.
– Кто же знал? Проверить надо было, – рассудила Дуня-мать.
– Надо было хоть попробовать, – поддержала её Дуня-коммунистка.
– Нет, девчата. Можно было догадаться и без драки с полицейскими. Царь-колокол — не звонит, царь-пушка — не стреляет. Чего же вы ждали от царь-телеграфа?! – Сказала Варвара.
Вместе с подружками она уже в третий раз гуляла по Выставке в надежде увидеть явление истинного царя. Ну, то есть, в самого царя она поначалу не шибко верила, но раз уж все решили его ждать, то что уж делать... Видно был в этом всё же резон. Тем более, заняться всё равно было особенно нечем: фабрика стояла, как и большинство заводов в городе. У Дуни справа в руках был её малахольный ребёнок. У Дуни слева — карта Голодая.
– Вроде, тут ещё не были, – объявила коммунистка, ткнув пальцем в точку на карте под названием «сюрпризъ для иностранцевъ».
– Ой, – сказала Дуня-мать, – да я была там! Может, для иностранцев там и сюрприз, а как по мне, так просто чистое надувательство!
– А что там такое-то? – Полюбопытствовала Варвара.
– Да ничего интересного! Клетка, а в ней старый барин сидит! Ряженый он только под крестьянина, да только всё едино, видно же, что барин. У него земля там есть, да плуг игрушечный. Может, если много иностранцев соберётся, то он пашет, я не видела. При мне он всё только ругался из клетки, да выставку хаял.
– Неудивительно, что иностранцам нравится подобная глупость, – заметила Варя. – Они ж все ненормальные!
– Точно, – поддержала коммунистка. – Особенно англичане. Слышали, девчата: они нынче по казармам взялись шариться?
– Зачем им?
– Бес их знает! Говорят ведь: ненормальные! Говорят, их уже до десятка по спальным залам да по рабочим кварталам переловили! Может, они с Голодаем наши казармы перепутали, остолопы? Или у них план какой? Кто знает...
– Может, это они плакатов-то понавешали про то, что забастовщиков Бог в рай не пропускает? – Спросила Варя. – Видели, девчата?
– Как не видеть! – Отвечала коммунистка. – Может, и они, черти. С них станется! Всё бы им русский народ угнетать, негодяям... Ну так что, куда теперь идём-то?

Все русские павильоны девчата, как оказалось, уже рассмотрели. На Варю, честно говоря, мало что там произвело впечатление. В основном, везде стояли непонятные машины да какие-то нелепости. Ну какой смысл смотреть, например, на скачущих словно козлы непристойно разряженных бар в павильоне балета? А похожие на детские рисунки про древних царей и манерных французских господ в павильоне какого-то «Мира искусства» кому интересны? Ну вот, конечно, самарские трёхколёски, да автопеды валдайские были неплохи, но было понятно, что приобрести машину Варе не по карману, и накопить на неё за всю жизнь невозможно; поэтому смотреть на это тоже не хотелось. Каслинское литьё было бесполезным. Кавказские минеральные воды — не зрелищными. Бухарские ковры — неподходящими для казармы. В Павильоне Нефти было просто очень скучно: там стояли колбы с чёрной жижей, керосиновые лампы и большая схема нефтеперегонного аппарата, очевидно не предназначавшаяся для простых мозгов фабричной девушки. С этим павильоном сообщалась деревня кавказских аборигенов. Эти дикари в странных одеждах, с кинжалами в зубах и дикими плясками не вызывали в Варе ничего, кроме желания поскорее ретироваться. Хорошо хоть, от цивилизованных людей аборигенов отделяло ограждение из ещё одной новомодной штуки — колючей проволоки.
Вот разве что разноцветные ситцы из Павильона Хлопка произвели впечатление на Варю. На вологодское масло было тоже, в принципе, приятно посмотреть — жалко, попробовать не давали. Ну а единственные павильоном, который понравился Варваре целиком, был Хлебный: там приятно пахло; всякие филипповские булки, караваи, калачи с ручками, бублики, баранки и папушники не только демонстрировали, но позволяли откусывать; снаружи же павильон был украшен загадочный фразой «Не доедим, но вывезем!» – она была Варе не очень понятна, зато здорово светилась электричеством.
В общем, в этот раз работницы отправились в иностранную часть выставки — посмотреть, чем смогут удивить эти хвалёные иностранцы, которые так любят богатые баре.
Не сказать, чтобы там было что-то эдакое.

Видели девчата и брюссельские кружева, и венские мозаики, и германские дирижабли в миниатюре, и схемы английских дредноутов, и заокеанские хлопкосеятельные, хлопкособирательные и хлопкоочистительные машины; глядели на французские пирожные и нюхали австрийские булочки; тряслись в муляже пулмановского вагона, смотрели фотографии восточного экспресса и фильм про постройку багдадской железной дороги; оценили пулемёты и торпеды, обещавшие предохранить грядущий век от всяких войн... И всё же не сказать, чтоб это было впечатляюще. Более того, в некоторых иностранных павильонах вообще демонстрировалось сомнительное непотребство. Например, в павильоне Франции какая-то баба показывала святящиеся порошки в пробирках да камни, якобы засвечивающие фотографические пластинки, образующие подобие ожогов на свиной туше и испускающие некие незримые «урановые» лучи. То, что это надувательство, козе было понятно. У немцев стояло приспособление, просвечивающее человека насквозь, позволяющее видеть его косточки и деньги по карманам: кому как, а лично Варе это было отвратительно. Хуже этого было только «изобретение» какого-то доктора из Австро-Венгрии: к голове помещавшегося на кушетке человека присоединяли шланг таинственной паровой машины, сообщавшейся с кинопроектором, и тот транслировал на экран картинки, якобы составляющие самые потаённые мысли лежащей особы. Мысли на картинках были все одна другой похабней: аж плеваться захотелось! На глазах у Вари один барин вскочил с кушетки и принялся уверять, что он вовсе ни о чём таком не думает, на что изобретатель хладнокровно сообщил, что разумеется, ведь его машина транслирует неведомое разуму, «бессознательное».
Самым интересным из иностранных был павильон США. Там светились, щёлкали, дрожали, испускали молнии различные электрические машины. К тому же работницам повезло попасть туда как раз в момент необычного представления: два изобретателя сражались между собой на шипящих электрических мечах. Имён их Варя не запомнила: ухватила лишь из речи комментатора, что один изобретатель был постоянный, а второй переменчивый. Что и говорить, постоянные мужчины ей нравились больше, так что болеть она стала за первого. Он проиграл. Оттого и впечатление от американского павильона тоже оказалось испорчено.
В целом вся выставка оставляла у работниц ощущение какой-то бестолковости, бессмысленности. В ней чего-то не хватало. Но чего?
Очевидно, царя Михаила!
В этот день Варя и Дуни его так и не увидели. Но покинули мероприятие в ещё большей, чем ранее, уверенности, что царь просто обязан там появиться.
Глава 36, В которой Венедикт выступает гостеприимным хозяином, но плохим посыльным.
Все те дни, что Миша жил у Венедикта, у того не шла из головы Вера Николаевна. И, хотя Нечаев, узнав о случившемся на кладбище и том, что благодаря этому Коржова удалось заманить к себе, остался весьма доволен, мрачные мысли и чувство вины не оставляли души Венедикта.
Впрочем это, как ни цинично звучит, но тоже, кажется, помогло укрепить доверие между ним и Мишей. Видя, в каком мрачном настроении пребывает приютивший его человек, Коржов несколько раз порывался узнать, что случилось, и успокаивать. Венедикт ответил, что на днях будет годовщина смерти его матери. Коржов хотел узнать, что с ней случилось. Пришлось выдумать падение на голову бедной женщине дирижабля жандармского корпуса: якобы именно после этого он, Венедикт, и возненавидел Охранное отделение, и решил стать революционером — до тех пор, пока не выяснил, что падение летательного устройства было вызвано выстрелом с крыши какого-то нигилиста. Мишу эта история впечатлила.
Ещё, чтобы вызвать доверие, Венедикт честно признался ему в том, что подбросил Скороходовой записку, приведшую к выселению из квартиры. И этот план тоже удался: Коржов, естественно, и так догадывался, чьих это рук дело, но нарочитая искренность вызвала в нём дополнительную симпатию. Кроме того, Венедикт весь рассыпался в извинениях и сказал, что за стол и за кров Миша не должен ему не копейки, ведь всё это компенсация за прошлые делишки.
Не обошлось и без разговоров о подлых намерениях нигилистов, о стоящих за ними иноплеменных злодеях и необходимости монархии в России. Коржов соглашался со всем. Он считал, что Сергей Первый — царь законный, потому что он поставлен самим Господом. В то же время и собственное высокое происхождение он был склонен считать настоящим, так что не протестовал и против мысли, что стать самому императором было бы правильней. Однако предпринимать какие-либо усилия в этом направлении Михаил был не намерен.
– Нынче весь город бастует, вы знаете? – прощупывал почву Венедикт. – В городе ходят упорные слухи о том, что царь Михаил будет явлен народу на нынешней выставки.
– Ой, да глупости! – Махнул рукой Коржов. – На что мне это?
– Ну а если вам и вправду забраться там на какую-нибудь возвышенность и сообщить разгорячённым рабочим, что вы и есть — тот самый выживший царевич? Ведь они, пожалуй, могут и устроить что-нибудь этакое! Могут правда ведь на трон вас возвести!
– Не будет проку. Меня просто арестуют, – отвечал законный царь.
Вообще, он, кажется, придерживался той позиции, что возьмёт корону, лишь если она упадёт к нему в руки сама. Прикладывать же для этого какие-либо усилия Михаил отказывался категорически и связывал их с нигилизмом и гибелью матери. Ещё он изрядно боялся полиции: хотя и утверждал, что страшит она его уже не так сильно, как несколько дней назад, но всё время говорил о жандармах и о том, в каком случае они его могут схватить. На улицу носу Коржов не казал: то ли тоже из этого страха, то и потому что так устал скитаться под открытым небом, что теперь был очень рад сидеть под крышей. С одной стороны, это было удобно: Венедикту не приходилось беспокоиться, что его «гость» выйдет погулять и не вернётся. С другой же, Михаила всё же надо было выманить на выставку. День закрытия игр и показа той таинственной летающей штуковины приближался неуклонно. И за день до него предлог нашёлся.
– А вот не могли бы вы, милостивый государь, отнести эту записку к моей невесте? – Спросил как-то раз Венедикта Коржов. – Я вам адрес скажу. Сам сходил бы, да всё опасаюсь...
– Ну конечно же, мне это вовсе не сложно! – С готовностью отозвался тот. – Надо просто отдать? Или подождать, когда она напишет ответ, и принести его?
– Да писать-то Варя не мастачка, – сказал Миша. – Она читать читает кое-как... Но буквы выводит как курица лапой и путает.
– Может быть, мне тогда передать вам от неё устный ответ?
– Это, можно, пожалуй...
«Отлично!» – решил Венедикт.
Покинув комнаты под предлогом отнести записку он, конечно же, не пошёл ни в какие Симоновские казармы, а направился к Нечаеву, от которого получил подтверждение, что завтра всё в силе, Матильда с Перовской готовы, да только вот Федю недавно арестовали: он так много болтал о своих калошах, что его посчитали английским агентом. Впрочем, было решено, что и втроём они справятся благополучно. Испытание летательного аппарата тяжелее воздуха было назначено завтра на полдень — это время максимального стечения народа и сочли самым подходящим для громкого убийства. Четыре билета на колесо обозрения уже имелись.
Придя домой, Венедикт сказал Мише, что Варя велела передать ему, что скучает и хочет увидеть завтра на выставке у колеса в одиннадцать-тридцать.
– Уж давайте сходим, в самом деле! – Добавил он как бы от себя. – Там такое чудо техники обещают, что жалко будет его не увидеть-то вовсе! Небось, не арестуют вас! Жандармы нынче заняты.
– Ну ладно, – ответил Коржов. – Я-то тоже соскучился. Сходим, посмотрим...
С этого момента его судьба была окончательно решена.
«Надо во что бы то ни стало довести дело до конца, чтобы гибель Веры Николаевны не осталась напрасной», – повторял себе всё время Венедикт.
Глава 37, В которой Николай Львович замечает, что что-то не то.
В день закрытия Игр и демонстрации Русского Чуда, как называли в газетах летательный аппарат тяжелее воздуха изобретателя-самоучки, Софья с Зиночкой нарядились в свои костюмы для велосипедирования и вышли из дому аж в восемь утра. Хотя их соревнование должно было стартовать лишь в одиннадцать, дамы сказали, что перед ним надо будет размяться.
– Поспали бы лучше подольше, – заметил министр.
– Нет, папенька, сегодня не до сна! – Сказала Зиночка. – Нынче нам дело великое предстоит. Правда, тётушка?
– Правда, – ответила Софья. – Мы в долгу перед Россией и сегодня отдадим его.
Николай Львович хотел было сказать, что не стоит так уж серьёзно относиться к какими-то языческим соревнованиям — это всего лишь Олимпиада, а не Отечественная война с Наполеоном, – но промолчал. Подумалось, что даже хорошо будет позавтракать спокойно, в одиночестве. Пожалуй, и дела какие-нибудь поделать удастся до того, как ехать на мероприятие.
Он велел новому мальчику сбегать на почту и ещё раз спросить насчёт писем Одинокому Романтику пятнадцатому. Письмо имелось. Двадцать минут спустя, за завтраком, оно лежало перед Николаем Львовичем раскрытое. Нечаев в письме уверял, что до ликвидации Михаила осталось совсем немного, и обставлена она будет в лучшем виде, так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Что ж, посмотрим», – подумал министр. Следом он прочёл, что по заданию Нечаева один из его группы ликвидировал известную полиции Веру Фигнер — старую народоволку и неисправимую террористку, которая наверняка была замешана в убийстве Синюгина. За эту операцию Нечаев требовал вознаграждения — двести рублей. Николай Львович вообще-то не обещал ему ничего такого, да и заказа на Фигнер отнюдь не давал; но если написанное было правдой, и план министра, нацеленный на то, чтобы революционная гидра начала пожирать самое себя, демонстрировал эффективность, то тогда двухсот рублей не жалко было. Николай Львович телефонировал в министерство и велел выяснить, не находили ли на кладбище при Александровской больнице тела женщины за сорок.
Потом он собрался, оделся, побрызгался о-де-колоном, набриллиантил усы и поехал к мисс Мориссон. Возиться с этой старухой особого желания у него, конечно же, не было, но воля Государыни есть воля Государыни. Пару дней назад Сергей Александрович дал знать министру, что тоже одобряет эту идею: пусть, мол, няня насладится «русским чудом» с вырхней точки. Здоровье англичанки уже поправилось. Николая Львовича она встретила тщательно причёсанной по моде 80-х годов и, видимо, в самом роскошном из своих древних платьев с турнюрами.
Мисс Моррисон немного удивилась тому, что на министерском броневике намалёвано, что в нём якобы перевозят оспенных больных, а потом всю дорогу делилась с министром скучнейшими историями о болезнях своих родственников сорока или пятидесятилетней даже давности. «Ладно, ничего, – мысленно утешал себя Николай Львович, галантно кивая на каждую фразу. – Зато в этот раз бомбу точно не кинут. С одной стороны мальчик, с другой — бабушка. А меня даже снаружи даже и не видно».
Прибыв на место, он велел экипажу и мальчику ждать поодаль, а сам с мисс Моррисон быстро поднялся на ворота.
Там, в маленьком зрительном зале для самых богатых гостей, уже должны были сидеть и болтать глупости про шляпки и наряды двадцать Зининых подруг...
... Но вместо них Николай Львович увидал толпу субъектов интеллигентской и иной сомнительной наружности, большинство из которых являлись отнюдь не девицами!
Впрочем, он тут же забыл о них, встретившись глазами с самым страшным, самым низким человеком всей империи, которого он взял себе в союзники.
Борода Нечаева была пострижена по последней моде; сам он носил теперь новый костюм с узким галстуком и обтянутый шёлком цилиндр. Но не узнать этого ядовитого взгляда, этой подлой ухмылки было невозможно, под каким бы убором они ни скрывались!
– Откуда вы тут?! – Процедил Николай Львович не в полный голос, но слишком громко для того, чтобы это могло называться шёпотом.
– А вы? – Спросил Нечаев.
Кажется, в его лице тоже читалось удивление.
– Извольте отвечать! – Сказал министр.
– Вы, милостивый государь, так ко мне обращаетесь, словно билеты на эти места не имелись в свободной продаже и словно не всякий имел их возможность купить! Можно подумать, вы приобрели все эти билеты и теперь распоряжаетесь местами!
Что-то внутри Николая Львовича удержало его о того, чтоб сказать, что оно так и было. Он только спросил:
– У вас, стало быть, есть средства на покупку таких мест?
– Нам купил их меценат, – сказал Нечаев. – Один добрый и богатый человек из нашей партии... Что ж вы? Садитесь?
– Это всё абсурд какой-то, – пробормотал Николай Львович, прекрасно помнивший, сколько денег отвалил за эти билеты и как отдал их Зиночке для распределения между подружками.
Однако для скандала место и время были не подходящими совершенно: да и министр просто-напросто не понимал, что ему делать, если не молчать. Пытаться выгнать Нечаева и его компашку? Звать полицию, чтоб их арестовали? И всё это — в центре внимания, посреди Всемирной выставки, в окружении множества иностранных гостей, только и ждущих, о каких бы непотребствах написать в своих газетах? Ну уж нет! К тому же, будь Нечаев схвачен здесь, сейчас, он непременно в отместку сказал бы всем, кто его выпустил...
Встретившись взглядом с недоумевающей мисс Моррисон, Николай Львович сжал зубы и нарочито учтиво сказал:
– Не обращайте внимания, сударыня. Тут у нас небольшая политическая дискуссия... Однако мы не будем утруждать уши дамы выслушиванием наших скучных споров, верно ведь, господа?
С этими словами он прошёл на своё место и уселся. Англичанка разместилась по левую руку. Справа же то ли специально, то ли в силу насмешки судьбы оказался Нечаев.
– Надеюсь, что вы будете вести себя пристойно в течение всего мероприятия, Сергей Геннадьевич, – фыркнул министр.
– Когда это я вёл себя непристойно, Андрей Андреевич? – отозвался террорист и ухмыльнулся.
– Нечаев, почему вы называете его Андреем Андреевичем? – Неожиданно раздался сзади голос одного из его свиты. – Это же министр внутренних дел! Николай Львович Перовский!
– Почему мы не убьём его? – Раздался другой голос.
– И откуда вообще вы знакомы? – Добавился третий.
Глава 38, В которой Миша замечает, что что-то не то.
Отношение Миши к Венедикту несколько раз в день менялось на противоположное. В принципе, ничего плохого ему этот тип не сделал — ну, если не считать подстроенного выселения от Скороходовой, за которое он сто раз извинился. Он даже, как случайно оказалось, пытался оказать помощь Ольге Саввишне, когда её ранило; и это не говоря о прямом отмщении прямой убийце. Были и другие детали в поведении Венедикта, вызывавшие симпатии к нему; в конце концов, он дал сейчас Коржову кров и стол. Общались они немного, но когда беседовали, то находили между собою немало общего: оба любили газетные происшествия, оба считали упадническим современное искусство, оба уже потеряли обоих родителей. Даже внешностью они были похожи и могли сойти за братьев: близкий возраст, близкий рост, русые волосы, одинаково постриженные и расчёсанные на косой пробор... И всё же глубоко внутри у Миши копошился червь сомнения. Хоть Венедикт и сказал, что преследовал Веру Николаевну, а та, стало быть, выслеживала Мишу, слишком странно они встретились! Уж как-то больно складно всё совпало! Да и зачем этому удивительному субъекту понадобилось теперь завязывать дружбу с Коржовым и селить его у себя дома, было тоже полностью не ясно. Он, конечно, говорил, что делает это, чтобы загладить вину за прошлые свои «шалости», но... Мишино чутьё время от времени посылало ему подозрительные сигналы.
Впрочем, спать в кровати и есть каждый день горячую еду Мише хотелось, а куда ещё податься, он не знал. Вот и жил пока у этого сомнительного «друга» в размышлении, что делать. О том, что с Варей надо всё-таки повидаться, и бегать бесконечно от полиции нельзя, Коржов думал всё чаще и чаще, так что пойти на Выставку в день испытания «русского чуда» не отказался. Надо же было, в конце концов, хоть одним глазком посмотреть на результат этой многомесячной стройки в действии!
Своей бывшей работы он буквально не узнал. В смысле сооружений Голодай не изменился со времён последнего коржовского визита, но атмосфера царила теперь тут совершенно другая. В галерее машин громыхали стальные гиганты; оркестр без устали играл вальсы и польки; по силе издаваемого шума с ними соревновались продавцы баранок, пирожков, конфет на палочках, заваренного чаю, папирос и прочей мелочи; весело кричали зазывалы в павильоны; дико кричали туземцы в своих поселениях; гневно кричал граф Толстой; не по-русски кричали потерявшие друг друга иностранцы... А потеряться на Выставке было нетрудно! Народу тут было столько, что перед каждым шагом приходилось раздвигать толпу руками — особенно ближе к воротам и к колесу, которое беспрерывно теперь вращалось! Словом, всё происходящее заслуживало называться не иначе, как вавилонским столпотворением. Причём, Бог языки уже смешал, и люди друг друга не понимали, в том числе, русские русских. Но расходиться они почему-то никак не хотели.
Кое-как дотолкавшись до колеса, они с Венедиктом принялись изо всех сил вглядываться в толпу. На часах была, как договаривались, половина двенадцатого, но Вари видно не было.
– Кажется, мы выбрали не очень подходящее место для встречи, – пробормотал Михаил. – Тут друг друга найти мудрено...
– Да уж, не предусмотрели, – отозвался Венедикт.
В следующий миг они едва не потеряли и друг друга: раздался настойчивый звон колокольчиков, толпа как волна откатилась в сторону колеса, потащив за собой ничего не соображающих Мишу и Венедикта, а через секунду по едва расчистившейся мостовой проехал паромобиль, в кузове которого стояли два фотографических аппарата с фотографами при них, киношник, судорожно крутящий ручку своей волшебной коробки, а также человек, кричащий в рупор:
– А-ну, расступились!.. Пока что лидирует барышня Эндрюс из Англии, дочь инженера! Но её вот-вот вот настигнет офицерская жена мадам Дюмон!.
Следом за машиной мчался рой раскрасневшихся дамочек на разношёрстных велосипедах. «Батюшки, здесь же ещё и соревнования!» – вспомнил Коржов. Чокнутые бабы на колёсах пронеслись в мгновение ока; за последней из них, пухлой барыней в годах, которая ехала так медленно, что можно было успеть разглядеть все оборки на её юбках и все ленты на её чепчике, толпа вновь сомкнулась, словно море за народом Моисеевым.

– Здесь творится чёрт знает что! – Пожаловался Коржов, когда вновь обнаружил Венедикта в зоне досягаемости.
– А знаете, что я подумал? – Сказал Венедикт. – Что, если ваша невеста ждёт с той стороны колеса, а не с этой?
– Может быть, конечно, что и с той! Да как увидишь? За толпой-то ничего не разглядишь! Пойдём туда?
– Давайте-ка лучше разделимся. Вы будьте здесь и смотрите во все глаза. А я попытаюсь обойти вокруг колеса, поискать её с разных сторон.
Идея была здравая, и Миша согласился. Венедикт исчез в толпе. Теперь главное было дождаться его и не дать народной массе уволочь себя, чтобы не потерять друг друга из виду окончательно.
Ждал Коржов минут десять, а может быть, даже и больше. За это время мимо него прошла группа японцев в халатах, с мечами на поясах; группа воздухоплавателей в кожаных шлемах и смешных очках-консервах; группа практически голых атлетов (в одних только майках, трусах до колен и штиблетах!); группа фоторепортёров с деревянными штативами и чёрными покрывалами; наконец, группа негров, чьи шляпы сливались с их лицами. Но интереснее всего были три группы фабричных парней и девчат, от каждой из которых слышались слова «царь Михаил», «живой и явится», «дождёмся обязательно». У Коржова каждый раз замирало сердце, когда он слышал от рабочих нечто подобное. Пару раз хотелось крикнуть «Вот он я!». Но было ясно, что ни к чему, кроме насмешек и ненужного внимания полиции, это не приведёт. Он был там, где его ждали, но никак не мог дать знать, что он явился — словно призрак, незаметный для живых и не уверенный, кто он такой, и есть ли для него место на этом свете...
Наконец, вернулся Венедикт. Вари он не встретил, зато притащил с собою каких-то двух дам: лет пятидесяти и лет двадцати. Обе были в штанах вроде тех, что сейчас Миша видел на велосипедистках.
– Представляете, Коржов, какая встреча?! Это моя кузина Матильда и её мать Софья Львовна! Они намеревались встретить здесь подруг, но тоже растерялись в толпе. Зато встретились со мной!
– Очень приятно, – сказал Миша, глядя на слишком суровую физиономию старшей дамы и слишком расфуфыренную младшей. Он подумал, что у Венедикта как-то слишком много тётушек, неожиданно встречающихся в странных обстоятельствах, но промолчал.
– А не прокатиться ли нам вместе, господа, на колесе? – Спросила Софья. – Видите ли, у нас есть четыре билета. Мы хотели сделать это вместе с нашими подругами, но те куда-то запропастились. Между тем, осталось несколько минут до запуска «русского чуда». Хотелось бы увидеть его сверху, а не из гущи народу, раз уж у нас есть такая возможность!
– Прекрасная мысль! – Пропищала Матильда. – Уверена, что кататься с Венедиктом и его другом будет даже веселее, чем с девчонками! Господа такие умные на вид, наверняка, они расскажут нам что-нибудь интересное!
– Не могу обещать интересных рассказов, но постараюсь! – Сказал Венедикт. – Я согласен! А вы как, Коржов? Может, правда прокатимся? Глянем на «русское чудо». А может, и Варю увидим с такой высоты-то!
Михаил пожал плечами. Отказываться было неудобно, хотя внешность двух дамочек и не показалась ему уж особо располагающей.
Вчетвером они кое-как пробрались к аттракциону, где как раз заканчивалась посадка на ближайший сеанс. Предъявили билеты. Кабина, затормозившая перед ними, оказалась последней незанятой. В неё зашли дамы, затем Венедикт.
– Привет, Мишка! – Услышал Коржов тихий голос за миг до того, как за ними последовать.
Повернувшись, он увидел дядю Яшу, который ожидаемо руководил посадкой на колесо. Даже странно было, что, задумавшись, он раньше не обратил внимания на спасшего его доброго друга.
– Здравствуй, дядя Яша!
– Что, друзья твои?
– Ну так...
– Их долго знаешь?
Коржов помотал головой.
– Ты того... Осторожней... – Тихонько и торопливо предупредил его распорядитель аттракциона. – Мне этот тип пять минут назад сунул три целковых за то, чтобы я устроил якобы поломку агрегата, когда он с компанией будет на самом верху. Для чего это?
– Коржов! Скорей садитесь! – Закричали из кабины.
– Да-да, сейчас иду! Ещё секунду! – Отозвался Михаил. И вполголоса ответил дяде Яше: – Я не знаю...
– Ежели не знаешь, так ты лучше не езжай с ними.
– Не буду! – Решил Михаил. – Отправляй!
Дядя Яша нажал на рычаг, и кабина поехала.
– Постойте!
– Эй, служитель!
– Человек не сел в кабину!
Миша проводил равнодушным взглядом уплывающие ввысь чужие лица Венедикта и двух дамочек. Ни он, ни дядя Яша на них крик не реагировали. Когда троица уехала уже достаточно высоко, чтобы перестать быть и видной, и слышной, Коржов испытал непонятное облегчение. Оказалось, что он с самого начала не хотел с ними кататься, но стеснялся отказать им.
– Кто это вообще такие? – Полюбопытствовал дядя Яша.
– Бес их знает. Случайный знакомый с родными.
– Ощущение, что что-то здесь нечисто.
– Может быть.
– Честные люди не дают распорядителям аттракционов денег и не просят о таких вещах.
– Пожалуй.
– Ну, а я-то честный человек! – Продолжил Яша. – Деньги взял? Взял. Ну, значит, сейчас всё сломается...
Глава 39, В которой Венедикт замечает, что что-то не то.
– Ну и что теперь делать? – Спросила Перовская, глядя на Венедикта.
У него ответа не было. Казалось, что они предусмотрели, всё, всё полностью! Этот Миша доверял ему! Он даже не сбежал, когда пятнадцать минут назад оставался в толпе без присмотра! А теперь... Всё пропало! С каждой секундой их кабина поднималась выше, удалялась от Коржова — и возможности какого-то успеха...
– Кажется, я приношу неудачу, – вздохнула Перовская. – Это точно так, как когда в восемьдесят первом году царь не поехал ни по Малой Садовой, ни по Екатерининскому каналу...
– Будет вам, Софья Львовна! – сказал Венедикт. – Это я виноват, а не вы. Нельзя было позволять ему разговаривать со служителем карусели! Надо было толкнуть этого болвана в кабину вперёд себя! Идиот! Я всё испортил!
– Не вините себя. В нашем деле никогда невозможно предусмотреть абсолютно всё. Это я как самый опытный участник должна была быть внимательнее...
– Нет, это была моя ответственность! Я главный исполнитель! – Венедикт не унимался. – И я провалил это дело!
– Уж не знаю, о каком таком деле вы говорите, но раз друг Венедикта остался внизу, давайте просто насладимся катанием на этой карусели, ладно, тётушка? – сказала вдруг Матильда.
– Тётушка? – Удивился Венедикт. – А я думал, Матильда, вы дочь Софьи Львовны...
– Что, дочь?! О, нет, конечно! – Захихикала «принцесса революции». – Моя мама умерла давным-давно, а папенька ни за что не пустил бы ходить по весёлым компаниям, курить папиросы и всё остальное! Нам с тётушкой приходилось отговариваться тем, что мы велосипедируем, чтобы иметь возможность...
– Зина, господину это знать неинтересно, – прервала её Перовская.
Матильда замолчала. Венедикт подумал, что она, похоже, оказалась не совсем тем, что он представлял себе. Впрочем, теперь это всё не имело значения. Кабина добралась до верхней точки, покачнулась и застыла. Чёрт возьми! Была надежда, что служитель не исполнит договорённости, они скоро спустятся, смогут догнать Михаила и, может быть, всё-таки выполнить то, что задумали... Но нет. Теперь застряли. Полный крах.
– Ой, почему мы не едем? – Спросила Матильда, и у Венедикта появилось ощущение, что она была вообще не в курсе их задумки.
– Мы немного посидим тут, дорогая, – сообщила ей Перовская. – Ты только не волнуйся.
– Как бы, тётя, нам навечно не застрять тут... И вообще... Не понимаю... Зря мы сунулись на это колесо! Лучше бы и правда в соревнованиях поучаствовали, как папенька нам велел!
Между тётей и племянницей пошли какие-то странные, глупые, детские разговоры. Венедикт ощущал, что обе они городят какую-то ахинею, но даже не смог бы пересказать, о чём речь. Его мозги кипели, переполненные чувствами отчаяния, вины и безнадёжности. Вокруг всё плыло. Он был словно сам не свой. Как будто бы наблюдал за событиями откуда-то не из этой глупой кабины, а извне, снаружи, с неба, с точки зрения истории. Внизу, под кабиной, толпились народные массы. Заводы стояли. Рабочие наводнили выставку и были готовы начать революцию как никогда. Им нужен был сигнал. Им нужен повод. И он, Венедикт, судьбою и Нечаевым назначенный, чтоб сделать этот повод, чтоб начать величайшее действо, призванное переменить всю судьбу России бесповоротно, всё проворонил... Проморгал! Не справился! Подвёл всех! И организацию подвёл, и Нечаева, и весь русский народ, которому предстояло спасти самое себя в этот самый день!!!
Между тем, посреди стадиона, где проходило открытие Олимпиады и где вот-вот должно было начаться её закрытие, готовился запуск летательного аппарата тяжелее воздуха. В том, чтобы сидеть сейчас бесцельно запертыми наверху, имелось одно преимущество: стадион отсюда виден был прекрасно. Сперва Венедикт мог разглядеть нечто чёрное и округлое, помещённое на нём и окружённое большой толпой народу. А затем донёсся отголосок выстрела полуденной пушки, толпа расступилась, и чёрная штука начала набирать высоту.

Через несколько секунд её уже можно было рассмотреть во всех подробностях. Это было плоская квадратная платформа с отверстием посередине, над которым размещался огромный продолговатый баллон. Из этого баллона вырывались клубы дыма и огня: должно быть, именно сила выбрасывания этих стихий и обеспечивала подъём конструкции. Если присмотреться, на платформе можно было разглядеть малюсенькую фигурку первопроходца.
«Безумец», – решил Венедикт.
А Перовская вдруг закричала:
– Да это ж Кибальчич!!!
– Кто? – Не понял Венедикт.
– Кибальчич! Техник наш! Он был в «Народной воле!»
– А... – Сказал Венедикт равнодушно. – Хорошее зрение...
– Да я не его самого узнала, а эту машину! – Возбуждённо принялась объяснять Перовская. – Он нам её чертёж давно показывал! Ещё тогда, когда на царя Александра охотились! Я думала, куда же он девался, что с ним сталось? А он вон что! Довёл свой проект до конца! Настоящий человечище! Упорный! Вы смотрите! Захотел — и полетел же!

«Не то, что я», – подумал Венедикт. Он-то всё провалил! А ведь момент для ещё одного полёта, но вниз, а не вверх, был сейчас самый лучший! Толпа, заворожённая зрелищем сумасбродного гения, оторвавшегося от земли, затихла. Будь здесь действительно царь Михаил, желающий объявить о себе народу — он не нашёл бы момента удачнее!
Впрочем...
Да кто его видел, того Михаила?!
А кто видел — насколько запомнил?
Если по рабочим чайным и казармам обсуждали светловолосого стройного человека двадцати двух лет примерно от роду, он был сейчас в кабине!
И он мог распорядиться свой жизнью куда лучше, ждать, когда карусельный служитель изволит устранить «поломку техники»...
Покуда Матильда с Перовской смотрели полёт, Венедикт по пояс вылез из кабины и воскликнул что есть силы:
– ЛЮДИ РУССКИЕ! Я ЦАРЬ ВАШ МИХАИЛ! Я ЧУДОМ СПАССЯ!
Толпа зашевелилась, загудела. Несколько десятков лиц отвернулись от летающего Кибальчича, обратив свои взоры на Венедикта. Он понял: «Работает! Слышат!»
– Я ХОЧУ ПРАВИТЬ НА БЛАГО НАРОДА! КРЕСТЬЯН И РАБОЧИХ!
Ещё больше лиц повернулось.
– ... НО ПОМЕЩИКИ НАСИЛЬНО ЗАМАНИЛИ МЕНЯ ВВЕРХ, НА КОЛЕСО!
Гудят сильнее!
– ИХ ТУТ МНОГО!
Снизу ропот возмущения.
– МЕНЯ СЕЙЧАС СБРОСЯТ!
– Что вы делаете?! – Услышал за спиною Венедикт Матильдин голос.
Но вместо того, чтобы обернуться, он встал на носки, перевалился верхней частью тела через ограждение кабины и полетел.
Глава 40, В которой Николай Львович наблюдает нечто безумное.
Дела принимали всё более и более удивительный оборот. Сколько ни вглядывался Перовский в вереницу велосипедеток, а разглядеть там сестру и дочь со своего дорогущего места так и не смог. По окончании соревнования на трибуне девушки тоже не появились. За то за это время соратники Нечаева уже благополучно связали его подтяжками и принялись избивать, требуя признаться, откуда он всё-таки знает министра. Так что теперь Николай Львович переводил недоумённый взор с русского чуда — только что поднявшейся над стадионом чертовщины, пышущей огнём и дымом, – на Нечаева, уверяющего своих дружков, что он вовсе не провокатор, потом вновь на летательный аппарат, а потом на барона до Кубертена стоящего неподалёку у звукоусиливающей машины, готовившего речь к закрытию игр и тоже наблюдавшему за происходящим безумным взором.
Когда казалось, что уж дальше ничего ещё бредовей быть не может, над толпой пошёл какой-то гул, а потом министр увидел, как с колеса обозрения падает человек. Он расшибся в лепёшку: обыватели едва-едва успели расступиться, чтобы не позволить несчастному забрать с собой кого-нибудь из них. В первую секунду у Перовского мелькнула мысль, что это был несчастный влюблённый или просто неловкий зевака, но гул, издаваемый фабричными бездельниками, которые все как один заявились сегодня на выставку вместо того, чтоб стоять у станков, не стихал. Напротив: толпа на земле, под воротами, шумела всё сильнее и сильнее. Через пару секунд в её бессмысленном гудении почудился некий ритм. А ещё чуть позже до министра и до всех, кто был с ним рядом, донеслось равномерно-тревожное:
– Убили царя Михаила! Убили царя Михаила! УБИЛИ ЦАРЯ МИХАИЛА!
Мгновение за мгновением эта новость превращалась в возмущённое скандирование. О летающей штуковине Кибальчича, которая не переставала носиться над стадионом, все тут же забыли.
– Слыхали? – Злорадно прокаркал Нечаев, выплюнув два окровавленных зуба. – Сейчас что-то будет! Это я сделал! Слышите?! Я!
– Зачем ты устроил убийство наследника, сволочь?! – Закричал на него один из бывших соратников.
– Народ его любил! А ты что сделал?! – Возопил второй и пнул бывшего кумира в живот.
– Министр приказал?! Признавайся!
– Так вот почему ты спокойно устраивал свои сборища при свете дня!
– Провокатор!
– С тобой будет как с Дегаевым!
– Как с Гориновичем!!!
– Провалитесь вы! – Крикнул Нечаев. – Болваны! Ну да, этот чёртов министр помог мне сбежать! Он хотел использовать меня для борьбы с организациями! Но я только претворялся, что служу его, понятно?! Он хотел убрать конкурента Сергея моими руками! Но я сделал это так, что старый царь сейчас подохнет вслед за новым! Начинается народное восстание! Вы слышите?!
Последние слова он прокричал — не столько от того, в какой ситуации находился сам, сколько от того, что не слышать звуков начинавшегося бунта в самом деле уже было невозможно.
– ОТОМСТИМ! – Загудела толпа.
Зазвенели разбиваемые окна павильонов. Плетёные ворота задрожали от летящих в них камней из мостовой. Запчасти диковинных механизмов, только что бывших экспонатами выставки, потекли по рукам обнаглевшей рабочей массы.
«Не дай бог до электрических машин Николы Теслы доберутся! Тогда крышка» – понял сразу же Перовский.
Он должен был действовать.
Остановить толпу было делом, конечно же, невероятным.
Оставалось лишь одно — её возглавить.
– Да! – Крикнул он нечаевцам. – Да, я помог сбежать этому типу! Но не для того, чтобы бороться с организациями и не для того, чтобы убить кого бы то ни было его руками! Я планировал возглавить революционное движение, чтобы вместе с вами, господа, построить новую Россию!
– Что?!
Потрясённые революционеры до того не ожидали этой выходки, что даже на секунду перестали избивать своего бывшего вождя, дружно уставившись на министра.
– Да-да! – Продолжил он выдумывать на ходу. – Сделать новую прекрасную Россию! Россию под властью царя Михаила! Настоящего законного государя! И он вовсе не был убит! Нечаев ликвидировал самозванца!
– Что вы несёте?..
– Я говорю правду! Верно ведь, мисс Моррисон?
Потрясённая англичанка сидела на своём месте и лишь хлопала глазами, из которых текли слёзы ужаса.
– Елизавета Ионафановна, соберитесь! Мы должны сейчас сказать всю правду!
С этими словами Николай Львович схватил англичанку за руку и потащил за собой — в направлении к де Кубертену. Та плакала и запиналась, но сопротивляться не стала. Отодвинув француза от мегафона, Перовский сказал:
– ВСЕМ ВНИМАНИЕ!
Усиленный машиной его голос ощутимо ударил по собственным ушам. Но это ничего. Зато все слышат.
– ВНИМАНИЕ ВСЕМ РУССКИМ ЛЮДЯМ! С ВАМИ ГОВОРИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ! Я, КАК И ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАН В НАХОЖДЕНИИ НА ТРОНЕ НАСТОЯЩЕГО ЦАРЯ!
Царя Сергея. Но те, кто хотят, могут пока что истолковать эту фразу как-то иначе.
– ВАС ОБМАНУЛИ! ЧЕЛОВЕК, УПАВШИЙ С КОЛЕСА, ЭТО ОТНЮДЬ НЕ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ! ОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕЛО! НАЙДЁТЕ ВЫ НА НЁМ ЦАРСКИЕ ЗНАКИ? НЕ НАЙДЁТЕ!
Битьё стёкол прекратилось. Толпа, хлынувшая было в сторону императорской трибуны на стадионе, остановилась. Николай Львович увидел, как возле колеса, где лежал мертвец, несколько человек присели над ним и принялись изучать.
– РЯДОМ СО МНОЙ ТУТ НАХОДИТСЯ ЕЛИЗАВЕТА ИОНАФАНОВНА МОРРИСОН, НЯНЬКА ЦАРСКИХ ДЕТЕЙ! ОНА КОРМИЛА И КУПАЛА МИХАИЛА СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ! ЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕХ НАС ИЗВЕСТНО, ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ЕГО ОПОЗНАТЬ! РАССКАЖИТЕ НАМ, МИСС МОРИССОН!..
Перовский подтолкнул всё ещё хнычущую Моррисон к мегафону. К этому времени сзади их обступили заинтересованные нечаевцы. То ли они хотели удостовериться, что англичанка настоящая, то ли следили за тем, чтобы на неё не оказывалось воздействия. Но выглядело так, словно теперь Николай Львович с Елизаветой Ионафановной возглавляли эту компанию и говорили как будто бы от её имени.
– Ну... У Михаила должен быть царский крестик, – начала блеять англичанка совершенно не с того, что от неё хотел министр. – Золотой... Там шапка Мономаха, лев крылатый, буквы А и М и...
– Мисс Моррисон! – Прервал её министр. – Прошло много лет, Михаил мог потерять эту реликвию. Расскажите лучше нам о его внешности!
Он взглянул мисс Моррисон так выразительно, как только мог.
И старуха припомнила их разговор! Слава Богу!
– Михаил был маленького роста... Черноглазый... Черноволосый... Рябой, некрасивый, – сказала она в мегафон.
– ВЫ СЛЫШАЛИ?! – Спросил Николай Львович. – Вы все слышали?! Мисс Моррисон, скажите им ещё раз!
Англичанка повторила.
И вскоре по растерянной толпе пошло:
– Не он...
– Не он?
– Не он!
– Вообще не он...
Все эти события проследовали друг за другом с такой головокружительной быстротой, что летательный аппарат тяжелее воздуха даже не успел завершить своего полёта, пока они происходили. Он всё ещё кружил над царской ложей стадиона...
Глава 41, В которой Варя наблюдает нечто безумное.
– Убили!!! Убили сволочи царя нашего истинного народного! – Голосила Дуня-коммунистка вся в слезах.
– Да тихо ты! Может и правда не он! – Успокаивала её Варвара. – Послушай вон, что барин важный скажет!
Дуни-матери с ними в этот раз не было: она сказала, что уже устала шляться по этой выставке в ожидании явления истинного государя. И хотя утром девчата была уверены, что увидят явление Михаила именно сегодня — более подходящего дня для этого действа представить себе было трудно, — они были рады, что их подруга с младенцем на руках, да ещё со втором в животе не пошла с ними: народу в этот раз тут было столько, что приходилось всё время держаться за руки, чтобы не быть брошенными толпою в разные стороны.
– Много он, тот барин, понимает... – Дуня всхлипнула.
– ЕЛИЗАВЕТА ИОНАФАНОВНА... НЯНЯ ЦАРСКИХ ДЕТЕЙ...
– Что за баба такая?
– Сказали же: царская нянька.
– Да уж настоящая ли нянька-то?..
– Похожа...
– У меня сестра ей в горничных служила, – сообщил какой-то парень из толпы. – Она как будто.
– МАЛЕНЬКОГО РОСТА... ЧЕРНОГЛАЗЫЙ... ЧЕРНОВОЛОСЫЙ...
– А этот какой?
– Кто видал?
– Этот русый...
– Высокий...
– Совсем не похож...
– Не похож, нет...
– Не он...
– Нет, не царь...
– Эй, ты слышала, Дунька?! Не царь это вовсе! Другой царь! Не он это! — Крикнула Варя подруге. – Это просто сумасшедший сверху спрыгнул!
Мысль о том, что настоящий царь Михаил должен быть низким, черноволосым и черноглазым, сразу же легла ей точно на душу. Ведь тогда выходило, что этот царь, с одной стороны, действительно существовал, высказывать сомнение в каковом факте в их Симоновской казарме уже стало неприличным; с другой стороны же, он получался категорически непохожим на Коржова, просто диаметрально противоположным ему своей внешностью. Это подтверждало ту догадку, что Варин жених (или уже бывший жених? Ну да всё равно) вовсе не был из семьи Романовых, а нафантазировал себе всякого под влиянием нигилистов; сама же она получалась права в том, что не передала ему предсмертные бредни раненной матери... И вообще — права во всём.
– Где же наш тогда царь? – Заканючила Дуня, торопливая утирая слёзы.
– Может, явится ещё, – сказала Варя. – То, может, и при старом поживём. Всё одно хорошо не жили, так нечего и...
Она не успела договорить. Общий визг, нарастающий с каждым мгновением, покатился на них, словно волна, со стороны стадиона. Девчата, не сговариваясь, повернули головы в ту сторону и увидели, что «русское чудо», ещё недавно пышущее огнём и дымом, а теперь почему-то утратившее свой адский шлейф, завалясь на бок, падает вниз. За ту секунду, что Варя наблюдала это падение, она не успела ничего ни сообразить, ни подумать. Лишь после того, как махина с диким грохотом упала на край стадиона, и визг страха превратился в вопль боли, осознала, что падение пришлось ровнёхонько на царскую ложу.
Глава 42, В которой Миша наблюдает нечто безумное, а читатель узнаёт, чем всё закончилось.
Миша заметил в толпе Варину спину ещё минут десять назад, но никак не мог к ней подобраться. Он преодолел половину пути до невесты, когда народ неожиданно загудел, что убили царя Михаила, и так заволновался, что Коржова отнесло людским потоком в другую сторону. В очередной раз узнав, что умер, он даже почти и не удивился: просто жалко было, что усилия насмарку. Слава Богу, из виду Варвары он сумел не потерять. Так что после того, как какие-то господа с ворот зачем-то объявили, что настоящий царевич был черноглазым и черноволосым, и движение в толпе прекратилось, Михаил смог продолжить свой путь. Ещё пару минут он старательно пробивался через толпу, но когда до невесты оставались буквально пара саженей, люди снова заорали, что убит какой-то царь. Коржов назвал бы это анекдотом, если бы собственными ушами не слышал грохота, который, очевидно, издала адская машина, кружившаяся в небе незадолго перед этим. Рабочая масса опять потащила его непонятно куда.
К счастью, и в этот раз Варю он из виду не потерял, и через пару минут после катастрофы всё-таки сумел пробиться к ней, стоящей за руку с другой фабричной девушкой.
– Варя!
– Миша?
– Наконец-то я нашёл тебя! Говорила, полдвенадцатого возле колеса, а сама...
– Возле какого ещё колеса? Ты о чём вообще?! Царя убило! Видел? На него упала адская машина!
– Видел, да... Что ж теперь будет-то?
– Бог его знает! Наверное, смута начнётся...
– Никакой смуты не будет, будет вечно и истинное царство рабочего государя Михаила Александровича! – Встряла Варина подруга. – Варька, это твой жених, что ли? Познакомь нас!
– Уж не знаю, жених или нет... – Варя закатила глаза. – Он так долго пропадал, что я уж думала...
– Да жених, жених, а как же! – Сказал Миша. – А что пропадал, так причина на это была.
Он задумался, стоит ли приняться рассказывать о своих злоключениях прямо сейчас или дождаться более удобного момента и более уединённой обстановки, но не успел ничего решить. Из толпы вдруг послышалось:
– Царь!
– Царь идёт!
– Царь наш батюшка!
– Всем расступиться!
Толпа в третий раз подхватила Коржова, на этот раз вместе с двумя спутницами, и оттащила в сторону. Там, где они только что стояли, мгновенно образовался пустой коридор, словно на самом деле народ ждал прохода какой-то особенной личности.
– Здравствуй, царь-батюшка!
– Дорогой ты наш, любимый, ненаглядный!
– Государь император явился!
– Родной наш!
– Законный!
– От бога!
Последние два слова выкрикнула Варина подруга. А Коржов к тому моменту уж глазам своим не верил: по людскому коридору в направлении от Павильона Нефти к воротам выставки шёл его добрый знакомый — грузин Иосиф. В руках над головой он держал крестик — тот самый крестик, который Коржов спрятал под бородой Менделеева, и о котором по пьяни сболтнул своим новым «друзьям» из Тифлиса.
– Здравствуйте, люди русские! Я вернулся! – Объявлял грузин с чудовищным акцентом.
Люди вдоль маршрута его следования плакали, крестились, снимали шапки и падали на колени. То же сделала и Варя, потянув с собою Мишу:
– Ну что ты стоишь-то, болван?! – Прошипела она уже словно жена, а не как невеста.
– Это Иосиф, он мой крест стащил, – сказал Миша.
– Какой ещё Осип?! Оглох ты, что ль?! Быстро вставай на колени! Ты разве не слышал, как нянька сказала, как выглядит царь Михаил?! Он точно подходит по то описание! Ну же!
– Этот точно настоящий! – Восхищённо подтвердила подруга Вари.
Миша не стал препираться и стал на колени.
К этому времени уже вся толпа вокруг них дружно скандировала слова приветствия новому государю.
– ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР МИХАИЛ ВТОРОЙ! – Объявили с ворот в мегафон. – ГОСУДАРЬ! Я ВСЕГДА БЫЛ ЗА ВАС! Я ВАС ЖДАЛ! ЭТО ОН, МИСС МОРРИСОН?
– О, ДА, – Раздался сверху женский голос.
Толпа завопила от счастья.
Иосиф добрался до лифта, ведущего наверх ворот, и вошёл в него.
В следующую секунду оттуда же сбросили какого-то связанного человека. Он летел, громко ругаясь, но, как только шмякнулся о землю, сразу стих.
Впрочем, всем было уже не до него.
Эпилог. Тридцать лет спустя.
– Слава Богу, всё! — сказала Таня. — Ну, умаялась! И как вы только, Варвара Петровна, выдерживаете этакий невозможный режим? Шутка ли: одиннадцать часов без перерыва!
— Я привычная, – ответила Коржова. – Знаешь, раньше тринадцать работали! И потом, видишь ли, по-настоящему-то у нас режим восьмичасовой. Три часа последних не считаются. Мы на них добровольно остались, чтоб план перевыполнить! Вот закончим пятилетку в четыре года, тогда и расслабиться можно будет!
Эту мысль Варвара Петровна Коржова взяла не из головы, а из разговора со своей давней подругой Евдокией Дмитриевной, заведующей по идеологической работе на заводе радиодеталей, где трудились они все втроём, включая Таню. Кстати, с Таней предстояло породниться: она вскоре собралась выйти замуж за среднего сына Коржовой, Ивана. Старший сын уже женился. Младший служил в императорской армии и недавно получил медаль за подавление очередного восстания в Польше.
В свои пятьдесят Варвара Петровна была ещё очень даже ничего — бодрая и активная. Может, это был самообман, но ей казалось, что издали её вполне можно принять за молодую девушку. Даже с будущей невесткой одевались они почти одинаково: ситцевые платья ниже колен, кожанки почти идентичного фасона, чулки, чёрно-белые туфли. Правда, с поседевшей косой Варвара Петровна никак не хотела расстаться, и продолжала, как в молодости, укладывать её венцом при помощи шпилек на голове. А вот Таня носила короткую стрижку и кокетливый берет, надетый набок. Ну на то она и молодая... Зато у Варвары Петровны был жизненный опыт, и она никогда не упускала случая немного попоучать будущую невестку: рассказать, как строго вели себя девушки в прежнее время, как старательно трудились и как именно с их помощью взошёл на трон Божьей милостью Император Михаил Второй по прозвищу Стальной, благополучно пекущийся об отчизне уже как четвёртое десятилетие...
Кстати, что касается царя и всего такого. И Варвара Петровна, и Таня очень любили вникать в государственные дела. Ни одна радиопередача о заседании Государственного совета или назначении министров вместо старых, оказавшихся предателями, мимо их внимания не проходила. Поэтому, когда работницы обнаружили неподалёку от станции метро, куда они вместе держали путь, стенд со свежим номером «Известий», не смогли не задержаться у него.
В целом новости были хорошие. Иностранные министры Бриан и Келлог подписали между собой договор об отказе от войн как средства решения противоречий: это означало, что страшная бойня начала XX века не повторится. Из Тамбовской губернии сообщалось о рекордном урожае в этом году: после того, как русские крестьяне добровольно вернулись к помещикам, подарив им свои жалкие клочки земли и скот, а те взамен на обещание хорошо трудиться изволили закупить новообретённым крепостным современные трактора, аграрный вопрос сам собою забылся, а жизнь на селе потекла как по маслу. В Москве в соборе Василия Блаженного временно выставлялись привезённые из Киева святые мощи равноапостольного князя Владимира Красно Солнышко. К ним стояла очередь до самого Александровского сада.
Главная же новость была грустной. В столице прошли похороны Николая Львовича Перовского — старейшего и заслуженнейшего из царских сановников, а также Государевого тестя. Многие годы он возглавлял Министерство Порядка и Правды, доблестно выводя на чистую воду кружковцев, троцкистов, вредителей, формалистов и прочих космополитов. С фотографии в газете смотрели грустные лица царствующей четы — Михаила Александровича и Зинаиды Николаевны, снятых репортёром на панихиде. Их настроение невольно передалось и Варваре.
Хоть последние пять лет Перовский уже и не возглавлял министерство, находясь ввиду своих весьма преклонных годов в отставке, было ощущение, что теперь, без него страна осталась беззащитной перед лицом новых орд нигилистов. А от этих бесов не было никакого спасу! Они снова разлагали молодое поколение, подсовывая ему джазовые пластинки и рассказы о какой-то «конституции». И ладно бы только молодое! Даже Миша, муж Варвары, и тот на старости лет взял манеру слушать по радио всякие голоса и недавно договорился аж до того, что судьбу России должно решить некое «Учредительное собрание». Впрочем, он и смолоду подвержен был разным влияниям и в перерывах между многонедельными приступами тоски загорался очень странными идеями. За тридцать лет брака Варвара хорошо научилась держать мужа под контролем: он мог фантазировать о чём угодно, главное, чтобы не выносил это за пределы их комнаты в общей квартире...
Да-да, они больше не ютились по казармам и углам, как было в юности! Теперь семья Коржовых обладала своей комнатой! И хоть для Тани с Ваней от неё надо было отгораживать шторкой отдельный закут, всё равно теперь жили гораздо комфортнее, чем при Сергее! Да и многое другое стало краше. Городские поезда больше не пыхали чёрным дымом, а ходили сплошь на электричестве. Летательными аппаратами тяжелее воздуха никого уже было не удивить. Масло и мясо доставались не тем, кто первый подбежит к магазину, не тем, кто больше заплатит, а всем помаленьку — через рациональную, математически высчитанную учёными карточную систему.
В общем, царь Михаил не подвёл. Правильно гласила надпись над станцией Клейнмихельской: «Жить стало лучше, жить стало веселее!».
-------------
Вот и всё, друзья! Надеюсь, книга вас не разочаровала!
Автор очень сильно хочет получить на неё какие-нибудь отзывы.
Ну а если вы напишете целую рецензию, то он будет прыгать до потолка и задумается о том, чтобы сочинить что-нибудь еще.
Впрочем, две книги в похожем жанре уже есть: это "Атомный пирог" (про 50-70е гг https://author.today/work/216294 ) и "СССМ" (про 20-40е гг https://author.today/work/239208).

